Том I.(a) * Том I.(b) * Том II * Том III * Том V * Том VI
Глава 14. Русская литература конца XIX — начала XX столетия
Полезно вновь вспомнить мысль Чехова: «За новыми формами в литературе всегда следуют новые формы жизни (предвозвестники), и потому они бывают так противны консервативному человеческому духу» (С-17,48).
Но, кажется, консерваторы отчасти путают причины со следствием. Не отражает ли появление, даже самый поиск новых форм в искусстве какие-то внутренние, подспудные, ещё не всем заметные движения общественной жизни, могущие привести её со временем к неким сущностным изменениям? Искусство же, отображающее всегда систему жизненных ценностей человека и общества, лишь отзывается неизбежно на совершающееся невидимо. Потом усвояет это себе. И лишь затем начинает воздействовать на души внимающих ему.
Поиск новых форм — это симптом, следствие, но не причина должного совершиться. Бороться же с симптомами бессмысленно, полезнее осмыслить причины глубинные.
1. ризис реализма
Реализм всё более начинает являть усталость формы, исчерпанность образной системы, оскудение творческих идей.
В том сказалась естественность процесса развития любого творческого метода, направления, стиля: от возникновения — через художественный взлёт — к неизбежному угасанию. Это было заложено и в самой двойственности принципов реализма, несущего в себе двойственность той реальности, исследовать и отражать которую он был призван. Каждое свойство реалистического воспроизведения мира художественным вымыслом содержит зародыш саморазрушения всей его системы. Так проявляется общий закон земного бытия: в самой жизни заложено начало уничтожения этой жизни — смерть.
Реализм в начале своего развития одолевал эстетический схематизм предшествующих ему направлений, отринув несвободу, ограничивающую сам предмет эстетического отображения: реализм установил принцип безграничности художественного выбора темы, отбора материала для эстетического осмысления.
Разумеется, речь идёт лишь о потенциальных возможностях реалистического типа творчества. Некая система запретов и ограничений в искусстве существовала всегда, но они имели свойства прежде этические, нежели эстетические. Однако сам принцип утаивает в себе серьёзную опасность для творчества, допустимость его деградации. Запрет на иные темы, существующий в искусстве, может быть легко преодолён, если абсолютизировать момент эстетический: любому художнику оказывается открытым путь ко вседозволенности эстетического воображения, сдерживать которое может лишь нравственное, а ещё вернее — религиозное чувство. Иначе эманации любого бездуховного состояния смогут оказаться запечатлёнными в совершенном по воплощению произведении. Красота начинает откровенно служить дьяволу. Так намечается выход и за пределы реалистической системы: в эстетизацию безобразного, в любование пороком.
История искусства XX столетия, начиная с «серебряного века», готова предоставить немало тому подтверждений. То, что прежде могло считаться отталкивающим извращением (например, создания порочного воображения маркиза де Сада), теперь обретает характер массовой и даже заурядной повторяемости. И путь к тому открывается именно через реализм. При этом всегда сыщутся теоретики искусства и идеологи безудержной свободы, которые начнут оправдывать эстетизацию любого извращения, любого душевного вывиха: ведь существование таковых объективно, а следственно, и они имеют право на существование в искусстве.
Повторим: реализм как эстетический метод, как тип творчества с самого начала укрывал в себе противоречия, слишком опасные для всякого художника: каждая особенность реалистического отображения бытия может очень легко обернуться такою своею гранью, когда достоинство превращается в изъян, даже порок, а то, что обещало как будто творческую победу, может обречь на поражение. Реализм нёс в себе изначально самоприсущие ему основы собственного упадка и даже разложения, ибо держался, прежде всего, на нравственных нормах, ограничивающих безудержность эстетического произвола, а они отвергаются при разрушении веры и господстве безбожия (пусть даже в форме мистического любопытства — тоже ведь безбожие). Реализм из явления искусства легко может превращаться в реальность антиискусства.
Это мы видим при установлении эстетических идеалов «серебряного века», весьма превозносимого как расцвет искусства. В том и проблема, что воспринимаемое как антиискусство с одной точки зрения, по одним критериям, может утверждаться как несомненный взлёт по критериям иным и с точки зрения противоположной. Какие это критерии и точки зрения? Что противополагается? Религиозный и безрелигиозный взгляд на мир вообще и на искусство в частности. С позиции религиозной серьёзности несомненен двойственный характер красоты (будем повторять и повторять), заложенная в ней возможность служить Богу и дьяволу. Для безбожного созерцателя красота абсолютизирована, превращена в цель и смысл сама в себе — и тем как бы снимается возможность служения злу посредством эстетических образов. Красота абсолютно отождествляется со светом, и любая эстетическая сущность априорно выводится за пределы самой возможности критического к себе отношения.
При том важно: теоретики и практики внерелигиозного искусства ссылаются часто на опыт реалистов (Гоголя, Достоевского, Чехова), используют их достижения и особенности их художественного метода: и в якобы эстетизации безобразного (Гоголь), и в обнаружении глубинных инфернальных свойств человеческой натуры (Достоевский), и в абсурдистском отображении мира (Чехов) и пр. Тут срабатывает, конечно, разорванное сознание: из сложной целостной системы выхватывается одна из её особенностей, чем разрываются все связи внутри системы, но абсолютизируется то, что не может существовать вне этих связей, и оттого обессмысливается и искажается в системе совершенно иной. Это типичная манера декаданса, многих мастеров от «серебряного века» до постмодернизма конца XX столетия.
Внерелигиозное искусство начинает по собственному произволу соединять две особенности, две условности реалистического метода: допускаемое в известных пределах натуралистическое правдоподобие и создание измышленной реальности, фантастически неправдоподобной. В наиболее отталкивающем облике это проявится в постмодернизме, хотя заметно ощущается уже у Фёдора Сологуба, одного из классиков «серебряного века».
Иной выход за пределы традиционной реалистической системы был обусловлен чрезмерным вниманием многих писателей к социальной стороне жизни, особенно писателей революционно-демократической ориентации, — и позднее на этом уровне реализм выродился в соцреализм, ибо само революционное стремление обрекало многих на тяготение хотя бы к начаткам марксистской идеологии: ведь марксизм (повторим общеизвестное) социальный момент абсолютизировал, выводя всё развитие истории из классовой борьбы.
В декадансе и соцреализме порочно проявил себя всё тот же принцип, должный в идеале выразить свободу художника: принцип волевого отбора жизненного материала для эстетического преобразования в создании искусства. Этот принцип позволяет художнику весьма произвольно искажать реальность, навязывая окружающим собственный однобокий взгляд на мир. Можно отбирать одни лишь идеальные проявления бытия, даже исключения превращая в правило, но можно же находить в жизни и отображать в своих творениях лишь мрачные стороны действительности, непоправимо заражая слишком восприимчивых читателей безнадежным пессимизмом. Объективный взгляд на мир — возможен ли в искусстве секулярном? Художник здесь всегда субъективен. Как найти верную меру соотношения доброго и дурного в мире? То вряд ли возможно: у каждого своя мера.
Это придаёт жизненность и полнокровность самому искусству, обогащает эстетическое постижение действительности: иначе все произведения, все образы оказались бы удручающе однообразными, изготовленными на одну колодку. Искусство необходимо субъективно по природе своей.
Но ведь в своих взглядах и выводах художник может опираться на совершенно ложные основания, на извращённые критерии, субъективно полагая их истинными. И реалистическое познание жизни становится недостоверным в силу этой субъективности восприятия?
И, по сути, художник становится несвободным, ибо превращается в раба своего восприятия мира.
Каждый художник, каким бы великим он ни был, имеет по-своему ограниченное видение бытия. Художников различает лишь степень такой ограниченности. То есть истину, в её полноте, ограничивают и тем искажают все.
И вновь скажем: человек только тогда истинно познает своё бытие, когда станет поверять выводы своего несовершенного средства познания, разума и эстетического чутья, и неполного ограниченного опыта — откровениями Божественной мудрости. В Православии, несущем в себе полноту Истины, обретаются единственно истинные критерии оценки всех явлений окружающей нас жизни. И всякого художника подстерегает грех искажения истины, если он отвергнет сам религиозный подход к мироотображению.
Внерелигиозный взгляд на жизнь вызывает в эстетическом мировидении преимущественно негативное восприятие. Сам принцип критического реализма, при нетворческом его усвоении, обрекает писателя на перекошенное видение мира, часто на карикатурно-искажённое. Уже в рамках самого критического реализма нарастал — и чем дальше, тем более — пафос пессимизма, безверия. Как будто нарочно отыскивались самые мрачные и безысходные проявления жизни. Частные выводы получали характер широких обобщений.
Кроме того, обилие разного рода фактов, подробностей, важных и неважных, превращало систему мотивировок в некий хаос, выбраться из которого не представлялось возможным. Абсолютизация принципа детерминизма, без которого реализм невозможен, заставляла признавать существенным даже несущественное. Каждое обусловленное явление обволакивалось покровом достоверности и значительности. В результате это приводило к признанию якобы объективного существования зла, которое неизбежно, а порою и необходимо.
Это же отнимает у человека свободу, лишает его волевого выбора. Мир начинает казаться хаосом, а человек — частицей в хаосе. Становится немыслимым и нежелательным рассматривать человека вне среды, вне системы мотивировок, вне влияния обстоятельств — и механически понимаемый детерминизм превращает человека в раба обстоятельств. Случайное начинает восприниматься на уровне необходимого. Положение человека начинает не только объясняться, но и оправдываться деспотией «среды». Ответственность за всё перелагается на кого угодно.
Постепенно всё более укреплялась иллюзия, что внешние «заедающие» обстоятельства можно и должно менять, вовсе не меняя при том самого человека.
Подобные настроения стали одною из сущностных причин возникновения декаданса: побочная тенденция критического реализма превратилась в основную задачу нового типа творчества (а вкупе с ним — и соцреализма). Можно сказать, что критический реализм последовательно вырождался — в отражение деградации жизни и человека, в проповедь пессимизма, в отрицание смысла жизни, в утверждение хаоса и лжи окружающего мира как самоприсущего ему свойства, в воспевание уродливых проявлений бытия, в тщательные поиски самых отвратительных извращений.
Безнадежность перед миром, признание бесполезности борьбы с грехом (и ненужности её) — грустный итог абсолютизированного критического познания жизни — превращает человека в беспомощную жертву всеобщего хаоса и бессмыслицы.
Преподобный Макарий Великий недаром разъяснял (вспомним вновь) подобное мировидение: как следствие бесовского помрачения внутреннего зрения соблазнившегося человека.
При отвержении религиозного осмысления событий, судеб, характеров — остаются непроявленными важнейшие побудительные причины движения души человеческой, влияющие на всё происходящее в мире: противоречие и противоборство между: духовными потребностями, онтологически присущими первозданной природе человека, и греховной повреждённостью его натуры, исказившей и затемнившей образ Божий в нём.
Именно поэтому уже в литературе XIX века начинаются искажающие восприятие реальности помехи, идущие от абсолютизированного принципа детерминизма, полностью лишающего человека свободы, опутывающего жизнь цепями причинно-следственных связей.
Перевёрнутое бездуховное восприятие мира начинает ощущаться как некая новизна, аберрация зрения как норма — и это щекочет всё более притупляющееся от привыкания к установившимся формам эстетическое чутьё: и художника, и потребителя искусства.
Назревающие же внешние перемены также не могут удовлетворяться сложившимися эстетическими принципами отображения жизни. Недаром Толстой утверждал, что лист реализма уже исписан и — «надо перевернуть или достать другой»[1].
Борис Зайцев, вошедший в литературу на рубеже веков, передал собственное ощущение от боязни стать эпигоном, пишущим по уже исписанному другими листу:
«Положение для молодого пишущего, для начинающего в особенности, острое: повторять зады невесело, а напряжение — велико, разрядиться надо. Вот именно и назревало электричество подспудное, ища выхода»[2].
Реализм конца XIX-начала XX века отличался широтою тематического охвата действительности, осмысление которой совершалось на основе отвлечённо-нравственных начал, порою намеренно противопоставляемых православным. Церковь в сознании многих «передовых» русских людей, либералов-интеллигентов, представлялась отживающею своё время и косною силою, лишь мешающею движению вперёд к неопределённому светлому будущему. Но поскольку всё, что пребывает в сфере душевной, не может подлинно существовать и развиваться без опоры на духовное, то вырождение и разложение как абстрактной нравственности, так и связанных с нею надежд — были неизбежны.
Примеров в истории культуры — более чем достаточно. Вот видный писатель-народник Г.И. Успенский. Обладавший обострённой совестью и сильно развитым чувством сострадания, он, как писал В.Г. Короленко, «с лихорадочной страстностью среди обломков старого <…> искал материалов для созидания новой совести, правил для новой жизни или хотя бы для новых исканий этой жизни»[3], — и не находил. Мрачный конец Успенского, тяжёлая душевная болезнь, — коренится именно в бездуховности его исканий. Ведь даже тогда, когда он, как и близкие ему художники, обращался к религиозным сторонам отображаемой им жизни, вера была для него одной из особенностей душевной, эмоциональной жизни русского человека.
Или тот же Короленко — основывал свой романтический оптимизм на «поэзии вольной волюшки», но это слишком ненадёжный идеал.
Душевность, как предупреждал святитель Феофан Затворник, становится греховною, когда человек пренебрегает или забывает о духовных потребностях. Следствие — помрачённость души, прямое успешное следствие действия бесов там, где они не находят для себя никакого препятствия и сопротивления. Дьявол приводит человека к унынию; и последствия его могут оказаться трагическими: как болезнь Успенского или самоубийство Гаршина — ставшие промыслительным, но никем не услышанным знаком-предупреждением. То, что было пророческим предвестием, было воспринято как факт частной судьбы конкретных людей.
Вот важная особенность времени — пророчества и предупреждения остаются не услышанными. Творчество Достоевского либо объявляется реакционным, либо из него разорванным сознанием ряда художников выделяется всё мрачное, надрывное, болезненное — и абсолютизируется. В человеческой душе видится только её греховная повреждённость, тогда как образ Божий, в ней запечатлённый, в безверии отвергается, просто остаётся незамеченным — и такое понимание человека и мира становится основою художественного творчества. В исследовательской литературе это обозначается ныне как «вульгаризация идей Достоевского». Этим грешили Ф. Сологуб, В. Винниченко, М. Арцыбашев, З. Гиппиус, А. Ремизов и др. (Но можно сказать: всякое осмысление Достоевского вне истин Православия есть вульгаризация, в большей или меньшей степени.)
В конце концов, рост безверия и порождённых им пессимизма, настроений отчаяния, разочарования в жизни, цинического отвержения её — влечёт за собою тягу к смерти, к добровольному прекращению своей жизни.
И опять должно сказать: самоубийство (не только физическое, но и душевное) есть единственный неизбежный исход всякого богоотступничества. Там, где человек отвергает Бога, Его место заступает дьявол, а его цель неизменна: привести человека к гибели.
По стране «прокатилась волна самоубийств», как пишут об этом, в ослеплении объясняя всё наступлением «времени реакции» после разгрома революционных бунтов. Однако внешние причины могут быть лишь катализатором тех процессов, которые невидимо совершаются в душе.
Искусство живо откликнулось на возникший «спрос»: волною же пошли произведения о самоубийствах, о смерти, которая поэтизировалась, цинично пропагандировалась, возводилась в ранг высокой моды. Ф. Сологуб, Л. Андреев, М. Кузьмин, М. Арцыбашев, В. Муйжель, А. Каменский — приложили к тому руку в первую очередь. Был выпущен даже альманах с притягательным названием «Смерть» (1910), авторы которого «кокетничали со смертью», как писала о том критика.
Всё это последствия того типа мировидения, который исповедовался критическим реализмом — при крайнем развитии некоторых его особенностей.
Сам критический пафос в реализме, который прививался демократической критикой, Белинским, Добролюбовым, Писаревым и их эпигонами, сознавался как необходимое средство для борьбы с Православием, самодержавием и народностью. То есть для воспитания революционной (антихристианской, как предупреждал Тютчев) устремлённости в русском человеке.
На дело революции сознательно и бессознательно поработали многие русские писатели. Правда, в 1910-е годы произошло разочарование некоторых деятелей культуры в своих революционных порывах, в самой вере в возможность устроения рая на земле, но истинно это почти не было осмыслено. Литература обрушилась прежде всего на делателей революции, выводя многие непривлекательные их образы, — чем весьма возмущался Горький. Но религиозно никто о революции не мыслил, никто не хотел сознать, что в основе революционного идеала лежит давняя ересь (хилиазм), а ересь не может не привести к худому результату. Единственный же здравый голос — сборник «Вехи» (1909) — был дружно заглушён едва ли не всеобщим возмущением.
Среди многих «революционно-пессимистических» произведений должно выделить те, что писал профессиональный революционер-террорист Б. Савинков (под псевдонимом В. Ропшин): поскольку он дал взгляд на революционное дело не извне, а изнутри. Надрывное разочарование, которое звучит в его романах «Конь бледный» (1909), «То, чего не было» (1912), а также в более позднем романе «Конь вороной» (1923), — содержит подлинные пророчества. Само использование в названиях апокалиптических образов (Отк. 6:8,6:5) окрашивает осмысление революции в крайне мрачные тона. Герой-рассказчик романа «Конь бледный» выражает разочарование не только в революции, но и в жизни вообще, утверждает нежелание жить, ибо жизнь не имеет смысла: «…не верю я в рай на земле, не верю в рай на небе. Вся моя жизнь — борьба. Я не могу не бороться. «Но во имя чего я борюсь — не знаю»[4].
Что несёт революция миру? То, что восседает на «коне бледном», — а это: смерть.
«И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвёртою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными» (Отк. 6:8).
Савинков узрел в событиях — реальность Откровения.
На уровне той морали, понимание которой было доступно общему сознанию, революционер у Савинкова также дал пророческое предупреждение. Он вот что понял: если революционная идеология допускает преступление для благой цели, то неизбежно сыщется человек, который благим же делом начнёт сознавать то, которое будет содействовать его личной благой выгоде. «Почему для идеи убить — хорошо, для отечества — нужно, для себя — невозможно? Кто мне ответит?»[5], — вопрошает герой романа после убийства соперника в любви, то есть не ради «всеобщего счастья», а лишь для устроения собственной судьбы. Вопрос страшный, вовсе не циничный, как кажется сначала. Этот вопрос порождал многие неразрешимые проблемы в общественном и личном бытии на протяжении всего XX столетия.
Ощущение некоторой пустоты в атмосфере всё более распространяющегося в интеллигентской среде безбожия подвигло некоторых взыскующих истины деятелей культуры к поискам замены «устаревшего» Православия на нечто более соответствующее духу времени — были предприняты попытки богоискательства и богостроительства. Весьма привлекательною показалась идея Луначарского: «Бог есть человечество в высшей потенции». Здесь сказалось, быть может, дальнее влияние соловьёвской (не православной) идеи Богочеловечества, но, конечно, любопытнее иное: рождение концепции обожествления человечества в момент достижения им высот исторического развития — в недрах марксизма, «научно» обещавшего такое достижение. Этим увлеклись и писатели, пребывавшие вне марксизма. Неясной подосновою подобных увлечений было понятие соборности, ощущаемое, конечно, смутно, и особенно теми, кто не вполне утратил близость к народу. Недаром некий странник-правдоискатель в повести Муйжеля «Чужой» говорит: «Как Христос по земле иудейской ходил, — ходит народ крестьянский по земле Божьей… И идёт народ правды искать — Божьей правды, что в сердце человеческом от времени первоначалья Господом Богом вложена есть, такой правды!..»[6].
Несомненно, Луначарский (и близкие ему богоискатели и богостроители) о таком толковании идеи не помышляли, зато это хорошо разглядел Ленин, задавший партийным товарищам хорошую выволочку, так что пришлось им свои поиски прекратить. Однако в других умах стремление к богоискательству некоторое время жило. Этим увлеклись Горький, С. Подъячев, Ф. Крюков, даже З. Гиппиус. Но подлинного Бога в удалённости от Православия обрести невозможно, а в Православии Его и искать нет нужды (ибо в нём Он открыто являет полноту Своей Истины). Затея была обречена изначально.
Художники этой эпохи пребывали чаще в стихии богоборчества, нежели в поисках духовной истины.
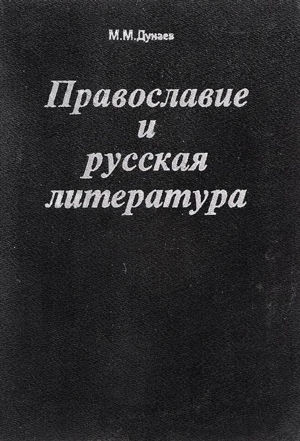
Комментировать