6. Ф. Сологуб, В. Брюсов, В. Иванов
«Серебряный век» не устаёт показывать муку человека в мире, тяжкое и страшное воцарение зла, порождающего эту муку. И мир страшен:
Я живу в одинокой пещере,
Я не вижу белых ночей.
В моей надежде, моей вере
Нет сияния, нет лучей.
…………………….
В моей пещере тесно и сыро,
И нечем её согреть.
Далёкий от земного мира,
Я должен в ней умереть (267)4
Вот точный образ мирочувствия многих творцов «века». Они одиноки, как ушедшие из мира отшельники, но не спасением души они озабочены, пребывая в безнадёжной тоске от сознавания неминуемой смерти.
Я жил, как зверь пещерный,
Холодной тьмой объят,
Заветам ветхим верный,
Бездушным скалам брат.
Но кровь моя кипела
В томительном огне,
И призрак злого дела
Творил я в тишине.
Над мраками пещеры,
Над влажной тишиной
Скиталися химеры,
Воздвигнутые мной.
На каменных престолах,
Как мрачные цари,
В кровавых ореолах
Мерцали упыри.
Безумной лаской нежить
Во тьме и тишине
Отверженная нежить
Сбиралася ко мне.
И я как зверь скитался
В кругу заклятых сил
И скверною питался,
Но смерти не вкусил (294).
Кто же творец всей нежити и нечисти? чьё воображение нежится в кругу этих омерзительных фантомов?
Фёдор Сологуб
Фёдор Сологуб (Фёдор Кузьмич Тетерников; 1863 — 1927) стал создателем многих соблазнов, которые заражали искусство «серебряного века». И среди самых мерзких его творений — вертлявая Недотыкомка, от которой произошла едва ли не вся бесовская гнусь, наполнявшая эстетическое пространство иных русских писателей. Ремизов, например, прямо признавался, что фантазия Сологуба ему очень помогла в его собственных измышлениях. Конечно, соблазниться может только тот, в ком заложена тяга к соблазну, но ведь с соблазнителя то греха не снимает.
Одно только: для своего творца Недотыкомка оказалась не только символизацией его душевной повреждённости, но и причиною многих внутренних мучений и кошмаров.
Недотыкомка серая
Всё вокруг меня вьётся да вертится,
То не Лихо ль со мною очертится
Во единый погибельный круг?
Недотыкомка серая
Истомила коварной улыбкою,
Истомила присядкою зыбкою, —
Помоги мне, таинственный друг!
Недотыкомку серую
Отгони ты волшебными чарами,
Или наотмашь, что ли, ударами,
Или словом заветным каким.
Недотыкомку серую
Хоть со мной умертви ты, ехидную,
Чтоб она хоть в тоску панихидную
Не ругалась над прахом моим (234).
Не молитвой, не прибеганием к помощи Божией — чародейством просит лирический герой стихотворения извести, уничтожить злое наваждение.
Отчего так?
Не оттого ли, что творцом мира он ощущает бесовскую силу?
Змий, царящий над вселенною,
Весь в огне, безумно-злой,
Я хвалю тебя смиренною,
Дерзновенною хулой.
Из болотной топкой сырости
Повелел, губитель, ты
Деревам и травам вырасти,
Вывел листья и цветы…
И т.д. И власть этого «творца» — беспощадна:
Неотменны поведения,
Нет пощады у тебя,
Ты царишь, презрев моления,
Не любя и всё губя (269).
Этому-то правителю поклялся верно служить лирический герой поэзии Сологуба:
Когда я в море бурном плавал
И мой корабль пошёл ко дну,
Я так воззвал: «Отец мой, Дьявол,
Спаси, помилуй, — я тону.
Не дай погибнуть раньше срока
Душе озлобленной моей, —
Я власти тёмного порока
Отдам остаток чёрных дней».
……………………………………
И верен я, отец мой, Дьявол,
Обету, данному в злой час,
Когда я в бурном море плавал
И ты меня от смерти спас.
Тебя, отец мой, я прославлю
В укор неправедному дню,
Хулу над миром я восставлю,
И, соблазняя, соблазню (279).
Как лукаво использует поэт христианскую символику и молитвенную лексику! Море житейское — святоотеческий символ земного бытия. Все мы можем погибнуть в этом бурном море, все чаем спасения. И молимся: Отче, спаси и помилуй! И автор приведённых строк — так же молится своему «отцу». Только «спасителя» призывает не Небесного, а из бездны. И клянётся ему в верности, и верен тёмными делами своими.
Можно сказать: да это просто вольная фантазия, поэтический образ — нельзя же воспринимать всё буквально. Да почему ж нельзя? Пусть и фантазия, но красноречивая. И фантазия допускается до определённого предела, а тут черта преступлена. Имени Божьего всуе поминать нельзя, а другое — можно? И то не упустить: сатана нарекается, по сути, не только отцом, но и спасителем. А это уж хула на Духа.
Если бы тут был эпизод мимолётный, а потом — покаяние в грехе… Нет. Влечёт воображение поэта лукавый образ. И поэт ставит его, денницу, выше святых Владык, наводящих «лишь унылость, тоской венчанную» («Мы поклонялися Владыкам…»; 283).
В подоснове всего — сологубовское святотатственное отождествление несоединимого:
«Познаем, что Бог и Дьявол — одно и то же»[277].
Он пишет это в статье с недвусмысленным названием «Человек человеку — дьявол» (1907), в которой разводит подлинное словоблудие, обильно используя разного рода богословские рассуждения, библейские образы и т.д. Истинно серьёзного в этом ничего нет, но соблазнительно тем, что увлекает нестойкие души в полёт вольной фантазии.
Поэт соблазняет своими соблазнами не только по обету, но, кажется, и по зову внутреннему. Ибо он славит своего отца, обращаясь к нему как к Богу:
Я часть загадки разгадал,
И подвиг твой теперь мне ясен.
Коварный замысел прекрасен,
Ты не напрасно искушал.
………………………………
Так, слава делу твоему!
Твоё ученье слаще яда,
И, кто вкусил его, тому
На свете ничего не надо (363).
За год до смерти поэт тешит себя такими фантазиями:
Сатанята в моей комнате живут.
Я тихонько призову их, — прибегут.
Хорошо, что у меня работ не просят,
А живут со мной всегда, меня не бросят.
Вкруг меня обсядут, ждут, чтоб рассказал,
Что я в жизни видел, что переживал (492).
А рассказывает он им среди прочего: евангельские истории и притчи. Идиллия.
Не будем забывать: можно было служить и Богу и дьяволу, ценилась лишь полнота одержимости.
Но почему одному только Богу не послужить? А — бессмысленно:
Что мы служим молебны
И пред Господом ладан кадим!
Всё равно непотребны,
Позабытые Богом своим.
В миротканной порфире,
Осененный покровами сил,
Позабыл Он о мире
И от творческих дел опочил.
И нетленной мечтою
Мировая душа занята,
Не земною, иною, —
А земная пустыня — пуста (279).
Да и о Боге-то у поэта порою слишком своеобразное понятие пробуждается:
Грешник, пойми, что Творца
Ты прогневил:
Ты не дошёл до конца,
Ты не убил.
Дан был тебе талисман
Вечного зла,
Но в повседневный туман
Робость влекла (301).
Или это о том, об ином «творце»?
Впрочем, поэт может и покощунствовать, как, например, в стихотворении «В день Воскресения Христова…», — так, что и повторять не хочется.
И вывод делается также кощунственный:
Упрекай меня в чём хочешь —
Слёз моих Ты не источишь,
И в последний, грозный час
Я пойду Тебе навстречу
И на смертный зов отвечу:
«Зло от Бога, не от нас!
…………………………….
Мой земной состав изношен,
И куда ж он будет брошен?
Где надежды? Где любовь?
Отвратительно и гнило
Будет всё, что было мило,
Что страдало, что любило,
В чём живая билась кровь.
Что же, смейся надо мною,
Я слезы Твоей не стою,
Хрупкий делатель мечты,
Только знаю, Царь Небесный,
Что Голгофской мукой крестной
Человек страдал, не Ты» (392-393).
Опять то же — хула на Духа.
Прежде всего — отрицание крестной муки Спасителя. Отрицание Всеблагого Вседержителя. Отрицание краеугольной истины: «Бог есть любовь» (1Ин. 4:16). Ибо для поэта несомненно: Бог сотворил мировое зло.
Для Сологуба молитва к Богу — не имеет смысла, поскольку Им всё начертано изначально («Объята мглою вещих теней…»). Поэт приравнивает Бога к неумолимому року: предначертал и — отвернулся от мира.
И следствие неизбежное: в ощущении богооставленности мира, в ощущении всевластия дьявола — что может родиться в душе человека, кроме уныния и отчаяния?
Я напрасно ожидаю
Божества, —
В бледной жизни я не знаю
Торжества.
………………
И безмолвный, и печальный,
Поутру,
Друг мой тайный, друг мой дальный,
Я умру (215).
Или:
Многоцветная ложь бытия,
Я бороться с тобой не хочу.
Пресмыкаюсь томительно я,
Как больная и злая змея,
И молчу, сиротливо молчу (148).
И острое сравнение:
Как бессвязный рассказ идиота,
Надоедлива жизнь и темна.
Ожидаю напрасно чего-то, —
Безответна её глубина (152).
Тут не просто тоска — но отвержение Творца: если творение таково, то Создатель этой бессмыслицы — каков? И Церковь — так же бессильна и безнадежна:
Дни за днями…
Боже мой!
Для чего же
Я живой?
Дни за днями…
Меркнет свет.
Отчего ж я
Не отпет?
Дни за днями…
Что за стыд!
Отчего ж я
Не зарыт?
Поп с кадилом,
Ты-то что ж
Над могилой
Не поёшь?
Что же душу
Не влачат
Злые черти
В чёрный ад? (220-221).
Можно цитировать и цитировать, и перецитировать едва ли не всё поэтическое наследие Сологуба. И постоянно чувствуется то, что многими сознаётся примечательной особенностью поэзии Сологуба: воспевание смерти, тяга к смерти.
О смерть! я твой. Повсюду вижу
Одну тебя, — и ненавижу
Очарование земли.
Людские чужды мне восторги,
Сраженья, праздники и торги,
Весь этот шум в земной пыли (120).
Ещё знаменитые строки:
Мы устали преследовать цели,
На работу затрачивать силы, —
Мы созрели
Для могилы.
Отдадимся могиле без спора,
Как малютки своей колыбели, —
Мы истлеем в ней скоро
И без цели (139).
Ещё:
Надо мною жестокая твердь,
Предо мною томительный путь,
А за мною лукавая смерть
Всё зовёт да манит отдохнуть (179).
Ещё:
Как ни бейся, жизнь обманет.
Даже радость ядом станет.
…………………………..
Холодна, тиха, ясна,
Не обманет смерть одна (456).
Сологуб заклинает и завораживает мелодией своего стиха. Он поэт. И сама поэзия его — способ уйти от тягостной жизни:
Темницы жизни покидая,
Душа возносится твоя
К дверям мечтательного рая,
В недостижимые края.
Встречают вечные виденья
Её стремительный полёт,
И ясный холод вдохновенья
Из грёз кристаллы создаёт (109).
Именно собственное творчество делает поэта подобным Богу, потому что создание собственного мира позволяет отринуть сокровища как земные, так и небесные:
Я — бог таинственного мира,
Весь мир в одних моих мечтах.
Не сотворю себе кумира
Ни на земле, ни в небесах.
Моей божественной природы
Я не открою никому.
Тружусь, как раб, а для свободы
Зову я ночь, покой и тьму (176).
«Будете как боги…» Всё то же опять.
И становится мир «теоцентричным», только божественное начало в нём — самообожествившее себя Я поэта:
Я бросил вызов небесам,
Но мне светила возвестили,
Что я природу создал сам…
Я создал небеса и землю
И снова ясный мир создам…
Я — во всём, и нет иного,
Во мне родник живого дня…
Но только то не реальный мир, а измышленный.
И в этом мире он совершает литургию самому себе:
«…Всё и во всём — Я, и только Я, и нет иного, и не было, и не будет.
Я создал и создаю времена и пространства, и ещё иные бесчисленные обители.
Во временах явления поместил Я, и все явления — Мои.
В пространствах населил Я множества, неисчислимые возможности поселил Я в пространствах Моих.
Всему возможному даровал Я место, и мечтами Моими населил вселенную.
И всякая мечта Моя воплощена, ибо она — Моя.
И нет вне Меня бытия, ни возможности бытия»[278].
И так далее и так далее. Подобным вздором наполнены несколько страниц статьи «Я. Книга совершенного самоутверждения» (1906).
Всякая тяга к самоутверждению — давняя банальность. Любопытно лишь всегда: в каких формах совершается то самоутверждение. У Сологуба всё доходит до кощунственной игры:
«Я — откровение, свет миру, и слово о Тайне. … Благословляйте имя Мое, и благословенно имя Мое, и прославлено отныне и до скончания времён.
И поклоняйтесь Отцу Моему и Отцу вашему: Отец Мой, и Я, и дух Мой — единое существо, единая и неизменная причина всякого явления — ибо это Я, и только Я.
…Заповедь же Моя единая и неизменная вовеки:
Люби Меня»[279].
Разбирать это всерьёз? Сопоставлять с хорошо известными словами евангельскими и молитвословными? Увольте.
Сологуб выводит для искусства единый закон, вне которого нет поэзии: «Поэт — творец, и иного отношения к миру у него в начале и быть не может»[280]. Всё бы ничего, да от соблазна трудно при том избавиться. Сологуб свой мир творит, и ничего иного знать не желает. А мир-то сотворённый каков?
Вот что пугает: в этом мире — тяга к мерзости и пороку:
Люблю блуждать я над трясиною
Дрожащим огоньком,
Люблю за липкой паутиною
Таиться пауком.
Люблю летать я в поле оводом
И жалить лошадей,
Люблю быть явным, тайным поводом
К мучению людей.
Я злой, больной, безумно-мстительный,
За то томлюсь и сам.
Мой тихий стон, мой вопль медлительный —
Укоры небесам (276).
Но с такою грёзою — сама жизнь начинает казаться сном кого-то неразличимого, таинственного… кого?
Злое земное томленье,
Злое земное житьё,
Божье ли ты сновиденье
Или ничьё? (180).
Нечто близкое к индуизму?
Эта мысль преследует его и томит:
Я страшною мечтой томительно встревожен:
Быть может, этот мир, такой понятный мне,
Такой обильный мир, весь призрачен, весь ложен,
Быть может, это сон в могильной тишине.
И над моей томительной могилой
Иная жизнь шумит, и блещет, и цветёт,
И ветер веет пыль на крест унылый,
И о покойнике красавица поёт (257).
Сам себе снится со всем своим призрачным бытием? В искусстве такое предположение со времён Кальдерона не ново. Но у Сологуба с его грёзами — всё смешалось: смерть, сон, воображение, творение собственных миров… И всё более реально, чем сама жизнь:
Теперь живёшь и не гадаешь:
Ну, сколько жить ещё мне лет?
Ведь всё равно так верно знаешь,
Что настоящей жизни нет (494).
Это написано за год до смерти — как вывод окончательный?
Настоящая жизнь — в грёзах о сказочной земле Ойле, о которой он пишет цикл стихотворений «Звезда Маир» — им восторгался Блок, увидевший в Ойле нечто родственное своим душевным состояниям.
На Ойле далёкой и прекрасной
Вся любовь и вся душа моя.
На Ойле далёкой и прекрасной
Песней сладкогласной и согласной
Славит всё блаженство бытия.
Там, в сияньи ясного Маира,
Всё цветёт, всё радостно поёт.
Там, в сияньи ясного Маира,
В колыханьи светлого эфира,
Мир иной таинственно живёт.
Тихий берег синего Лигоя
Весь в цветах нездешней красоты.
Тихий берег синего Лигоя —
Вечный мир блаженства и покоя,
Вечный мир свершившейся мечты (217-218).
Что означают эти названия — Ойле, Маир, Лигой — ? Пытаться вызнавать это — оскорблять поэзию. Сами гласные имена эти создают звучный образ инобытия, неведомого, идеального, недостижимого, но постижимого в поэтической грёзе. Уже сама мечта об этих выпеваемых образах погружает сознание в идеальный новотворимый мир, где постигается и достигается непостижимое и недостижимое счастье.
Грех всё это, все эти грёзы — вот что. Они лишают человека мужества, несут душевную расслабленность, обессиливают для внутренней брани. Мир дан человеку Творцом не для бегства из него, но для духовного возрастания в нём — «многими скорбями» (Деян. 14:22).
Не сказать, что Сологуб вовсе отвращается от мира. Так, он пишет вдохновенные «Гимны родине» (1903) — Святой Руси, а не призрачной Ойле. Он откликается на революционные события, особенно наполняется надеждою в 1905 году, и скорбит, что упования не сбылись. Вдруг воспевает пролетария-борца («Весёлая песня»; 16 ноября 1905). Но это всё краткие эпизоды в его поэзии.
После событий 1917 года Сологуб обращается к античным образам: Амур, Психея, Диана, Аполлон, Афродита… Дионисийская стихия вдруг становится слишком притягательной для старого поэта.
Для тебя, ликующего Феба,
Ясны начертанья звёздных рун,
Светлый бог! ты знаешь тайны неба,
Движешь солнцы солнц и луны лун.
Что тебе вся жизнь и всё томленье
На одной из зыблемых земель!
Но и мне ты даришь вдохновенье,
Завиваешь Вакхов буйный хмель.
………………………….
От тебя, стремительного бога,
Убегают, тая, силы зла,
И твоя горит во мне тревога.
Я — твоя пернатая стрела.
…………………………..
Пронесусь над косными путями,
Прозвучу, как горная свирель,
Просияю зоркими лучами
И вонжусь в намеченную цель (414-416).
Кажется, поэт прикасается к этой традиционной для поэзии образной системе, чтобы именно в её пространстве полнее постигнуть то, что всегда воспринималось им как жестокий Рок. Теперь: то же:
В кипенье тёмного потока,
Бегущего с горы крутой,
Рукою беспощадной Рока
Заброшен ключ мой золотой (453).
Мы прослеживаем судьбу поэта, почти не вмешиваясь в неё своими долгими суждениями: всё порою прояснено самими образами, которыми изъясняется он сам. А порою так затуманено, что невозможно сознать строй его понятий. Вот он взывает к Вечному Богу, но к какому?
Как я с Тобой ни спорил, Боже,
Как на Тебя ни восставал,
Ты в небе на змеиной коже
Моих грехов не начертал.
Что я Тебе? Твой раб ничтожный,
Или Твой сын, иль просто вещь, —
Но тот, кто жил во мне, тревожный,
Всегда горел, всегда был вещ.
И много ль я посеял зёрен,
И много ль зарослей я сжёг,
Но я и в бунте был покорен
Твоим веленьям, Вечный Бог.
Ты посетил меня, и горем
Всю душу мне Ты сжёг дотла, —
С Тобой мы больше не заспорим,
Всё решено, вся жизнь прошла.
В оцепенении жестоком,
Как бурею разбитый чёлн,
Я уношусь большим потоком
По прихоти безмерных волн (454-455).
Своего рода молитва, но как невнятно всё спутано! В первой строфе (если понимать образ змеиной кожи в системе православной иконографии Страшного Суда, когда на изображении выползающего из адской преисподней Змия обозначаются названия важнейших грехов человеческих) можно прочитать указание на неизреченное милосердие Божие, простившее грехи поэту. Но вторая строфа отмечает недоумение его, не прояснившего своё отношение к Творцу (раб, сын, вещь?), а также, вопреки такой непрояснённости, намекает на пророческое, вещее служение Божией воле. Третья строфа подтверждает таковую покорность, проявлявшую себя несмотря ни на что, но в четвёртой содержится намёк на давнюю мысль о Боге как источнике всех несчастий человека (а это не отголосок ли ещё пушкинского стремления переложить на Бога вину — в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный…»?), а также на роковую предопределённость жизни. Всё усугубляется припоминанием того, что лирический герой поэта когда-то клялся в послушании отцу-дьяволу, которого он признал своим богом, которого отождествил в итоге с Богом. Пятая строфа усиливает идею равнодушного к человеку Рока, прихоти которого и подчиняется человек, ибо бессмысленно спорить с тем, чему нельзя противиться. А это обесценивает само смирение, ибо оно оказывается вовсе не смирением, но приятием неизбежного. Смирение является волевым согласием человека с волею Промысла, то есть соработничеством человека с Богом в деле спасения своего. Подчинение Року — не смирение. Ибо Рок исключает свободу человека, не даёт ему возможности выбора, как то совершает Промысл, движимый любовью Творца к творению.
Так у Сологуба оказываются в смешении сущности разных уровней и систем, в Истине не соединимые.
В конце своего творческого пути поэт вступает с читателем в некую аксиологическую игру, опровергая истинность всей своей ценностной системы, пытаясь переиначить весь семантический строй собственной поэзии:
Я созидал пленительные были
В моей мечте,
Не те, что преданы тисненью были,
Совсем не те.
О тех я людям не промолвил слова,
Себе храня,
И двойника они узнали злого,
А не меня.
Быть может, людям здешним и не надо
Сны эти знать,
А мне какая горькая отрада —
Всегда молчать!
И знает Бог, как тягостно молчанье,
Как больно мне
Томиться без конца в чужом изгнаньи
В чужой стране (479).
Выходит: всё, что было оттиснуто на бумаге, — «не то»? И поэт только морочил в течение трёх с лишним десятилетий своих читателей. А сам, следуя завету Тютчева, — молчал, скрывался и таил свои подлинные мысли и образы? И вся болезненная и греховная стихия, которую мы находим в поэтических созданиях Сологуба, есть болезнь его злого двойника?
Но на ком же ответственность за тот тягостный соблазн, которым переполнена поэзия Сологуба?
Да и должна же быть прояснена вера того, кто так жестоко отрёкся от истинности всего им сотворённого? Нет, ясности нет в его сознании, в его душе. Обращаясь к «таинственному гению», вдохновителю своей поэзии, он признаётся:
Не знаю, какому Началу
Ты служишь, Добру или Злу,
Слагаешь ли гимны Ваалу
Иль кроткой Марии хвалу.
Со мной ты вовек не лукавил,
И речь твоя вечно проста,
И ты предо мною поставил
Непонятый образ Христа.
Всегда ты правдив, мой вожатый,
Но, тайну святую тая,
Не скажешь ты мне, кто Распятый,
Не скажешь ты мне, кто же Я! (486-487).
И это — можно понять как подлинный итог жизненного искания поэта. Искания, завершившегося — ничем.
Проза Сологуба развивает в иной эстетической стихии то, что было обретено им в поэзии. И он первым вступил на путь, по которому пошли (не вслед ли за ним?) многие реалисты, преодолевая реалистический тип мироотображения. Сологуб вошёл в реализм, чтобы преодолеть его, доведя до гротеска, до абсурда то, что уже было близко к гротеску и абсурду.
«Он внезапно увидел городового… «Опять соглядатай, — подумал он, — так и смотрит, к чему бы придраться.» Он не посмел закурить вынутой папиросы, подошёл к городовому и робко спросил:
— Господин городовой, здесь можно курить?
— Насчёт этого никакого приказания не было, — уклончиво ответил городовой.
— Не было? <…>
— Никак нет, не было, так что господа, которые курят, это не велено останавливать, а чтоб разрешение вышло, об этом не могу знать.
— Если не было, так я и не стану. <…> Я — благонамеренный. Я даже брошу папиросу» (186)5
«Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи в которых запрещалось что-нибудь… В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное» (Чехов. С-10,43).
Ведь не вдруг и догадаешься, что две эти выдержки к разным людям относятся. Как не сразу сообразишь, о ком это:
«Он боялся сквозняка, — простудиться можно. Поэтому в квартире всегда было душно и смрадно» (44). Как будто очень знакомое: учитель гимназии Беликов. Нет: учитель гимназии Ардальон Борисыч Передонов, центральный персонаж романа Сологуба «Мелкий бес» (1902).
Передонов — наследник Беликова. Его двойник. Их не различить: всё смешалось, всё слилось в них воедино, в нечто тупое, уродливое, унылое, угрюмое… О их близости в один голос заявила ещё критика начала века.
«А вот я на вас донесу <…>, разве можно про таких знатных лиц такие глупости болтать?» (45).
«И прошу вас никогда так не выражаться в моём присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям» (С-10,51).
«Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в тёплом пальто на вате» (С-10,43).
«Передонов <…> выбрал такое место, чтобы спину защищал от ветра столб и чтобы в уши не надуло сквозняком» (8).
«Передонов, не слушая его, заботливо кутал шею шарфом и застёгивал пальто на все пуговицы. <…>
— Чего ты кутаешься, Ардальон Борисыч? Тепло.
— Здоровье всего дороже, — ответил Передонов» (197).
«Зачем трава в городе? — думал он. — Беспорядок! Выполоть надо» (191).
« — Она и в красной рубахе ходит. А иногда так даже босая ходит, и в сарафане» (86).
« — Разве преподавательницам гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде? <…> Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот ещё велосипед» (С-10,50-51).
«Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге» (С-10,43).
«Враждебно всё смотрело на него, всё веяло угрожающими приметами. Небо хмурилось. Ветер дул навстречу и вздыхал о чём-то. Деревья не хотели давать тени, — всю себе забрали. Зато поднималась пыль длинною полупрозрачно-серою змеёю. Солнце с чего-то пряталось за тучи, — подсматривало что ли?» (203).
«Он был слеп и жалок, как многие из нас» (198).
Кто этот «он» — Беликов, Передонов? Не всё ли равно… Передонов, Беликов — всё едино, всё безобразно, всё — жизнь в футляре.
Можно без преувеличения сказать, что тип «человека в футляре» — одна из вершин критического реализма. Чеховский персонаж — наиболее совершенное воплощение этого типа, но сам тип, конечно, не ограничивается фигурою одного Беликова. «И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько ещё таких человеков в футляре осталось, сколько их ещё будет!» (С-10,53). А сколько их было до того в литературе, и не у одного только Чехова, всё более замыкающихся в себе и отъединяющих себя от мира. Само бегство от реальности в мир грёзы тоже можно рассматривать как замыкание в футляре. У многих (в том числе не только персонажей литературных, но и творцов «серебряного века») есть свой футляр, своя скорлупа, в которую гонит их страх или неумение жить. В таком отношении к действительности многие буквально срастаются в одно нерасчленимое целое — в один тип — и чем далее происходит развитие этого типа, тем всё более стираются индивидуальности, тем всё менее интересен сам человек. О том же Беликове уже нельзя говорить серьёзно как о человеке, как о единственной и неповторимой личности. Беликов не человек, а человек в футляре, и важен только как человек в футляре, как тип. А как человек — он лишь символ, абстракция, как реальный человек он, в общем-то, мало правдоподобен. Страшащийся окружающих обстоятельств, Беликов сам уже превратился в некое обстоятельство, тяготеющее над миром.
Беликов — как некая вершина, к которой стремятся в своём развитии предшествующие ему персонажи. Но завершилось ли развитие после достижения вершины?
— А вы читали «Человека в футляре»? — спрашивают Передонова.
— Я не читаю пустяков, — отвечает он.
Жизнь Беликова — пустяк по сравнению с жизнью Передонова. Развитие не остановилось. Оно стремится дальше. Развитие типа стремится уже вниз. Вниз к вырождению. Символ убожества вырождается в символ извращённости. Развитие устремилось вниз, к вырождению в передоновщину. В неприкрытую бесовщину. Мерзкая Недотыкомка, подсмотренная где-то Сологубом, направляет жизнь, всю жизненную гнусь, торжествует и губит человека.
Сумасшествие Передонова — лишь вынужденная дань Ф. Сологуба традициям критического реализма. Ибо не сплошное ли сумасшествие — вся эта история, весь роман «Мелкий бес»? Реальны ли этот безумный страх Передонова (отравят, ограбят, убьют, подменят другим…), эти садистские его устремления, «паскудная» его фантазия, эта гипертрофированная извращённость Передонова и окружающих его людей?
Реальна ли, с точки зрения заурядного правдоподобия, сцена «неистовой забавы» Передонова и его гостей:
«Плевали на обои, обливали их пивом, пускали в стены и потолок бумажные стрелы, запачканные на концах маслом, лепили на потолок чертей из жёваного хлеба. Потом придумали рвать полоски из обоев на азарт, — кто длиннее вытянет» (49).
Передонов ещё более нереален, чем Беликов.
И всё же «сползающий с ума» (З. Гиппиус) Передонов — правда. Правда — как результат дальнейшего логического движения идей критического реализма. Ибо передоновщина — это откровенное утверждение того, к чему когда-то робко и с оговорками пытались прикоснуться художники критического реализма. Отрицание смысла жизни (подмена его суррогатами вроде «борьбы за счастье народа» — тоже отрицание) — не к такому ли результату приводит? С нарастанием этих идей к ним добавляется утверждение гнусной извращённости мира.
Передоновщина — правда. Правда в иной реальности: в реальности бесовского торжества. Это правда в той системе миропонимания, в которой отвергается даже возможность пребывания образа Божия в человеке. Это правда безбожного, богоотступнического, апостасийного мира. Сологуб не только выявил то, что было потенциально заложено в критическом реализме, но и обозначил вектор дальнейшего движения: к постмодернизму конца XX столетия. Он — предтеча постмодернизма.
Для Сологуба в передоновщине — правда бытия, как он видел его. Не исключительный случай, но обобщение бытия узревал писатель в своём персонаже:
«Нет, милые мои современники, это о вас я писал мой роман о Мелком бесе и жуткой его Недотыкомке, об Ардальоне и Варваре Передоновых… О вас», — писал автор в предисловии ко второму изданию романа.
«Он был слеп и жалок, как многие из нас» (198).
Как многие… Блок вторил автору, осмысляя роман: «Передонов — это каждый из нас, или, если угодно, скажу мягче: в каждом из нас есть передоновщина, и уездное захолустье, окружающее и пожирающее Передонова, есть нас всех окружающая действительность, наш мир, в котором мы бродим, как бродит Передонов вдоль пыльных заборов и в море крапивы»[281].
Передонов — правда, потому что не один он олицетворяет деградацию одержимой бесом жизни. Целая вереница персонажей проходит вслед за Передоновым, и все «нисколько не менее страшны по своей духовной сущности, чем сам Передонов» (Иванов-Разумник)[282].
Вот подлинная правда передоновщины:
« — А вот и проплюну, — сказал Передонов.
Встал и с тупым видом плюнул ей в лицо.
— Свинья! — сказала Варвара довольно спокойно, словно плевок освежил её» (16).
«Долго глядя на его расторопные, отчётливые движения, можно было подумать, что это не живой человек, что он уже умер, или не жил никогда, и ничего не видит в живом мире и не слышит ничего, кроме звенящих мёртво слов» (76).
«Как будто кем-то вынута из него живая душа и положена в долгий ящик, а на место её вставлена не живая, но сноровистая суетилка» (90). Чем не Органчик?
Щедрым потоком изливается со страниц романа зловонная грязь, откровенная гнусность, маразматические извращения, мерзость реальной безбожной жизни.
И критика сходилась в одном:
«Жизнь бессмысленна, бесцельна, жизнь — сплошная передоновщина»[283].
«Тем-то и страшна для Ф.Сологуба жизнь, что она — мещанство и передоновщина сама по себе, что такою её делают люди, делает человечество, эта миллионноголовая гидра пошлости»[284].
«Но если так, то где же выход для человечества? Где выход для живой и яркой, полной блеска жизни? Выхода этого нет. То есть есть выход, но выход этот — смерть»[285].
Отрицание осмысленной жизни таит в себе не что иное, как утверждение смерти — эта истина отчётливо проясняется у Сологуба.
Есть у писателя сказка, в которой некий рыцарь побеждает смерть и грозится убить её. Но смерть выставляет своего адвоката — жизнь, и то, что рассказывает рыцарю жизнь, «бабища дебелая и безобразная», ужасает его, убеждает в необходимости смерти, заставляет выпустить смерть на свободу.
«Мелкий бес» — это и есть рассказ «бабищи жизни».
Но этот рассказ есть как бы продолжение того, что уже начато было критическим реализмом. Как заканчивается история Беликова?
«Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая жизнь, не запрещённая циркулярно, но и не разрешённая вполне; не стало лучше» (С-10,53).
Не этому ли вторит Сологуб, начиная свой роман?
«Все принарядились по-праздничному, смотрели друг на друга приветливо, и казалось, что в этом городе живут мирно и дружно. И даже весело. Но всё это только казалось» (3).
А может быть, казалось, что всё погрязло в передоновщине? Может быть, всё дело в зрении человека, сумевшего разглядеть Недотыкомку, но ничего иного?
Я напрасно ожидаю
Божества.
В бледной жизни я не знаю
Торжества.
Какова мера истины в мире передоновых?
«…У меня человеческая харя» (42), — говорит Передонов, и в одном этом утверждении символ всей правды и Сологуба, и отрицания жизни вообще. В стремлении критически осмыслить действительность некоторые художники увидели не лицо человеческое, а некую харю, но при таком подходе отрицательную оценку получает уже не объект, а субъект критики. Если для кого-то мир искажён ущербностью его собственной души, то это характеризует уже не сам мир, а одну эту ущербную душу.
Дело ведь не в том, есть ли изображаемое зло в мире. Есть. А в том, что это утверждается как единственно сущее. Отвержение образа Божия в человеке — хула на Духа. Вечно повторяющаяся.
Порою исследователи пытаются отыскать у Сологуба светлые мотивы — и находят. Не хотят того только замечать, что это светлое — для него есть измышленное. Он как самосущий творец совершает сакральный акт: преобразует реальность. А можно и иначе сказать: бежит от жизни в грёзу, которую подлаживает под реальность.
«Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, — над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном»[286].
Так начинает он знаменитый роман, одно из несуразных своих созданий, — «Творимую легенду» (1913). Изначальный замысел обозначался иначе: «Навьи чары»: тянулся к языческому, колдовскому, к чарованию и о-чарованию. Это осталось, но потом идея стала шире в творческом сознании. Сологуб описывает измышленный мир, который лишь некоторым внешним видимым образом совпадает с реальностью. Для реальности здесь слишком много нелепиц.
В городе Скородеж, населённом «живыми мертвецами», зреет мечта о преобразовании бытия в лучшую жизнь. Творцом этой овеществлённой и осуществлённой мечты становится писатель-учёный Триродов (сакральное число три недаром заключено в его фамилии), создающий утопическую теорию «Единой миродержавной Воли», мистической по природе и способной изменить бытие. Попутно он сооружает шар-оранжерею, оказавшуюся одновременно воздушным кораблём, на котором центральные персонажи в конце всех событий переносятся в королевство Соединённых Островов, где Триродов и его подруга социал-демократка «товарищ Елизавета» основывают новую правящую династию. Заметим: королём Островов Триродов был избран заочно и в результате всеобщих демократических выборов. Всё это переплетается с эпизодами революционной борьбы в России, в которой Триродов и Елизавета принимают деятельное участие, с описанием политических интриг на Островах, а также с рассказом о сказочной идиллической земле Ойле — предмете мечтаний Сологуба-поэта. Всё приправлено также эротическими фантазиями, раздеваниями, непонятными намёками на педофилию и т.п.
В «Творимой легенде» можно выделить три важные идеи.
Первое: человек мерзок по природе. Рассуждений об этом много. Например: «Жестокое сладострастие разлито в нашей природе, земной и тёмной. Несовершенство человеческой природы смешало в одном кубе сладчайшие восторги любви с низкими чарами похоти и отравило смешанный напиток стыдом, и болью, и жаждою стыда и боли. Из одного источника идут радостные восторги страстей и радующие извращения страстей. Мучим только потому, что это нас радует. Когда мать даёт пощёчину дочери, её радует и звук удара и красное на щеке пятно, а когда она берёт в руки розги, её сердце замирает от радости»[287].
Так автор видит мир.
Во-вторых, подвергается осмеянию Православие и патриотизм, на нём основанный. В романе есть эпизод, когда комиссия нелепых экзаменаторов проверяет качество обучения в школе Триродова, и автор делает всё, чтобы высмеять их требования и представления как несуразные:
«Все очень придирались ко всему. Дулебов был всем недоволен. Он задавал такие вопросы, чтобы из ответов было видно, внушены ли детям высокие чувства любви к отечеству, верности Монарху и преданности Православной Церкви. Одного мальчика он спросил:
— Какая страна лучше, Россия или Франция?
Мальчик подумал немного, и сказал:
— Не знаю. Кто где привык, тому там и лучше.
Дулебова язвительно засмеялась. Шабалов наставительно говорил:
— Матушка Россия православная! Разве можно какое-нибудь государство равнять с нашим! Слышал, как нашу родину называют? Святая Русь, мать Россия, святорусская земля, а ты — болван, остолоп и свинёныш. Если ты своего отечества не любишь, то куда же ты годишься?
Мальчик краснел. На глазах его блестели слезинки. Дулебов спросил:
— Ну, скажи мне, какая вера на свете самая лучшая.
Мальчик задумался. Шабалов злорадно спрашивал:
— Неужели и этого не можешь сказать?»[288].
Сатирически изображая вопрошающих и заставляя их задавать вопросы в нелепой форме, оттеняя нелепость здравым смыслом ребёнка, автор тем добивается и компрометации самих идей любви к отечеству, к вере, к монархии.
Но, в-третьих, самое важное вот что: утопия Триродова противопоставлена центральной идее Православия, которая точно выражена в пасхальном тропаре:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущым во гробех живот даровав.
« — Оставьте меня! — решительно сказал Триродов. — Нет чуда. Не было Воскресения. Никто не победил смерти. Над косным, безобразным миром восставить единую волю — подвиг, еще не совершенный»[289].
Автор, кажется, хочет препоручить Триродову дело Христа, но без Крестной Жертвы: утверждением своей воли над миром… Над измышленным миром, прибавим. Это умственная игра, не более. Сологуб, разумеется, понимал невозможность им нафантазированного, но хотя бы потешить себя мечтою отказаться не смог.
У Сологуба можно много иных идей вызнать (среди прочих: сочувствие революции), но достаточно и сказанного.
[277] Сологуб Фёдор. Творимая легенда. Т.II. М., 1991. С. 155.
[278] Там же. С. 148-149.
[279] Там же. С. 152-153.
[280] Там же. С. 164.
[281] Блок Александр. Т.5. М.-Л., 1962. С. 125-126.
[282] О Фёдоре Сологубе: критика, статьи, заметки. СПб., 1911. С. 17.
[283] Там же. С. 16.
[284] Там же. С. 18.
[285] Там же. С. 225.
[286] Сологуб Фёдор. Творимая легенда. Т.I. М., 1991. С. 7.
[287] Там же. С. 93.
[288] Там же. С. 190.
[289] Там же. С. 197.
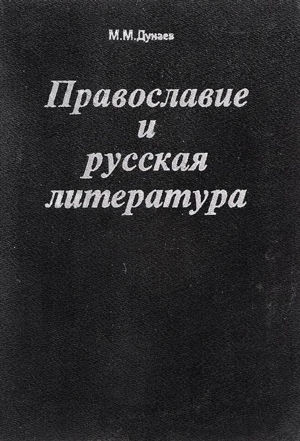
Комментировать