Глава 6. Николай Васильевич Гоголь (1809 — 1852)
На Гоголя предъявляли права многие — из тех, кто считал себя его наследниками, а его самого — родоначальником традиции, к какой они полагали себя принадлежащими. Наследие Гоголя оказалось в центре весьма несходных интересов, стремлений, мнений, притязаний, даже амбиций.
Вначале Гоголя приняли за своего революционные демократы, узревшие в гоголевских произведениях прежде всего те идейно-эстетические начала, которые они считали важнейшими в зарождающемся реализме: как они его восприняли. Поскольку в литературе они видели важное средство социально-политической борьбы, то и все силы употребили для того, чтобы реализм понимать как сугубо критическое направление. А уж у Гоголя сатиры и критики по отношению к реальной действительности, кажется, предостаточно.
Чернышевский ввёл понятие — «гоголевский период русской литературы», едва ли не основу всего усматривая в «энергии негодования», посредством которой Гоголь якобы воспитал в обществе сознание обречённости самодержавно-крепостнического строя. Ранее в той же убеждённости пребывал и Белинский. Но не только прогрессивная критика (мало ли чего могут натеоретизировать критики), а и молодые писатели-реалисты признавали себя последователями Гоголя: недаром же кто-то из них произнёс знаменитую фразу: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». Чаще это высказывание усваивают Достоевскому, хотя прямые доказательства того отсутствуют, — но сказать так мог, пожалуй, любой из начинающих русских классиков в середине XIX века. Признавал же Тургенев, свидетельствуя о Гоголе: «Для нас он был больше, чем просто писатель: он раскрыл нам нас самих»[17].
Но чем далее, тем настойчивее стало проявляться мнение, что собственно реализма-то у Гоголя и нет вовсе: слишком порою фантастична та якобы-реальность, какую мы встречаем в гоголевских созданиях. Наследниками Гоголя мнили себя многие творцы «серебряного века», настаивая именно на нереалистичности всей эстетической системы того, кого традиционно называют одним из основоположников реализма как ведущего направления в отечественной словесности. Окончательный итог подвёл уже в середине XX века В. Набоков, утверждавший, что Гоголь занимался новотворением некоей фантасмагорической псевдо-реальности, лишь его воображением порождённой и в нём реализующей своё бытие.
В условном гоголевском мире и впрямь может происходить что угодно — именно там «редкая птица долетит до середины Днепра» («Страшная месть»), а не в невыдуманной же действительности. Сказочность, фантастичность, гиперболизованность описаний, резкий гротеск во всём — от «Вечеров…» и «Миргорода» до «Мёртвых душ». Про повесть «Нос» и говорить нечего. Или вспомнить знаменитое описание из «Невского проспекта», на которое так любят ссылаться стойкие противники концепции гоголевского реализма:
«Тротуар нёсся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались неподвижными, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз» (3, 15)*. Вот зримый символ гоголевской ир-реальности, гоголевского абсурда, гоголевской фантазии, гоголевского мифического мира.
Обе названные концепции имеют каждая свою систему обоснования, своих сторонников, своих ниспровергателей. Но…
Но: не вторично ли всё это, хоть и интересно до крайности, не вторично ли по отношению к важнейшему — к религиозной направленности творчества Гоголя? Гоголь искал ответы на вопросы более важные, нежели проблемы художественного творчества, пусть даже весьма утончённые, — хоть они и не могли не завлекать его воображения: всё-таки он был художник.
Он был художником высочайшего уровня, но он обладал и обострённой религиозной одарённостью, и она возобладала в нём над чисто художественною жаждою творчества. Гоголь сознавал: искусство, как бы высоко оно ни возносилось, останется пребывать среди сокровищ на земле. Для Гоголя же всегда были потребнее сокровища на небе.
Это с раздражением почувствовал ещё Белинский. Об этом позднее говорили и писали многие и многие, кто пытался осмыслить судьбу Гоголя, — по-разному, разумеется, оценивая.
Религиозное странничество Гоголя не обошлось без блужданий и падений. Одно лишь несомненно: именно Гоголь направил русскую литературу к осознанному служению православной Истине. Кажется, первым это чётко сформулировал К. Мочульский:
«В нравственной области Гоголь был гениально одарён; ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть её с пути Пушкина на путь Достоевского. Все черты, характеризующие «великую русскую литературу», ставшую мировой, были намечены Гоголем: её религиозно-нравственный строй, её гражданственность и общественность, её боевой и практический характер, её пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы»[18].
Вот главное сокровище, завещанное Гоголем, наследовать которое мог и может каждый — при внутренней потребности. Случилось так, что слишком многие прельстились ценностями менее значимыми. Вина в том — отчасти и на самом Гоголе.
1. Смех в искусстве: pro и contra
«Причина той весёлости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому не объяснимой, которая происходила, быть может, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать самого себя, я придумывал себе всё смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза» (6, 210), — признавался Гоголь в «Авторской исповеди» (1847), мучительно пытаясь сознать проблемы собственного творчества, когда писательский путь его был близок к концу.
Вот и первый парадокс: гоголевская весёлость (а он едва ли не самый смешной писатель во всей литературе) порождалась состоянием крайнего уныния. Оно же есть явление духовной жизни, безблагодатной духовности. И сам Гоголь под конец это прекрасно понял:
«Во всех наших начинаниях и поступках больше всего мы должны остерегаться одного наисильнейшего врага нашего. Враг этот — уныние. Уныние есть истое искушение духа тьмы, которым нападает он на нас, зная, как трудно с ним бороться человеку. Уныние противоположно Богу. Оно есть следствие недостатка любви нашей к Нему. Уныние рождает отчаяние, которое есть душевное убийство, страшнейшее всех злодеяний, совершаемых человеком, ибо отрезывает все пути к спасению, и потому пуще всех грехов оно ненавидимо Богом. От того и в молитвах просится ежедневно, дабы дал нам Бог сердце трезвящееся, бодр ум, мысль светлу и отогнал бы от нас дух уныния» (6, 284).
Следование святоотеческой мудрости угадывается здесь несомненно, да и написано было «Правило жития в мире» (1844), откуда извлечено это суждение, под непосредственным воздействием чтения Святых Отцов. Но вот что важно: значит, где-то на том пути, на какой вступил oн, пытаясь побороть этот свой дух уныния чисто эстетическими средствами, — где-то неизбежно было ему, достигшему некоторой высоты духовного видения, столкнуться с роковыми недоуменными вопросами, совладать с которыми одним лишь напряжением духа творческого (в ограниченном художественном проявлении) уже невозможно.
Да и весёлость сама нередко становилась у него весьма сомнительной. Гениально чуткий Пушкин уловил это, когда после искреннего смеха при авторском чтении первых глав «Мёртвых душ» вдруг «начал понемногу становиться всё сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» (6, 79). И сам Гоголь, рассказавши одну из самых смешных своих историй, закончил её весьма нерадостным замечанием: «Скучно на этом свете, господа!» (2, 398).
Только не Россия была грустна, и не свет скушен — гоголевский дух был помрачён: из всего, что понамешано в русской жизни, извлекал он порою уродливо-смешное, а парадоксальное и мощное его воображение творило из отобранного неких монстров, населяя ими создаваемый писательской фантазией и порою весьма далёкий от реальности мир. Но этот мир обладал и подлинной иллюзией реальности, что изумляло самого автора:
«Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что всё это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света» (6, 67).
Дело, взятое из души, омрачённой унынием, уныние же и порождало, хоть и облекалось покровом внешней весёлости.
Не так уж и неправы были все теоретики и практики модернистского толка, притязая на гоголевское наследство. Беда, что кроме этого ничего иного узреть в Гоголе они не захотели, и не смогли. Гоголевской религиозной одарённости этим наследникам явно недоставало.
Можно сказать: ведь сам же Гоголь даёт основания для такого его восприятия. Несомненно. Точно так же и Белинский с Чернышевским вовсе не нафантазировали ту социальную критику, какую они обнаружили у Гоголя. Творчество писателя, как заметил один из самых глубоких исследователей его, о. Василий Зеньковский, своеобразно своею многоплановостью. Поэтому нельзя выделять проявления лишь одного плана, одного уровня: картина выйдет плоскою, лишённою объёма.
«Нельзя, выхватывая ту или иную сторону в идейной жизни Гоголя, ставить всё ударение на ней, — справедливо утверждает о. Василий Зеньковский, — надо всегда иметь в виду, что у Гоголя в его художественном творчестве и в его идейной жизни всё гораздо сложнее, чем это обычно кажется»[19].
Не станем упускать этого из виду, о чём бы ни довелось рассуждать, неизбежно упрощая при этом общую картину: ибо любое рассуждение задерживается, хоть ненадолго, лишь на одном из уровней многообъёмности целого.
Свое раннее печатное произведение, поэму «Ганц Кюхельгартен» (1827), Гоголь безжалостно подверг сожжению после первых же уничтожающих отзывов критики — и поступил справедливо: поэма скучна, маловыразительна, бесталанна. Когда бы её не Гоголь написал, никто бы не постеснялся назвать её бездарною. И впрямь: что это как не бездарное следование Жуковскому и, через него, — немецким романтикам? Нынче поэму эту читают по обязанности лишь литературоведы да, может, чрезмерно любопытные поклонники гениального писателя. И как это угораздило его занестись мечтою в неведомый германский край и воспевать туманно-романтические грёзы немецкого худосочного юноши? Разумеется, в восемнадцать лет кто не подвержен туманным романтическим томлениям — и это соединяет внутренне молодых людей едва ли не всех времён и народов, так что в герое поэмы много от личного авторского настроя душевного, но всё же чуждая немецкая форма, в какую поэт попытался облечь собственные переживания, ему явно не далась. Нет, бездарная, недостойная имени Гоголя поэма…
Но ведь Гоголь же писал, Гоголь!
Неужто всё вовсе безнадёжно? И вот мы пристально вчитываемся в поэтические строки — и за неуклюжестью слога начинаем различать движение ещё не умеющего себя выразить таланта:
Светает. Вот проглянула деревня,
Дома, сады. Всё видно, всё светло.
Вся в золоте сияет колокольня,
И блещет луч на стареньком заборе.
Пленительно оборотилось всё
Вниз головой в серебряной воде:
Забор, и дом, и садик в ней такие ж.
Всё движется в серебряной воде:
Синеет свод, и волны облак ходят,
И лес живой вот только не шумит. (7, 11).
И наивно, и смешно немножко, и трогательно… Если бы это чуть-чуть иначе — и не в стихах написать, то всё обернулось бы той неповторимою бесподобною прозою, какую никогда и ни с чем не спутаешь: гоголевская.
«Вся в золоте сияет колокольня, и блещет луч на стареньком заборе», — в такого рода подробностях позднее явит себя великим мастером Чехов, во многом наследник Гоголя (хоть и не из «Шинели» непосредственно вышедший).
Исследователи, биографы соблазнены обыграть замкнутую кольцевую композицию творческой судьбы Гоголя: начал с поэмы — и завершил ее поэмою же («Мёртвые души»); первую сжёг, и значительную часть второй, до конца не доведя, также уничтожил. Вокруг этого нагромоздили много разных домыслов, часто сводя всё к пошленькой мысли о безумии предсмертном. Чтобы более к этому не возвращаться, скажем решительно: безумие в Гоголе видят лишь те, кто недоступное пониманию спешат принизить до собственных посильных упрощений. В безумии мы и вообще должны Гоголю отказать, не сводя к этому примитивному шаблону гоголевское обострённое восприятие бытия, нестандартность его мышления, утончённую чуткость к неуловимым для огрубевших натур движениям человеческой души. И довольно об этом.
В ранней гоголевской поэме уже заметно обнаружил себя тот мучительный вопрос, какой роковым образом отзовётся на всей писательской судьбе его, определит основной сюжет жизненного пути Гоголя. Да и не одного Гоголя: важнейшая проблема самого бытия искусства, хотя он то, конечно, и не сознавал вначале, была затронута им, пусть ещё вскользь, смутно.
Какова природа эстетического начала в жизни человека, общества, всего человечества от сотворения мира и до его конца? И в чём смысл существования искусства, на этом зиждущегося? И есть ли смысл в самом посвящении себя занятию искусством? И не губит ли человек самоё жизнь свою, предаваясь этому занятию, подчиняя себя кумиру земной красоты?
Давно заметили неравнодушные скептики: искусство, искус, искушение — слова одного корня. И не одна ли природа у обозначенных этими словами понятий?
Вот вопросы, которые станут мукою всего творческого бытия Гоголя. Они взволнуют всю русскую литературу, расколов ее на два противоборствующих направления в середине XIX столетия. Через соблазны «серебряного века» они дойдут и до сего дня, так и не освободившись во временах, ими одолеваемых, от того беспокойства и той жестокости своей, каких спешили избегнуть едва ли не все художники.
В XIX веке безжалостнее прочих поставили эти вопросы перед собственной совестью два великих художника: Гоголь и Лев Толстой — различно решив их для себя, ибо слишком разно осмысляли религиозное своё бытие.
Но в восемнадцать лет молодой поэт лишь робко прикоснулся к проблеме, обнаружив всё же некую внутреннюю неправду искусства — при всём его благотворном влиянии на жизнь. Что до мысли о благодатности искусства — тут не обошлось без влияния эстетического идеализма Шиллера и вообще немецкого романтизма и немецкой философии. Сама «немецкая» поэзия «Ганца Кюхельгартена» не могла же не быть сопряжена с идеалистическими внутренними блужданиями души автора.
Европейский романтизм, как мы знаем, вообще заметно воздействовал на развитие нашей отечественной литературы — на большинство её творцов в начале XIX столетия. Но его яркая вспышка была недолговечной, ибо он не имел для себя религиозной почвы, искушая скорее внешними эмоциональными и эстетическими соблазнами, не затрагивая сердцевины творческого поиска русских литераторов. И всё же какие-то шрамы романтизм в душе многих оставил; поэтому когда Гоголь признавался Шевырёву позднее (11 февраля 1847 года), что «пришел ко Христу скорее протестантским <…> путём» (9, 362) — такое свидетельство важно: пусть и неглубоко, но царапнул его душу протестантский соблазн, отразившись и на романтическом увлечении гоголевской музы.
Сказалась и некоторая рационалистичность начальных шагов Гоголя в вере. Он сам признался (в «Авторской исповеди»): «Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно» (6, 214). Разум и необходим, но и опасен, если его требованиями увлечься. Пример Толстого — тому подтверждение. И Гоголя это, вероятно, невидимо мучило. Вечная проблема противостояния веры и рассудка.
О романтизме Гоголя приходится говорить не только из-за ранней поэмы. Принесшие ему славу «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831-1832) являют собой диковинную смесь из малороссийского фольклора, и немецкого романтизма, и гоголевского собственного юмора, соединённых вместе его же виртуозной фантазией.
Уже в «Вечерах…», и именно в «Вечерах…», Гоголь, предоставляя простор своей фантастической фантазии, начинает творение той особой реальности, которую на новомодном языке рубежа XX-XXI веков именуют виртуальной, а мы назовем проще: вымышленной, нереальной. Именно в этой гоголевской реальности, где так вольготно чувствуют себя гипербола и гротеск, редкие птицы долетают до середины Днепра, а стол, за которым пирует нечистая сила, равен длине дороги от Конотопа до Батурина («Пропавшая грамота»), что в прозаическом измерении равно тридцати верстам. Даже для сказочного мира это слишком. Гоголевская вымышленная реальность нередко мало совпадает с реальностью обыденной (а это в реализме, даже с поправкой на все условности искусства, просто необходимо), она самоценна, замкнута в себе, она, в известном смысле, противостоит обыдённости и творится по особым, ей внутренне присущим закономерностям, — вот то, чем так привлёк Гоголь художников, абсолютизировавших ново-творение в искусстве как его самодостаточную цель. Это ещё не было так ярко заметно в «Вечерах…» (да и самим автором не осмыслено) в силу самой их сказочности, специфической условности приёмов образного мышления — но позднее стало настолько явным, что уже и сам Гоголь не мог не задуматься над природою подобного отражения бытия.
Из тех, кому Гоголь невольно подражал в ранних своих опытах, ближе всего был ему, несомненно, Гофман, резко противопоставлявший обыденную реальность, доступную грубому нечуткому восприятию, и своего рода мета-реальность, воспринимаемую лишь обострённым, почти мистическим чутьём, прозревающим бытие сквозь его материальную оболочку.
Но то, что у Гофмана становится откровенно обнажённым приёмом, Гоголем как бы укрывается, не выставляется как приём и оттого не всеми угадывается и замечается. Гоголь загадывает загадки, не все и разгаданные до сих пор, загадки, к которым необходим особый ключ — понятие, так настойчиво, почти навязчиво обыгранное писателем в «Развязке Ревизора» (1846):
Петр Петрович. …Что ж за пьеса, которая без конца? Я спрашиваю вас. Неужели и это в законе искусства? Ведь это, по-моему, значит принести, поставить перед всеми запертую шкатулку и спрашивать, что в ней лежит?
Первый комический актер. Ну да если она поставлена перед вами именно с тем, чтобы потрудились сами отпереть?
Петр Петрович. В таком случае нужно, но крайней мере, сказать это; или же просто дать ключ в руки.
Первый комический актер. Ну, а если и ключ лежит тут же, возле шкатулки?
Николай Николаич. Перестаньте говорить загадками! Вы что-нибудь знаете. Верно, вам автор дал в руки этот ключ, а вы держите его и секретничаете. <…> Нам подавайте ключ, и ничего больше!
Семен Семёныч. Ключ, Михайло Семёныч!
Федор Федорыч. Ключ!
Петр Петрович. Ключ!
Все актеры и актрисы. Михайло Семёныч, ключ!
Первый комический актер. Ключ? Да примете ли вы, господа, этот ключ? Может быть, швырнёте его прочь вместе с шкатулкой?
Николай Николаич. Ключ! не хотим больше ничего слышать. Ключ!
Все. Ключ!
Первый комический актер. Извольте, я дам вам ключ. <…> Нет, господа, на давал мне автор ключа, но бывают такие минуты состояния душевного, когда становится самому понятным то, что прежде было непонятно. Нашел я этот ключ, и сердце моё говорит мне, что он тот самый; отперлась передо мной шкатулка, и душа моя говорит мне, что не мог иметь другой мысли сам автор. (4, 461-462).
Ключ же, разгадка всего, обнаруживается в том, что ничего подобного изображённому в пьесе не существует в реальной жизни. Изображённое же есть некий символ скрытых движений и состояний в душе человеческой. Такое же понимание можно распространить, как бы по подсказке автора, и на всё гоголевское творчество.
Можно не принимать подобного толкования, можно предположить, как то сделал Мочульский, что здесь перед нами результат позднего авторского переосмысления собственного наследия, что Гоголь просто пытался подверстать своё творчество к изменившемуся мировоззрению. Но уж никуда не уйти от того вывода, что реализма в расхожем понимании у Гоголя порою маловато.
Ещё из наблюдений над ранними годами будущего писателя Мочульский сделал парадоксальное заключение:
«Здесь мы сталкиваемся с очень важной особенностью гоголевской психики: отсутствием чувства реальности, неспособностью отличать правду от вымысла и наклонностью к преувеличению»[20].
Может быть, точнее было бы сказать о необычайной мощи воображения Гоголя, с какою он и сам порою не в силах был совладать. Иной раз даже планы собственных действий отличались у него фантастической несбыточностью — позднее он передал эту свою особенность, в комическом её облике, Манилову, отчасти Ноздрёву. Небольшая лишь разница: Манилов мечтал по неспособности к делу, Гоголь фантазировал от переизбытка душевных сил.
Правда, в «Вечерах…» это всё ещё в зародыше как бы, а разовьётся после, так что и речь о том впереди.
И ещё одна особенность гоголевского художественного творчества слишком проявилась в «Вечерах…»: навязчивое внимание к нечистой силе — это отмечают все исследователи, по-разному трактуя таковую устремлённость образного видения Гоголя. Иногда начинают в этом усматривать едва ли не болезненность душевного настроя Гоголя. И впрямь: слишком много нечистых в образной системе гоголевских произведений, и поминаются бесы чересчур часто не только персонажами, а и самим автором. Кажется, не сходит с языка у него чёрт, поминаемый по разным поводам — и в творческих созданиях, и в жизни, так что иной раз и до кощунства доходит. Мережковский вообще готов был видеть чуть ли не в каждом персонаже Гоголя одно из воплощений беса, а Розанов даже и отождествлял с ним самого автора «Размышлений о Божественной литургии». Оставим эти крайности, они определены не желанием установить истину, а собственным тёмным настроем души названных литераторов. Попытаемся осмыслить всё без предвзятости.
Стремясь объяснить обилие нечистой силы в своих произведениях (в ранних явно, в поздних — в образном переосмыслении), Гоголь писал (Шевырёву 27 апреля 1847 г.):
«Уже с давних пор я только о том и хлопочу, чтобы после моего сочинения человек вволю посмеялся над чёртом»[21].
Эти слова его хорошо усвоены и стали общим местом в рассуждениях о гоголевском творчестве. Их нельзя отвергнуть как неудачную попытку самооправдания: Гоголь не лгал, был правдив, искренен, говоря так. Но: многие же исследователи заметили, что не все бесы под пером Гоголя выглядят смешными, не все и побеждены силою творческого отрицания. Гоголь обращает против сил тьмы самое мощное своё оружие, которым, кажется, никто в мировой литературе не владел с таким совершенством, — смех! — и Гоголь же издаёт поистине вопль бессилия и тоски перед торжеством мирового зла:
«Соотечественники! страшно!» (6, 11).
И разъясняет ужас свой:
«Диавол выступил уже без маски в мир» (6, 190).
Да ведь и сам смех вышел же из духа уныния, не сразу и сознан был как средство борьбы со злом — но лишь как средство внешнего отвлечения от тягостной тоски…
Дерзнём предположить, что Гоголю дан был особый дар: столь обострённое видение и ощущение мирового зла, какое редко кому даётся в мире. Это и дар — и испытание души, призыв свыше к внутреннему ратоборству с открывшимся человеку ужасом, ужасом обострённого видения и ведения. Сам смех становится при этом двойственно неопределённым, опасным: это и защита, и оружие против зла, но и парадоксальное средство порождения зла нового — недаром же так ироничен часто бес в созданиях новой европейской литературы.
«…Я увидел, — признался Гоголь в «Авторской исповеди», — что нужно со смехом быть очень осторожным — тем более что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вослед за ним тот, кто потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела» (6, 214).
Отрицающий смех легко становится, таким образом, разрушающим основы жизни началом, он может представить в нелепом виде самые светлые стороны бытия. Нужно было быть Гоголем, чтобы придти к такому пониманию. Но не приговор ли это тому наследию, какое человечество мнит принадлежащим к своему духовному достоянию — от Лукиана и Петрония до Боккаччо, от Рабле до … самого Гоголя?
Там, где современное ему человечество видело лишь обыденную и скучную повседневность, Гоголь в ужасе зрел явление дьявола без маски. И от такого-то знания — как не впасть в тоску? Гоголевский смех становится выражением этой тоски — вот к подвигу преодоления чего он был призван.
Гоголь должен был явить пример одоления тяжких внутренних состояний, отвержения многих и многих фальшивых ценностей — из тех, что человечество числит истинными. Он был избран и предназначен к тому — и о своей избранности начал догадываться очень рано, не сразу и сознавши особый смысл её. Но сама мысль об избранности предполагает и к новому падению: к взращиванию тщеславия, гордыни, духа любоначалия. И с этим также предстояло истинное ратоборство. И сколько поражений и падений ждало его на этой стезе? И что при этом он должен был ощущать в душе, он — так остро и болезненно чуявший близость врага?
Не ощущал ли он самого дыхания ада, которое выразил во всех этих ужасающих фантастических образах, преобильно наполнивших его творения?
Можно догадываться, что падения его были страшны. Не был ли он близок даже к тому страшному состоянию, о котором сказал Апостол:
«… И бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19).
Ведь вся эта нечисть — не просто его писательская фантазия, но и, можно предположить, отражение некоего тайного духовного опыта, обусловленного тем особым обострённым даром восприятия и ведения злых сил. Он ясно видел то, что было укрыто от других. И это была его мука.
Для Гоголя борьба его со злом была усугублена тем, что само его искусство, сам дар сатирического писателя становились источником искушений. В искусстве он сумел достичь высочайших вершин. Гениальный писатель, он с ужасом узрел вдруг в самой природе своей гениальности — её сросшуюся сплетённость с тягою ко многим соблазнам. Но это помогло ему разглядеть и сознать зло не во внешнем мире, к чему он был склонен вначале, а в глубине собственной души. Дар-то был всё-таки свыше.
Конечно, только вступая на литературную стезю, Гоголь не мог предвидеть препятствий и испытаний, какие его ожидают: он простое безудержною полнотою молодости выразил на страницах «Вечеров…» всю причудливость своей фантазии, сплавил заимствованные идеи с усвоенными на родной земле волшебными преданиями.
В «Вечерах …» нечистая сила смешна или страшна, но почти всегда без-образна, отвратительна. Хотя и среди этой нечисти вдруг мелькнёт и вполне привлекательное обличье — исключительно у ведьм: мачеха в «Майской ночи» или Солоха в «Ночи перед Рождеством». То есть красота (чувственная земная) почти не совпадает с внутренней нечистотою — автор не всегда пристально всматривается в это покамест, но держится в основном определённого правила.
О бесовщине «Вечеров…» писалось много, но как будто все скользнули вниманием мимо изображения Бога в «Страшной мести». А оно примечательно:
«Как умер Петро, призвал Бог души обоих братьев, Петра и Ивана на суд. «Великий есть грешник сей человек! — сказал Бог. — Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты сам ему казнь!» Долго думал Иван, вымышляя казнь, и, наконец, сказал: «… Сделай же, Боже, так, чтобы всё потомство его не имело на земле счастья! чтобы последний в роде был такой злодей, какого ещё и не бывало на свете! и от каждого его злодейства чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах и, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил! А Иуда Петро чтобы не в силах был подняться и оттого терпел бы муку ещё горшую; и ел бы, как бешеный, землю, и корчился бы под землёю!
И когда придёт час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, Боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придёт он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы, его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, чтобы все потянулись от разных сторон земли грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки!» <…>
«Страшна казнь, тобою выдуманная, человече! — сказал Бог. — Пусть будет всё так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своём, и не будет тебе Царствия Небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своём!» (1, 163-164).
Петро в своём преступлении, конечно, отвратителен — но не более ли мерзок мститель Иван? Он — воплощение садистского сладострастия мести. За преступление против него он лишает милосердия Божия многие поколения ни в чём не повинных людей. Он отнимает у них свободу выбора, ибо его мстительным чувством они лишены прощения за грех, который сами не совершали. Иван предопределяет их судьбу, оставляет их без веры, без возможности покаяния. Символична сцена между колдуном и святым схимником:
«Одиноко сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей с святой книги. <…> Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист; очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался из очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.
— Отец, молись! молись! — закричал он отчаянно, — молись о погибшей душе! — и грянулся на землю.
Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул — и в ужасе отступил назад и выронил книгу.
— Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования! Беги отсюда! не могу молиться о тебе.
— Нет? — закричал, как безумный, грешник.
— Гляди: святые буквы в книге налились кровью. Ещё никогда в мире не бывало такого грешника!
— Отец, ты смеёшься надо мною!
— Иди, окаянный грешник! не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Недобро человеку с тобою вместе!» (1, 158-159).
Бог же, как он изображён в повести, не есть любовь, милосердие, высшая справедливость. Ему оставлена лишь одна функция: роль исполнителя злобного замысла. Он освящает Своею волею садистскую мстительность Ивана. Он у Гоголя также отвергает возможность покаяния грешника: не Он ли, являя особое внимание, запрещает схимнику молиться за прибегающего к Его покровительству без вины виноватого колдуна, которому предопределено было, лишённому права выбора, стать величайшим грешником на земле? Колдун в «Страшной мести» как бы запрограммирован на грех, он своего рода зомби. Но в таком случае на нём нет и вины, однако он наказан слишком сурово и жестоко.
Если кто-нибудь усмотрит здесь соответствие какой-либо христианской конфессии, то его право, но признаем лишь: к Православию боговидение «Страшной мести» не имеет никакого отношения.
Правда, не может не признать автор, что мстительное чувство Ивана — вне правды Горнего мира: оттого и лишён мститель обретения Царствия Небесного. Но наслаждение местью заменяет Ивану райское блаженство — и сила гоголевской изобразительности, гоголевского слова невольно заставляет читателя сочувствовать такому извращённому пониманию справедливости. Искусство начинает служить тёмной силе.
В религиозном мирочувствии автора «Страшной мести» явственно проступает то тяготение к правовому пониманию Божьего Суда, к юридическому принципу в вере, какое свойственно всякому отступлению от Православия внутри христианства вообще. По сути, это было свойством религиозности юного Гоголя, о чём он сам свидетельствует в известном письме к матери (в октябре 1833 года):
«Я просил вас рассказать мне о Страшном Суде, и вы мне ребенку так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло меня и разбудило во мне всю чувствительность» (9, 61).
В такой религиозности нет ничего необычного: так мыслят и чувствуют многие при начале долгого пути духовного развития. Постижение неизреченного и безграничного милосердия Божия не всем сразу дается — и Гоголю предстояло духовно выстрадать ту непреложную истину, какую в «Страшной мести» он как бы не сознаёт:
«Бог есть любовь» (1Ин. 4:8).
Финал повести явно противоречит тому. Без понимания же этой истины не может быть и свободы в вере.
Поэтому, когда Гоголь признается в том, что путь его ко Христу лежал для него через протестантизм, не примем его слова, обманувшись, за попытку затушевать тяготение к католицизму: протестантский след в ранних произведениях писателя всё же проступает.
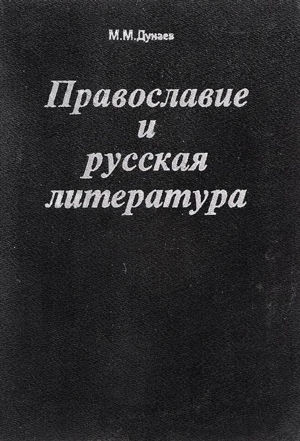
Комментировать