Май
Максим Исповедник, св. [О нем.] Жизнь, дела и мученичество преподобного отца нашего и исповедника Максима / Пер., изд. и примеч. М.Д. Муретова // Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 241–256 (1-я пагин.). (Продолжение.)
—241—
Кондак: в
| Ὶεραῖς διέπρεψας ὁμολογίαις καὶ πρὸς φῶς ἀνέσπερον καὶ δόξαν ἤρϑης ἀπὸ γῆς, κατεστεμμένος, ὦ Μάξιμε, τοὺς τὴν σὴν μνήμην τιμῶντας περίσωζε. | Священными исповеданиями прославился ты и к свету невечернему и славе вознесся от земли, увенчанный Максим, спасай чтущих память твою. |
Имеется только в Конст. и Венец. 21-го янв. на 6-й песни, где он помещен как второй кондак.
Икос: а
Священников опора, основа догматов, труба мудрости, (мучеников вершина) и верных утверждение (образец), пред миром является сегодня Максим досточудный, благодаря (божественной) его памяти: восстаньте же все для прославления его, благословляя дерзновение и ревность, которую он показал за благочестие, ради коего он, как истинно (истинно как) пастырь за стадо, твердо восстал против волков, коих отогнав, увенчался победною наградою, ясно возвещая всем Троицу Пресущную, Безначальную (посему взываем ему: твою память чтущих спасай!).
В слав. и ркп. греч. нет, С служба 2, Вен. Конст. и Афин. 12 авг. на 3-й песни, а 21-го янв. Конст. и Вен. на 6-й, но Афин. 21 янв. совсем нет. Вм. ὁ στηριγμός С и греч. 12 авг., в Конст. и Вен. 21-го янв: ὑπογραμμός. 21 янв. оп. ϑείας и τῆς пред εὐσεβείας, Кон. и Вен. 21 янв. чит. ὡς ἀληϑῶς, Афин. ἀληϑῶς ὡς, но С и 12 авг. не чит. – ὂϑεν βοῶμεν αύτῶ τὴν σὴν μνήμην τιμῶντας περίσωζε Конст. и Венец. 21-го янв. но С. Конст. и Вен. 12 авг. и Афин. не им.
—242—
Икос: б
| Μιμητὴς ἀναδειχϑεὶς τῶν τοῦ Σωτῆρος παϑημάτων καὶ αὐτὸν ἐν τῇ ψυχῇ σου ἒχων, παμμακάριστε, ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳσου ἀνατέϑηκας, πανόλβιε αὐτὸς δέ σοι παρέσχε τὴν χάριν οὐρανόϑεν, ἀντέστης γάρ τνράννοις, σοφὲ ἀνδρικῶς, τὴν ἂναρχον καὶ ϑείαν καὶ ὁμοούσιον Τριάδα ἀνακηρύττων καὶ διελέγχων κακοδοξοῦντας καὶ ϑεομάχους, μυρί ους καϑυπήνεγκας τοὺς πειρασμοὺς, πανεύφημε, τὴν γλῶσσαν ἐκκοπτόμ(εν)ος τὴν ϑεόλογον, ὅσιε, καὶ τὴν σὴν χεῖρα ὁμοῦ, οὐκ ἐνέ δωκας δὲ σὺ παρρησίᾳ λαλῶν καὶ στηρίζων τοὺς πιστοὺς ταῖς ϑείαις σου διδαχαῖς, Τριάδα πᾶσιν λαοῖς ἀνακηρύττων τρανῶς, ὑπερούσιον, ἂναρχον. | Подражателем явившись страданий Спасителя и Его в душе своей имея, всеблаженнейший, восхождения в сердце своем положил ты, всесчастливый! Он же дал тебе благодать с неба, ибо ты противостал тираннам, премудрый, мужественно, возвещая Троицу Безначальную и Божественную и Единосущную, – и обличая злославных и богоборных, многочисленный перенес ты напасти, всехвальный, – подвергшись отрезанию богословского языка, преподобный, и вместе твоей руки, но не престал ты с дерзновением говорить и утверждать верных божественными твоими учениями, Троицу всем народам ясно возвещая Пресущную, Безначальную. |
Греч. текст по ркп. (отселе греч. ркп. помечаются одним № описания Владимира). 290, 291, 298 и 292, где этот икос помещается на 6-й песни, после кондака: φῶς τὸ τριλαμπές, – в греч. печати, этого икоса не имеется. Слав, по тепер. и вышеуказ. Академ., – где он помещается 21-го янв. на 6-й песни и 12-го авг. на 3-й песни Греч, текст не имеет вариантов, кроме 292 ἀνέδωκας вм. ἐνέδωκας про-
—243—
чих. Славянский текст с вариантами в скобках: Подражатель (др. подобник) явлься (др. явився, паказася, показався) Спасовых (Спаса др.) страстей (др. Спасовым страстем) в души твоей (др. своей), имея, всеблаженне (др. преблаженне) восхаждения в сердцы твоем (др. своем) возложил ecu (др: положил), пребогате: Той (Сам) же (бо) тебе подаде (подасть) благодать с небесе (105; небеси), сопротивилбося ecu (сопротивибося, сопротивился бо ecu) мучителем (опуск. 98, 211. 213), мудре, мужески (105: мужеский), безначальную и божественную (опуск. 105. 99. 271) и единосущную Троицу проповедуя: и обличая злославные (злославящая 105, злославящих. злославных) и богоборные (богоберца 105 и др.) безчисленные (105 и нек: премногие др. безмерные) претерптл ecu напасти, всехвальне, языка отрезание догословного (и язык урезаем богословный 105. 99. 271, языку урезаему богословному 98. 211. 213), преподобне, и твоея руки (твои руце, рука), не престал же ecu ты с дерзновением глаголя и утверждая верные божественными твоими (ти) учении, Троицу всем людем проповедуя ясно, пресущную, (приб. и) безначальную.
Икос: в
| Ἂνοιξόν μου τὰ χείλη, ὁ Θεὸς ὁ Σωτήρ(μου), καὶ δός μοι ϑείαν χάριν ἑλκύσαι, τοῦ άξίως ύμνῆσαι. Χριστέ, τὸν ἐξόχως σου ὑπέρ ἅπαντας κηρύξαντα τὰς δύο φύσεις, διὸ καὶ παρ’ ἡμῶν ἀκούει ταῦτα (после Χριστέ Афин. так: τὸν κηρύξαντά σε ἐν φυςὶ φύσεσι, εξόχως ὑπὲρ πάντας, πρὸς ὅν καὶ ἐκφωνῶ τοιαῦτα). | Открой мои уста, Боже Спаситель (мой), и дай мне восприять божественную благодать, чтобы достойно воспеть, Христе, того, кто преимущественно пред всеми проповедал Твои две природы, почему и от нас слышит сие (того, кто проповедал Тебя в двух природах, преимущественно пред всеми, к коему и возглашаю сие): |
| Χαῖρε, φωστὴρ καταυγάζων κόσμον. | Радуйся, светило, ocиявающее мир! |
—244—
| (Χαῖρε, λιμήν τῶν ὲν ζάλῃ βίου) | Радуйся, пристань находящихся в волнении житейском! |
| Χαῖρε, μοναζόντων λαμπτῆρ διαυγέστατος. | Радуйся, светильнок монахов блистательнейпнй. |
| Χαῖρε, τῶν μαρτύρων τὸ κλέος καὶ στήριημα. | Радуйся, мучеников слава и опора. |
| Χαῖρε, ὂντως ὲγκαλλώπισμα ὲκκλησίας καὶ στολή. | Радуйся, истинное украшение и одеяние Церкви! |
| Χαῖρε, ἒρεισμα τῆς πίστεως καὶ ἀοάλευτος κρηπίς. | Радуйся, твердыня и непоколебимое основание веры! |
| Χαῖρε, ὂτι καϑεῖλες τῶν αὶρέσεων ϑράσος. | Радуйся, потому что ты уничтожил дерзость ересей! |
| Χαῖρε, ὂτι προϑύμως πρός Χριστὸν μέλη τέμνῃ. | Радуйся, потому что добровольно отрезаешь свои члены для Христа! |
| Χαῖρε, χαρὰ τῶν πίστει τιμώντων σε. | Радуйся, радость чтущих тебя верою! |
| Χαῖρε, χαρᾶς πληρῶν τοὺς ποϑοῦντάς σε. | Радуйся, наполняющей радостью любящих тебя! |
| Χαῖρε, πολλοὺς τοῦ Βελίαρ λυτρώσας. | Радуйся, освободившей многих от Велиара! |
| Χαῖρε, πιστοὺς τῷ Θεῷ προσενέγκας. | Радуйся, приведппй верных к Богу! |
| Χαῖρε, λῆρυξ τῆς πίστεως. | Радуйся, проповедник веры! |
Этот икос имеется только в греческих печатных текстах, под 21-м янв. на 6-й песни. В скобах поставлены варианты Афинского издания.
Седален: а
| Διωγμοὺς ὑπομείνας ὑπὲρ τῆς πίστεως, ἀπεδίωξας, πάτερ, ἂπα- | Гонения претерпев за веру, ты, отец, огогнал |
—245—
| σαν αἵρεσιν, ἐκτμηϑεὶς δὲ σὺν χείρὶ τὴν γλῶτταν, Μάξιμε, ὁμολογίας εὐπρεπῆ ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Ποιητοῦ ἐδέξω στέφανον, μάκαρ, ὂν νῦν ἀπαύστως δυσώπει ἐλεηϑῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. | всякую ересь и, подвергшись урезанию языка с рукою, ты, блаженный Максим, от руки Творца принял венец, благоприличный исповеданию, Коего (Творца) теперь непрестанно умоляй о помиловании душ наших! |
В слав. печатн. и 98 (ркп. тип. нет) и греч. на 3-й песни 21 янв., тоже в греч. рукоп. 290, 291 и 292 – без вариантов. Слав: Гонения претерпев за веру (веры ради), отгнал ecu, отче всяку ересь, отсечен же (?) с рукою язык (отсечену же бывшу с рукою языку 98. 211. 213) Максиме, исповедания благолепный (благолепна – те же) приял ecu (прият – те же) венец, блаженне: Его же ныне непрестанно моли, помиловатися душам нашим.
Седален: б
Божественный догмат укрепляя, ты, богомудрый отец Максим, стал столпом православия и утверждением веры, с двумя естествами и двумя волями возвестив Христа Бога нашего, Коего (ныне) усердно моли даровать нам великую милость.
Comb. I сл. на 6-й песни и ркп. 398 авг. и слав. 12 авг. на 3-й песни, – есть в типогр. ркп. 125, 126 и 128. Греч, вар; δύο ϑελήσεων (?) ὰναι(ε)κήρυξας (проповедал – слав). – и опуск. νῦν (слав, но 125 чит.). Слав; Учение божественное держа (типогр. 125 и др. Повеление Божие оукрепляя др; оукрепляиася) столпе был ecu (125 бы (?), др. и 105, 99. 271: бысть) православия (125 др: правоверия) и держава (125 др: оутврежение), богомудре, веры (125 др.: вере), во двою существу (155 др: в деве соущьстве) и (125 др. не чит.) дву хотению (125 и др; в деве воли, 105, 99 две хотении) проповедал ecu (125 и др: проповеда) Христа Бога нашего, отче Максиме, Его же (ныне чит. 125 и др;) прилежно (нет 125 др.) моли даровати нам велию милость.
—246—
Седален: в
Подвиги жизни твоей освещают пути всех, Максим, отец истинно подражающих тебе верою; посему спасай всегда с любовью ублажающих тебя ходатайствами твоими от всякой беды, моля Благого Христа» – блаженный, досточудный!
СМ. сл. 2-я и Греч. печ. авг. на 3-й песни. В греч. ркп. и слав, нет.
Седален: г
Плетью нас ради бывшего издевы в девою волею и детелью коупьно, и слово преже безначално, оче сияние, оче Максиме. исповедав моудре, болезни претрьпе и ось(че)ние оуд твоих. тем и венец приял еси.
Типогр. № 99.
Песнь IV
Ты, Моисею подражая, богомудрый, принял духовные скрижали догматов, ибо вошел ты во мрак рассуждений (и) обогатился светом знания.
СМ. и ркп. 298, Слав. авг. Поправка С εὶσδύς ненужна и не оправдывается текстами: ркп. 298 είσέδυς, Слав: вшел ecu. Греч, νοημάτων – рассуждений или собств: мыслей, разумений, разума, – слав: видений, читая, кажется, ϑεορημάτων. Слав: разумно (читая νοερῶς, вм. νοεράς) прият учений (учением 105, 99:271) и (не чит. 105 как и греч.) обогатился ecu (др. обогатися).
Ты, Аврааму возревновав, богоносный, иного (другого) Исаака привел Господу, свое собственное сердце, отец, принесши в жертву в огне совести.
Там же. Слав: богомудре – ϑεόφρον вм. ϑεοφόρε. 105: своей жертвы, отче, сердце во огни совестсньй вм. жертвовав, отче, сердце во огни советстче.
[Сих Троица прославила достойно! Сих Бог
—247—
соустроил верою, благочестно исповедавших друг с другом неложное исповедание наше!]
Есть только у СМ, – букв; исповедавших(хся) друг с другом благочестие (благочестием) неложного исповедания нашего.
| Ἒνα τὸν Χριστὸν κηρύξαντες, πατέρες, ἕνα τὸν ὺιὸν, ἐν δυςὶν ταῖς οὐσίαις ὡμολογήσατς, ϑέλοντα κατ’ οὐσίαν καὶ ἐνεργοῦντα τὰ ἀμφότερα. | Единого Христа проповедав, отцы, единого Сына в двух естествах вы исповедали, волящего по существу и действуюшего по обоим (естествам и волям). |
Есть только в ркп. 298 и слав. авг. Слав: хотяща по существу и действующа обоя.
Богородичны
Безвременного Сына Ты родила во времени: непорочною (и) чистою Ты пребыла, родив Воплотившегося ради нас в утробе Твоей, Богородительница Приснодева!
СМ 1-я сл. Ркп. 298, Слав. авг. и типогр. № 125 (но текст отступает). Вм. ἂφϑορος С чит. ἂφϑορος 298. – и не чит. греч, и старосл. но теп. чит. Слав, безлетна – в лето. Слав: печ. нетленно. читая ἀφϑόρως. 271 и 99: нетленно чистая пребысть, 105: нетленна (не читая: и) чистая пребысть. Старосл: иже нас ради).
Колос возрастившая животворный, доставляющий миру жизнь, Ты, невозделанная нива, Богородица, спасай воспевающих Тебя!
С. 2-я сл. и Греч. печ. 12 авг.
| Λυτρωϑέντες τῷ τόκῳ σου τοῦ τῆς άμαρτίας χρέους, Πανάμωμε, χαριστήριον ἐφύμνιον ἀναπέμπομέν σοι. Θεονὐμφευτε. | Избавленные Рождением (Сыном) Твоим от греховного долга, Всенепорочная, благодарственное пение воссылаем Тебе, Богоневеста! |
—248—
Греч. печ. 21 янв. и ркп. 290, 291 и 292 без вар. и Слав: избавльиеся (98 избавльшися) рождеством Твоим (98: ти) Всенепорочная (пренепорочная 98 и нек.) радостное. Но в типогр. другие:
Девою въсхвалим тя по рожестве и паки девою чстоу, яко рожьши Х(рист)а Б(ог)а, от льсти мира избавльшего.
Типогр. № 99.
Повремени бывшего от (др. опуск.) Оца безвремене восия(др. ъ)вшего б(ог)омати (др. приб.: нам) родила еси, его же помоли, (др.: моли), да спасет поющих (др. аja) тя.
Типогр. 125–128.
Песнь V
Меч не отсек твоего, отец, дерзновения, – не загасила, преподобный, ссылка веру твою.
Comb. сл. I, ркп. 298 без вар. Слав. 12 авг. 105: не отсецаше, др: не усече. – не угаси – заточение.
Проповедует Рим ревность твою, богоносный, – трубит (возглашает), преподобный, Церковь слова твои.
Там же, Слав: проповедует убо – трубит же.
Веру свою непоколебимою сохранил ты в сердце и ум вознес к небу, великоименный.
Только у СМ сл. I. Вместо этого стиха:
| Ἐνώπιον ἀρχόντων κηύξαντες τὸν Σωτῆρα, μάρτυρες γεγόνατε τῇ προαιρέσει, ϑεόσοφοι. | Пред начальниками проповедав Спасителя, мучениками добровольно, богомудрые. |
Греч. ркп. 298 и слав, авг. пред князи – бысте произволением.
Богородичиы
Как источник бессмертия воспеваем Тебя, Богородица, ибо всегда текущую жизнь миpy источила (родила) Ты.
—249—
С. I сл., Слав. 12 авг. и греч. ркп, 298. Вм. С ὲπήγασας – источила чит. ὲκύησας – родим, ркп. 298 и слав. Вм. приснотекущий 105. 99. 271: присный.
Утиши неустойчивое волнение страстей моих, Родившая Бога, Правителя и Господа.
С. II сл. и греч. печ. 12 авг. Типогр. ркп. 99 так: Жстави боурю не приизниноу страстьми. Х(рист)а рожьши къръмителя и га.
| Οἱ μή σε Θεοτόκον γινώσκοντες. Θεομῆτορ, φῶς ού μὴ ϑεασο(ων)ται τὸ γεννηϑὲν ἐκ σοῦ, Πάναγνε. | Не (при)знающие Тебя (за) Богородицу, Богоматерь, (да) не узрят Света, рожденного от Тебя, Всечистая! |
Греч. и слав. 21 янв. и ркп. 290, 291 и 292. Вместо ϑεάσονται ркп. и Афин. чит. ϑεάσωνται, и слав, да не узрят. Слав: Тя Богородицу не ведущии, 98 и нек: иже тя.
Его же роди дво пренепороцьно (др. пренепорочнаиа) ба слова прилежьно помоли о нас поющиих тя.
Типогр. 125–128.
Песнь VI
Досточудным соделал твое, преблаженный, исповедание Вещавший в тебе Иисус, сподвизавшийся с Тобою.
С. сл. I, Слав. 12 авг. и греч. ркп. 298 Слав: удиви твое... 105 и нек.: иже в тебе вещавый. Слав, тепер. и старопеч: 79. 99. 271 др. со страждущими тебе, читая σὺν ἀϑλήσασίν σοι, вм. ὁ συναϑλήσας σοι – 105 и нек: иже с тобою пострадавый.
Ни начальников надменности, ни меча, ни угрожавшего тебе огня не устрашился ты, преподобный, ибо верою ты был тверд.
С. сл. I, Слав. 12 авг. ркп 298. Слав: кичения – огня претящего тебе убояся 105 ти не убояся, 90. 271 нет не. – крепок.
По окончании жизни, отцы, чудеса совершаете, действенные представляя доказательства чудес ваших.
Только С сл. I. Но Слав, и ркп. 298 вместо того имеют следующее два стиха:
—250—
| Οὐκ ἐσάλευσέ σου τὸν πύργον τῆς ὀρϑοδοξίας ὁ παμπό νηρος ἐχϑρὸς, ἂλλ’ ἡττήϑη καὶ ἀπώλετο. | Не поколебал твоей крепости православия вселукавый враг, но (сам) Побежден и погиб. |
Ркп. 298 и Слав. 12 авг: твоего столпа, 105. 99. 271: твой столп, – победися.
| Τῇ τροπλίκῳ ταύτῃ σφένδόνῃ ἀπειλὴ Ἀρείου νοητῶς τοξεύεται ταῖς βολαῖς τῶν μυστηρίων Χριστοῦ. | Треплетенною сею (твоею) пращею угроза Aрия умственно обстреливается бросанием (стреляниемь) таинств Христовых. |
Там же. Слав. теп. и др. мн: твоею, 105. 99. 271: треплетенно си (99. 271: ти) пращею, – прещение Ариево стреляется стрелами.
Богородичны
Выше ума и слова, Дева, кормя Питателя всех сосцами (Своими), Ты не подверглась свойственному матерям.
С. сл. I, Слав. 12 авг. и ркп. 298. Ркп. τῶν μητέρων. Слав. питателя – питающи (105 и др.: доящи) – матерних (105: матерню, 99. 271: матерских) не разумела ecu (109 др: не разуме), читая ούκ ὲπίστασαι вм. οὐχ ὑφίστασαι.
Одна (только) чрез слово во плоти (чреве) Слово родившая (заченшая), избавь, молимся, от сетей врага души наши!
С. сл. II, и греч. печ. авг. и янв. Вм. ἐν σαρκί С и Афин. чит. ἐν γαστρί. Венец, и Конст.
| Ὠραῖος παρὰ πάντας τοὺς βροτοὺς ὁ υἱός σου, Πάναγνε, κάλλει ϑεότητος, εἰ καὶ σάρξ δι’ ἡμᾶς ἐχρημάτισεν. | Прекрасен пред всеми смертными Сын Твой, Всечистая, крастою Божества, хотя и плотью ради нас соделался. |
Слав. 21 янв. и ркп. греч. 290. 291. и 292. Слав, краснейший паче всех человек, – 98. 211. 213 пречистая.
—251—
Црквь тя боу и кивота и чрътога животна дшевьнь и дверь нбсьноую бце верни исповедаем.
Типогр. 99.
Слова зачьнши оца (др. оча) безмоужьно пречистая неприменьно родила еси вплщена на земли ба и члвка.
Типогр. 125–128. Полагающийся на VI песни синаксарь в конце II службы издан отдельно.
Песнь VII
Ты одежду природного достоинства кровью твоею украсил, богомудрый, молчащим, отец, и вещающим доказательством представив ее (т.е. язык и десницу урезанные) для слов твоих.
С I сл., слав. 12 авг. и ркп. 298. Слав: молчащь язык, отче, и вещающь явление подавая (105: подая) сею словес твоих.
Как золото, вы трое, очищенные в огне тех испытаний, чистейшую веру вашу принесли Христу, отцы честные.
Там же. Слав: возрастисте – греч. προσηυξήσατε (м. б. читая; προδηύξοτε вместо С и 298: προσήξατε – принесли в жертву.
Приидите наконец, отцы богоносные, – восклицает Христос, – получив плоды и награды за труды, водворитесь с радостью в вечные обители!
Только С (букв: водвориться). Вместо того:
| Τάφος ὑμῶν οὐκ ἒπαυσε τὰς γλώσσας, γῆ δὲ μακρὰ οὐκ ἒκρυψε τοὺς λόγους ἀλλ΄ ὥσπερ γράφει Λαβὶδ ἐν ὕμνοις, εἰς πᾶ σαν ὂντως τὴν γὴν διεφημίσϑητε. | Гроб не прекратил (остановил) ваших языков и земля дальняя не покрыла (погребла) слов (ваших), но, как пишет Давид в гимнах, по всей действительно земле прославлены вы. |
—252—
Слав. 12 авг. и ркп. 298. Слав: не уставы – не скры соотв. греч. ἒκρυψε, но ркп. ἒκρυπτε, – проповедашася, но 105. 99. 271: прослустеся, ркп. διεφημίϑηται.
Богородичны
Таинственный образ Девы Предобразивший купиною на Синае, горящею и не сгораемою, благословен Ты (Христос) Господь Бог отцев (наших).
С сл. I, Слав, 12 авг. и ркп. 298. Ркп. приб: наших. Слав. тайны образ (др: иже тайны,., Девыя... иже в Синаи)... купиною горящею и неопаляемою (др. купину горящую и неополяемую),.. Вм. греч. Χριστὲ ό τῶν... Слав: Господи Боже отец наших (105: Бог отец)
Из девической утробы воплотившись, явился Ты на спасение нас, посему, матерь Твою признавая Богородицею, благодарно восклицаем: отцев наших Бог, благословен Ты!
С сл. II., греч. печати. 21-го янв. и слав, типогр. № 99:
Двчскы из ложь сне. въплещъся явися на спсение наше, тем же мтрь твою видевъше. бцоу правоверено (ὀρϑοδόξως?) въпием. оць... Типогр. №№ 125–128: Ищрева твоего пройде въплщьщьшася всех дво гь. сего ради тя бцю моудрьствоующе простославьно сноу твоему възьваем. оць...
| Νέον φέρουσα βρέφος τὸν πρὸ πάντων αὶώνων Θεὸν, Πανάμωμε, ἐκ σοῦ σωματωϑέντα, μὴ παύσῃ δυσωποῦσα τοῦ σωϑῆναι τοὺς ψάλλοντας ὁ τῶν (πατέρων)... | Как новый плод, нося Сущего прежде всех веков Бога, Всенепорочная, из Тебя Воплотившегося, не престань умолять (чтобы) спастись поющим: отцев (наших, Боже благословен Ты)! |
Слав. 21 янв. и греч. ркп. 290. 291 и 292. Вм. 290 и 292 τὸν 291 чит. τῶν. 291 приб. πατέρων. Слав: юного носящи младенца прежде всех веков Бога, – а 98 и 211: новосущим (211. 213: новосущи), млади первовечного Бога, – 211. 213: поющая, тя. Греч, печатн. 12-го авг. в качестве
—253—
богородична читают здесь четвертый стих VII песни 2-го канона; δύο, πάτερ... два, Отец, признавая, хотя он не отделим от канона, составляя стих на букву δ в слове δοξάζεται акростиха: ὁ παμμέγιστος Μάξιμος δοξάζεται. См. 2-й канон к эт. стиху.
Песнь VIII
Луч божественного светоча в сердца приняв, богомудрый, ты обогатился светом знания и сокровище мудрости отложил в душе своей, отец.
С. сл. I, Слав. 12 авг. и ркп. 298. Слав: зарю божественного учения, вместо δᾳδουχίας читая: διδαχῆς или διδασναλίας – просвещением разума... премудрости (105 мудрости) – вложил ее и в душу.
Хитон (одежду) подвижничества твоего ты поставил образом мученичества и священными своими страданиями (подвигами) ты испещрил (разукрасил) его, богоносный, обагрив кровью (пролитою) за истину.
Только С. сл. I.
В чистоте соблюдши жизнь (свою) и верою украсив дела (свои), вы удостоились небесной славы, честные отцы, посему воспеваете Христа во веки.
С. сл. I, Слав. 12 авг. и ркп. 298.
| Τῶν δογμάτων προέστης, ϑεομάκαρ, τὰς αίρέσεις ἐδίωξας ἐκ μέσου καὶ Χριστοῦ ζηλώσας τὰ παϑήματα γέγονεν ϑυσία καϑαρὰ (καὶ) δεκτὴ τῷ δεκτὴ τῷ Θεῷ τῇ προαιρέσει. | Ты стал (выступил) за догматы, богоблаженный, – ереси изгнал вон и, поревновав Христовым страданиям, добровольно соделался жертвою чистою (и) приятною Богу. |
Слав. 21 янв. и ркп. 298. Слав: учения предложив (προϑείς?) – от среды – чиста и приятна (ркп. не чит. καὶ – а 105 не чит. приятна).
Богородичны
Радуйся, дверь и одушевленное облако! Радуйся, гора и купина и светильник! Радуйся, храм и пре-
—254—
стол и рай! Радуйся, Родившая Создателя всего, Благословенная!
С, I сл., Слав. 12 авг. и ркп. 298.
Ты, Дева, явилась дочерью падшего Адама, по Матерью Бога, обновившего мое существо (естество), Коего, как Господа, воспеваем все мы – дела (и превозносим Его во все веки).
С. II сл., и Греч. печ. авг. и янв. Греч. чит. ώς κύριον вм. С τὸν κύριον. И приб: καὶ ύπερυψοῦμεν αύτὸν εὶς πέντας (12 авг. а 21 янв. Афин. оп. πάντας) τοὺς αὶῶνας.
| Ζωῆς σε μητέρα καὶ Θεοῦ γεννήτριαν ἐπεγνωκότες, ὸρϑοδόξῳ πίστει πάντες μακαρίζομεν. Θεογέννητορ, εὐλογοῦντες ἅμα τὸν τόκον σου, ἂχραντε, καὶ ὑπερυψοῦντες εὶς πάντας... | Познав Тебя Матерью Жизни и Родительницею Бога, все мы православною верою ублажаем (Тебя), Богородительница, благословляя вместе и Рождение (Сына) Твое, Чистая, и превознося во веки. |
Став. 21 янв. и греч. ркп. 290. 291 и 292 Греч. 291 приб: (καὶ ὺπερυψοῦντες εὶς πάντας). В типогр. ркп. № 99 за богородичен стоит третий стих восьмой песни II канона: живоносну зарю – см. во 2-й службе. А в 125–128 этого стиха нет, но есть предыдущий богородичен.
Адама(о)ва двца(е) от (вм. от др. и) падшааго бо явися дъщи. бжия же мти (др. смерти?) обновльшааго мое соущьство. его же поем присно (др. всякая дела).
Песнь IX
Ты посредством бесстрастия и созерцания, треблаженный, научил нас словам жизни вечной, исповедание свое оставив миpy одушевленным столпом православия.
С. сл. I, Слав. 12 авг. и ркп. 298. чит. κατέλιπες – оставил Слав. вм. καταλείψας – оставив. Слав, ты – σύ лучше греч. «εὖ – хорошо. Слав: видением, 105. 99. 271 оп. словесы и чит: жизни вечной.
—255—
Действительно прославились вы, богоносные отцы, ранами и бичеваниями, гонениями и бедствиями, подвизавшись в узах и темницах, оковах и ссылках.
Там же. Слав. заточением пострадавше.
Преподобные отцы наши, совершившие подвиг мученичества с ревностью и любовью, умолите Бога и Владыку от всякого обмана избавить рабов ваших.
Только С. сл. I. Подвиг – δρόμον, соб.: течение, бег. Вместо того следующий:
| Σὺ Φινεὲς ἐκμιμούμενος, ϑεοφόρε, ἂλλῳ σειρομάτῃ ἐν τῇ μαχαίρᾳ τοῦ λόγου τὴν νεόφυτον ἀποτέμνεις ϑρησκείαν, ἀποβουκολῶν τοὺς βλασφημοῦντας Χριστόν. | Ты, Финеесу подражая, богоносный, иным копьем, мечем слова отсекаешь новоявленную веру, отгоняя хулителей Христа. |
Слав. 12 авг. и ркп. 298. Слав, яко инем копием, мечем – новонасажденную – отревая. Ср. Числ.25:7.
Богородичны
В купине, сожигаемой огнем и не сгораемой, предвидел некогда Моисей, Богоматерь Дева, прообраз Твоего богоприятного чрева, принимающего (в себе) Нетленный Огонь.
С. I сл., Слав. 12 авг. и греч. ркп. 298. Буквально слав; купину горящу огнем и неопаляему предзряше дрвеле Моисей, Богомати Дево, богоприятну прообразуя (точнее: прообразовавшую богоприятное твое чрево – слав, утробу), приемшую (во греч. ὑποδεχομένην) Ркп. 298 чит. σοῦ пред γαστέρα как и слав.
Ты, Богородица, – оружие наше и стена! Ты – защита к тебе прибегающих! Тебя и ныне к ходатайству побуждаем, да избавимся от врагов наших!
С. сл. II, греч. печат, авг. и янв., Слав. 21 янв. и типогр. ркп. 99 и 125–128, греч. ркп. 290. 291 и 292. Слав: на молитву предлагаем – εὶς πρεσβείαν κινοῦμεν. Но ркп. 99: Ты еси
—256—
дво (125 др. бце) стена наша и оружье, (125 др: оружье наше и стена) ты ecu и (125 др. оп. и) заступление притекающим к тебе, тебе же и ныне вcu молимся, да избоудем от враг наших. (125: ты ecu запьница, др. заступьница, – к тебе притекающим. тебе и ныня на млтвоу подвизаем да избавимся от враг наших. Здесь и кончается служба в этих рукописях.
Экзапостиларий (светилен): а
Трубою мудрости явился ты, Максим, свет монашествующих, доброгласным языком своим поражая сонмы противников: посему, питаясь твоими словами, мы познаем разум сущего.
С. I сл., ркп. 290 и 298 (291 и 292 нет). Слав. янв. и авг. под названием: светилен. В ркп. 99 и 125 нет. Слав: благогласным, др: богогласным. Тепер. и др. противных ужасая (πλήττων) полки (στίφη), но 105. 99. 271: улавляя сопротивных соборы. Тепер. и др. разум познаваем сущих – τὴν γνῶσιν κατανοοῦμεν τῶν ὂντων. – 105: тем же твоими питеющеся словесы и разумом подаваем сущих, но 99 и 271 как тепер.
Экзапостиларий: б
Глубины судов Твоих исследованы Духом, а глубины Духа, Спаситель, в духе и силе исследовал Максим, как истый философ, возвещая два Твоих хотения и действия: посему светло ныне чтится он.
С. сл. II и греч. печ. 12 авг.
Экзапостиларий: в
| Θεολογῶν ἐκήρυξας μίαν φύσιν Τριάδος καὶ μίαν, πάτερ, ϑέ λησιν καὶ ὲνέργειαν μίαν, Θεοῦ δὲ τοῦ σαρκωϑέντος δύο φύσεις ϑελήσεις καὶ ὲνεργείας, Μάξιμε πάνσοφς ϑεοφάντορ, ὁμολογῶν, | Богословствуя, отец, ты проповедал одну природу Троицы и одну волю и действие одно: а в Воплотившемся Бог исповедуя |
(Продолжение следует).
Игнатий (Брянчанинов), еп. Поучение в неделю о Самарянине1447 / Сообщил М. А. Новоселов//Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 1–5 (2-я пагин.).
—1—
Истинные поклонницы поклонятся Отцу Духом и Истиной: ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Ин.4:23.
Возлюбленные братия! ныне слышали мы во Евангелии, что истинные служители истинного Бога поклоняются Ему Духом и Истиной, что Бог ищет, то есть, желает иметь таких поклонников. Если Бог желает иметь таких поклонников: то, очевидно, что таковых только поклонников и служителей Он приемлет, таковые только поклонники и служители Ему благоугодны. Это учение нам, возвестил сам Сын Божий. Веруем учению Христову! со всей любовью приемлем всесвятое учение Христово! Чтоб с точностью последовать ему, рассмотрим, что значит поклоняться Богу Отцу Духом и Истиной.
Истина есть Господь наш Иисус Христос, как Он засвидетельствовал о себе: Аз есмь путь и истина и живот (Ин.14:6); Истина есть Слово Божие. Слово Твое истина есть (Ин.17:17). Это слово предвечно было в Боге, произносилось Богом и к Богу; это Слово – Бог; это Слово-Творец, всего существующего, видимого и невидимого (Ин.1. Кол.1:16). Это Слово плоть бысть, и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко Единородного от Отца, исполне благодати и истины (Ин.1:14). Бога никтоже виде нигдеже: но Слово Божие, единородный Сын, сый
—2—
в лоне Отчи, той исповеда (Ин.1:18). Исповедал пред человеками, вполне явил человекам Бога Сын Божий, Слово Божие: явил Сын Божий человекам недоступную им Истину, засвидетельствовав и запечатлев неоспоримо истину обильнейшим преподанием Божественной благодати. От исполнения Его мы вси прияхом благодать возблагодать: благодать и Истина Иисус Христом бысть (Ин.1:16:17). Это значит: Иисусом Христом доставлено какое-либо более или менее подробное и ясное понятие о Благодати и Истине; но сама благодать, Сама Истина существенно преподаны человекам, насаждены в человеков. Мы сделались причастниками Божественного естества (2Петр.1:4).
Истина имеет свойственный себе Дух. Этот Дух именуется Духом Истины (Ин.15:26, 16:13). Он Дух, от Отца исходящий (Ин.15:26); Он – Дух Святый Божий (Ин.14:26); Он Дух Сына (Гал.4:6), как неотступно соприсутствующий Сыну, как составляющий со Отцом и Сыном единое нераздельное и неслитное Божеское Существо. Принятие Истины есть вместе принятие Святого Духа: потому-то Всесвятая Истина возвещает о себе, что Она пошлёт Святого Духа от Отца ученикам своим. Естественно там присутствовать Святому Духу Истины, где действует Святая Истина, и печатлеть её действия. Равным образом, где действует Святый Дух, там бывает обильнейшее явление истины, как и Господь, сказал ученикам Своим: Егда придет Он, Дух Истины, наставить вы на всяку Истину (Ин.16:13). Изображая чудное отношение Божественного Слова к Божественному Духу, Господь сказал о Духе: Он мя прославит, яко от Моего приемлет и возвестит вам. Вся, елика иметь Отец, Моя суть (Ин.16:14:15). Дух возвещает и являет человекам соестественного Ему Сына, Дух, привлечённый человеками верой в Сына, соестественного Духу. Истинного Христианина Святый Дух зиждет духовно и преобразует в жилище Божие (Ефес.2:22); Он во внутренном человеке изображает и вселяет Христа (Ефес.3:16:17); Он усыновляет человеков Богу, соделывая их подобными Христу, водворяя в них свойства Христовы (Ин.14:6). Таковые сыны Божие в молитвах своих относятся к
—3—
Богу, как к Отцу: потому что Дух Святый вполне явно и ощутительно свидетельствует духу обновлённого Им человека (Рим.8:16) о соединении этого человека с Богом, о усыновлении его Богу. Понеже есте сынове, говорит Апостол, посла Бог Дух Сына своего в сердца ваша, вопиюща: Авва Отче (Гал.4:6). Таковы-то поклонники признаются истинными поклонниками Бога! таковых-то поклонников, поклоняющихся Богу Духом и Истиной, ищет и приемлет Бог. Вне истинного Христианства нет ни Богопознания, ни Богослужения.
Никто же приидет ко Отцу, токмо Мною, сказал Господь. Для того, кто не верует в Господа Иисуса Христа, нет Бога: всяк отметайся Сына, ни Отца имать (1Ин.2:23); иже не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нём (Ин.3:36). Невозможно приступить к Богу, невозможно войти в какое бы то ни было общение с Богом иначе, как при посредстве Господа нашего Иисуса Христа, единого посредника и ходатая, единого средства к общению между Богом и человеками! Нет истинного познания Господа Иисуса Христа, без посредства Святаго Духа! Никто же может, сказал Апостол, рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым (1Кор.12:3). Аще кто Духа Христова не имать, сей несть Христов (Рим.8:9). Вне христианства нет добродетели, достойной неба! «Благое, сказал Преподобный Марк Подвижник, не может быть ни веруемо, ни действуемо, как только о Христе Иисусе и Святом Духе»1448. Недостойны Бога естественные добрые дела человеческие, истекающие из падшего нашего естества, в котором добро смешано со злом, по большей части едва приметно во множестве зла. Падшее естество способно исключительно ко злу, как сам Бог засвидетельствовал: прилежит помышление человеку прилежно на злая от юности его (Быт.8:21). Вы зли суще, умеете даяния блага даяти чадам вашим (Лук.11:13). Такова цена пред Евангелием и Богом естественной доброты человеческой и действий, из неё истекающих. Тщетно прославляет падшее естество свои громкие и великие добрые дела! Такое самохвальство есть свидетельство ужасной слепоты.
—4—
Такое самохвальство есть невольное обличение качества громких дел человеческих, возбуждаемых и питаемых тщеславием. Воня гордыни, которую издают из себя эти гробы повапленные, мерзостна Богу: благоприятен Ему фимиам смирения.
По этой причине Господь заповедал падшему и слепотствующему человечеству, не сознающему своего горестного падения, напротив того видящему в нём какое-то великолепное торжество, ищущему развить это торжество, заповедал отречение от естества. Для спасения нашего необходимо отречение от греха! но грех столько усвоился нам, что обратился в естество, в саму душу нашу. Для отречения от греха, сделалось существенно нужным полное отречение от падшего естества, отречение от души (Мф.10:39) – отречение не только от явных злых дел, но и от многоуважаемых и прославляемых миром добрых дел ветхого человека; существенно нужно заменить свой образ мыслей разумом Христовым, а деятельность по влечению чувств и по указанию плотского мудрования тщательным исполнением заповедей Христовых. Аще вы пребудете в словеси Моем, сказал Господь, воистину ученицы Мои будете. И разумеете Истину и Истина свободит вы (Ин.8:31:32). Замечательные и глубокие слова! Прямое последствие, вытекающее из них, заключается в том, что грех содержит человека в порабощении единственно посредством неправильных и ложных понятий. Равным образом, очевидно, что пагубная неправильность этих понятий и состоит именно в признании добром того, что, в сущности, не есть добро, и в непризнании злом того, что, в сущности, есть убийственное зло.
Иже есть от Бога, глаголов Божиих послушаешь (Ин.8:43), сказал Господь. Братия! Смиримся пред Господом Богом нашим! В противоположность ожесточенным Иудеям, отвергшим и Господа и Его учение, окажем повиновение Господу покорностью Всесвятому и Спасительному учению Его! Отложим образ мыслей, доставляемый нам падшим естеством нашим и враждебным Богу миром! усвоим себе образ мыслей, предлагаемый нам Господом в Его Святом Евангелии! последуем Истине и наследуем Истину. Истина освобождает человеческий ум от не-
—5—
видимых уз заблуждения, которыми оковал его грех. Этого мало: Всесильная Истина, доставив духовную свободу уму, обновив, оживив его жизнью свыше Словом Божиим – выводит его на путь заповедей Христовых, и путь неправды отставляет от него (Пс.118:29). Душа, оживлённая Истиной, воспевает вместе с вдохновенным Пророком: Путь заповедей Твоих текох, егда разширил еси сердце мое. Законоположи мне Господи путь оправданий Твоих, и взыщу и выну: вразуми мя, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим (Пс.118:32, 33:34). Такая душа непременно соделывается причастницей Святаго Духа, который не может не присутствовать там, где присутствует и владычествует Божественная Истина, который в таинственном Своём совете со всесвятой Истиной вещает о Себе так: Причастник Аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди твоя (Пс.118:63)1449.
Человек доколе пребывает в падшем естестве своём, дотоле погружён во мрак глубочайшего неведения; он не ведает, как должно молиться, и не ведает, о чём ему должно молиться (Рим.8:26); он вполне неспособен к служению Богу1450. Одна живая вера во Христа доставляет познание Истины; эта живая вера, выражаемая исполнением заповедей Христовых, привлекает в сердце верующего благодать Святого Духа, как и Боговдохновенный пророк сказал: привлекох Дух, яко заповедей Твоих желал (Пс.118:131). Один истинный Христианин, Христианин верой и делами, может быть истинным поклонником Бога, поклоняющимся и служащим Богу, как Отцу, Духом и Истиной. Аминь.
Произнесена в церкви св. Варвары 20 Апреля.
Сообщил Михаил Новоселов
Харлампович К.В. К биографии митр. Московского Филарета [Дроздова]//Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 6–8 (2-я пагин.).
—6—
Приводимое ниже письмо вскрывает одну черту, доселе кажется не сделавшуюся известной в характере отношений приснопамятного митрополита Филарета к учителям подчинённых ему духовных школ. Оказывается, что святитель выдерживал в течение нескольких месяцев без места тех преподавателей, которые желали, оставив учительство, занять приход… Эта особенность могла пройти незамеченной для историков потому, что митрополит Филарет, державшийся её со дня вступления на московскую кафедру, потом, по-видимому, оставил её. По крайней мере, из «Материалов по истории Московской епархии под управлением митрополита Филарета» (М. 1883) не видно, чтобы она отразилась хоть на одной резолюции владыки на прошении кандидата священства из учителей семинарии или академии.
Напротив, первой заботой митрополита Филарета при этом было, чтобы преподавание до конца учебного года не потерпело ущерба (см. напр. 77. – от 1830 г.).
Автор письма – Ив. Ив. Петров, бакалавр, французского языка в Московской академии в 1822–1827 гг. У историка академии, С. К. Смирнова, о нём сообщается, что он в 1827 г. выбыл в Москву в священники и в 1838 г. умер при церкви Никиты мученика в Татарской (История Московской духовной академии до её преобразования (1814–1870 гг.), М. 1879 г.). Но, оказывается, Петрову пришлось ранее рукоположения выдержать долговременный искус человека без места, но с семьёй на руках.
Адресат письма – протоиерей Нижегородского Архангельского собора В.Г. Владимиров, бывший питомец Московской
—7—
академии. В ту пору, когда Петров оканчивал семинарию нижегородскую (1818 г.), он был там экономом в сане священника того же собора. См. Тихонов И.И. Нижегородская духовная семинария в 1818–1840 гг. (Н.-Новгород, 1905 г.), 22. 125). Был ли он учителем семинарии – из истории её не видно. Но из других писем Петрова к о. Владимирову, писем, отправленных из лавры по приезде туда и поступлении в академию, причём под одним из них значатся подписи и других товарищей Петрова, высланных вместе с ним из Нижегородской семинарии (Ефима Лебедева и Ив. Благообразова), открывается, что к питомцам последней у о. Владимирова были более близкие и идейные отношения, чем те, которые обусловливаются отправлением экономической должности.
Все упоминаемые письма, как и приводимое ниже в интересах освещения личности митрополита Филарета, находятся в «теке» бумаг прот. Владимирова, принадлежащей его родному внуку К.В. Лаврскому и представленной в наше распоряжение с его позволения М.И. Лопаткиным.
К. Харлампович
Ваше Высокоблагословение
Милостивый Государь
Василий Григорьевич!
Всепокорнейше Вас благодарю за благосклонное посещение меня в странническом жилище моём. Крайне жалею о том, что не могу оказать почтеннейшему отцу протоиерею должной услуги, не жительствуя уже при св. обители, Вам и мне приснопамятной. Воля здешнего Владыки, относительно служащих при Академии и семинариях с намерением поступить в белое духовенство, такова, чтоб они оставили училищную службу прежде, нежели явятся пред лице его святейшества с прошением об определении на какое-либо место священническое. По таковому издавна, – то есть, с самого вступления преосв. Филарета в управление Московской Епархией – постановленному закону словесному, вопреки писанным и высочайшим подписанием утверждённым правилам для духовных училищ, –
—8—
наша братия, которую монашествующие отцы стыдятся нарицати братией своей, подвергается полугодичному, годичному, аще же совесть не зазрит Владыку, и долговременнейшему искусу. Полгода был искушаем я и другой странник, товарищ мой по учёбе и службе. Места открывались и закрывались, определялись младшие, иногда и неучёные, но имеющих ходатаев знаменитых, или особенно любимых Владыкой. Наконец мой сотрудник успокаивается, получая место, хотя и не такое, какого испрашивал по праву. А моё пришествие продолжается ещё. С радостью и все усерднейшей благодарностью уверяюсь в ваших отеческих молитвах, воссылаемых о мне Богу терпения и утешения. От всего сердца радуюсь вместе с Вами вашим любезным детям, честь имею рекомендовать в вашу благосклонность моих двух дочерей, из коих одна учится ходить и говорить, а другая – улыбаться.
Желаю Вам непоколебимого здравия и как семейственного, так и всякого утешения столь же постоянного, как сиё моё желание и глубочайшее высокопочитание, с которым к Вам имею честь пребыть
Вашим
покорнейшим слугой
Магистр Иван Петров
8 марта,
1828 года.
Москва.
На подлинном рукой адресата надписано:
«Жаль, мало пожил сей добрый и умный Иерей Иван Иван. Петров – бывший магистр и Бакалавр – непосредственный1451 и отличный».
Купреянова А.Н. Из семейных воспоминаний//Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 9–24 (2-я пагин.). (Продолжение)1452.
II
Когда Александр Семёнович провожал старшего сына в первый раз в Петербург, то дорогой, в карете, спросил его, какого рода службу он предпочитает? Сын, не задумываясь, отвечал:
– Службу Царю небесному.
На эти слова отец не обратил внимания, но когда сын осуществил их, сделавшись смиренным и бедным послушником, то вся Брянчаниновская гордость поднялась на дыбы. В жизнеописании отца Игнатия (Дмитрия Александровича) рассказано довольно подробно о том, сколько он выстрадал вследствие деспотического честолюбия родителей, не мирившегося с его призванием. Монашество было для этого человека не карьерой и не средством нажить капиталы. Он раздавал всегда почти всё, что имел. Та же родственная черта сказывалась в характере его матери; такой же была и С. В. Боборыкина, старшая из дочерей любимой сестры о. Игнатия. Другие Брянчаниновы умели так же жертвовать многим, но не ближним вообще, а любимым людям. Так Пётр Александрович употребил всё своё состояние на издание книг обожаемого им брата.
Узнав о смерти сестры своей, Боборыкиной, о. Игнатий (бывший уже тогда монахом) написал моей матери. Он просил сообщить подробности о последних днях жизни Софьи Александровны, поясняя, что он был связан с
—10—
ней узами исключительной дружбы и надеется увидеться с ней в будущей жизни, по слову Св. Писания: «Бог вселяет единомысленные в дом»…
Честолюбие деда было удовлетворено, когда отец Игнатий получил в молодых годах сан архимандрита. В те времена духовные чины труднее достигались, чем ныне, и больше заслуг для этого требовалось. Итак, дед смягчился. Но уже было поздно: здоровье сына надорвалось лишениями и огорчениями всякого рода, и память о несправедливостях, отравивших его детство и юность, не изгладились никогда из его сердца.
Прослужив уже несколько лет в Сергиевой Пустыне, лично известный Государю, уважаемый Наследником и Великими Князьями, отец Игнатий захотел побывать в родных местах. Быть может, жизнь на виду, с неизбежными неприятностями, наравне с неизбежным официальным почётом, утомили его, и он жаждал природы, сердечности и простоты. Но в Покровском ему была устроена торжественная встреча «сообразная его положению». Конечно, съехались все родные и ходили около него с таким благоговением, точно он был заживо канонизован. Александр Семёнович сам давал тон такого крайнего в своём отношении к сыну. В день приезда о. Игнатий был, конечно, на могиле матери; и оставался ещё на кладбище долго после того как священник отслужил панихиду.
На завтра было назначено торжественное богослужение в Покровской церкви. Приехали соседи, сошлись толпы крестьян посмотреть на архимандрита; надеялись, что о. Игнатий если и не будет служить, то скажет, может быть, речь…
Утром, когда всё семейство собралось в угловой «бильярдной» в ожидании первого удара колокола, о. Игнатий сел на диван возле двух девочек Боборыкиных и сказал:
– Батюшка, я не пойду сегодня в церковь. Не очень здоров. Вы все идите, Бог вас благословит, а я останусь вот с ними, – показывает на детей.
Дед был поражён, развёл руками, но… возражать не решился.
Оставшись один, о. Игнатий позвал своего келейника,
—11—
вышел с детьми в сад и там, с помощью этого келейника, Николеньки, катал племянниц на горе всё время, пока в церкви шла служба, – на той, превосходно устроенной в саду горе, на которой сам он катался в детстве1453.
Чего он желал, то и случилось: правда не вышло, и многие подумали: «какой же это святой, если он играет с детьми вместо того, чтобы молиться в церкви?»
Отец Игнатий недолго на этот раз пробыл в Покровском. Вероятно, в это именно посещение им написано стихотворение в прозе: «Кладбище»:
«После многих лет отсутствия посетил я поместье отца моего, то живописное село, в котором я родился. Это имение давно, давно принадлежит нашей фамилии. Там величественное кладбище, осеняемое вековыми древами. Под широкими развесами древ лежат прахи тех, которые их насадили. Я пришёл на кладбище. Раздались над могилами песни плачевные, песни утешительные священной панихиды. Ветер ходил по вершинам дерев; шумели их листья; шум этот сливался с голосами поющих священнослужителей.
И слышал я имена почивших, – живых для моего сердца. Произносилось имя моей матери, имена моих дедов и прадедов, братьев и сестёр отошедших. Какое уединение на кладбище! Какая чудная, священная тишина! Сколько воспоминаний! Какая странная многолетняя жизнь! Я внимал вдохновенным, божественным песнопениям панихиды. Сперва объяло меня одно чувство печали; потом оно начало облегчаться постепенно. К окончанию панихиды живое утешение заменило собой глубокую печаль: церковные молитвы сделали живое воспоминание о умерших утешительным. Они как бы призывали их к воскресению. Они возвещали жизнь почивших, привлекали к этой жизни блаженство.
Могилы праотцев моих ограждены кругом вековых дерев. Широко раскинувшиеся ветви образовали сень над могилами; под сенью покоится многочисленное семейство. Лежат тут прахи моих поколений…
Земля, земля! сменяются на поверхности твоей поколения человеческие как на деревьях листья. Мило зеленеют, утешительно, невинно шумят эти листочки, приводимые в движение тихим ветерком весенним!
Придёт на них осень: они пожелтеют, опадут с дерев на могилы, истлеют на них. При наступлении весны, другие листочки будут красоваться на ветвях и также – только в течение краткой чреды своей; также увянут, исчезнут. – Что наша жизнь? Почти тоже, что жизнь листка на древе!
30 Мая 1850 года».
—12—
Если я не ошибаюсь, после этого своего приезда, отец Игнатий ещё только один раз был в Покровском и на короткое время. Пётр Александрович ездил в Вологду по делам и заезжал к отцу, но отношения их были исключительно формальные. Переписки между епископом и Александром Семёновичем не было.
С дочерьми любимой сестры своей, Боборыкиными, отец Игнатий не прерывал тёплых и родственных сношений до самой смерти. Они часто пользовались его духовными советами. И не одними духовными. Он не пренебрегал заботой о корректном наружном виде; прежний светский человек сказывался в этом. Однажды, в Сергиевой пустыне, заметив, что приехавшие к нему племянницы причёсаны не так, как в это время причёсывались в столице, он попросил сестру свою, жену генерала, поехать с ними куда следует, и устроить, чтобы причёска их была безукоризненной.
Если он видел на сёстрах что-нибудь недостаточно изящное, то тихо спрашивал.
– Что это у тебя, какой наряд!
– Так носят, владыка.
– Ты не носи.
У С.В. Боборыкиной была привычка, – как и у многих – идя в церковь, надевать скромное, тёмное платье. Владыка не одобрял этого.
– Зачем это? – говорил он. – Разве ты думаешь, что Богу приятнее видеть тебя в чёрном платье, нежели в обыкновенном? Или думаешь, что переодевшись, ты сделаешься ближе к Богу, достойнее?
Сёстры иногда каялись ему, сокрушаясь о своих грехах, жалуясь на искушения. Он отвечал.
– Не надо засуживать себя. Господь пришёл в мир для грешных. Что же ты удивляешься, что грешна. Разве ты не такая, как все? Ну, и гордость, и прочее. У других это всё есть, почему не должно быть у тебя? Ты, значит, считаешь себя лучше прочих? Смиреннее? – «При моих-то достоинствах… смирись-ка другой так, как я!» Это – гордость смирения.
—13—
– У Бога мелочей нет, говаривал он также. С крупным испытанием всякий борется. Если налетит гроза, человек собирает все свои силы против неё. Победить крупное искушение легко. А надо приучить себя переносить благодушно мелочные. Это потруднее. Вот, у тебя убирают комнату, и всякий день положат ножницы носком к тебе, всякий день тебе приходится переложить их, как нужно, и надо не расстроиться этим, не рассердиться, стерпеть каждый день…
За четыре года до смерти отца Игнатия мать моя ездила в Бабаевский монастырь, где он жил на покое, и брала меня с собой. Я была мала, и впечатления мои уцелели отрывками. Помню просторную архиерейскую гостиную с окнами на реку. Она не мрачна: одноцветные стены её приятного шоколадного тона. Над диваном висят большие овальные портреты братьев в золоченых рамах. Масса книг на столах, на полу: гостиная служит и кабинетом. Мебели немного, но всё солидное; простота высокоразвитого вкуса. За этой комнатой находилась другая, узкая спальня, имевшая вид более интимного приюта. Здесь висели на стене рясы, а на столе лежало несколько красивых чёток: дары друзей.
Сам епископ был высокий человек, важный, очень уже пожилой, но не казавшийся ещё стариком. Только лицо его, полное и бледное, обличало внутреннюю болезненность. Помню, что он сидел обыкновенно на диване, мать моя также, а рядом с епископом, на кресле помещался Пётр Александрович. Величественный с нами, П.А. держался перед братом почтительно, даже слишком подчёркивая эту почтительность. Долгие часы просиживала я возле матери, слушая малопонятные мне речи и рассматривая уже знакомые предметы в гостиной. Случалось, на звонок являлся келейник и, выслушав распоряжение, чуть заметно улыбался мне, уходя. Или ещё лучше: в подряснике, с опущенными глазами, входил красавец – брат Алёша, и, не смотря на строгую монашескую корректность своей манеры, всегда находил возможность ободрить меня быстрым взглядом. – «Скучаешь? спрашивал этот взгляд. Потерпи, вечером пойдём с о. Моисеем кататься».
Пётр Александрович жил в Бабайках при брате ми-
—14—
рянином; он ходил в сером сюртуке старинного покроя; все понимали, что он в душе монах и держит монашеское правило, хотя и не принимал пострижения, может быть для того, чтобы ему удобнее было хлопотать по поводу издания сочинений владыки. Он издавал их на собственный счёт, и я знаю, что ему приходилось много возиться не из-за одной материальной стороны дела: возникали какие-то затруднения, ставились преграды, и он ездил объясняться с высокопоставленными лицами, пользуясь своим положением бывшего губернатора. Уходя с губернаторского поста вслед за любимым братом на Бабайки, он взял из гимназии сына Алёшу и определил его послушником в монастырь. Но Алёша был наружно и внутренне похож на свою мать; весёлая мягкость его характера и бьющая ключом жизнерадостность мешали ему сделаться в душе монахом. Интересная наружность его привлекала провинциальных барынь в бабаевские церкви также, как тонкая красота о. Игнатия в его молодые годы привлекала петербургских дам в Сергиеву пустынь, но в последнем случае их намерения пропадали даром, разбиваясь о высокую серьёзность и монашеское бесстрастие архимандрита, а на юной Алёшиной душе нескромные женские взгляды оставляли след. Достигнув совершеннолетия, он вышел из монастыря; пустил, так сказать, свою ладью в житейское море, сохранив, однако, на всю жизнь глубокую преданность православной вере и много действительного христианского смирения в душе.
Обедаем. Волжская дорогая рыба. Но для меня это безразлично, лишь бы скучный обед кончился. Скучный, да и опасный: неравно сделаешь какую-нибудь неловкость; никто не забранит, но Пётр Александрович уставит продолжительно и недовольно свой тяжёлый взгляд из-за очков, а этого я так боялась…
Но всё кончено. Мы с мамой возвращаемся в гостиницу. Тут мы одни со своей горничной; подают самовар. Приходит Алеша, и мы непринуждённо болтаем, попивая чай, говорим всё, что придёт в голову. Контрабандой приносит он мне что-нибудь почитать: «Дон-Кихота» в переделке для детей или журнал «Вокруг Света» – прежний, благородный. Раз, когда он подавал мне книжку,
—15—
нас застал на месте преступления дядя: отнял книжку у меня и задал сыну головомойку.
Вечером мы с Алёшей выходим из гостиницы. Волга, прибрежный песок, отмель… лодка. Невдалеке зеленеет остров, где, я знаю, есть ракушки. Видна у лодки добродушная фигура отца Моисея. За островом разгорается закат; сейчас мы с Алёшей сядем в лодку и поедем по реке на остров. Грести будет о. Моисей, и будут мирные, тёплые, простые разговоры. Эти поездки мои, этот ласковый монах, чёрненький и тощий еврей, – самое отрадное воспоминание из первой моей поездки в Бабайки.
Но второй раз я уже была там уже по смерти владыки, при отце Иустине, который сменил его, не заметив, и было неприятно видеть, что Пётр Александрович смотрел на него с той же преданностью, с какой прежде смотрел на своего преосвящённого брата.
Есть нечто, обязывающее меня благодарностью к Петру Александровичу. Ещё в детстве моём он дал нам и посоветовал прочесть прекрасное сочинение о Гусе. Вследствие этого я с детских лет привыкла почитать святую память славянского мученика за веру.
Интересно, что все Брянчаниновы не любили католицизма, но так не любили, что ничего не признавали в нём достойного, едва ли даже считали католическую церковь действительной церковью Христовой. Один дед, человек более широких взглядов, читал духовные католические книги, отчасти увлекался Фомой Кемпийским, и это тревожило и возмущало его детей, преимущественно старших.
Отец Игнатий умер ранее своего отца. Была весна, половодье; никто из родных не мог ехать на похороны. Поехала одна Софья Васильевна Боборыкина, девушка горячая и способная к большой преданности. Дед не хотел её отпустить.
– Это безумие! Ты не поедешь.
– Я поеду, grand-papa.
– Нет, ты не поедешь.
– Простите меня, grand-papa, я поеду.
– Я тебя не благословляю.
– Мне это очень грустно, но я чувствую, что должна ехать.
—16—
Железной дороги от Вологды тогда ещё не было. С.В. уехала с горничной в тележке знакомого комиссионера, Петра Ледкова, – Pierre de la Glace, – как шутя, называли его Брянчаниновы. Под Ярославлем перевоза не было; С.В. проехала подальше за город и там наняла крестьянина, который за хорошую цену доставил двух женщин на другой берег, несмотря на опасность переезда. Затем они попали в Бабайки уже сравнительно легко.
После почившего епископа не осталось наследства. В кармане его подрясника нашли 14 копеек. Это было всё, что он имел, потому что лишь за два или три дня до смерти он дал семьдесят пять рублей крестьянину, у которого пала лошадь.
Он был монах…
Дед пережил его, потому что берёг себя, и в этом отношении не чужд никакого эгоизма, впрочем, с сыновьями и дочерьми, и избегал волнующих разговоров. Волнующие разговоры очень редко приводят к взаимному пониманию и успокоению. Дед был умён и знал это. И потому главной темой его разговоров была политика. В политике у всех Брянчаниновых был одинаковый взгляд.
За то, как он был тепло внимателен ко всем своим, особенно внучатам!
Я знала деда в его глубокой старости, но старости красивой и доброй: бывшая суровость его исчезла. В его ясных глазах светилась та снисходительность, купленная ценой долгого опыта жизни, жизни мысли, которая встречается лишь у хороших стариков. О наружности своей он заботился. Какое благородное спокойствие было в его лице, с тонкими чертами, в манере – важной, привлекательной и старомодной! Как хороша была его изящная голова с густыми, серебристыми волосами, его прямой стан и неторопливая, милая, снисходительная речь! И когда рядом с ним сидели его сыновья – Пётр Александрович, тяжелый, бритый, с резкими линиями лица, в сером, громоздком сюртуке, или Михаил Александрович, с вдохновенным, но рассеянным взглядом, лысый, с ши-
—17—
рокой, косматой бородой, то, право, дед казался и красивее их и чуть ли не моложе. Понятия его, несомненно, были шире: он интересовался многим из того, что они презирали в своей правоверной односторонности.
Свою манеру не входить в интимность дед нарушал для сестёр Боборыкиных, девушек светских и выросших без матери. Как умел он без расспросов угадывать их затруднения, тепло поддержать в трудную минуту сочувственным взглядом, мимолётным одобряющим словом или иначе: подарить две великолепные розы для корсажа и перекрестить девушку. Я была ребёнком, но и мне невозможно забыть, с какой лаской он угощал мать мою и меня лучшими персиками и вишнями из сада, как часто радовал, посылая в Вепрево цветы на Пасху или ранние овощи из теплицы!
У меня есть особая причина вспоминать деда добром. Он один из всех Брянчаниновых любил моего отца, ценя его неподкупную прямоту. Раз, когда отец, побеседовав с ним, уходил, простой и прямодушный, как всегда, Александр Семёнович, обратясь к присутствующим, сказал:
«Этот человек – святой, и сам того не подозревает».
Конечно, отец мой был бы очень сконфужен, если бы слышал это. Бывший армейский офицер, не любивший вина, но любивший карты и лошадей, вспыльчивый и часто не осмотрительный, он всего менее имел претензий на святость. Но именно за то, что очень мало о себе думал, его любил дед, и кроме деда, добрые сёстры Боборыкины. Спасибо им!
В полной памяти Александр Семёнович дожил до 96-ти лет и умер без больших страданий от воспаления лёгкого.
После кончины отца Игнатия, неподалёку от Бабаек сгруппировался кружок лиц, связанных с Петром Александровичем единомыслием и знакомством и считавших себя присными по духу почившему владыке. Одна небогатая, но хорошей фамилии, дворянка, госпожа Х. была центром и самой влиятельной личностью среди этих «святых». Я не в шутку употребляю это слово: они сами считали себя избранным стадом. Пётр Александрович, говоря
—18—
об одном из них, употребил – я помню – именно это выражение: «Он тоже из святых».
Умирает большой человек. По следам его идут маленькие и думают, что продолжают его дело, но делают то, от чего он, если бы был жив, с негодованием бы отрёкся.
В книге свящ. Щукина «Около церкви» есть такие слова:
«Души других… твёрды и жёстки. Жизненный опыт… отрывает от этих снисходительность к ошибкам, прощение своим и чужим увлечениям, улыбки неведению. Милосердие, всепрощение они и во Христе считают ошибкой. Им кажется излишней ласковость к людям, вредной мягкость, прощение не достигающим цели. Стойкие и прямые, они стоят пред людьми и пред Богом, как обнажённые от ласкающей взор весенней зелени стоят осенью крепкие и тёмные стволы деревьев. И молятся Богу сурово: «воскресни Боже, суди землю»!»
Такими были люди, о которых я говорю. Но ещё типичнее. Мрачный лик имела их набожность, и жестокими, больно ранящими углами оборачивались они к своим ближним. Уважаемые всеми за свою признанную набожность, они чувствовали себя носителями суровой правды, точно ветхозаветные пророки, но походили более на средневековых доминиканцев. Путь, по которому они желали вести людей, был во всех смыслах узкий. И даже более всего – в духовном смысле. Скорее бы допустили они некоторое послабление плоти – как и сами позволяли себе, напр. удовольствие вкусной пищи – чем малейшую широту мысли, малейшее уклонение от рутины. Если б можно было, они запретили бы мирянам читать Евангелие. На все чувства и мысли у них были готовы рамки, указанные размеры и формы. Ничего живого, свободного, самостоятельного они не терпели. Не добротой и смирением дышали речи их: в них звучало строгое осуждение ближних. Набожность их гордо высилась, как воплощённый укор всем окружающим; сами их рассказы в минуты хорошего расположения духа отзывались привычным наставительным тоном, и когда они смеялись, то другим не было ни смешно, ни весело.
В практических делах «святые» стояли на чисто-зем-
—19—
ной точке зрения. В их отношениях к ближним чины, общественное положение, успехи в карьере имели большое значение. Не одни нравственные падения, но и простой не успех, ошибки в жизни людей вызывали их презрительное осуждение. Сами же они в житейском отношении вовсе не были не от мира сего, напротив, очень от мира. Ведя переписку с генеральшей, г-жа, Х., прежде чем отправит письмо, долго держала его на столе, чтоб её гости видели адрес: «Её Превосходительству». – «Нельзя иначе», объясняла она своим внушительным тоном, «это доставляет уважение»… Компромисс мелочный, конечно. Но когда сидишь часы молча, слушая с покорным видом наставления себе и безапелляционные осуждения других, иногда тех, кого любишь и уважаешь, когда душа кипит под наружно-бесстрастной маской, то всякая мелочь имеет значение, усиливая до горечи отрицательное отношение к лицам, от которых слышишь одно, а видишь на деле другое. Матери моей импонировали и брат, и Александр Иванович. Пока она слушала их обличительные филиппики, то поддавалась им и сочувствовала, но едва уходила из-под них гнетущего влияния, как снова делалась той доброй мамой, любящей всех ближних без разбора, какой она была в действительности.
Всё было характерно у г-жи Х.: и маленький её дом в переулке, некрасивый, с тесными комнатами, и сад без цветов и аллей, и злой пёс на цепи. В задних комнатах дома иногда жили временно бесприютные, но шли к ней лишь те, кто не имел никакой возможности иначе устроиться. Она была благотворительницей, шила воздухи для церквей, помогала бедным и, я уверена, имела ещё некоторые тайные подвиги.
Приезжая в тот город, где жила г-жа Х., мать моя у неё останавливалась, и тогда для услуг нам являлась Марья Евграфовна.
Марья Евграфовна была пожилой девой, как и г-жа Х., но столько же смирной и кроткой, сколько та была величественна и энергична. Жила она со старой матерью в большой бедности, кормилась вязкой чулок; г-жа Х. выручала её в минуты жизни трудные, но и пилила постоянно, и уважение Марьи Евграфовны к своей благодетель-
—20—
нице сильно походило на страх. Сердила г-жу Х. всего более недалёкость бедной девы, так же как и её смешная наружность: слишком высокий рост при необычайной худобе. Но более от малокровия лицо Марьи Евграфовны с густыми чёрными бровями и грустным взглядом не было ни смешно, ни неприятно. Мать моя любила это бедное существо за её терпение, отсутствие наклонности к сплетням и нелицемерную набожность.
У г-жи Х. был воспитанник, Костя Г. Мать его, вдова художника, подпала под влияние г-жи Х. и, чувствуя приближение смерти, завещала ей опеку над маленьким сыном. Вид сугубого благочестия госпожи Х., её положение человека, который умнее, непогрешимее, почтеннее прочих, дали надежду умирающей матери, что, дитя её останется на лучших руках, каких только можно желать. Она умерла спокойная, бедняжка! И ребёнок остался сиротой на попечении Александры Ивановны. О, действительно сиротой!
Тесная каморка, душная, вся заставленная разным домашним хламом. Давно запылённые, тусклые стёкла в двойной раме, которая никогда не выставляется. Тут растёт тонкий, бедный, запуганный мальчик. Наследственный талант его глохнет, тёплого слова он не слышит, одни редкие приказания и выговоры, чувствует над собой недреманное инквизиторское око, забирающееся ему прямо в душу, – и весь нравственно съёживается, привыкает молчать и таить…
Когда я была девочкой, мы нередко играли с Костей, тихо и под вечным опасением не угодить, или рассматривали коллекцию художественных гравюр, оставшуюся после его отца. Меня очень удивляла и его неестественная молчаливость, и то, что он никогда не шумит, не бегает, и исчезает в одну минуту, когда г-жа Х. обращает на него свой выразительный взгляд. Он был превосходно выдрессирован: впрочем, и собак своих Ал. Ив-на дрессировала мастерски.
Говоря о гравюрах Кости, я вспоминаю ничтожный случай, но очень характерный, подтверждающий в сотый раз ту евангельскую истину, что многое прекрасное и благородное скрыто от премудрых и разумных и открыто младенцам душой.
—21—
В один вечер, когда я перебирала гравюры, не скрывая восхищения, Костя спросил, которые из них мне больше нравятся? Я простодушно назвала 5 или 6. Он тотчас отобрал их для меня и, несмотря на моё удивление и отказы, настойчиво добивался, чтобы я их взяла. Между тем эти гравюры были почти единственной его драгоценностью, памятью отца.
Лет 10 спустя гостила я у дяди Михаила Александровича, гостила, как любимая племянница и друг. У него на стене висели картины духовного содержания; они мне не нравились, и я никогда не желала бы иметь их. Но дядя был о них высокого мнения. Без всякого с моей стороны повода, он говорил мне.
– Эти картины, ma chère, если уйду в монастырь, я их, пожалуй, тебе оставлю; но уж за это надо (с сильным ударением) за это надо мно-го молиться!
А Костя не требовал уплаты…
Годы шли, а положение его не улучшалось. Уже мы были подростками, нас иногда отпускали съездить за покупками или на станцию за вещами, но Костя в этих случаях сидел как автомат, не оборачиваясь и не разговаривая; извозчик был «придворным» его воспитательницы и мог всё услышанное пересказать.
Кончилось, однако, тем, что приехала замужняя сестра Кости и, употребив много усилий, перенеся много неприятностей, освободила брата. Преследуемая чуть не анафемой, она всё-таки увезла его в Москву и поместила в Школу живописи и ваяния, где он впоследствии кончил курс и был отправлен за границу.
Виделись мы с ним в Москве уже на свободе, вместе бегали по магазинам и выставкам и лакомились только что появившеюся тогда в продаже халвой. Но дружбы откровенной не было между нами. В Косте осталось болезненное недоверие к окружающим, и он всё боялся, чтобы я не пересказала каких-нибудь его слов, если не г- же Х., то Петру Александровичу; очевидно, у него ещё сохранилась какая-то зависимость от Ярославских. Жил он у профессора, знакомого им, и возможно, что Пётр Александрович оплачивал частью его содержание; впрочем, я не
—22—
уверена в этом. Он просто боялся их по привычке, без всяких практических мотивов.
Между тем в тишине Бабаевских келий, неведомые обществу, трудились иноки, действительные последователи почившего епископа, искавшие подвига и спасения по его заветам. Их жизнь не была обычным прозаическим житьём необразованных провинциальных монахов, – то был путь высокий и опасный, а духовного руководителя у них не стало. Иустин был человеком скорее тонких соображений, чем глубокого монашеского духа. И вот, на почве строгого воздержания, постничества, напряжённых нервов, острой борьбы с искушениями, разыгралась в Бабайках история грустного заблуждения.
Иеродиакон Паисий, человек ещё молодой, прервал свой молитвенный подвиг, чтобы объявить себя Христом. Начал учить праведной жизни и вере в себя. И так велика была убеждённость его проповеди, так обаятельно влияла на слушателей его аскетическая, отрешённая от всего земного личность, что много монахов увлеклось его речами. Сначала о. Иустин и Пётр Александрович не обратили внимания, потом заметили странный гипноз, распространяющийся в монастыре, пришли в смущение, не знали, что делать, боясь огласки.
Приходит в это время к Петру Александровичу о. Моисей, – кроткий благодушный о. Моисей, – и говорит с сожалением: «Что это, Пётр Александрович, в какую прелесть впал Паисий-то наш! Хочу я сходить, попробую уговорить его, образумить: как думаете?» – Сходите, отец Моисей, сходите.
Моисей пошёл, сидел у Паисия два часа и вышел из его кельи возбуждённый, с блестящими глазами, восклицая: «Правду он говорит, правду! Это Христос!»
Ересь разрасталась. Уже и богомольцы начали поклоняться Паисию; из Ярославля потянулись к нему дамы и простые женщины. Тогда монастырские власти, наконец, приняли меры: выпроводили Паисия из Бабаек и вздохнули спокойно. Но они рано обрадовались. Паисий и его приверженцы пошли в Ярославль, в Ростов, дальше… И ересь заражала людей, как эпидемия. В Ростовском женском монастыре
—23—
Паисия встретила сама игуменья и с нею все монахини с зажжёнными свечами в руках, и всю ночь сидели они у ног своего гостя, слушая его поучения. В самом Ярославле много женщин признало его Христом и Богом – от известных дворянок до бедной Марии Евграфовны.
Пора было положить этому конец. Паисия арестовали. Судили его духовным судом из архиереев и архимандритов, причём в большую вину поставлена была ему ночная беседа в женском монастыре. Это обвинение вызвало с его стороны интересный ответ:
– «Неужели вы, отцы иерархи, будучи все монахами, не понимаете, что можно провести ночь в духовной беседе с сёстрами, даже не подумав о том, что эти сёстры – женщины?»
По решению суда, Паисия и его последователей разослали по разным монастырям под строгий надзор. О. Моисей попал в Соловецкий монастырь, а сам Паисий – в Суздаль. Со временем все «впавшие в прелесть», пришли в себя, покаялись и мирно доживали свой век в тех монастырях, куда были сосланы.
Пострадали, однако, не одни монахи. Женщинам, увлечённым проповедью Паисия, тоже пришлось пережить много тяжёлого. Обвинение в ереси, хотя и не официальное, лежало на них, они были предметом осуждений и насмешек. Между прочим, когда Паисия уводили после суда, то из толпы одна высокая женская фигура демонстративно поклонилась ему до земли, обращая на себя общее внимание.
Ну, и досталось же Марье Евграфовне за этот поклон от госпожи Х.!
Тем не менее, память о Паисии умерла не скоро.
Большая доброта моей матери имела свойство у всех вызывать доверие к ней и откровенность. Так и бедная Марья Евграфовна пользовалась нашими приездами, чтобы отвести душу, поговорить о Паисии, о котором она до сих пор осмеливалась «своё суждение иметь».
Стоит, бывало, Марья Евграфовна с кувшином в руке, подаёт маме воду для умывания, а сама шепчет, смигивая слёзы:
– «Ангел мой, Марья Александровна, вы не можете себе
—24—
представить какой это был человек… Какая в нём божественность сияла… Истинно, ангел мой, божественность! И ежели вам его послушать…»
Скрипнет дверь – и она быстро замолкнув, выпрямляется, принимает обычный суетливо-тупой вид под взглядом госпожи Х., устремлённым на её нелепую фигуру, как удар бича. Уйдёт благодетельница, и она опять зашепчет:
– «Пускай его осудили, ангел мой, таких людей больше нет и не будет… Хоть и бранят меня – пускай. Уж я тем счастлива, что хоть послушала его речей благодатных!»
А. Купреянова
(Окончание следует).
Туберовский А. Внутренний свет [Толкование слов «свет, который в тебе» (Мф.6:23; Лк.11:35)]//Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 25–47 (2-я пагин.).
—25—
…τὸ φῶς τὸ ἐν σοι…
Стихи 22 и 23 шестой главы евангелия по Матфею с параллельным текстом евангелия по Луке (XI, 33–36) образуют одно из труднейших для истолкования мест Свящ. Писания. Пишущему эти строки приходилось слышать и читать различные объяснения данного места, но не одно из них не могло дать чувство полного удовлетворения. Минувшим великим постом мне пришлось ещё раз задуматься над словами Спасителя о «свете, иже в тебе». Под рукой у меня был исправленный текст Нового Завета в издании и с примечаниями B. Weiss’а. Прочитав, по-гречески изречение, я познакомился и с объяснением, даваемым ему в примечании Б. Вейсом. Но и оно меня не удовлетворило – своей мало-определённостью и необоснованностью. По счастливой случайности, в тот же день мне пришлось быть в академической библиотеке. Обозревая текущую печать, я встретил в журнале Zeitschrift fur wissenschaftliche Theologie статью Das Auge ist des Leibes licht со ссылкой на то самое место Евангелия, которым в это время был заинтересован и я. Беру журнал и читаю. Статья подписана именем немецкого пастора – Фридриха Швенке (Fr. Schwencke). Из этой статьи я узнаю, что и немецкий комментатор Юлихер (Julicher) признаёт Мф.6:22–23 труднейшим для понимания отрывком, и что различные экзегеты понимают его за границей, как и у нас, различно. Что касается автора, то он, обращая внимание на этический оттенок выражений ἁπολύς и πονηϱός, – характеризующих ὀφϑαλμός с положительной и отрица-
—26—
тельной сторон, стремиться дать односторонне-назидательный комментарий. Тогда я сам стал вчитываться в греческий текст и был поражён ослепительно-ясным смыслом изречения
τὸ φῶς τὸ ἐν σοι.
Меня как бы озарил своего рода свет, и я понял, постиг всем существом своим, что в указанных местах обоих евангелий речь идёт именно о том самом свете, одно из слабейших осязаний которого является собой произведённое им только что во мне впечатление и понимание… Дальнейшие строки и представляют собой изложение этого понимания.
I.
Опыт повседневной жизни непосредственно вещает нам о существовании видимого света. Как элемент вне нас сущего мира, свет этот в отношении к нашему собственному существу, является чуждым, «внешним»; по характеру восприятия, – чувственным; по существу – материально-физическим. Сомневаться в его существовании или отрицать его имеет основание только слепорождённый. Воспринимать его может не только человек, но и животное, даже не наделённое особым органом зрения, а впитывающее его в себя, так сказать, всей своей чувствующей поверхностью. Без света, наконец, не живёт ни одно растение, которое, как бы оно не было элементарно и чахло, всегда тянется к источнику света; слепое, оно, тем не менее, ищет его; не имеющее зрения и воли, стремится к нему, испытывает, как выражаются биологи, фототропизм. Учению о свете посвящается целый большой отдел физики; о нём же трактуют: физиология и медицина – в главах, исследующих строение и болезни глаз, как органа восприятия света, и биология, рассматривая свет, как одно из условий органической жизни. Так обстоит дело с внешним, чувственным, материально-физическим светом.
Но есть другой свет, который, по противоположности с первым и по характеру среды, где он обнаруживается, может быть назван, внутренним, духовным. Этот свет столь же реален, так же важен для жизни духовной, сколь и как реален и важен первый в мире физиче-
—27—
ском, для жизни органической. Лишь при наличности этого света, становится доступным созерцание предметов и красот духовного мира. Только под условием «внутреннего» освещения в той или другой степени, возможен правильный рост, цветение и плодоношение души. К сожалению, этот свет игнорируется не только психологией, наукой о душевных явлениях, одно из которых он составляет, но и, что всего удивительнее, теологией, изучающей религиозную сторону жизни, где этот свет всего интенсивнее и чаще обнаруживается. Причина этому лежит, быть может, как в самой природе внутреннего света, так и в воспринимающих его способностях человека. Понятие научной объективности слишком сужено и ограничено внешней, эмпирической реальностью, или душевной обыденностью, тогда как внутренний свет представляет собой явление иного, высшего порядка. С другой стороны, если в отношении к физическому свету, воспринимаемому даже животными, существуют индивидуумы, лишённые возможности и счастья зреть его, то ещё более должно быть слепых в отношении света внутреннего, для восприятия которого нет ни специфического органа, ни соответствующих всегда нравственных условий. Однако сколько бы наукой не игнорировался, – а некоторыми даже и, – отрицался внутренний свет, он представляет собой несомненный факт духовной, в особенном же смысле-религиозной жизни человека. Источник утверждения этого факта тот же, что и в отношении к физическому свету, т.е. опыт, только не внешний, а соответственно характеру самого феномена, главным образом внутренний. Что же касается игнорирующей науки и некоторых, совсем не признающих духовного света, то первая не может претендовать на звание единственной выразительности универсальной истины, а «некоторые» могут быть и «слепы». Не касаясь пока природы внутреннего света, констатируем лишь сам факт, его наличность в опыте человечества.
* * *
Начну с высших ступеней христианской мистики, где «внутренний свет» имеет особое значение, где его интенсивность равна силе физического света и где, поэтому, его созерцание сопровождается наивысшим чувством ре-
—28—
альности. Документы такого интимного содержания не малочисленны, и как всей своей совокупностью, при значительной иногда хронологической отдалённости друг от друга и авторской независимости, так и каждый отдельно, благодаря своей искренности и правдивости в других отношениях, не оставляют ни малейшего сомнения в действительности внутреннего света.
Вот немногое – из очень многих примеров:
Преподобный Симеон, Новый Богослов, в одном из своих слов (91-е по переводу еп. Феофана; изд. 2-е, Москва, 1890, стр. 496) в молитвенной, следовательно, наиболее искренней, форме выражает следующее: «Приходя, таким образом, ко мне и отходя довольно долгое время, Ты всё яснее и яснее являлся мне, всё больше и больше омывал меня водами своими, и даровал мне видеть свет всё более и более чисто, всё более и более обильно. Делая это для меня многое время, Ты, наконец, сподобил меня увидеть и некое страшное таинство. Однажды, когда ты, пришедши, орошал и омывал меня, как мне казалось водами и многократно погружал меня в них, я видел молнии, меня облистававшие, и лучи от Лица Твоего, смешивавшиеся с водами, и, видя, как омываем быть водами световиднейшими и блестящими, пришёл в исступление»…
Тот же самый Святой Отец об одном послушнике (по всей вероятности, о самом себе) передаёт вот что. «Один юный рассказывал мне, что был он послушником у одного старца благоговейного, равного по добродетелям великим святым, и слыша, как он часто говаривал, что на тех, которые подвизаются, свыше приходят божественные озарения и множество света, в каковом состоянии бывает и собеседование Бога с человеками, удивлялся сему, и такое, говорил он мне, возымел я желание получить и себе такое благо, что от жажданья того, забывал всё земное и небесное, – забывал пищу и питьё, и всякий телесный покой… В один день пошли мы в город, близ которого он жил, для посещения духовных детей его, и пробыли там весь день. Вечером возвратились мы в келью, от большого труда и жара алчные и жаждущие: ибо старец не имел обычая где-либо есть или отдыхать; – было же тогда лето, и старцу, – годов с шестьдесят.
—29—
Когда сели мы за стол, я не ел, потому что очень утомился и думал, что если поем и попью, то совсем не смогу встать на молитву, и с обычным жаром испрашивать желаемого. Так думал я и сидел, как бы находясь вне себя. Тогда святой мой, смотря на меня и, по дару прозорливости, зная причину, по которой я не ел, и какими мыслями занята голова моя, возымел жалость ко мне и сказал: ешь, чадо, и пей, и отныне оставь всякую печаль; потому что если бы Бог не хотел явить тебе милость, то не благословил бы Он привести тебя ко мне. Итак, поели мы и напились, паче, нежели вдоволь; ел и он, снисходя к моему изнеможению. Когда потом убрали мы трапезу, говорит он мне: ведай, чадо, что Бог не благоволит много ни к посту, ни к обедне, ни к другому какому телесному труду, ни к какому другому доброму делу, и не являет Себя никому другому, кроме только смиренной, непытливой и благой души и сердца… Отпуская меня, старец дал мне заповедь – прочитать на ночь лишь Трисвятое, – и лечь. Вошедши туда, где имел я обыкновение молиться, и начав: «Святый Боже», – и вспомнив слово старца, я вдруг заплакал, и в такие пришёл слёзы, и в такой пламень к Богу, что не могу выразить того словом, ни той радости и сладостного утешения, какие были тогда во мне. Падши затем лицом наземь, я увидел нечто дивное, ибо се – воссиял мысленно во мне великий свет (курсив мой) и взял к себе весь мой ум и всю душу. Изумился я такому чуду внезапному и стал как вне себя, забыв и место, в котором стоял, и что такое я, и где я, – вопиял только: «Господи помилуй», как догадался, когда пришёл в себя… В душе же моей он произвёл радость великую, чувство умное и сладость, высшую всякой сладости чувственной. Сверх того он даровал мне дивно свободу и забвение всех помыслов, кои в мире, и открыл сам способ исхождения из настоящей жизни; потому что все чувства ума и души моей прилеплены были тогда к единому неизреченному веселию и радости от того света. – Но когда безмерный тот, явившейся мне, свет мало-помалу умалился, и наконец совсем стал невидим, тогда я пришёл в чувство и познал, какие дивности внезапно произвела во мне сила того
—30—
света… Свет оный», – продолжал ученик великого старца, описывая действия открывшегося в нём с такой силой духовного света: «свет оный, когда является, веселит, и когда скрывается, оставляет рану и болезнь в сердце. Приходя или нисходя на меня, он возводит меня на небеса, одевая и меня светом. Он является мне, как некая звезда, и есть не вместимость для всей твари, сияет как солнце, – и мне понятно, как вся тварь держится силой его. Он показывает мне всё, что есть в творении, – и повелевает мне не заходить за пределы человеческого естества. Меня объемлют кровля и стены, а он отверзает мне небеса. Поднимаю чувственные очи мои, чтоб посмотреть, что есть на небе, и вижу, что там всё также есть, как было прежде»… (Слово 86-е по тому же изданию; стр. 435–439).
* * *
Такие же данные о «внутреннем свете» можно встретить в творениях и других отцов – мистиков: Преп. Макария Великого, Преп. Исаака Сирского, до позднейших включительно: еп. Феофана, прот. Иоанна Кронштадтского.
Однако, не одними «мистиками», но и святыми отцами – «теоретиками» «внутреннему свету», выступающему, впрочем, у них в сравнительно слабой (интеллектуальной) форме, придаётся огромное значение.
Возьму в пример Св. Григория Богослова. Из его творений не видно, чтобы ему были известны мистические состояния, характерные для только что цитированного преп. Симеона Нового Богослова. Но и он в своих словах столь часто упоминает о «свете», так много восписует ему в области бого-ведения и вообще познания истины, что не может быть и сомнения, о каком именно свете говорит он.
Так, в начале слова «о поставлении епископов и догмате Святой Троицы» (20-го по русскому переводу, 3 изд. «Творений», ч. 2-я, Москва, 1889; стр. 133–134) читаем: «Когда смотрю на усиливающуюся ныне болезнь языка, на скороспелых мудрецов, на производимых вновь богословов, для которых довольно только захотеть, чтобы стать мудрыми: тогда ощущаю потребность высшего любомудрия, ищу с Иеремией «висталища последнего» (Иер.9:2), и же-
—31—
лаю быть один с самим собой. Ибо для меня всего кажется лучше, замкнув как бы чувства, отрешившись от плоти и мира, без крайней нужды не касаться ни до чего человеческого, беседуя с самим собой и с Богом, жить превыше видимого, всегда носить в себе божественные образы, чистые, не смешанные с дольними и обманчивыми впечатлениями, быть и непрестанно делать как бы неомрачённым зерцалом Бога и божественного, приобретать не свету свет, – не менее ясному лучезарнейший (курсив мой); пока не взойдём к Источнику тамошних озарений, и не достигнем блаженного конца, когда действительность сделает ненужными зерцала. Посему, едва ли кто в состоянии преодолеть влекущую долу вещество, разве уже обучил себя долговременным любомудрием, и постепенно отторгал от низкого и сопряжённого с тьмой, что есть в душе благородного и световидного, или удостоился Божией милости, или, сверх того и другого, прилагал всевозможное старание вознести взор свой горе. А пока нет сил преодолеть вещественное, достаточно очистить слух и мысли; до тех пор не безопасно принимать на себя попечение о душах и вдаваться в богословствование».
Особенно много рассыпано св. Григорием Богословом свидетельств о «внутреннем свете» в словах: «на святые светы явлений Господних» и «на святое крещение» (39 и 40 по тому же изд.). Так, в последнем слове, говоря о трёх живых «светах»: Боге, как свете высочайшем и самобытном, Ангеле, свете вторичном и заимствованном, и человеке, признаваемом за свет даже в языческом мире, Св. Григорий называет другие виды и откровения света: перво-зданный, райскую заповедь, закон, купину, огненный столп, колесницу Илии, свет вифлеемский и т.д. «Сверх сего» – заканчивает своё перечисление Св. Григорий: «свет в собственном смысле есть просвещение Крещения, о котором у нас ныне слово, и в котором заключается великое и чудное таинство нашего спасения» (40-е сл., ч. 3-я; стр. 226–228).
Определяя подробно характер ваптисматического просвещения, Св. Григорий Богослов говорит: «Просвещение есть светлость душе, изменение жизни, «вопрошение совести», которая от Бога (1 Пётр. 3, 2.). Просвещение есть пособие
—32—
в нашей немощи, отложение плоти, последование Духу, общение со Словом, исправление создания, потопление греха, причастие света, (курсив мой), рассеяние тьмы. Просвещение есть колесница, возносящая к Богу, сопутствование Христу, подкрепление веры, совершение ума, ключ царствия небесного, перемена жизни, снятие рабства, разрешение от уз, претворение состава. Просвещение (нужно ли перечислять многое?) есть лучший и величественнейший из даров Божиих. Как есть именуемое Святая-Святых и песни песней; поколику последние многообъемлющи и особенно важны; так и оно светлее всякого иного, возможного для нас, просвещения». (Там же, стр. 225). Из такой характеристики «просвещения» ясно видно, что тот свет, о котором учит Григорий Богослов, носит характер внутренне-духовный.
Тот же самый «внутренний свет» переживали и констатировали в своих творениях Св. Кирилл Иерусалимский, Св. Василий Великий и другие Отцы Церкви, теоретики и практики.
* * *
Энергия «внутреннего света» бывает иногда столь велика, что, как бы не довольствуясь озарением «внутреннего человека», она излучается во-вне и по-своему «превращается» в энергию видимого света, одевая собой, «яко ризою», даже тело человека. Примеры такой видимой светозарности от преисполнения души внутренним светом среди святых бесчисленны. Начнём с подвижников последнего времени.
Всем интересующимся явлениями мистической жизни должен быть хорошо известен, записанный очевидцем (Мотовиловым), случай из жизни Преп. Серафима Саровского. Сидя на корточках на полянке среди саровского леса, засыпаемый снегом (какая «жалкая», уничижительная обстановка!), Преп. Серафим явил ученику своему и почитателю Мотовилову «славу свою», внешне обнаружил внутренне-присущую ему Благодать Св. Духа. Лик его просиял, как солнце, что вызвало даже своеобразное отражение духовного света на лице самого Мотовилова.
Нечто подобное передаётся из жизни оптинского старца иеросхимонаха Амвросия.
—33—
Менее заметное просветление лица наблюдалось также у преп. Феофана, прот. Иоанна Кронштадтского и др.
Если мы углубимся в века древности христианской, когда пульс благодатной жизни бился интенсивнее, то, вместе с другими внешними обнаружениями «горения духа», мы и видимых излучений внутреннего света найдём гораздо более, чем в наше «просвещённое» время. Сколько таких случаев собрано и записано в одном «Луге Духовном», аскетическом памятнике VI в., творений блаж. Иоанна Мосха! Сколько их в других подобных документах до «Житий» включительно!
Об одном подвижнике, напр., рассказывается, что он никогда не возжигал огня в своей келье, так как она и без того всегда была озарена ярким светом, что могли наблюдать и посторонние.
О другом подвижнике (Павле Латрском) сообщается, что достаточно ему было встать на молитву и воздеть руки к небу, как эти самые руки начинали сиять, точно лампады и т.д. и т.д.
Приведу ещё один пример из творений уже цитируемого выше Святого Отца – «теоретика». – Св. Григорий Богослов в слове, посвящённом своему отцу Григорию Старшему (18-м по цит. изд.) рассказывает, со слов очевидцев, о чуде – явлении света, происшедшем при крещении отца. «Предложу о сём во услышание одних верных, ибо душам нечистых всё кажется невероятным. Родитель приступает к возрождению водой и духом, чрез которое, как исповедуем пред Богом, образуется и совершается человек Христов, земное прилагается в духе и воссозидается. Приступает же к омовению с пламенным желанием, с светлой надеждой, предочистив себя, сколько мог, став по душе и по телу гораздо чище готовившихся принять скрижали от Моисея. Ибо их очищение простиралось на одни одежды, состояло в кратковременном целомудрии и в том, чтобы обуздать несколько чрево; а для него вся протекшая жизнь была преуготовлением к просвещению и очищением для очищения, ограждающим дар, дабы совершенство вверено было чистоте, и даруемое благо не подвергалось опасности от навыков, противоборствующих благодати. При выходе из воды осязает его свет и
—34—
слава достойная того расположения, с каким приступил он к дарованию веры. Сие явственно было и для других (курсив мой). Хотя они сохранили тогда чудо в молчании, не осмеливаясь разглашать, потому что каждый почитал себя одного видевшим; однако же, вскоре сообщил об этом друг другу. Но тому, кто крестил и совершил его таинством, видение было весьма ясно и вразумительно, и он не мог сохранить его в тайне, но всенародно возвестил, что помазал Духом своего преемника». (Часть 2-я, стр. 92–93).
Такие знамения «внутреннего света» при крещении бывали не раз и не в одно только древнее время. Один священник писал Льву Н. Толстому, убеждая его вернуться в Церковь, что он, священник, своими собственными глазами, каждый раз видит свет, при совершении таинства крещения (письмо это было напечатано в журнале «Христианин», изд. Преосвящ. Евдокима).
Эти и др. подобные факты нельзя не оспаривать в виду их многочисленности, ни тем менее отрицать. Их можно только игнорировать, как игнорируют многие другие феномены духовной жизни, и по-разному объяснять. Происходившие некогда на Афоне споры о природе «фаворского света» служат наилучшей «исторической» гарантией действительности подобных явлений.
Приведённые примеры видимой светозарности не составляют, собственно говоря, самого «внутреннего света», о котором у нас речь. Они лишь служат внешней оболочкой, дополнительным аксессуаром, утверждающим даже со стороны внешнего опыта, реальность «внутреннего света» в моменты, так сказать, его наивысшего напряжения.
* * *
Указанными примерами внутреннего света и его отражений, как наиболее типичными, заимствованными из области религиозно-христианской мистики, я хотел только доказать сам факт существования «внутреннего света». Однако, явление это, хотя и не в такой типичной форме, имеет более обширную сферу существования. Его можно констатировать и в мистике других религий: буддизм, магометанстве и даже язычестве, не говоря о христианских инославных исповеданиях и сектах. С другой стороны,
—35—
«внутренний свет» находит себе широкое применение в обиходе нашей обыденной жизни.
Первое положение – наличность «внутреннего света» в нехристианских религиях, даже в язычестве (Плотин и др. неоплатоники), не должно нас смущать потому, что, если физическое солнце, по благости Отца Небесного, одинаково освещает добрых и злых, то, по той же беспредельной благости, и внутренний свет может озарять (конечно, не одинаково, в этом д.б. разница между физическим и духовным светом) не только христиан, но и нехристиан, по крайней мере, «избранников».
Св. Иоанн Богослов называет Божественный Логос светом, «просвещающим всякого человека, вступающего в мир» (Ин.1:9). Следовательно, по учению Евангелиста – Богослова, духовного, внутреннего света – света истины и жизни, – не лишён и язычник, хотя и затмевающий своей ложью и нечистотой свет Логоса, но не помрачающий (что признаётся нами, напр., и относительно «Образа Божия»).
Апологеты, начиная со Св. Иустина Мученика, учили, что «семя», или, что то же, свет логоса, воплотившегося со всей полнотой только во Христе, тем не менее, в рассеянном виде присуще всему миру, причём особенно заметно выступает в законодателях, поэтах и мудрецах, бывших для язычников тем же, чем служили, по учению апостола Павла, закон и порядок для евреев, т.е. путеводителями ко Христу, только, конечно, в гораздо слабейшей степени.
Итак, без противоречия самому же христианскому учению, мы не можем ограничивать область «внутреннего света» одним христианским миром, но должны расширить её до более далёких границ. Значит, в известном смысле и в некоторой мере внутренним светом обладали и Будда (вспомним его «ночь просвещения»), и Сократ (δαιμόνιον), и Платон, и Плотин, и Магомет и Лютер – до современных нам писателей и мыслителей, – до Толстого включительно, – так как в их учении, кроме явной противоположности христианству, следовательно, тёмной стороны, была и есть другая светлая сторона – истина.
Второе положение, устанавливаемое здесь, имеет тот
—36—
смысл, что внутренний свет не только не ограничен православной мистикой, где он имеет своё наиболее типичное, «яркое» до внешних фотизмов выражение, но и сферой религиозного опыта вообще. Он имеет огромную ценность и в других духовных деятельностях человека, благодаря чего понятие «внутреннего света» ещё более расширяется. Пусть солнце ярко блещет в голубом высоком небе, но оно льёт свои лучи и на грешную землю, оно не только освещает вершины гор, блещет на крестах и «золотых маковках» храмов, но и проникает в лачуги бедняков, даже в вертепы злодеев.
«Внутренний свет» это не только тропический луч, сверкающий в душе мистика и вызывающий пышный рассвет всех её сил, но и – северное холодное сияние фантазии художника, сумеречное ясновидение поэта, «волшебный фонарик», тихо мерцающий в мысли учёного.
«Внутреннему свету» не только все религии, но и вся учено-художественно-практическая деятельность человека обязана всем, что в ней есть наиболее величественного и ценного, возвышенного и глубокого.
В широком значении слова, «Внутренний свет», это – озарение души мыслителя новой плодотворной идеей, это – прозрение таланта, гениальная мысль, творческое вдохновение, философская интуиция.
Логика человека с её органом – мозгом отчасти заменима: как есть пишущая и счетоводная машины, облегчающие и заменяющие письмо и математическое соображение; как есть граммофоны, увековечивающие и заменяющие живую речь и т.д., – так возможны и «думающие», логические машины, (одна из таких недавно демонстрировалась в Москве), заменяющая человеческую мысль со всей её механикой. Но «внутренний свет» незаменим, как своеобразная духовно-жизненная стихия.
Оканчивая первую главу очерка, в которой имелось в виду дать только общее констатирование факта «внутреннего света», не могу не отослать читателей к исследованиям, более полным и компетентным, каковыми являются: «Многообразие религиозного опыта» В. Джемса, «Свет Незримый» М.В. Лодыженского, «О духовной истине» свящ. П.А. Флоренского.
—37—
II.
Переходя к выражению τὸ φῶς τὸ ἐν σοι, послужившему отправной точкой настоящей статьи, можно с несомненностью утверждать, что речь идёт здесь именно о «внутреннем свете».
Докажем сначала, что идея внутреннего света не чужда ни Библии вообще, ни Евангелию в частности и особенности.
Библия для нас – памятник Божественного Откровения. Сам текст этого памятника мы признаём бого-вдохновенным. Откровение же и вдохновение не только в тесном, теологическом значении слова, но и в широком, общечеловеческом – применительно к философскому или поэтическому творчеству, суть явления «внутреннего света». Известно, что Св. Отцы, сами будучи «богопросвещёнными», если только не понимали боговдохновенности механически, в смысле «богоодержимости», то разумели под ним именно особое состояние внутреннего «озарения», виновником которого был Св. Дух.
Факты пророчества, прозрения в будущее и прошлое, без внутреннего света, были бы непонятны и невозможны, как лишённая физического света пространственная перспектива.
Не оставляют в том ни какого сомнения и такие выражения, как: «во свете Твоём узрим свет», или наставление Апостола Петра внимать пророческому слову, пока не озарит день и не взойдёт денница в собственном сердце.
Наконец, как Ветхому, так и Новому Заветам известны и внешние светоявления. Так, Моисей должен был прикрывать лицо своего рода вуалем, вследствие исходившего от него ослепительного блеска. Светом сопровождались в Новом Завете явления ангелов…
Что касается Евангелия, то, как часть Божественного Откровения и Библии, оно не может не разделять общей идеи «внутреннего света».
Но Евангелие есть особеннейшая часть, или точнее полнота Откровения, так сказать, «Библия в Библии». Это – солнце, в сравнении с которым другие боговдохновенные книги – только планеты, сияющие заимствованным светом.
—38—
Там вещал Бог устами пророков; здесь говорит с нами Сын Божий – Богочеловек, вся жизнь Которого была откровением – светом.
Я – свет миру (Ин.8:12) – возглашает Христос, давая разуметь в себе абсолютное средоточие внутреннего света. Он не носитель только света, как пророк, не тёмный сам по себе и лишь загорающийся от приобщения Божеству светильник, как мистик, а Само-Свет, воплощённый, ипостасный Свет. Эта идея «света» в учении Господа проступает не редко, особенно в четвёртом Евангелии. И каждый, верующий в Него, по собственному опыту знает, что своим внутренним просвещением он обязан именно этому всемирному свету, как солнцу – в мире физическом. Христианство это не только религия любви, но и в такой же мере света. Сосредоточению во Христе внутреннего света соответствовал и свет внешний. Сюда относится, прежде всего, свет Преображения фаворский – свидетелями которого были три ученика, а затем дамасский свет, физически ослепивший, но зато духовно просветивший Савла и преобразивший его в Павла.
* * *
Поставим теперь изречение τὸ φῶς τὸ ἐν σοι в связь с контекстом в обоих редакциях.
1-я редакция – Мф.6:22–23: ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφϑαλυός. ἐάν οὖν ᾖ ὁ ὀφϑαλμός σου ὀπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσταν ἐάν δὲ ὁ ὀφϑαλμός σου πονηpὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσταν εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοἰ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον.
2-я редакция – Лк.11:33–36: Οὐδες λύχνον ἅψας εἰς κρυπτὴν τίϑησιν οὐδέ ὑπό τὸν μόδιον, ἄλλ’ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέπωσιν. ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφϑαλμός. σου ὅταν ὁ ὀφϑαλμός σου ἁπλούς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σᾶμά σου φωτεινόν ἐσῖίν ἐπάν δέ πονηρός ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σχοτεινὸν. σκόπεν οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. εἰ οὖν τὸ σῶμα σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχων μέρος τι σκοτεινόν, ἔσται φωιεινὸν δλον ως ὅταν ὁ λύχνος ἐν τᾖ ἀστραπᾖ φωίζη σε.
Я не выписываю здесь ни предшествующих, ни последующих слов, так как прямого отношения к учению
—39—
о свете они не имеют, и, потому, в редакциях они не совпадают.
Смысл же приведённых строк для всякого непредубеждённого и не отуманенного ни схоластикой, ни кабалистикой, читателя должен быть ясен. Речь идёт, очевидно, о внутреннем свете по аналогии со светом физическим (чуждым для «тела»), приемником которого служит человеческий глаз.
Господь, указывая, быть может, на горевший пред ним светильник (см. ред. Лк.) и, беря отсюда свой образ, как это Он делает неоднократно, называет глаз «светильником тела» (обе редакции).
Основанием такого сравнения служит то назначение, которому служат глаза в организме, и светильник в доме. Подобно тому, как с помощью светильника вступающие в дом различают предметы, так и благодаря зрению или глазу человек ориентируется в мире. Другое основание – в самом устройстве того и другого, хрупком материале, форме, размере и т.д. Словом, ни с чем другим сравнение глаз не может быть вернее и изящнее, как со светильником (λύχνος).
«Если, поэтому», продолжает развивать своё учение Божественный Наставник: «глаз твой прост», т.е. цел, здоров, чист, смотрит прямо и т.д., то и «всё тело твоё будет светлым» (обе ред.), будет наполнено светом, как наполняется комната с горящим впереди светильником, чтобы видны были окружающие предметы. «Если же глаз твой лукав», – слеп, болен, засорён» то и всё тело твоё будет тёмным» (обе ред.), будет погружено во мрак, как бывает, темна ночью комната, лишённая светильника.
Конечно, речь Христа о свете и глазе не была ведь лекцией по офтальмологии. Он не учил о законах оптики. Его слова – «дух и жизнь». Он учил о тайнах Царствия Божия, поучал законам вечной, божественной жизни. Тот же характер имело Его учение и здесь. Предшествующая речь о «светильнике» и «глазе» была лишь предварением, притчей, уподоблением к последующему слову о «внутреннем свете», как об одном из законов духовной, богочеловеческой жизни.
—40—
«Если же свет, который в тебе, есть тьма, то, сколько велика тьма» (Мф.). «Свет, который в тебе», это и есть евангельская формула внутреннего света, так как только о нём можно сказать, что он «в тебе», внутри человека, а не вне тебя.
Мысль Спасителя такова. Если есть в тебе свет, если душа твоя озаряется им, как светильником дом, то благо тебе. Но если свет этот, который должен быть внутри тебя, погас, уступил место мраку, стал тьмой, – то сколь велика, как ужасна, как опасна эта тьма! Насколько душа ценнее тела, насколько свет внутренний, или духовный, важнее внешнего, физического и, обратно, настолько же внутренняя, духовная тьма опаснее, губительнее, ужаснее мрака ночи и слепоты. Выкалывающий себе глаза лишается органа, нужного только для временной жизни, (Мф.5:29, и паралл.). Теряющий внутреннее зрение утрачивает с ним вместе и вечную божественную жизнь, принадлежностью которой так же, как и жизни физической, является свет (Ин.1:4 и др.).
Евангелист Матфей сохранил только отрицательную часть этой мысли. Евангелист Лука выразил её с обоих сторон: отрицательной и положительной.
«Смотри же, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Это – отрицательная половина редакции Луки. Мы обязаны следить за внутренним светом, как смотрим за светильником и глазом, подливаем масла, поправляем светильню и т.д., лечим глаз, вынимаем соринку и пр. То же обязаны мы делать и в отношении внутреннего света. Небрежность здесь бесконечно опасней, чем в отношении светильника или глаза. Итак, мы должны тщательно наблюдать, чтобы свет, который в нас, не померк, не стал тьмой. Мы должны беречь свой «внутренний свет», как «зеницу ока», как дорожим единственной спичкой в доме…
Наоборот, «если всё тело твоё освещено, так что ни одной части в нём не остаётся тёмной»… – применительно ко внутреннему свету, о котором главная речь: если вся душа твоя, до последнего, самого отдалённого уголка, освещена внутренним светом то «оно будет всё светлым, как бы светильник освещал тебя ярким сиянием» – то есть, всё существо твоё будет тогда светоносным, оза-
—41—
ряясь внутри точно блеском светильника. Такова положительная часть редакции Луки.
Итак, обе редакции под таинственным титулом τὸ φῶς τὸ ἐν σοι говорят о внутреннем духовном свете, аналогией и параллелью которого в мире физическом является свет видимый глазом, или внешний. Христос констатирует в нас присутствие этого света и учит беречь его, как сокровище.
Теперь нам понятно также, почему, характеризуя глаз, Христос обозначает его качество этическими терминами: ἀπλοῦς и πονηρός. Ведь глаз является только подобием, аналогией того внутреннего, духовного ока, от целостности или порчи которого зависит наше внутреннее зрение. Это же око, будучи духовным, должно характеризоваться непременно словами, имеющими этическое содержание. Благодаря этому, сама притча о светильнике и глазе получает характер ещё более прозрачного намёка.
* * *
Сила «внутреннего света» так же, как и область его, может быть различной: от «фаворского света» до обыкновенной «светлой» мысли включительно; от озарения им одного разума до равномерного им осияния всех уголков души, когда «ни одной части в ней не остаётся тёмной».
Превосходную иллюстрацию этой части мысли мы находим у преп. Макария Великого.
«Иногда огнь сей возгорается и воспламеняется сильнее, а иногда как бы слабее и тише, в иные времена свет сей возжигается и сияет более, иногда же умаляется и меркнет; и светильник сей, всегда горя и светя, иногда делается яснее, более возгорается от упоения Божией любовью, а в другое время издаёт сияние бережливо, и соприсущий в человеке свет бывает слабее.
«Сверх того, иным во свете является знамение креста и пригвождалось во внутреннем человеке. Иногда также являлось как бы светоносное некое одеяние, которого нет на земле в веке сем, и какого не могут приготовить руки человеческие. Ибо как Господь, с Иоанном и Петром возшедши на гору, преобразил ризы свои и соделал их молниевидными, так бывало и с оным одеянием, и облачённый в оное человек удивлялся и изумлялся. В иное
—42—
же время свет сей, являясь в сердце, отверзал внутреннейший, глубочайший и сокровенный свет… Но после сего благодать умалялась, и нисходило покрывало сопротивной силы; благодать же бывала видима как бы отчасти, и на какой-то низшей степени совершенства.
«Человеку надобно, так сказать, пройти двенадцать ступеней, и потом достигнуть совершенства. Потом благодать снова начинает действовать слабее, и человек нисходит на одну ступень, и стоит уже на одиннадцатой. А иной, богатый благодатью, всегда день и ночь стоит на высшей мере, будучи свободен и чист, всегда пленён и выспрен…
«На деле же бывает так: подобно сгущённому воздуху какая-то примрачная сила лежит на человеке и слегка прикрывает его. Светильник непрестанно горит и светит; однако же, как бы покрывало лежит на свете; и посему, человек признаётся, что он ещё не совершен, и не вовсе свободен от греха; почему, можно сказать, что средостение ограды уже разорено и сокрушено, и опять в ином чем-нибудь разорено не вовсе и не навсегда. Ибо бывает время, когда благодать сильнее воспламеняет, утешает и успокаивает человека; и бывает время, когда она умаляется и меркнет, как сама она домостроительствует сие на пользу человеку»… («Преп. отца нашего Макария Египетского духовные беседы, послание и слова». Пер. с греч. Моск. Дух. Академии. Изд. 4-е. 1904. Беседа 8-я, стр. 69–70).
На какой бы ступени духовного просвещения мы не стояли, нам заповедано беречь свой внутренний свет и стремиться к высшему совершенству. В противном случае – небрежения о внутреннем свете, – он может погаснуть, как гаснет выгоревшая до капли лампада, померкнуть, как меркнет глаз, лишённый всякого ухода, и нам грозят духовная слепота и внутренняя тьма, – опасность смешения истины с ложью, добра со злом, красоты с безобразием, божественного с человеческим и даже с сатанинским, подобно тому, как физически слепой или находящийся в тёмной комнате человек смешивает белое с чёрным, письменный стол принимает за кровать, а стоящую в углу швабру за самого хозяина.
—43—
Наставление Христа о внутреннем свете применимо, сколько к каждому человеку, столько же и ко всякой эпохе. Наш век гордится своей «просвещённостью». И не напрасно! Сколько новых прекрасных «лучей» открыто за последнее время! сколько зрительных стёкол изобретено человеком! С другой стороны и светоч науки горит так ярко, как никогда. Но всё это «просвещение» – душевно-телесное, нужное только в пределах пространства и времени. Между тем, какой смысл рассматривать под микроскопом инфузорию и не заглянуть ни разу в свою душу? Какая радость пользоваться электричеством и не видеть никогда дневного, солнечного света? Свет же солнечный, истинный свет, «просвещающий всякого человека, вступающего в мир» – свет внутренний, духовный. Он просвещает и в тоже время животворит. Его-то в современном человеке и мало.
Лишённый внутреннего света, человек являет собой жалкий тип «зрячего слепца», у которого роговая оболочка глаза цела, но зрительный нерв парализован. Такой человек не способен отличить истинного блага от призрачного. Учёный, без внутреннего света, превращается в сухого книжника, художник – в фотографа пошлой обыденщины, общественный деятель – в мёртвого бюрократа, священник – в бездушного требоисправителя. Хотя логическая оболочка «внутреннего ока» у таких людей и цела, но нерв убит; «свет жизни» погас.
Внутренний свет есть одна из стихий духовной жизни, управляемой нравственными законами: как свет внешний есть стихия космической жизни, регулируемой законами необходимости. – Поэтому, мера внутреннего света всегда будет соответствовать степени нашего духовного совершенства. Обилие духовного света возможно лишь под условием высокого нравственного совершенства. В этом мы фактически убеждаемся на примере и учении Святых, соединивших в себе с духовным превосходством и яркий, доходивший до внешнего осияния, блеск «внутреннего света».
* * *
В заключение я позволю себе – исходя из основной евангельской параллели, провести дальнейшую аналогию между светом внутренним и внешним.
—44—
1. Действия внешнего света несообщимы. Бесполезно говорить слепому о солнце и свете, цветах и красках, радуге и северном сиянии. Он может поверить вам на слово, признать всё это, но не ясного представления, ни точного понятия, одними словами, без соответствующего опыта, вызвать нельзя. Только зрячие люди могут понимать друг друга, когда речь идёт о свете.
Действия внутреннего света также неизреченны. Мы не можем ни понять надлежащим образом, ни ясно представить себе не только тех состояний, которые известны у мистиков под общим именем «созерцание света», но и, – что гораздо ближе к нам: сущности творческого вдохновения, интуитивного просветления мысли, если сами этого не испытывали. Изречения священных и богослужебных книг, отеческих творений о «свете» – пустое место для нас, хотя их там так много и так они выразительно-ярки. Если мы не совсем отрицаем подобные выражения и факты, мы игнорируем их или интерпретируем в узко-интеллектуальном смысле. Только люди «просвещённые», могут понять и оценить, что значит «внутренний свет» и каковы его действия. Однако, как бы непонятны и странны нам не казались подобные феномены: мистические озарения, фаворский свет, пророчество, ясно-видение вдохновение, интуиция и пр. – эти радуги и излучения внутреннего света, мы, хотя на слово, обязаны верить тем, кто это испытал и не отрицать, по крайней мере, самого существования «внутреннего света».
2. Если для зрячих людей природа внешнего света представляет загадку, то ещё более таинственна природа света внутреннего. Существо этого света божественно-непостижимо.
Наука пытается различными гипотезами определить природу света, но пока безуспешно. Учёные и философы мыслили и мыслят о свете различно. Одна гипотеза сменяет другую.
Декарт представлял себе свет, как давление, производимое светящимся телом на глаз, через посредство наполняющей пространство материи. Теория эта была скоро отброшена, так как соединялась с учением о мгновенной передаче света от предмета к наблюдателю. Декарту ещё не известно было, что свет имеет определённую скорость,
—45—
впервые установленную Ромером. Тем не менее, мысль о давлении света, как показали новейшие исследования (напр., Лебедева), оказалась, по существу правильной. Из двух соперничавших после того гипотез: эманационной – Ньютона и вибрационной – Гюйгенса, верх на долгое время одержала последняя.
Большинству учёных казалось не возможным, чтобы частицы, или корпускулы световой материи, могли с такой скоростью, какая была установлена для света, пробегать пространство, что утверждалось теорией эманации. Им вместе с Гюйгенсом легче было представить себе только передачу с такой именно скоростью (200 000 км в секунду) по волнам эфира энергии от источника света к органу зрения. Устранялись этой гипотезой и другие затруднения в понимании явлений света. Но главным основанием была для них всё же трудность представления такой скорости материальных частиц, с какой свет распространяется в пространстве. Им, как в своё время Декарту – скорость света, неведомы были ни радий, ни другие новейшие открытия в области физики, преодолевающие все подобные затруднения. Теперь же, открыты лучи радия, некоторые из частиц которого обладают скоростью света, главное возражение против эманационной теории падает. Имея же, в другом отношении, преимущества пред вибрационной теорией, эманационное учение получает в наши дни всё больший и больший перевес, так что, в конце концов, Ньютон оказывается более прав, чем Гюйгенс. Но мы ещё не знаем, каким открытием и какой теорией нас может подарить будущее.
Указанное разнообразие и колебание научной мысли о природе физического света поучительно в том отношении, что, если мы так мало знаем о явлениях окружающего нас мира, если, не смотря на всю их общедоступность и каждодневный опыт, они оказываются трудно постижимыми, то духовный мир кроет в себе ещё более тайн и, потому, явления его, к которым относится «внутренний свет», ещё менее объяснимы. Кто постиг секрет вдохновения поэта? Какой психолог понял тайну творчества? На высших же ступенях христианской мистики, «внутренний свет» есть «велия благочестия тайна».
—46—
3. Приёмником внешнего света служит глаз, источником солнце, – центральное светило, по крайней мере, для нашего земного и вообще солнечного мира. Есть также свой орган и свой объективный источник у света внутреннего. Таким органом выступает разум, почему внутренний свет называется «умным», иногда сердце, или совесть. Источником же является Бог – Центр всего духовного мира. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.5:8). «Бог – возвещает от Лица Сына Его евангелист – Богослов: «есть свет, и нет в нём ни какой тьмы» (1Ин.1:5). На солнце есть всё-таки пятна. А Бог – Солнце без пятен. Сам, будучи для Себя Светом, Он является Источником всякого, по преимуществу же внутреннего света и для других существ. Оттого – в своих высших обнаружениях «внутренний свет» есть «свет Божественный». Это признают все мистики.
4. Свет физический делает видимыми все окружающие нас предметы. Свет духовный, озаряя наш внутренний мир, даёт возможность нам на высших ступенях «созерцать», на низших – понимать объекты мира невидимого, их соотношения и связь; открывает тайны прошлого и будущего; вводит в постижение религиозных истин, умозрений, идей.
Физический свет не только светит, но и греет, оплодотворяет. Равным образом и духовный свет, не просвещает лишь, но и радует, животворит.
Внешне-физический свет не есть ни магнетизм, ни электричество, ни какой-нибудь газ. Это особый род энергии, особый продукт Божественного Творчества. Внутренне-духовный свет также не отожествим ни с совестью, ни с разумом, ни с сердцем, хотя все эти стороны нашей души в большей или меньшей степени могут быть проникнуты им. Это особый фактор внутренней жизни, самобытное явление, не сводимое ни на одну из душевных деятельностей.
Свет физический, по своему материальному субстрату, являет собой, в отношении к нашему телу, внешне-объективную реальность. Наш глаз служит только приёмником света, органом его уловления. Духовный свет, в своей непостижимой сущности, превыше всякой души. Он
—47—
присущ духовному миру, как целому. Чистое сердце, возвышенный ум, чуткая совесть и пр. только средство его созерцания. Но сам по себе он трансцедентен в отношении нашего духа.
А. Труберовский
Эрн. В.Ф. Спор о психологизме в итальянской философии //Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 48–82 (2-я пагин.). (Окончание.)
—48—
IV.
Эти колебания Розмини между Сциллой пантеизма и Харибдой меонизма, колебания, на которые он обречён благодаря психологическому характеру основ своей идеологии, ещё сильнее выступают при разборе четвёртого и последнего его тезиса, утверждающего существенное различие между интуицией идеального бытия и интуицией Бога1455. Если до сих пор Джоберти рассматривал идеальное бытие Розмини преимущественно с теоретико-познавательной точки зрения и находил, что идеальное бытие, чтобы быть основой познания, должно быть конкретным и действительным, то теперь он, при разборе последнего пункта, рассматривает идеальное бытие само в себе и ставит вопрос о его метафизической природе, т.е. об его отношении к бытию Абсолютному.
На этот счёт у Розмини встречается два ряда утверждений, совершенно на подобии того, как у Канта есть два ряда представлений о вещи в себе1456. Во-первых, в Новом Опыте Розмини встречается целый ряд мест, в которых он усиленно подчёркивает объективность идеального бытия, его полную независимость от нашего ума. Вот одно из таких мест: «Универсальное бытие противоречиво считать простой модификацией нашего духа. Ведь оно проявляет такую активность, в отношении которой дух наш занимает всецело пассивное и зависимое
—49—
положение. Мы сознаём себя совершенно бессильными перед идеальным бытием, бессильными изменить в нём малейшую черту; оно абсолютно неизменно, оно – активное начало всех вещей, источник всех познаний, оно лишено всего случайного, оно есть свет, воспринимаемый нами природно, свет, господствующий над нами, побеждающий нас и вызывающий у нас беспредельное подчинение»1457. И этот вывод подтверждается согласием Розмини с учением Отцов Церкви, которые учили, как говорит сам Розмини, что «идеи человеческие должны быть тожественными (в основе) с идеями божественного разума, что идеи человеческие суть таинственное сообщение идей божественных, и что Бог, умопостигаемость Бога, Слово божественное – есть то, что согласно писанию просвещает всякого человека приходящего в мир1458. «Поэтому вся познаваемость вещей, говорит Розмини, корениться в божественной сущности и так как в бытии я различаю две основных формы или два основных модуса, реальность и идеальность, то нет никаких препятствий, чтобы бытие идеальное, существенную познаваемость, поскольку она связана и тождественна с реальностью абсолютной, называть Богом-Словом1459. Во всех этих местах, говорит Джоберти, Розмини можно принять за настоящего последователя Мальбранша1460. Обращают на себя внимание только постоянные оговорки, указывающие на неуверенность Роз-
—50—
мини. Он говорит: «в основе» «ничто не препятствует называть Богом-Словом». И эти оговорки естественно связываются со вторым рядом утверждений, очень далёких от только что приведённых. «То, что мы видим, говорит Розмини, есть некоторая принадлежность Бога и лишь усовершаясь может получить форму Бога». «Поэтому бытие, нами созерцаемое столь ограниченно, может быть названо скорее светом сотворённым, чем не сотворённым»1461. Или: «Универсальное бытие, мыслимое нашим разумом как сущность, имеет такую природу, что не показывает никакого существования вне разума и поэтому может быть названо бытием ментальным или логическим1462. В духе этих утверждений Розмини высказывает любопытную мысль, показывающую, как широк был диапазон его колебаний. Мысли о пребывании всех идей в Боге он придаёт следующую субъективную формулировку. «Бог знает всё. Следовательно, знает наши идеи и наши способы познавать и, значит, имеет идею наших идей… В этом смысле наши идеи вечны и находятся в Боге даже в субъективной своей части. Мы не видим их в Боге, не видим, чтобы они были в Боге; но они пребывают в Боге, потому что Сам Бог захотел, чтобы они были в нас и чтобы в нас порождались тем способом, каким порождаются»1463. Т.е. выходит, что не мы видим вещи в Боге, а Бог видит вещи в нас. «Если Розмини приписывает идеям такую вечность, говорит Джоберти, то в такой же степени можно приписать вечность людям, животным, растениям и вообще всей твари, даже лишённой всякого сознания. Ведь Бог от вечности имеет идею всех вещей сотворённых или могущих быть сотворёнными вплоть до мельчайших их черт»1464. Розмини смешивает вечность, свойственную божественной идее всех человеческих идей, с вечностью, не свойственной и не принадлежащей человеческим идеям, как таковым. Вот до каких странных утверждений доходит Розмини в своём стремлении воздвигнуть какое-то непреодолимое препятствие между человеком и Богом!
Этот ряд утверждений находится в непримиримом
—51—
противоречии с первым. В ярком освещении этой двойственности заключена уже имманентная критика. Нельзя утверждать одновременно, что «свет» нашего разума и сотворён и не сотворён, что наши идеи существуют в Боге так, как мы их видим. Нужно решиться на одно какое-нибудь из этих утверждений и всю систему базировать на нём, принципиально отвергнув утверждение другое. Розмини явно стремиться совместить оба утверждения, не решаясь расстаться с ни с тем, ни с другим. В чём же дело? Как объяснить эти слишком уж очевидные и бросающиеся в глаза колебания? Джоберти объясняет их психологически. Розмини хорошо понимает, что лишив идеальное бытие объективного существования вне познающего духа, он не сможет обосновать восприятие реального существования окружающего нас мира. Ведь вся реальность воспринимаемого сосредоточится, по Розмини, в идее неопределённого бытия, но если идея эта сама в себе реальна, то, как может быть реальным то, что лишь через неё могло бы стать реальным1465? Меонизм – неизбежный вывод из не реальности идеального бытия, и вот, чтобы избежать меонизма, Розмини должен был подчёркивать объективность идеального бытия, его независимость от нашего разума, его нумерическое тождество для всех сотворённых духов и тем самым приблизиться к доктрине Августина, Бонавентуры, Мальбранша, Джердиля о видении всех вещей в Боге. Но тут Розмини охватывает раздумье, и вполне основательное: поставить знак равенства между идеальным бытием и бытием абсолютным, не придём ли мы к пантеизму1466? Благочестивая душа Розмини боится пантеизма, как огня, и потому раздумье его имеет благую основу. Кроме того, Розмини совершенно правильно убеждён, что идеальное бытие, присущее разуму человеческому, слишком несовершенно, чтобы можно было отожествить его с бытием Абсолютным и ограниченный свет человеческого разума счесть за безграничный свет Разума божественного.
Насчёт «боязни пантеизма» Джоберти резонно замечает, что нельзя даже из-за такого высокого мотива впадать в
—52—
противоречия с самим собой1467. Нужно быть смелей и избегать пантеизм каким-нибудь более действительным и менее самоубийственным способом. Розмини боится пантеизма очень основательно, потому что оставаться в пределах психологизма и отождествлять идеальное бытие с абсолютным – это значит неизбежно придти к пантеизму1468. В одном месте Розмини говорит: «Бытие в себе начально. Из чего следует, что оно сходно с одной стороны с реальными и конкретными вещами, с другой же – сходно с бытием Абсолютным и, следовательно, может сказываться о Боге и о твари, как говорили схоластики одинаково (единозвучно, – univocamente). Ибо имея скрытыми от нас свои термины, оно может актуализироваться и детерминироваться, хотя, конечно, не одним и тем же способом, и в Бога и в тварь»1469. Что же получается? Получается, говорит Джоберти «что это бытие есть одновременно и мир и Бог, что все конечные вещи есть термины и модификации этого бытия, взятого как единственная субстанция, что она есть Бог, как субстанция бесконечная и детерминированная бесконечно, и мир, как комплекс конечных модификаций или как субстанция детерминирующаяся в чувствах и ощущениях, т.е. в модусах ограниченных, сумма которых и образует для нас вселенную. Но эта доктрина носит чисто пантеистический характер»1470. Итак, пантеизма Розмини боится вполне основательно и так как для того, чтобы бояться чего-нибудь – нужно это что-нибудь предусматривать, то боязнь пантеизма делает честь предусмотрительности Розмини1471.
Второй же мотив колебаний Розмини – Джоберти считает совсем неосновательным. «Человек на земле, говорит Розмини, обладает слишком малым светом, чтобы называть этот свет Богом». Но почему же? спрашивает Джоберти: «Разве свет божественный подобен свету солнца, который распадается на лучи, состоит из частей, способен на различные степени и на различные цвета? Разве он не есть, скорее, божественная сущность? И разве последняя не едина, не проста, не неизменна, не неделима? Можно
—53—
ли говорить о различных дозах света, как о свете какой-нибудь светильни? Очевидно, Розмини смешивает свет объективный со светом субъективным и одному приписывает то, что свойственно другому. Свет субъективный, если его угодно так называть, есть человеческая интуиция, конечная по своей природе, и способная на бесконечные градации; свет объективный есть объект интуиции, всегда равный самому себе, ибо это – божественная сущность, этот объективный свет, как бы не было слабо причастие к нему в интуиции, не только можно, но и должно называть именем Бога, потому что, в самом деле, это Бог»1472.
Колебания Розмини, повторяет Джоберти, объясняются дурным психологизмом, проникающим его метод. Из психологизма вытекает пантеизм, и, боясь пантеизма, Розмини останавливается на полудороге, противоречит самому себе, и не может сделать решительного шага к действительному преодолению основных трудностей проблемы познания. Розмини должен двинуться вперёд, перейти к онтологизму, и принять «идеальную формулу». Только в таком случае затраченные им усилия не пропадут даром и его учение о возможном сущем получит свой настоящий смысл. В самом деле, учение о возможном сущем, онтологически рассматриваемое, является вполне действительным моментом теории знания, но не первым и высшим моментом, как думает Розмини, а вторым и зависимым1473. Понятие абстрактного сущаго есть результат психологической рефлексии, которая логически подчинена рефлексии онтологической. «Оно коренится в душе, которая, обозревая свою интуицию и воспринимая этот акт в его таинственной связи с сущим абсолютным и творящим, находит как бы в ней отблеск и напечатление этого великого объекта, ибо познающий субъект в силу познания получает в себя самого впечатление и модификацию познанного объекта. Но, так как непосредственный объект интуиции не есть одно Сущее, а Сущее вместе с Его отношением к существующему через посредство организма идеальной формулы, то впечатление, получаемое в интуи-
—54—
ции, должно одинаковым образом соответствовать двум конкретным членам формулы, Сущему и существующему, и передавать образ, как того, так и другого. Словом, сущее, как помышленное и мыслимое, должно соответствовать и Сущему и существующему, и представлять их обоих. Поэтому мыслимость Сущаго и мыслимость существующего должны объединяться в одном понятии, которое в актах мысли было бы общими для обоих и применимым к обоим. Но что же это за понятие, как не абстрактное, возможное, общее сущее Розмини, равно применимое к Сущему и существующему, к Богу и твари?»1474 Тут Джоберти делает очень важное метафизическое построение, которое предвосхищает одну из основных тем Теософии Розмини. «Онтологизм, говорит он, на этом не останавливается и может дать нашей идее важное и глубокое объяснение того возможного сущего, которое психологизм в лице Розмини принуждён был считать первичным и необъяснимым фактом»1475. Это объяснение находится в связи с синтезом творческого акта, «каковой синтез, заключая в себе реальное отношение между Сущим и существующим, приводит к необходимому допущению подобия между этими двумя терминами, несмотря на бесконечное различие, отделяющее их друг от друга, и позволяет нам увидеть это отношение в вечной идее Сущего, по которой было замышлено существующее в том самом творческом акте, которым оно и произведено. Следовательно, идея возможного сущего есть тот вечный архетип мира, без которого творение было бы невозможно. Другими словами, сущее возможное составляет часть божественной постигаемости, и, так как последняя сообщена нам в интуиции через творческий акт и образует нашу разумность, то отсюда следует, что идея абстрактного сущего служащая светом рефлексии, есть сама божественная идея… Итак, идея абстрактного сущего дана нам в восприятии сущего конкретного, которое содержит её в себе, как восприятие зеркала включает в себе восприятие предметов, которые в нём отражаются; и затем она даётся нам в рефлексии, через которую мысль, обозревая сама себя, находит
—55—
её актуализированной и как бы воплощённой в собственной форме. Значит, дух человеческий получает идею возможного сущего двумя способами: как божественный архетип в интуиции абсолютного сущего и как отображение, воспроизведённое по божественному типу в мощи творческого акта. Поэтому дух, как творение, нисходит от Бога к себе, – как мысль, восходит от себя к Богу; и эти две операции одновременны, имманентны друг другу, и отожествляются при помощи творческого акта. Следовательно, дух, как сотворённый и рефлексирующий находит в себе напечатленной божественную идею возможного сущего, как сотворённый и созерцающий в интуиции, видит ту же самую идею в Сущем конкретном, в объекте своей интуиции. Поэтому-то идея возможного сущего субъективна и объективна в одно и то же время; субъективна потому, что напечатлена в духе нашем творением и открыта нам в порядке мысли рефлективной, объективна потому что она есть божественный архетип, пребывающий в Боге, и открытый нам в порядке мысли интуитивной»1476.
Итак, вот единственный и логичный выход из двойственности Розминиевской идеологии: перейти к откровенному онтологизму, понять возможное Сущее как подчинённый момент более обширного метафизического целого, признать интуицию абсолютного и конкретного Сущего первым звеном человеческой мысли и тем сойти окончательно с двусмысленной почвы, новоевропейского психологизма.
Этим кончается первая фаза столкновения Джоберти с Розмини.
V.
Вторая фаза носит характер гораздо более резкий. Сочинение Тардити1477, проникнутое духом нетерпимого поклонения своему учителю, игнорирующее весь ряд серьёзных критических соображений Джоберти, только что нами изложенных, и главное, написанное, как это стало быстро известно Джоберти, с одобрения Розмини и после его просмотра, –
—56—
это сочинение заставило Джоберти переменить тон. Чувствуя, что спокойное рассуждение на средних «академических» нотах не достигает цели и что Розмини и его ученики не только не сознают основного дефекта своей идеологии и не пробуют приняться за его устранение, но с величайшим упорством стоят на своём и презрительно обходят молчанием все подлинные диалектические трудности, раскрытые в Введении к изучению философии, Джоберти с невероятной быстротой переходит в стремительную атаку, с лёгкостью и мимоходом опрокинув Тардити, подступает к самим основам идеологии Розмини и обрушивает на своего главного, замкнувшегося в молчание, противника, целые вихри сомкнутых аргументов, непрерывные «редукции к абсурду», красноречивый поток пламенного негодования, сарказма и светлого остроумия. В литературном отношении многие страницы Философских заблуждений А. Розмини достигают высокого совершенства. Нового масла в огонь подлил граф Кавур, который, вмешавшись в полемику, хотел обосновать иммунитет Розмини от критики Джоберти, между прочим, тем, что Розмини происходит из знатного рода и владеет крупным состоянием. Это взорвало Джоберти: «Граф описывает благородное происхождение Розмини и его значительное богатство, а затем указывает, что я изгнанник, гонимый, измученный судьбой, и удостаивает меня своими клеветами. Противоположность между мной и Розмини не могла быть лучше подчёркнута. Он знатен, богат и имеет могущественных друзей и знатных учеников. Я бесприютен, одинок, заброшен грязью, всеми оставлен, мне никто не покровительствует. И всё же сила истины такова, что я не оставляю надежды победить моего счастливого противника и освободить Италию от заразы его доктрины. Я уже достиг многого, приведши к постыдному молчанию своры его защитников и принудивших тех из них, кто не хотят молчать, прибегать за отсутствием разумных соображений к клевете»1478. Поэтому, когда в конце полемики Джоберти узнал, что бывший друг его Паоло Бароне, вместе с братом своим примкнувший к Розмини, пишет сочинение
—57—
с примирительной тенденцией1479, стараясь установить основное согласие между идеальной формулой Джоберти и возможным сущим Розмини, Джоберти называет это предприятие «баронадой» и говорит: «доказать, что Филиппики, приписываемые Цицерону, есть дело Марка Антония или что Мизогалл написан каким-нибудь французом гораздо легче, чем доказать розминианское происхождение идеальной формулы»1480. Если раньше Джоберти высказывал мысль о возможности онтологически истолковать учение Розмини и тем самым признавал относительную правду идеологии Розмини, то теперь, когда ученики Розмини, вдохновлённые самим Розмини, отказались от онтологического преобразования своего учения и тем самым подчеркнули его отрицательные и двусмысленные моменты, – теперь Джоберти сам отказывается от какого бы то ни было примирения и не жалеет полемических стрел для того, чтобы насмерть убить ненавистную ему идеологию. И всё же, несмотря на слишком большое полемическое воодушевление, критика Джоберти по-прежнему сохраняет глубоко – серьёзный характер и проникнута провинциальностью подлинно-философского ζήτησις’a. Слова Джоберти в частном письме, относящиеся к самому началу второго фазиса полемики: «я надеюсь, что этот спор не останется безрезультатным для истории философии»1481 – эти слова кажутся слишком скромными по сравнению с богатством внутреннего содержания, явленного Джоберти в сочинении Degli errori filosofiei di A. Rosmini и представляющего в философии XIX столетия существенно-новый момент. Гораздо более справедливыми нам кажутся слова, вырвавшиеся у Джоберти в разгаре полемики, в оправдание своих длинных анализов: «Здесь дело идёт не о простых философских вопросах, а о вещах, важнее которых ничего нет на свете»1482.
—58—
Мы оставим в стороне блестящие внешние формы критики Джоберти, его виртуозные выходки личного характера против Розмини и розминианцев, – тем более, что сам Джоберти высказал в последствии публичное сожаление о резкости своих выражений – и сосредоточился на главной сути его возражений, которой он остался верен и после того, как, лично познакомившись с Розмини, «стал ценить вместе со всей Италией его мудрость и его добродетели»1483.
Сочинение Джоберти О философских заблуждениях Антонио Розмини есть ряд усложняющихся, проведённых через все тональности, полемистических вариаций на основную тему, сравнительно очень простую, данную в Введении в изучение философии. Основной прицел, метко бьющий в самые слабые места идеологии Розмини, был сделан уже там, здесь же выпускаются целые тучи стрел по заранее установленному направлению, и потому изложение второй фазы полемики представляет большие трудности. Мысль Джоберти движется здесь какими-то стремительными эпициклами, развёртывается на огромном протяжении четырёх томов, бесконечно варьируется, снова и снова, как тараном бьёт по тем же самым местам и наконец, приходит в сверкающие остроумием диалоги, напоминающие скорее Лукиана или Леопарди, чем серьёзное философское обсуждение1484. Чтобы держаться в пределах нашей темы, нам придётся безжалостно обрубать мысль Джоберти от всех её пышных разветвлений и касаться только самых существенных вариаций на тему уже нами изложенную.
VI.
Прежде всего, подчеркнём, что Джоберти говорит в разных местах. Ему указывали, что Розмини искренний католик и его философия проникнута духом совершенной ортодоксии. На это Джоберти заявляет, что для того, чтобы раз навсегда устранить недоразумения – он, Джоберти, различает в философии Розмини два слоя – один
—59—
чрезвычайно логичный и строго связанный с основным учением о возможном сущем, и другой – совершенно с ним не связанный и ему противоречащий слой здравой католической философии. Джоберти готов преклониться перед мудростью многих доктрин Розмини, основанных на психологическом опыте или на данных катехизиса, но его интересуют в Розмини не эти доктрины, а его основной принцип, провозглашение которого Розмини считает чрезвычайным событием в философии, а розминианцы началом новой философской эры. Этот основной принцип, по существу, не смотря на маску христианских выражений, является тождественным с принципом новой философии, провозглашённой Декартом и продолженным Кантом. «Розмини, говорит Джоберти, с необходимостью должен быть признан психологистом, ибо он отказывает в реальности непосредственному объекту интуиции, ибо он определённо отрицает идеальное видение Бога, ибо он утверждает, что идея, предстоящая человеческому познанию, нумерически отличается от идеи божественной. Вы, розминианцы, отвечаете на это: нет, ибо Розмини допускает свет, называемый им божественным и, по его мнению, сообщённый людям, ибо он допускает идею в истинном смысле объективную, воспринимаемую непосредственно и нумерически единую для всех сотворённых умов. Вы спрашиваете, может ли быть назван психологистом человек, исповедующий такую доктрину? Конечно, не может. Но этот человек прекрасно может исповедовать одновременно эту доктрину и доктрину ей противоположную, совершенно не замечая их абсолютной несоединимости. Это и делает Розмини. Можно не десять, а сто раз говорить и повторять, можно писать и на протяжении целых томов доказывать, что единственным и непосредственным предметом человеческого знания является не Сущее конкретное, реальное, субстанциальное и безусловное, а чистая абстракция, простая форма, расплывчатая общность, словом нечто лишённое всякой реальности и существования, нечто чуждое божественной природы и присущее лишь человеческому разуму. А потом, когда против этой доктрины толпой восстают возражения и нужно на них что-нибудь отвечать, – Розмини начинает утверждать, что его сущее, хотя и не
—60—
существует вне разума, тем не менее, не есть модификация разума, что его сущее, хотя и не конкретно, но в то же время и не абстрактно, но реально – и объективно, не есть Бог, и не человек, не божественно и, тем не менее, может быть названо божественным»1485… Cловом, как у Лафонтена:
Je suis oiseau; voyes mes ailes
Je suis souris; vivent les rats!1486
Всякая система, говорит Джоберти, которая полагает принципом всего познания вещь, которая в собственном и буквальном смысле не есть Бог, необходимо приобретает психологический характер. Желать же искать какого-то среднего пути также абсурдно, как вводить нечто субстанциально отличное от Творца и от твари1487. «Розмини может называть свою единственную форму представляющей Бога, может говорить, что она «наместница Бога и так сказать викарна по отношению к Богу, что она есть подлинное отражение Бога, вроде как бы в зеркале; он может называть её божественной, светом божественным и многими другими ещё более прекрасными и изысканными метафорами, и всё же – всё это ровно ничего не значит, если Розмини признаёт то, что он давно должен был бы признать, а именно, что форма эта не есть Бог в собственном смысле слова и что поэтому она есть тварь. А раз так, то я имею право рассуждать следующим образом: психологистом должен быть признан всякий, кто первопринципом знания считает какую-нибудь вещь сотворённую, всё равно принадлежит она духу человеческому или есть нечто вне его находящееся, ибо всякая вещь сотворённая, если сравнить с истиной абсолютной, и не может иметь подлинно объективного значения, даже если находится вне человеческого духа. Розмини полагает принцип знания в вещи или форме сотворённой. Следовательно, он психологист»1488. И напрасно Розмини через своих учеников шлёт упрёк, что Джоберти, отождествлением реального с идеальным, конкретного с абстрактным открывает дорогу пантеизму близкому к пантеизму после-кантовской немецкой философии.
—61—
Пантеизм есть законное и необходимое детище психологизма1489 – это Джоберти повторяет много раз – и потому обвинение Розмини «с больной головы на здоровую». Пантеизм может быть подлинно побеждён лишь онтологизмом, и вне онтологизма ниспадения в пантеизм неизбежно. «Современный немецкий пантеизм не родился и не мог родиться из отождествления идеального с реальным божественным, ибо подобная доктрина, если только её понимать правильно, радикально уничтожает это печальное заблуждение. Немецкий пантеизм корениться в смешении идеального с реальным человеческим, с реальным случайным и конечным, которое получилось, как результат отождествления человеческой интуиции идеального с самим идеальным объектом интуиции»1490. Но это самое смешение постоянно производится в рассуждениях Розмини. Поэтому «идеологическая теория Розмини по существу совершенно тождественна с критической философией Канта, и, значит, пантеизм есть столь же неизбежное следствие из философии Розмини, сколь неизбежно связан пантеизм Фихте и Шеллинга с философией Канта»1491. Поэтому в воображаемой речи, обращённой к Розмини от лица, «сынов Фридриха Барбаруссы», особенно настаивается на близости Розмини к новейшей немецкой философии. «Вы можете считаться, говорят в этой речи немцы, учеником Иммануила Канта… Вы теперь находитесь как раз по середине между ним и Амедеем Фихте. Пред Кантом Вы имеете то преимущество, что называете свою форму объективной и считаете её единой, в то время как у прусского философа целая дюжина форм и даже больше. Это и есть шаг, сделанный Вами по направлению к Фихте… От Фихте Вы должны перейти к Шеллингу и Гегелю, и тем самым пройти весь круг нашего пантеизма, все семена которого, находятся в вашей системе и лишь ждут какого-нибудь ловкого пера, которое выведет их на свет Божий… В заключение мы можем выразить наше горячее ожидание момента, когда Вы подарите нам теорию возможного Логаса, сработанную Вашими собственными руками. А из этой теории проистекут многие другие «возможности»,
—62—
одна лучше другой и прежде всего теория возможной божественности Иисуса Христа, теория, которой мы, рационалистические богословы, вместе с Давидом Штраусом готовы заранее аплодировать»1492.
Противники Джоберти не совсем ясно представляли, почему психологизм так волнует Джоберти и вызывает в нём столько критического пафоса. Тардити даже стал обвинять Джоберти в презрении в психологии и к методам психологического исследования1493. Но психология с психологизмом не имеет ничего общего! Джоберти подчёркивает, что он не только не имеет ничего против психологии, но даже ставит её очень высоко и даже считает её за науку весьма полезную и прекрасную. Вопрос, который он ставит, касается не психологии, а теории знания и онтологии. Психология, которая бы хотела сесть на голову гносеологии и онтологии – не только бы извратила нормальное отношение, но и разрушила бы сама себя. Порываясь с гносеологией и онтологией, психология перестаёт быть наукой в подлинном смысле слова. «И вот такая-то психология (не наука) становится модной в наши дни. И именно на ней Розмини строит всё своё идеологическое исследование». В этом Розмини поддался рабскому и материальному духу современности и настолько подчинялся ему, что не осмеливается отойти от него ни на шаг. Психология без онтологии может собирать факты, но не объяснять их, быть историей, а не наукой; и подобно тому, как во всех планах бытия происхождения какого-нибудь факта и может быть объяснено лишь при помощи какого-нибудь более высокого понятия, так и психология без ориентировки на онтологические данные ни в каком случае не может объяснить явлений душевной жизни и свести их к их подлинным корням»1494. «Как бы ни почитал я науку о душе, я не могу всё же не предпочитать ей безусловную науку о Боге, и вовсе не чиню этим никакой обиды психологии. Ведь различие между объектами должно отражаться и на науках, им посвящённых. Розмини же, напротив, своим милым различением реального от идеального и трактованием
—63—
этих двух порядков шиворот-навыворот, охотно признаёт, что Бог занимает первое место в распорядке реального мира, а также должен занимать первое место в человеческих чувствах, но как только заходит вопрос о познании, Розмини сейчас же говорит, что это совсем другое дело и без всяких колебаний человеку отдаёт предпочтение перед Богом и, таким образом, исповедует с полным сознанием чистейшую форму познавательного эгоизма. Но смотрите, говорит Джоберти, не ошибитесь: эгоизм интеллектуальный расчищает дорогу эгоизму моральному. Ведь всё в человеке связано и соотнесено, и трудно сердцу человеческому направлять свои высшие стремления туда, куда дух человеческий полагает не главу, а лишь хвост своих познаний»1495. «Возможность есть не что иное, как идея, содержащаяся в том идеальном бытии, в котором мы её созерцаем, т.е. она есть внутренняя постигаемость абсолютной, несотворённой реальности. Следовательно, полагать первое звено знаний в сущее возможное и потом спрашивать, реально ли оно или нет, это всё равно, что при запряжке ставить телегу перед быками»1496. В тоже самое время это значит субъективировать всё познание. Ведь «идея возможного сущего или сущего начального, которое, завершаясь, становится Богом, существует лишь в голове Розмини; но тогда сущим возможным должен быть признан сам Розмини. В таком случае спор наш должен кончится, ибо Розмини, как новый Фихте, описывая собственную душу, тем самым нам давал бы историю Абсолютного, и тогда психология с онтологией у него совершенно совпадали бы»1497. Нет, говорит Джоберти, «познание в своей основе столь же божественно, как и природа»1498, и отделить его от реальности совершенно невозможно. «Реальность есть бытие конкретное и постигаемое. Познание есть постижение этого бытия. Следовательно, познание не может удовлетворяться природно-фактическим сцеплением человеческих идей и мыслей. Нужно знать ещё, соответствует ли это сцепление вещам; иначе философию можно смешать с романом, а науку – с поэтическим творчеством. Но соответствие между идеями
—64—
и вещами можно допустить лишь в том случае, если первая идея есть и первая реальность, производящая из себя как все идеи, так и все вещи. Истинное познание есть настоящая цепь, представляющая огромное значение в практической жизни, ибо с её помощью человеческое искусство может поднять весь мир. Но для этого требуется, чтобы первое звено этой цепи было прочно укреплено, ибо цепь, ни за что не зацепленная, так же, как рычаг без опоры, совершенно бесполезна. Если бы даже познавательная цепь розминианцев была также совершенна, как сеть Калигеронта, сделанная Вулканом, про которую Аристо говорит:
Di sottil fil d’acciar, ma con tal arte
Che saria stata ogni fatica invano
Per ismagliarne la piŭ debol parte –
всё же у них ничего не выйдет, если они не укрепят её на гвозде или крючке или на чём-нибудь другом в достаточной мере прочном и соразмерным с тяжестью, которую нужно поднять. Поэтому, знаете, в каком месте нужно укрепить цепь познания? На небе и больше нигде»1499. Вот почему эпиграфом своего полемического сочинения Джоберти избрал древнее изречение: Ad Jove principium. Рассуждать в обратном порядке – это значит строить на песке, это значит, крышу здания принимать за фундамент1500. «Розмини опубликовал сначала трактат о происхождении идей, затем свою политику, основанную на последней, но до сих пор не подарил нам своей онтологии, уже много раз обещанной». Что же это значит, как не то, что по мысли Розмини онтология должна занимать последнее место в философии1501?
Тардити пробует защитить учителя: «Розмини, говорит он, взялся писать идеологию; идеология есть идеология, а не онтология… И когда писатель берётся за одну тему, он не может, не должен отступать от своего замысла и делать экскурсий совсем в другой области»1502. Дело не так просто, возражает Джоберти. Идеология по существу не отделима от онтологии. Это – не две темы, а две стороны одной и той же темы. «Вы рассуждаете так, как будто
—65—
предметом нашего спора был вопрос факта, а не вопрос права. Я обвиняю Розмини не в том, что он не сделал того, что хотел, а в том, что он захотел сделать то, чего сделать абсолютно нельзя. Он взялся за дело абсурдное и выполнил его соответственным образом»1503. «Он установил химерическим и противоречивым образом первое психологическое, исключающее всякую онтологию и потому не могущее быть первым даже в психологии, не говоря уже о других науках. Поэтому его идеология и есть воздушный замок. Если идеология не есть вся онтология, то, во всяком случае, она есть её важнейшая часть. Идеология, не основанная на принципе онтологическом, есть мечта воображения и противоречие»1504. У Розмини Абсолютное составляет не первый, а второй момент онтологии1505. Поэтому психологизм по месту и логически занимает большую часть сочинений Розмини и есть душа Нового Опыта, основа всей его философии. От психологизма Розмини отходит только тогда, когда пугается чудовищности своих собственных заключений1506.
Из психологизма принципов у Розмини неизбежно вытекает психологизм метода, состоящий в том, что Розмини постоянным орудием своего исследования делает психологическую рефлексию. Он и не догадывается о существовании рефлексии онтологической, которая является орудием онтолога и без которой в онтологии нельзя сделать ни шага. Различие между этими двумя рефлексиями – столь же огромное, как и различие между психологизмом и онтологизмом. Что имеет своим термином рефлексия психологическая? Тот самый дух, который рефлектирует. Рефлексия в этом случае есть интуиция интуиции или оборачивание души на себя же саму. Дух, рефлектирующий психологически, не может выйти из рассмотрения самого себя, как не может перестать быть тем, что он есть и превратиться в другое; ибо здесь термин познания идентичен с принципом, и познающий субъект отождествляется с познанным объектом1507. Вот этой самой рефлексией всегда пользуется Розмини и Джоберти выра-
—66—
зительно называет её «евнушеской», холостятской1508. Такая рефлексия может располагать только теми материалами, которые ей даны, новых же создавать не может. «Вот почему исключительное пользование рефлексией психологической приводит к психологизму в принципах, и обратно, психологизм в принципах порождает психологизм в методе»1509. Совсем другой характер носит рефлексия онтологическая. «Её объект – созерцаемое Сущее, а не интуиция Сущего, вот почему она не может быть втиснута в границы духа. Объект рефлексии онтологической – не сущее возможное, как мыслимое человеком, не восприятие возможного сущего, как мыслимого Богом, наконец, не восприятие Сущего абсолютного, имеемое человеком, а Само реальное Сущее, поскольку оно воспринимается человеком в связи с вечной идеей возможного, заключающейся в Сущем… С другой стороны онтологическая рефлексия не есть прямое и непосредственное восприятие идеального объекта: тогда бы рефлексия совпала с интуицией. Интуиция есть простое восприятие Сущего, в то время как онтологическая рефлексия есть не простое восприятие Сущего, а через интуицию. Следовательно, онтологическая рефлексия есть операция sui generis, особенность которой состоит в том, что она причастна одновременно природе интуиции и рефлексии. Она направляется, как интуиция, на идеальный объект, и как психологическая рефлексия, направляется, с другой стороны, на интуицию»1510. «Онтологическая рефлексия не просто механически соединяет рефлексию психологическую с интуицией. Это особая способность, причастная и той и другой, и в то же время в строгом и собственном смысле слова единая. Это единство, придающее ей своеобразие, зависит от термина её операций. Каковы же термины онтологической рефлексии? Не просто Сущее и не просто интуиция, а Сущее созерцаемое. Говоря Сущее созерцаемое, мы обозначаем этим не просто сумму, агрегат, или смежность двух вещей, т.е. Сущего и его интуиции, но их органическое соединение в новом и простейшем единстве, подобно соединению сказуемого и подлежащего в суждении. Что же это за единство? – Познание. Ведь не
—67—
знание, говоря метафорически, есть точка простейшего соприкосновения, в которой объект и субъект, реально различные, касаются друг друга, образуя единство познавательного синтеза»1511. Поэтому онтологическую рефлексию Джоберти уподобляет «касательной», и онтологию называет «геометрией чистой постигаемости»1512.
Упустив из виду онтологическую рефлексию, Розмини совершенно неправильно освещает роль возможного Сущего в наших познаниях и восприятиях. Имея единственным орудием своего исследования психологическую рефлексию (если оставить в стороне катехизис и «здравый слой католической философии»), Розмини неизбежно должен ограничиться сущим возможным и всё позднее базировать на нём. Между тем простой анализ восприятия показывает, что для его реализации требуется нечто большее, чем возможное сущее. В самом деле, «конкретный и конечный элемент восприятия так относится к элементу общему родовому, говоря метафорически, как содержимое к содержащему… Но элемент общий, будучи содержащим по отношению к элементу конкретно конечному, становится содержимым по отношению к элементу конкретно-бесконечному»1513. «Ведь элемент общий, который правильно определяется Розмини как возможный, постулирует субъект, в котором возможность его реальна, – и так как субъект этот не может быть конечным, ибо возможность общего объективна, необходима, неизменна и абсолютна, – то он должен быть признан абсолютным и бесконечным»1514. «Но раз элемент конкретно-конечный содержится в элементе общем, а этот последний содержится в конкретном бесконечном, мы должны заключить, что конкретно-конечный элемент a fortiori содержится в конкретном бесконечном»1515. «Реальное абсолютное, как мыслящее, концепирует в себе возможность существующего в общих идеях и осуществляет его свободным актом вне себя. В первом случае реальное абсолютное есть достаточное основание реального конечного и относительного, во втором – производящая причина»1516. Поэтому сущее возможное есть необходимая часть в нашем познании существующего, но
—68—
последнее им одним вовсе не исчерпывается, как думает Розмини. И «так как интеллекция общих идей со стороны Сущего есть интеллектуальный и необходимый акт Сущего ad intra, а индивидуализация этих идей в творении есть волевой и свободный акт Сущего ad extra, то отсюда следует, что воспринимаемая конкретное абсолютное, мы воспринимаем тем самым интеллектуальный и волевой акт Божества, не в глубине его непостижимой сущности, а в постигаемом его термине, внутреннем и внешнем, что является новым доказательством интуиции реального абсолютного» и что ещё раз показывает, что «идеальная формула со всем своим организмом скрыто проникает самомалейший акт мышления»1517.
Итак, анализы восприятия, как и все соображения, приводят к одному и тому же выводу: основной принцип Розмини должен быть истолкован онтологически. Розмини должен отказаться от психологической окраски своей идеологии, должен признать интуицию реального Сущего и определённо ответить, что есть идеальное бытие, – тварь или Творец? Тут нет середины, и если бы к ней хотел прибегнуть Розмини и искусственно отыскать её подобно тому, как он нашёл в Новом Опыте нечто среднее между бытием вне разума сущим и бытием как модификацией разума, то спор бы усугубился, перестав быть чисто философским. Ибо, так как идея не есть ничто, а есть некоторое нечто, то она непременно должна быть либо сотворённой, либо несотворённой; допустить третий род вещей, которые не были сотворены, ни не сотворены – это значит впасть в формальную ересь и высказывать нечто совершенно безбожное1518. Ту не поможет обычная розминианская ссылка на различие между идеальным порядком вещей, ибо, даже оставив в стороне невозможность один абсурд излечивать другим, что часто делает Розмини, – это гомеопатическое средство окажется совершенно негодным в области умозрительных наук. Тщетность этого манёвра ясна уже из того, что все знания, как некоторое нечто, должны входить или в класс необходимого или в класс случай-
—69—
ного, т.е. относится или к Творцу или к твари1519. Идеальное сущее, повторяет Джоберти, есть некоторое свойство, атрибут, принадлежность Творца, или же какое-нибудь качество твари. В первом случае дух наш, имея объектом непосредственной интуиции идеальное сущее, должен необходимо иметь некоторую интуицию Бога, ибо все свойства и принадлежности Бога не отличаются реально от божественной природы, даже когда различаются реально между собой, как напр., божественные ипостаси. Поэтому, если идеальное сущее есть божественная интеллигибельность, или иначе Слово или Логос Бога, то нельзя иметь интуицию идеального сущего без интуиции божественной природы, поскольку она интеллигибельна, или поскольку она существует в ипостаси Слова»1520. Во втором же случае, т.е., если идеальное сущее есть нечто сотворённое или какая-нибудь принадлежность твари, то необходимо вытекает следствие, что первичное понятие, первая истина, основа всего познаваемого, есть нечто конечное, случайное, относительное, сотворённое – совершенно как в психологизме, который так пугает Розмини. И Розмини не спасёт утверждение, что его сущее не есть модификация разума, а нечто объективное, находящееся вне разума… «Ведь если это идеальная объективность есть тоже нечто сотворённое, то её отличие от человеческого духа ничего не будет означать. Как не украшайте Ваш принцип, как не возвеличивайте его, он всегда останется чем-то сотворённым, случайным, конечным и потому неспособным служить абсолютной основой и абсолютным принципом всякого знания»1521. «Итак, я объявляю Розмини, говорит Джоберти, чистейшим психологистом в основных принципах. Он прибегает к онтологическим паллиативам только для того, чтобы скрыть от читателей и от самого себя печальные выводы из его системы. И чтобы избежать этих выводов, он должен впадать в вопиющие противоречия и, как это случается с ним иногда отрицать и утверждать некоторые вещи одновременно. У Розмини нет истинной онтологии, он способен только онтологизировать ontologizzare, т.е. прибегать к маске онтологических выражений»1522.
VII.
Если в первой фазе полемики Джоберти указывал бегло на печальные выводы, вытекающие из принципов идеологии, то теперь эти выводы он раскрывает подробно и пространно. Мы и здесь остановимся на моментах наиболее важных, так как Джоберти прямо теряется в выражениях, когда заговаривает на эту тему. Выводов, раскрывающих слабость основного принципа Розмини, – масса, бездна. Нуллизм (nullismo – меонизм), скептицизм, релятивизм, сенсуализм, номинализм, эмантипизм, наконец, арианство1523 – всё это, как из «идеи матери» с необходимостью вытекает из психологизма. Так как Розмини по общим мотивам своего философствования совершенно убеждён в несостоятельности всех названных «измов», то внимание Джоберти направлено лишь на выяснение связи между принципом Розмини и этими следствиями. Несмотря на обилие всяких наименований, выводы из учения о возможном сущем, извлекаемые критикой Джоберти, легко могут быть сгруппированы в три отдела: выводы гносеологические, выводы метафизические, выводы богословские. Наиболее важны выводы гносеологические, ибо они наиболее принципиальны и лежат в основе выводов метафизических и богословских.
В гносеологическом отношении из учения о возможном сущем вытекает, прежде всего, как это не странно, – сенсуализм. «Сенсуализм – это система, которая сводит к чувствительности все положительные и конкретные элементы наших познаний, почитая чувственность за единственную продуктивную способность и оставляя за другими способностями лишь обязанность перерабатывать и преобразовывать то, что даёт чувственность. Розмини думает, что избегает затруднений и спасается от названия сенсуалиста, допуская врождённую идею, рациональную, априорную, т.е. идею возможного сущего и обосновывая с её помощью всё наше познание. Но, во первых, рациональная идея Розмини есть чистая абстракция, не имеющая в себе никакой конкретности: познание конкретного, по Розмини,
—71—
дано целиком чувствами. Но ведь яд сенсуализма заключается как раз в отрицании способности воспринимать сверх-чувственно-конкретное»1524. Поэтому война, объявленная Розмини сенсуализму, иллюзорна и безрезультатна1525. По сравнению с глубочайшим согласием в основном, которое царит между идеологией Розмини и сенсуализмом, единогласие по вопросу врождённости идеального бытия совершенно ничтожно. Сенсуалисты могли бы сказать розминианцам: «Друзья и братья! не стоит рвать стольких связей между нами из-за таких мелочей». Самое главное – это то, что всё конкретное и положительное в познаниях происходит из чувств. С этим Розмини глубоко согласен. А что до такого пустячка как сущее возможное, которое к тому же лишено всякой реальности, то сенсуалисты готовы его даже принять, так как это может привести к тому, что сенсуализм будет принят католической церковью и от этого количественно страшно распространится1526. Во-вторых, сенсуализм проникает все редукции и дедукции Розмини. «Рациональная идея Розмини, будучи единой, простейшей, всегда сообразной себе, не может по существу объяснить ни разнообразия, ни происхождения идей, которыми обладает человеческий дух. Поэтому Розмини в своих генеалогических разысканиях принуждён повторять разнообразие и видоизменение чувственных элементов, которые совершенно так же, как у сенсуалистов, производят у него разнообразие идей. Так, напр., ясно, что идеи причины, субстанции, силы, времени, пространства, сплошности, добродетели, долга, красоты и пр. – различны между собой. Откуда же берётся это различие? Из рационального элемента, т.е. из сущего возможного? Нет, должен ответить Розмини, потому что этот элемент не содержит в себе начала какого-нибудь разнообразия, он всегда одинаков во всех идеях. Значит различие между названными идеями, а также между всеми другими, зависит только от чувств, которые в содействии с возможным сущим образуют познание. Что же больше желает сенсуализм? И что может значить вмешательство возможного сущего, если различие, напр., между необходимым
—72—
и случайным, между добром и красотой происходит естественно из чувств и если все даже печальные следствия сенсуализма вытекают логически из системы Розмини?1527»
Второе гнесеологическое следствие из принципов Розмини – скептицизм1528. Кроме того, что скептицизм неизбежно вытекает из сенсуализма, Джоберти так доказывает скептетический характер основных принципов идеологии. «Всякая достоверность основана на принципах и от них зависит… Принцип познания сводится существенным образом к двум: к закону противоречия, и к закону достаточного основания… Оба этих закона происходят, по Розмини, из идеи возможного сущего или из чувственных впечатлений. Но так как возможное сущее лишено всякой реальности и существования вне духа, а чувственное не обладает ни какой объективностью, то основы розминианства, покоящиеся на этом двойном фундаменте, могут иметь только субъективестический характер. Кроме того, принципы, по Розмини, суть абстрактные формулы, лишённые всякой реальности и пребывающие лишь в том духе, который их созерцает, ибо абстрактное не может существовать вне разума, каковой, не будучи разумом божественным, должен быть разумом тварным. Но каким образом понятия тварного разума могут служить базой абсолютной истины? Принципы Розмини, следовательно, не имеют безусловной ценности: они могут лишь иметь относительную авторитетность, подобную той, какую имеют человеческие суждения, не основанные на суждении божественном. Но раз у Розмини нет настоящих принципов, – уничтожается рассуждение, падают в прах те чувственные соображения, которыми Розмини пытается оградить существование Бога, – сотворённых субстанций, словом познание разлетается в дребезги»1529.
Впрочем, скептицизм, проникающий основоначала философии Розмини, может быть указан более наглядным образом. Розмини любит говорить, что его неопределённое бытие есть отображение Сущего абсолютного. Сущее абсолютное есть как бы духовное Солнце, а их бытие есть свет,
—73—
из него вытекающий, что свет этот, хотя и сотворённый, предполагает свет не сотворённый и без него не может существовать. Но, возражает Джоберти, все эти метафоры могут лишь затемнить трудность, скрытую в этом пункте, а отнюдь не разрешить её. Ведь, если неопределённое бытие есть лишь отображение, т.е. копия, и, так сказать, портрет Сущего реального и абсолютного, то откуда же Розмини знает, что отображение это правильно1530. Более того, откуда он знает, что оно есть отображение? Нельзя знать, портрет ли данное изображение, если мы не знаем в подлиннике лицо, которое он изображает: ещё менее можно знать, походит ли этот портрет, если мы не можем сравнить его с оригиналом. Значит, нужно быть в состоянии сопоставить сущее возможное с сущим реальным, чтобы знать, схожи ли они между собой: но как же может сделать это Розмини, если ему, по его собственному признанию, не дано воспринимать сущее реальное в себе самом, если всё, что он знает о нём, основано на сущем возможном? Розмини, следовательно, верит в сущее реальное потому, что его удостоверяет в нём сущее возможное, в истинность же и правдивость (veracita) сущаго возможного он верит потому, что оно коренится в сущем реальном. Другими словами, посылками он доказывает следствия, следствиями же посылки. Такому очевидному circuius vitiosus мог бы позавидовать сам Декарт1531. По Розмини выходит, что абсолютный принцип знания, Бог в своей идеальности, или скорее идеальность, поскольку она конкретно существует в Боге, есть не первый, а второй момент гносеологии, причём этот второй момент обусловлен первым, а первый сам по себе не абсолютен, т.е. и всё, что мы можем знать о втором моменте, обусловлено абсолютностью первого и вся абсолютность второго для нас, таким образом, исчезает. Розмини, следовательно, не может найти абсолютной основы для знания. Но знание без абсолютной основы есть та докса древних, или та «гипотетическая наука феноменов новых», которые являются необходимым следствием скептических принципов. Розмини вместе с последователями своими настроены религиозно и потому, ис-
—74—
поведуя ложный принцип, вовсе не хотят следствий, которые целым гнездом скрыты в их принципе. Но если б явился розминианский Фихте и, отбросив словесные облачения, развил во всей наготе принцип Розмини, – сам Розмини должен был бы прийти в ужас1532.
Выводы метафизические тесно связаны с выводами гносеологическими. Если всё, что мы знаем об Абсолютном есть не что иное, как выводы из неабсолютных принципов, ибо непосредственные знания Бога Розмини не допускает, – тогда выходит, что все наши теоретические представления о Боге состоят из элементов посюсторонних и тварных и им исчерпываются1533. Но в таком случае не мы являемся образом Божиим, который нам даёт постигать божественное, а представления о Божестве созидаются по образу и подобию нашему. Но так как было бы слишком грубо – подобие наше, взятое психологически, переносит в Абсолютное, что впрочем, делалось в язычестве, то мы должны представлять Божество по наиболее удалённому от нас образу тварности, т.е. космологически и таким образом сливать в дурное единство Сущее и существующее, Бога и мир, Творца и тварь1534. А – это будет пантеизм, необходимо связанный с тем или другим видом эманатизма. О связи идеологии с пантеизмом Джоберти говорил уже определённо в Введении в изучение философии. Теперь он прибавляет несколько новых соображений. «Конечные и чувственные вещи, говорит он, суть, согласно учению Розмини, термины, в которых осуществляется идеальное бытие. Если мы возьмём ряд онтологических утверждений Розмини, идеальное бытие придётся признать Богом, ибо оно будет в таком случае внутренней принадлежностью божественной природы. Следовательно, по Розмини сотворённые вещи суть термины божественной природы и значит существенно божественны. Но разве это не вполне совпадает с пантеистическими доктринами древними и новыми, начиная с Ляо-дзе и кончая Лямене и Краузе?» «Совсем не важно, что Розмини утверждает, что идеальное бытие осуществляется в различных модальностях, что оно разрешается и усовершается в Боге и де-
—75—
терминируется несовершенным образом в тварях. Ведь нет пантеистов, которые не говорили бы тоже самого»1535. Обычно пантеисты утверждают, что Бог есть имплицитированный мир в возможности, мир же эксплицированный Боге в акте, так что между Творцом и тварью нет различия субстанциального, а лишь модальное. «У Розмини как раз, так и выходит: между идеальным бытием, поскольку оно разрешается в Боге и между тем же самым бытием, поскольку детермирируется в конечных вещах, – различие только в модусах, а не в субстанции». Но если различие в модусах, а не в субстанции, тогда систему Розмини необходимо признать лишь модусом пантеизма1536. В таком случае принцип Розмини в существе тождественен с принципом после-кантовского идеализма и приводит к тем же печальным следствиям. «У христианства нет врага более ужасного, чем новый немецкий идеализм. Немецкие школы, популярные по всей Германии, с необыкновенным искусством борятся с христианством, делая всё возможное, чтобы уничтожить его и, кажется, весь цивилизованный мир хотят вернуть к язычеству для того, чтобы отомстить за древнее поражение культа Одина. Можно сказать, что почитание Одина возрождается в современной Германии, под маской философии и критики, и тот пантеизм, который вначале господствовал в грубых формах в скандинавской мифологии, теперь восстанавливается в культурных привлекательных формах науки и философии»1537. Джоберти называет это безумием и с пророческим пафосом восклицает, что если Италия проникнется этими учениями, её ждёт духовное обнищание и светильник христианства, не могущий угаснуть, будет сдвинут с места, где он стоял тысячелетия и передан другим народам. «Горе, говорит Джоберти, тем, кто будет безразлично смотреть на это разрушение истины в Италии»1538, и он с особенным полемистическим воодушевлением нападает на Розмини, потому что Розмини основами своей философии как бы расчищает почву для будущего господства пантеистических доктрин в Италии.
Второе метафизическое следствие, вытекающее из основ-
—76—
ного принципа идеологии Розмини, – идеализм. «Идея существования может получиться из розминианского осуждения лишь при условии, если оно содержится либо в одном из терминов суждения, либо в их соединении. Первая возможность отпадает, как несогласная с принципами Розмини. Ведь один из двух терминов его суждения, сущее возможное, не имеет в себе реальности, существования и конкретности, не может снабдить ими суждение; другой же термин, чувственность, будучи в себе не познаваемой, не может в себе заключать никакого интеллектуального момента»1539. Остаётся вторая возможность: но как же простое соединение может породить нечто отличное от обоих порождающих? «Если понятие реального существования не содержится ни в возможном бытии, ни в чувственности, – как оно может возникнуть из их соединения?» Брачуйте сколько угодно возможное сущее с чувственностью, плодом этого брака может быть только одно: возможное чувственное или чувственно возможное и больше ничего. Тогда у нас получается возможные тела, возможные люди, возможная Вселенная, что горячо примут и сочтут за своё без всякого колебания решительно все идеалисты»1540. «Итак, что же такое суждение по Розмини? Это простое утверждение духа, производящее вздорное и химерическое уравнение между почувствованным и непонятным действием с одной стороны и нечувствуемой, но понятной идеей с другой, – т.е. между чувственным элементом и постигаемым. Другими словами, розминианское суждение носит чисто субъективестический характер»1541. Поэтому слова у Розмини лишаются своего смысла, становятся пустыми и ненаполненными положительным содержанием. Ими так же трудно разрешить проблему существования внешнего мира, как трудно насытиться голодному посетителю одним чтением «меню» в ресторане1542.
Но поссибилизм Розмини имеет разрушительные следствия не только в области гносеологии и метафизики. Из него вытекают определённые ложные выводы и в области богословия, выводы, искажающие основные догматы христианства. Розмини называет идею неопределённого бытия – то сотворен-
—77—
ной, то несотворённой, и свет, которым она просвещает всякого человека, приходящего в мир, – то подлинно божественным, а то лишь «так сказать», или «почти божественным». В этой двойственности, унаследованной Розмини от всей новой философии, можно констатировать явный уклон к арианству. Если свет основной идеи признаётся сотворённым и лишь «так сказать божественным», и в то же время ставится своим происхождением в прямую связь с Божественным Словом, тогда Сын Божий или вторая божественная Ипостась должна быть признана принципом тварным и арианское учение о подобосущии самым недвусмысленным образом должно проникнуть в розминианское богословие1543. Обыкновенно розминианцы с торжеством возражают, что вот должно было проникнуть, а на самом деле не проникло; но Джоберти на это отвечает, что эта богословская невинность, покупается ценой непоследовательности, а эта цель, для тех, кто хочет быть философом, уже слишком дорогая. «Арианское учение об ὁμοιούσιος логически содержится как теологическое следствие в самом принципе психологизма, а как богословствуют розминианцы вопреки логике, – это их частное дело. В самом деле, что хотел Арий? Он хотел разрушить догмат божественности Слова и в то же время божественность Христа, уничтожая тем самым божественную основу религии и ставя последнюю на фундамент человеческий. Но то же самое делает Розмини в отношении разума, уничтожая его божественность, превращая его в принцип тварного света, в нечто несуществующее, субъективное, только человеческое и вводя, таким образом, атеизм в самые основы философии»1544. Подмена Ария была слишком очевидной, для того, чтобы долго соблазнять верующих. Поэтому скоро арианство облачается в более тонкие формы полуарианства. Полуарианство характеризуется, прежде всего, двусмысленностью выражений, расплывчатостью определений, стиранием граней, половинчатой мягкостью. И эти черты поразительно как схожи с характером розминианства. «Хотя полуариане Слово превращали в тварь, они всё же говорили о Нём так, как будто принимали Его за подлин-
—78—
ного Бога», «И так как основное заблуждение Розмини в плане рациональном точка в точку соответствует учению Ария в плане сверх-рациональном, то нет ничего удивительного, что в школе Розмини мы находим те же ухищрения, те же двусмысленности, ту же запутанность, те же словесные и грамматические уловки, что и в школе Ария»1545. Если напрямки задать Розмини вопрос: «его возможное бытие единосущно ли Богу, что он должен ответить? Найдётся ли у него смелости ответить утвердительно? Скажет ли он, что его несуществующее бытие единосущно Богу и что можно иметь интуицию вещи единосущной Богу, не имея интуиции Бога? Очевидно, нет, очевидно, Розмини должен пойти по следам Евсевиан, которые сделав все требуемые словесные уступки, ополчились против ὁμοιούσιος и тем самым выдали себя с головой. Отвергнув единосущее идеального сущего с Богом, Розмини должен либо отделить свой принцип от всякой субстанции и тем превратить его в нечто, либо отождествить его с какой-нибудь тварной субстанцией1546. Последнее будет тождественно с омиусианством Ария, и в этом нет ничего удивительного, так как розминианство по прямой линии происходит из картезианства, с которого в новые времена начинается господство спекулятивного арианства1547.
VIII.
Таковы в самых общих чертах возражения Джоберти против идеологической системы Розмини. Если, с одной стороны, отбросить отдельные неудачные выражения, продиктованные слишком большим полемическим воодушевлением, если, с другой стороны, оставить в стороне рассмотрение положительных взглядов самого Джоберти
—79—
(так как это рассмотрение потребовало бы отдельного сочинения), и рассматривать всё изложенное в этой главе только с точки зрения критики розминиевской идеологии, то мы не можем не признать возражений Джоберти, во-первых, чрезвычайно меткими и бьющими в самые слабые места системы Розмини, во-вторых, чрезвычайно существенными и направленными не на случайно выхваченные частности, а на сами основы и корни построений Розмини. Один только пункт Джоберти оставляет почти без всякого рассмотрения, – это вопрос, насколько удалось Розмини «психологическая редукция», которую Джоберти на первых порах готов был считать «за самое значительное завоевание философии за много последних лет», т.е. насколько непрерывно в логическом отношении всё исследование Розмини о происхождении идей.
Что же ответил Розмини на критику Джоберти? Историка, изучавшего это любопытное столкновение, поражает чрезвычайная странность в поведении Розмини. Он – плодовитейший писатель, иногда писавший по две тысячи страниц в год (случай при переделке Теософии), он, с воодушевлением отвечавший на сравнительно слабую критику Мамиани и посвятивший книгу совсем уже ничтожному полемическому сочинению псевдонима Евсевия, он, тщательно отмежёвывающийся от «философии жизни» Бертини, – он странно молчит, точно набравший в рот воды, во все два года полемики с Джоберти. Лишь через пять лет после начала полемики он опубликовал в Filocattolico вторую половину своего трактата. «Джоберти и пантеизм», – первая же половина (вместе со второй), – он издал лишь через год после смерти Джоберти1548. Но и этот трактат, при ближайшем рассмотрении, не является настоящим ответом. Розмини пытается перебросить обвинения в пантеизме к Джоберти, доказывая, что из принципов самого Джоберти тоже вытекает пантеизм. Так это или не так, от этого сила поставленных Джоберти вопросов не уменьшится. Если даже идеальная формула Джоберти может быть истолкована пантеистически, то это вовсе не значит, что Розмини не повинен в психологизме. Странна
—80—
сама форма трактата. Он написан в виде двенадцати лекций, которые должен был читать Тардити в Туринском Университете. Кроме того, и первая часть его и всё сочинение вместе появляются анонимно. Розмини как бы не хочет выставить своего имени под произведением своего собственного пера. Что же это значит? Если принять во внимание моральную высоту характера Розмини, то это, прежде всего, указывает на то, что сам Розмини вышеназванный трактат не решался счесть за свой ответ Джоберти. Этот трактат выпросили страстные последователи Розмини для «практического употребления», Розмини же прекрасно чувствовал, что для разрешения вопросов, поставленных Джоберти, нужна огромная работа созидательного характера, что оставаясь в узких пределах Нового Опыта, он ничего существенного и достойного ответить не может, и вот его ответ Джоберти весь переводится во внутренние измерения. Мысль Розмини, до сих пор занятая психологической и гносеологической стороной идеологической проблемы, обращается со всей своей силой к метафизической стороне этой проблемы к уяснению онтологических корней и онтологического смысла идеологии, и, так как Розмини по всему складу ума своего был натурой почти исключительно дискурсивной, – разработка этих новых огромных вопросов не могла совершиться в короткий срок полемики и требовала целого десятилетия. Вот единственное вероятное объяснение загадочного молчания Розмини, сообразное одновременно с общепризнанной моральной высотой его характера и с серьёзностью возражений Джоберти. (Это молчание не в меру усердные поклонники Розмини хотят всячески замолчать и поэтому, как только розминианцы в своих работах о Розмини подходят к этому любопытному факту, так расплываются в каких-то неопределённых выражениях и благочестивых восклицаниях, за которыми следует чрезвычайно быстрый переход к каким-нибудь иным материям). Розмини, не соглашаясь с критикой Джоберти, погрузился в онтологические изыскания, т.е. стал обдумывать с особенной настойчивостью свою Теософию, но, не имея готовой онтологии и не умея разрешить эти вопросы быстро, попал в тяжёлое положение одновременного отрицания критики Джоберти
—81—
и невозможности ответить на неё достойным образом. Вследствие такого странного и единственного в истории философии стечения обстоятельств критика Джоберти становится живым моментом в развитии розминианства и обусловливает собой ту разработку онтологической стороны идеологии, которая осуществляется Розмини главным образом в Теософии. Впрочем, оплодотворение розминианства, совершённое критикой Джоберти, не осознаётся самим Розмини. Разрабатывая онтологию в продолжение целого десятилетия, он естественно увлекается самой темой, забывая о первых толчках вызвавших эту разработку и часто не упоминая имени Джоберти там, где это требуется существом дела. Вообще, в отношении Розмини к Джоберти нельзя не отметить какой-то внутренней шероховатости. Он упоминает имя Джоберти во всех своих трудах лишь полемически и нигде не имеет мужества и прямоты – либо сознаться в положительном оплодотворении своей мысли критикой Джоберти, либо серьёзно разобрать его центральные возражения. Всё время остаётся неразрешённой какая-то уязвлённость в Розмини.
Замечательно, что в период полемики Розмини и Джоберти не знали друг друга и встретились лишь в 1848 году. В этом знаменательном для Италии году Джоберти, недавно вернувшийся из изгнания, становится во главе пьемонтского правительства и вместе с другими своими коллегами вызывает Розмини в Турин для, того чтобы возложить на него миссию привлечь папу к федерации против Австрии. С этого момента личное отношение Джоберти к Розмини резко меняется. Он высказывает сожаление о резкости своего полемического произведения и «вместе со всей Италией начинает ценить мудрость и добродетели Розмини»1549. Он жалуется, что римская курия «не ценит даже Розмини – эту гордость Италии – всеми почитаемого за свою жизнь, учение и дарования. Оскорбление пало не на Розмини, а на Пия. Преследования только увеличили величие Розмини»1550. Эта открытость в признании заслуг и величия Розмини, эта перемена в личном отношении, нисколько
—82—
не изменила отрицательного отношения Джоберти к основному принципу идеологии Розмини, и он через несколько страниц после только что приведённых строк, признавая самые лучшие намерения в Розмини, определённо говорит о неудаче философского дела Розмини1551, а в другом месте, в совершенном согласии со своим полемическим сочинением, перечисляет заблуждения Розмини и выводит из одного корня: из психологизма1552.
Итак, столкновение Розмини с Джоберти не имеет своего непосредственного разрешения. Оно не помешало установлению гармонии в личных отношениях Розмини и Джоберти, но сущность спора осталась не вполне выясненной: тезису Розминиевской идеологии Джоберти победоносно противопоставил антитезис своей онтологии, и Розмини не нашёл сразу, что ответить ему. Если бы его молчание на критику Джоберти было окончательным, вряд ли какой-нибудь беспристрастный историк решился бы не признать, что огромный, очевидный перевес в логическом отношении явно на стороне Джоберти и что в таком случае, идеология Розмини в самых основных принципах была бы всегда разрушена. Но Розмини, после критики Джоберти принялся за обширную перестройку своей системы, причём в этой перестройке устремил своё главное внимание на онтологическую сторону идеологической проблемы и, как мы имеем все основания заключить, посчитался внутренно с критикой Джоберти.
Вл. Эрн
Голованенко С.А. Православие и культ предков // Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 83–109 (2-я пагин.)
—83—
Религиозно-философский проект Н.Ф. Федорова1554 лишь условно, в отвлечении может быть разложен на чисто-философские и религиозные элементы: и философские и религиозные мотивы сочетаются в живом слове, в призыве ко всеобщему воскрешению. Всеобщее же воскрешение – всем родной и дорогой ответ на единственный вопрос: что такое Православие? Изложению возражений Н.Ф. Федорова на Православие и посвящается настоящая статья.
* * *
Сущность Русского Православия в печаловании о всех живущих и умерших для всеобщего их воскрешения. Русское православие наследует от Византии чистоту мысли и чувства, от католицизма мощь воли. Истинный Символ веры должен стать символом знания и дела; храмовое символическое Богослужение должно превратиться во вне – храмовое, действительное: вместо храмовой литургии, исчерпывающей всю сущность обряда – литургия внехрамовая. Историческое христианство – собирание, литургия оглашенных. Как литургия оглашенных, Символ веры и храмовое богослужение необходимы, вечно – ценны. Русское православие, обновляя историческое христианство, является началом действительной молитвы: «Твоя от Твоих, Тебе приносяще, о всех и за вся»1555.
—84—
Догмат
Православие не отвлечённое жизнепонимание, а жизнетворчество, живая мысль: всякая истинная мысль – проект дела. Католичество не только сжилось с миром мысли, с пониманием христианства, как отвлечённого догмата, но, забыв общее дело под формой дел мирских, оно привнесло новые, не христианские догматы. Протестантство, как законный протест против мёртвых подобий, мысли, а не дела – всю свою силу сосредоточило в отрицании. Общее дело стало туманной верой, настроением. Внешнее, догматическое единство католической Церкви раскрылось в протестантстве, как внутреннее не братство, внутренняя раздробленность. За неволием скрывалось своеволие, безволие. Православие, наследуя от Византии христианский опыт, принимает догмат. Догмат для православия не мысль, не система самозамкнутых и самозначных понятий, но и не плод обычного человеческого сознания, не плод без-сыновнего природного творчества. Догмат – заповедь – императив богочеловеческого сыновнего сознания, проект общего дела1556.
«Догмат – заповедь» это положение ещё остаётся формальным. Всё христианство в Символе Христа, в заповеди Триединства, как образа жизни. Все догматы и заповеди – раскрытие одного догмата и одной заповеди – Триединства. Учение о Триедином Боге, высокое и изумительное, не чуждо родовому сыновнему сознанию: оно близко сердцу детей. Учение о Триедином Боге – учение об истинном роде, истинной семье. Троица – не монашеская, бессемейная Троица, но и не природно-естественная семья. Весь мир – блудная семья. Догмат о Триединстве, как догмат – заповедь, заповедь общая для всех и путь общий. Все сообща должны выполнить эту заповедь, это общее дело: Церковь воскрешённых будет подобием Церкви бессмертных. Таким образом, «догмат – заповедь» – заповедь универсальная, всемирная1557. Католичество подменило родство юридическими отношениями, раздробило родовое сознание. Догмат стал заповедью индивидуальной. Общий долг жить со всеми и
—85—
для всех, общее дело превратилось в свой долг, в должные и сверхдолжные дела. Протестантский индивидуализм лишь оборотная сторона внешней, юридической соборности католичества. Православие объединяет и католицизм и протестантство в учении о догмате, как универсальной родовой заповеди.
Сущность догмата Триединства в воскрешении. Догмат – закон и долг естественного, действительного, всеобщего воскрешения1558. Таково учение Православия. Католичество как учение о догмате-понятии превратило искупление в учение об искуплении. Оно выжало из идеи воскрешения всё живое, и логические отражения приняло за действительность. Подпав под иго природы, иго юридических небратских отношений, оно создало учение об оправдании. Так как и вне и в самой Церкви властвовало зло, оправдание перенесено было в мир трансцендентный, мистический. Поглощаемая миром, католическая Церковь перенесла своё царство за пределы мира. Но холодная логика понятий и страстная мистика, как месть понятиям, лишь внешне были едины. На самом деле, оправдание – не естественное, не действительное и не всеобщее. Протестантизм вскрыл все язвы, но ничего не сделал для излечения их. Личное оправдание верой лишь пересказ католического учения о не естественном, не действительном, не всеобщем спасении. И католичество, и протестантство исказили общее дело, общий долг. Православие, преображая в родстве юридические отношения, учением о всеобщем воскрешении объединяет внешнее оправдание католицизма и внутреннее, одиночное спасение протестантизма.
По учению Православия «догмат – заповедь», закон воскрешения.
Таков принцип Православной догматики. Он раскрывается в Символе Веры.
Символ веры
Вера. Символ веры – заповедь1559. Как в заповеди, в нём два момента: психологический (момент отношения к
—86—
Символу) и логический (само содержание Символа). «В исповедании Символа веры – исповедание; во всех трёх его главных частях заключается и покаяние, и обет исправления, т.е. искупления, заключаются и обличения, и заповеди»1560. Эти два момента выражают сущность веры. Вера, как исповедание, уясняет смысл догмата-заповеди. Вера – категория не логическая, а жизненная. Католическое учение о вере – это учение, или о не-знании, или же о сверхъестественном знании. а) Вера – не-знание в обычном смысле. в) Она – высшее, мистическое знание… В том и другом случае нет единства знания и веры. Мистическое же единство – мнимо. Отсюда и рационализм и мистицизм католичества. И так, вера не мысль, не вера в мёртвый догмат и не мистическое ведение, не вера в потусторонний отобраз мысли. Внешнее единство католичества – единство невольное, слепое: все верующие не знают. Тайны открыты не многим. Неволие одних предполагает своеволие, одиночное знание других. Если вера, как жизнь, не отвлечённое знание, то она и не туманное чувство. Протестантское учение о вере, как настроении – лишь другая форма отделения мысли от дела, другая форма утверждения без дальнейшего знания.
Православие объединяет слепое дело, слепую веру католицизма и мнимое знание, чувство протестантизма в пути долга общего, требующего знания – дела. Вера – жизнь, направление воли, объединяющее мысль и дело является выражением родства, целостности. Она не слепая: в ней истинное, естественное знание, знание для дела, Вера – «клятвенное обещание» исполнить долг воскрешения, осуществление воскрешения, как чаемого (чаю воскресение мёртвых)1561. Мысль и чувство одно через волю. Учение Иисуса Христа – завещание, и завещание веры. «Все заповеди блаженства, связанные нагорной проповедью, обращаются в одну, сказанную по Воскресении ап. Фоне (т.е. всем сомневающимся от полноты любви): блажении не видевшие, не сохранившие веру, т.е. верность при исполнении общего дела, потому что они узрят Христа со всеми умершими, как награду
—87—
своего общего братского труда, или, вернее, как регулятор его»1562.
Вера не противоположена знанию, а проект истинного знания, указание пути знанию. Живая вера – обет. «Вера без дела мертва, непроизводительна, не создаёт Царства Божия»1563. В Вере истинное чувство и истинная воля. Как чувство, вера сопровождается молитвой. «Вера без молитвы холодна, бездушна, не чувствует нужды в Царстве Божием»1564. Молитва веры – молитва об истинном знании: о хлебе насущном и избавлении от Лукавого. И так, вера обнимает жизнь целой личности (ум, сердце и волю) и есть путь жизни: вера не мистическое знание и не отрицание знания; вера не раздробляет, а объединяет силы сынов человеческих1565. Общий долг объединяет всех сынов: вера не настроение одинокой личности, а вера во всеобщее дело, дело естественное, всем родное и всем нужное1566. Вера не слепота и не умное безволие, не своеволие и неволие, а всеволие.
Символ веры, как заповедь, по учению православному, символ дела. Клятвенное обещание, которое не выполнила, но в целостности сохранила Византия, должно быть исполнено сынами человеческими под началом третьего Рима. Клятвенное обещание не может быть сенью грядущего, мнимым служением Богу. Таким образом, Символ веры, как заповедь – заповедь дела, заповедь всемирная, всенародная1567.
Символ веры. В символе веры догматы о Боге, человеке и Богочеловечестве. Бог – Вседержитель. В Нём жизнь, а не подобие. Но есть смерть, природа. Она создаёт рознь, не знание, слепоту сынов человеческих. Вера в Бога Вседержителя – обет борьбы с природой, с незнанием. «Поэтому заповедь, заключающаяся в первом члене Символа веры требует от всех без исключения, и знания природы и управления ею, чтобы обратить её из смертоносной
—88—
в живоносную»1568. Исполнение этой заповеди будет действительным, опытным доказательством бытия Бога.
Бог – Творец. Люди – хищники, разрушители порядка природы. Люди, долженствующие быть орудием творческой воли, злодействуют и бездействуют. Бездействие разумной силы, лишение природы сознания и есть грех. Люди виновники зла, слепоты природы, безобразия её. Они должны искупить свой грех, объять сознанием природу и вернуть ей первозданную красоту, т.е. познать и управлять природой. Если в первом члене Символа Веры содержится заповедь относительно познания природы, то во втором члене, в учении об Единородном Сыне, заповедь всем сынам человеческим о знании отцов. Единородный Сын – Сын всех отцов. Сыновство требует всемирного родства, любви. «Учением об Единородном Сыне Божием (2 член Символа Веры) призываются все люди к признанию себя сынами всех умерших отцов и, следовательно, братьями всех живущих, призываются к познанию себя сынами, внуками, потомками отцов, дедов, предков»1569. Знание отцов – долг сыновей и долг дочерей. «В учении о Сыне человеческом подразумевается и дочь, насколько в ней общего с сыном и при том не тогда лишь, когда говорится о рождении, а именно тогда, когда говорится о Сыне, как о Слове, т.е. о знании таком, с которым начинается уподобление»1570. Православное учение о Троице, как истинной Семье, как об образе и пути жизни – Духа Святого называет Дочерью. Дочь, как и Сын, самостоятельная Ипостась. «Учением о Духе Святом (8 чл. Символа Веры) дочь человеческая в особенности призывается к покаянию, к познанию себя, как дочери всех умерших родителей, к познанию себя не в отдельности, или розни, а в совокупности призывается к сану Мироносицы»1571.
Первый член Символа Веры требует преображения твари, а не поклонения ей. Лишь язычествующее сознание может в слепоте своей поклоняться подобиям. Второй член
—89—
Символа Веры, признавая Сына истинным Богом, осуждает поклонение твари, блудному сыну человеческому. Отрицание Богосыновства, живучее арианство – плод голой, самосжигающей себя мысли интеллигенции, а не веры православной, веры народной. Только язычески-философствующее сознание может искажать учение о Творце, как Истинной Семье. Учение о Духе, как Дочери, смутное в историческом христианстве, есть истинное выражение христианства. На смутность учения влияло, и низшее социальное положение дочерей человеческих, и языческая философия, отличавшаяся в культе Мадонны, как культе Бого-родицы, забывшая дочь человеческую. Догмат Троицы – образ Семьи, а не образ отдельного человека, одинокого я. Отсюда, история религиозной мысли полна ошибок. Даже некоторые Святые Отцы, исходя из одинокого, а не семейного сознания, объясняли догмат Троицы, как учение о Разуме, Воле и Чувстве, забывая, что лишь в Бого-отечестве, Бого-сыновстве и Бого-дочеринстве – чистый разум, чистая воля, чистое чувство.
Первые три члена и являются смыслом Символа Веры, учением о Троице. Дальше раскрывается история явления Троицы. Первая часть Символа Веры заканчивается седьмым членом: возвещением суда. Страшное пришествие и суд относятся к первому пришествию Сына Человеческого. Это – суд имманентный: ныне суд миру. Вторая часть Символа Веры начинается учением о Духе, действовавшем чрез пророков в Ветхом Завете и чрез Церковь в Новом Завете. Символ Веры заканчивается верой во всеобщее действительное воскрешение. Страшный суд, муки ада и трансцендентное, не-всеобщее воскрешение – плод голой, мёртвой мысли. «Фатальная же развязка есть вымысел книжников и разных академий… «Только кабинетская учёность могла превратить искупление от смерти в воскресение, в метафору, в какое-то духовное воскрешение»1572.
Православие не знает разделения мысли и дела, ада и рая: всё оно в долге всеобщего воскрешения. Символ Веры, как заповедь о Боге и человеке, является восполнением Ветхозаветного Символа, превращением не-делания в дело,
—90—
субботы в воскресенье. Начало же дела и воскрешения в обряде.
Обряд
Догмат – заповедь, как призыв к делу ещё мысль. Как мысль, догмат доступен немногим, немногим понятно требование воскрешения. Обряд – воплощение догмата-заповеди. «Обряд есть средство, помощью которого догмат, как заповедь, переходит в действительность, обряд есть переход от трансцендентного к имманентному, от Христа к христианскому, от внутреннего, таинственного, к явному, материальному»1573. В обряде вся сущность религии, единство догматического и нравственно-эстетического. И так, обряд – выполнение клятвенного обещания сынов, дело веры. Как дело веры, обряд доступен всем, лишь в нём универсальность догмата-заповеди. Православие, как религия всемирная, все-народно-образовательная и есть религия истово-обрядовая1574. «Обряд есть произведение всех благоговейных способностей всего народа, тогда как догмат есть произведение только мысли и притом мысли лишь немногих»1575. Но обряд, как символическое дело, должен быть заменён естественным общим делом. Православие, выполняя долг действительного воскрешения, принимает обряд, как проект действительного дела, как проект вне-храмовой Пасхи1576.
Признавая обряд, Православие воплощает в себе истину католичества. Но если для католичества в обряде, как и в догмате, смысл религии, то для Православия догмат и обряд – лишь призыв к делу. В этом же преодоление протестантства. Таков общий смысл обряда. Раскрытие его содержания и значения в храмовом богослужении.
Храм. Весь мир – действительный храм. Истинное храмовое служение борьба за жизнь со смертью. Первый Сын Человеческий, принявший вертикальное положение, – строитель
—91—
храма – тела своего. Воскрешение – храмовое строительство. Иисус Христос воскрес: это было создание храма. Всеобщее воскрешение и есть создание христианского всемирного храма. Смерть была и есть. Люди разрушаю храмы тел друг у друга и создают искусственные храмы. В этом созидании – печаль о умерших и не братски живущих и проект воскрешения, печаль земли и соединение её через печалование с небом. Сын человеческий, как образ Троицы – храм; он сам, печалующийся, изображает из себя крестное знамение, знамение покаяния и объединения, молитву1577. «Изобразив крест из себя, молящийся изображает крест вне себя в увеличенном виде, в виде храма, т.е. даёт ему свой образ»1578. Крестное знамение, как истинная молитва – символ единства, проект нашего Всеединства. Храм не только дом молитвы; он сама молитва о мире всего мира. Как образ истинного Сына Человеческого – храм объединяет небо и землю1579. «храм есть подобие всего мира, но мира, в котором нет смерти, в котором всё воскрешено, хотя лишь художественно только, ибо для Бога нет мёртвых в действительности, а все живы; для нас же они (мёртвые) живы лишь художественно»1580.
Последней ступенью молитвы – крестного знамения «будет превращение всего мира в крест, т.е. сообщение всей неразумной природе образа Сына Человеческого»1581. Храм, как подобие будущего Всеединства – храм Сынов Божиих, небесный храм. Храм, как подобие настоящего всеединства, – храм сынов человеческих, земной храм, храм кладбищенский, на св. мощах созидаемый. Как в мощах предобраз полной жизненности, так храм – кладбище – проект всеобщего воскрешения. «Если храм, как подобие не вмещает всего мира, то храм, как проект – всемирен, он выше и ценнее, чем настоящий, греховный мир»1582. Для Православия храм лишь ступень естественного
—92—
созидания храма, а не самоцель, не действительное Бого-служение. «Храм – проект» – в этом объединение католичества и протестантства.
Православный храм весь отображается в Православной иконописи. И сам храм – икона, иконостас. «Иконопись имеет целью не производить иллюзию подобия, или живости изображаемого; она стремиться посредством символа дать только понятие, только напомнить и при этом имеется в виду не сама икона, не художественная её отделка, а то действие, которое она должна производить, та цель, к которой она должна направить»1583. Православие не идолопоклонство и не идоло-борство. Оно объединяет католическое иконо-поклонение, как самоцельное, и протестантское иконо-борство. Иконы – проект будущей жизни… «Иконопись делает лишь невидимых видимыми и до всеобщего воскрешения, когда мы узрим их (невидимых теперь) лицом к лицу»1584…
Сыны Человеческие – истинный храм, истинные иконы. Историческое христианство сделало обряд неизменным, замерло в своём храмовом строительстве. Храм, как кладбище, должен стать вселенским иконостасом. «Храм должен вмещать в себе изображение всех умерших для постоянного напоминания о них всем живущим»1585.
Богослужение. Сам храм – форма креста, начало богослужения. Храмовое богослужение есть всеобщее крестное знамение, лобызание креста, как обет воскрешения. Сущность богослужения, как и сущность православия, в смерти и воскрешении, в Пасхе Крестной и Воскресной. Весь богослужебный чин, как крестное знамение, есть раскрытие богослужения страстной и пасхальной седмицы1586. Богослужение – подобие действительной бессмертной жизни и разработанный проект вне-храмового, как истинно-храмового, строительства. Как храм – проект, так и храмовое богослужение – проект внехрамового, храмовая литература, центр символического богослужения, – призыв к внехрамовой литургии. Храмовое богослужение постепенно отлилось в форму
—93—
таинств. В таинствах, и подобия, и проект действительно богослужения…
Таинства. «Под таинством нужно разуметь литургию храмовую, т.е. всю храмовую службу, со всеми её частями, которые могут совершаться и вне храма»1587. Таинство не есть что-то мистическое, в нём не воспринимается какой-то особый мир. Сущность таинства в символическом служении естественному делу воскрешения. В первохристианстве жизнь была осуществлением таинства, потому что литургия была литургией жизни. Постепенно, с выделением символических храмов из всемирного храма, с отделением христианской мысли от дела, храмовая литургия становится таинством таинств. «Литургия есть таинство в том обширном смысле, в каком это слово (μυστήριον и sacramentum) употребляется в Новом Завете, т.е. именно, как устроение всего дела Христова, переходящего от тайнодействия к явному делу (Напр. Крф. I)»1588. Храмовая литургия – напутственный молебен. Её отпуск не конец, а начало действительной вне-храмовой литургии. Постепенно и храмовая литургия стала делом не всеобщим: она, с выделением из неё таинств, замирает. Но сама сущность христианства, таинство евхаристии, и осталось сущностью литургии. Как литургия единая раздробилась на храмовые литургии, так и евхаристия – евхаристия единая, неоконченная1589. «Будучи действием трансцендентным по отношению всемирного существа к людям, она (литургия, евхаристия) в то же время есть имманентное действие всех людей, обращающая посредством естественных сил прах в тело и кровь Христову, т.е. в Церковь, обнимающую все поколения»1590. Как трансцендентное, евхаристия – проект всеобщего воскрешения, как имманентное – «она общение, основанное на знании»1591. В евхаристии, следовательно, не особая мистическая жизнь, в ней не мистическое тело и кровь Христа: она не избавляет от смерти. Евхаристия –
—94—
проект избавления от смерти, проект естественного воссоздания из праха предков тела, храма Христова. Вопрос «о пресуществлении» вопрос о воскрешении. Его нельзя разрешить ни чисто-логическими построениями, ни ссылкой на мистические переживания. «Когда уничтожится в церкви разделение, когда она достигнет полноты и единодушия, когда евхаристия не будет ограничиваться пределами храмов, а будет действием, управляющим силой природы, то вопрос о предсуществлении разрешится в положительном смысле»1592. Таинство евхаристии – тайна всеобщего знания: знания природы и знания праотцев, т.е. тайна всеобщего воскрешения. «Тогда сделается ясной и явной и тайна хлеба и вина, из праха отцовского полученных и в их тело и кровь обращённых»1593… «Престолом этой литургии будет вся земля, как прах умерших. «Силы небесные» – свет, теплота будут видимо (а не таинственно) служить для обращения праха в тело и кровь умерших»1594.
И так, литургия, евхаристия – проект всеобщего воскрешения. Остальные таинства, или приношение (проскомидия), или благодарение. Крещение есть отречение от мира ради мира. В этом отречении от мира, от смерти – очищение первородного греха, греха не-знания. Положительно, крещение – знание, «взаимное возвращение отцами и сынами своих сердец друг другу»1595. Отречение и исповедание Символа Веры – обет исполнить долг сыновний, общее дело борьбы с природой для воскрешения отцов. В крещении невидимое усыновление, таинственное обещание. Когда всё невидимое станет видимым, когда смерти не будет, крещение станет действительным и единым. Миропомазание – раскрытие сыновнего долга и благословение… «Миропомазание есть посвящение в само дело, т.е. сошествие Св. Духа, или откровение сынам об их отношении к отцам»1596.
Покаяние – раскаяние в забвении крещального Символа,
—95—
в отделении знания от дела, в знании только себя, а не в знании со всеми всех живущих и умерших... «Покаяние есть признание своей вины в этой розни и своей обязанности в деле воссоединения в всеобщей любви, устраняющей все последствия розни»1597. Крещение, миропомазание, покаяние – приготовление к делу воскрешения, к таинству причащения. Таинство брака – объединение для воскрешения, для уплаты долга отцам, а не для рождения, не для передачи долга. В браке не плоть смертная едина, а дух един – воскрешающий. Рождение, как действие стихийной силы, временное, греховное состояние; рождение детей станет отцевоскрешением, рождением сыновним, а не слепым, по духу, а не по плоти1598. «Посему и брак есть не оставление родителей, не соединение в плотскую единицу, а сопряжение в трудовую, тяглую единицу в общем деле всего рода человеческого, состоящего из тяглых единиц»1599. Таинство священства во всеобщем учительстве, в посвящении в дело Христово всех верующих. Православие – взаимознание. Истинное знание священно. «Представители всех знаний, всё учительство будет и священством»1600. Священство не простое учительство (протестантизм), не посредничество между Богом и человеком (католичество), а «посвящение» в дело Христово. Таинство елеосвящения, как и евхаристия – проект воскрешения: это погребение для воскрешения, это предвосхищение Богосыновства, причастие Духу Святому покаянного, блудного сына, посвящённого в общее дело.
Все таинства, таким образом, есть путь от смерти к жизни, путь естественного воскрешения. Все таинства объединяются и осмысливаются таинством евхаристии, литургией. «Кратко теснейшая связь литургии с таинствами может быть выражена следующим образом: переход от литургии оглашенных (т.е. от воспитания, или объединения живущих, к чему относится и брак, порождение чужих) к литургии верных (т.е. к причащению с елеосвя-
—96—
щением – погребением, имеющим вид воскрешения умерших) совершается чрез крещение (т.е. усыновление) с миропомазанием и покаянием (т.е. возвращением блудных сынов)»1601.
Итак, догмат – заповедь и обряд не только подобия, но и проекты. Православие всей глубиной думы о воскрешении, всей непосредственностью сердца, воплотившегося в богослужебном чине, ставит вопрос о всеобщем родстве, о Царстве Божием. Символ веры и символическое богослужение – литургия оглашенных. Православие призывает к литургии верных символом знания, внехрамовым благовестием. Печалуясь о всякой розни, о всяком не братстве – оно всех, и учёных и не учёных, и верующих и не верующих, и богатых и бедных – всех живых призывает к делу воскрешения всех мёртвых. Православное учение о всеобщем воскрешении и есть то, что, претворяя Символ Веры в Символе знания – дела, преображает храмовую литургию в призыве к внехрамовому Богослужению.
Всеобщее воскрешение
Воскрешение – естественная заповедь познания мира: познания природы и человека. Смерть в не знании. Смертный грех – грех неведения. Воскрешение, как истинное древо знания, есть и древо жизни. Смерть в распаде целого, в природе. Жизнь рождающей, бессознательной, слепой природы (жизнь в пространстве и времени) – жизнь по законам физической необходимости; в ней постоянное убийство, вытеснение причин следствиями, прошлого будущим. Жизнь сознания – жизнь по нравственным законам, жизнь сознательно – воссозидающая, трудовая1602. Воскрешение есть восстановление вытесненного природой, восстановление не только эквивалентное, но тожественное: тожественная уплата долга, полное обеспечение жизни. Воскрешение – естественно-необходимый долг сознания, «позитивизм действия» на основе всезнания. Мир, распавшийся на человека и при-
—97—
роду, станет миром: природа осознаёт и воскресит себя в человеке1603. «Нет вражды вечной, устранение же вражды временной составляет нашу задачу»1604. Отсюда, воскрешение – имманентное, всеобщее воскрешение: все люди во всей совокупности – орудия Божии1605. Сами люди, творцы воскрешения, психократии: ведь, познание природы будет освобождением от материократии, управлением природой чрез непрерывное сознание. В психократии, торжество внутренней, а не внешней силы, торжество духа, но не бесплотного и бестелесного: очеловечение – одушевление всех действий природы1606. Воскрешение, как психократия, материально, телесно: внутреннее во внешнем, воскрешение – внехрамовое пресуществление. Психократия, как и воскрешение, является лишь осознанием материократии. В психократии двуединство, единство природы и человека. Отсюда – психократия, с одной стороны, регуляция внешней природы, с другой – регуляция внутренняя, регуляция человека1607. Регуляция природы является самым обычным, простым познанием природы, познанием её небратства для внедрения родства, для управления слепой силой. Регуляция дело священное. Она – начало возвращения рая, особенно – регуляция метеорическая, которая не символически, а действительно побеждает иных богов, слепую природную силу1608. «Только через регуляцию материи и дух одержит полную победу над плотью, победу общую, а не частную, неполную, бесплотную, какая возможна в настоящее время»1609. Управление природой разрешит вопрос о хлебе насущном, вопрос земледельческий. Регуляция и есть исполнение молитвы о хлебе насущном, начало действительной евхаристии. В ней единство теологии и космологии: она не истощает природы, а, внося разум и волю, воссоздаёт её. Как пре-
—98—
вращение дарового в трудовое, рождающего в воссоздающее, регуляция есть воскрешение. Но регуляция не творчество из ничего. Чистое творчество – дело Божие1610.
Регуляция внешняя должна стать регуляцией всемирной, космической, человеческое сознание вселенским сознанием. Высшим выражением внешней регуляцией является собирание праха отцов в тела им принадлежащие. Познание атомов и молекул природы откроет возможность этого собирания. Утончённо – острое познание станет разысканием не драгоценных камней, а молекул предков1611. «Химические лучи станут способными к выбору, т.е. под их влиянием, сродное будет соединяться, а чуждое отделяться: это значит, что лучи станут орудием совокупной, благой воли человечества»… «Процесс, которым производится бессознательно плесень, или растительные формы, при сознании станет соединением частиц в живые тела, коим принадлежат частицы»1612. Таким образом, регуляция внешняя завершиться соединением праха предков в тела. Это – начало для внутренней регуляции. «Регуляция внутренняя: умственная, нравственная, художественная, психофизиологическая, правящая процессом питания, внутреннего роста – превратить последний в процесс воскрешения, вместо рождения слабого, едва – чувствующего и сознающего существа. Идеал в том, чтобы «иметь сыном своим бессмертных отцов»1613. Эта замена деторождения отцетворением будет уплатой долга, высшим выражением сознания и воли, творческой музыкой1614. Как внешняя регуляция, начинаясь с семьи, станет регуляцией всемирной, так регуляция внутренняя станет воскрешением близких отцов и закончится воскрешением дальних предков, всеобщим воскрешением: «воскрешение возможно, или для всех, или ни для кого»1615. Дальнее и близкое моменты рождения, природы, а не моменты творческого сознания. Люди
—99—
из основных начал будут создавать себя, своё тело и свою душу, будут подобны Творцу самостоятельностью и самопричинностью. Завоевание, оживление всех миров разрешит «небесно-переселенческий» вопрос, сделает действительным миф о переселении, «эмиграции», вознесении людей1616. Люди небесные механики. Все небесные миры – рай. Гипотеза Коперника будет доказана. Птоломеевское мировоззрение – мировоззрение городское, мнимого христианства: в нём мнимая патрофикация1617. В коперниканском мировоззрении действительное отцетворение и земля жертвенник Коперниковского храма. Коперниковское мировоззрение и есть истинный христианский проект воскрешения. Ведь, пространство и время не категории разума, а действия. В воскресшем, новом мире все явления станут сущностями, всё время будет осязательным в пространстве, а пространство во времени, т.е. наступит царство вечности1618. Бесконечное царство, как плод регуляции, как «физико-астрономическая независимость», разрешит все вопросы жизни, будут царством небесно-земным. Сыны человеческие, как сыны Божии, будут везде-сущими, «полноорганными», будут со всеми, всегда, везде1619. «Все рождённые существа в их совокупности, управляя всеми мирами вселенной в её целости, относясь к Богу, как к отцу и будучи Его подобием, как творца, не имеют никого, кто бы им ставил предел извне»1620. Это и есть жизнь по образу Троицы, литургия Самого Спасителя, лицезрение, а не лицепредставление – жизнь вечная1621. Итак, догмат – заповедь воплощается в регуляции. Но подобно тому, как исторически догматы были освящены вселенскими соборами и включены в Символ Веры, так и проект воскрешения – регуляции должен быть узаконен вселенским общим сознанием. Регуляция, как дело общее имманентное, требует соборного сознания, осуществляющего проект.
—100—
Вселенские соборы должны стать единым Вселенским Собором.
Собор. Жизнь – собор живущих для воскрешения умерших. «Само общество есть братство сынов, живущее у могил отцев (Церковь), сходящееся (Собор) в определённые дни и часы для поминовения, для вечери (Литургии) и ведущая запись умерших (синодик)»1622. История жизни и есть история вселенского собора. Жизнь Христа – начало действительного собора: история Христианства – его предложение. Вселенские соборы – дума о вселенском соборе. Первые два вселенских собора раскрыли образец единства, а следующие четыре – способ достижения Царства Божия. На шести соборах было раскрыто Слово Божие, мысль о деле. Это были соборы богословия, собор археологический и исторический, раскрывший проект дела, сущность обряда: он выставил требование «внешнего выражения», и, тем самым, выполнения долга1623. «Он осудил и идеи и идолов»1624. Если все соборы – вселенские по цели, то седьмой собор – начало действительного, естественного вселенского собора. В нём, как в проекте, задача и смысл всей жизни Православия: смысл православия в печаловании об идео-латрии и идоло-латрии. Православный собор, как проект дела, должен быть постоянным, а не чрезвычайным: оно – орган жизнедеятельности. Если жизнь Церкви была единой на основе чувства, то единство соборное требует единства знания. Собор должен быть собранием представителей всех специальных знаний, собором духовным и светским, естественнонаучным и историко-археологическим1625. «Вселенский собор есть совокупность всех специальных международных съездов, объединённых в общей цели, т.е. в видах разрешения вопроса о неродственном состоянии»1626. Таким образом, во вселенском соборе общая цель регуляции объединить учёные съезды, распавшиеся от незнания цели, – соборы. Собор будет «всенародной комис-
—101—
сией», «военным советом» для защиты от смерти и победы над смертью. Вселенский собор, как собор всезнания, будет органом всеобщего воскрешения. Он будет молиться за еретиков, т.е. будет исследовать причины ересей, причины небратства1627. «Не молится за отделившихся, значит не признавать церковь вселенской, кафолической»1628. Отлучить, значит, калечить себя и не сознавать своей искалеченности. Надо молится, за всех «их же некому имен их помянути» и за раскаявшегося Иуду. Вселенский собор и будет вечной памятью, вселенским, а не поместным памятником. В этом действительное торжество Православия1629.
Как обряд – воплощение догмата, так собор находит внешнее выражение в обряде – проекте: в музее – храме, музее – школе.
Храм – музей. Музей – высшая научно-художественная форма культа предков. Первоначальными храмами были кладбища: действительный храм – кладбищенский храм. Христианский храм, и исторически и идейно, храм-кладбище, храм на св. мощах. Отделение храма от кладбища – естественного музея – было отделением веры от знания. Только храм музей – храм кладбище1630. Музей не хранилище вещей, а собирание всего пра-отеческого: собрание праха для воскрешения. Кладбище – музей краниологический, или остеологический, основание. Над ним – музей, как лицевой синодик, изображение живых и умерших, и, как небо, неслитный и нераздельный с музеем храм Св. Троицы. В музее – храме находят своё воплощение ум, сердце, воля, исследование, учительство и деятельность1631. Как собирание всего, относящегося к предкам, – музей «евхаристия знания», начало регуляции внутренней. Музей с вышкой, с обсерваторией – проводник регуляции внешней. Астрономия объединяет всё естественно-научное знание, как знание причин розни: музей – обсерватория. В истории
—102—
смысл всех остальных наук: музей – вселенский синодик. И так, музей – действительный обряд, действительный проект воскрешения1632. Музейное знание живое: останки предков не иллюзия. Музейная живопись (синодик) выражает сыновнее чувство, печалование об отцах: она подлинно-художественное творчество. Знание и чувство призыв к делу. И в регуляции, и в художественном воссозидании – начало дела. Музей ещё сень, но сень новозаветная. Храм Св. Троице придаёт христианский смысл музейному творчеству. Пасха – священная функция музея1633.
Храм – школа. Храм – музей, воплощающий в себе весь смысл жизни, храм – школа, всенародный иконописный университет. Знание храма – музея – действительное знание. Эстетическое постижение «музейного иконостаса» – осознание сыновнего долга. Регуляция выводит истинных сынов пред лице неба, соединяет небесное и земное. Таким образом, храм – музей, как храм – школа, подлинная литургия оглашенных и благовест ко внехрамовой литургии. Вселенское дело требует повсеместного созидания храмов – музеев. Храм – музей поместный собор, орган вселенского сознания. Вся земля будет собором этих поместных малых и больших соборов.
* * *
Православие, как воскрешение (догмат – заповедь), как вселенский собор, как храм – музей (обряд – проект) путь к исполнению заповеди Всеединства. В требовании действительного вселенского собора общее направление православия. Храм – музей уже предлагает наличность определённых исторических условий: русского самодержавия и русской народности.
Самодержавие
Православие – с внешней стороны – самодержавие. В самодержавии смысл славянского духа. Славянский дух в
—103—
родстве всех и всего, в жизни по типу Троицы. Отношение Самодержца к народу отношение отца к детям: отсюда особые задачи самодержавия. Они выявились на заре истории, при крещении, – в «испытании вере». Самодержец стал крестным отцем народа, главой его, стал в отцов – место, в Адама – место. Он душеприказчик всех умерших. Долг его – долг всеобщего просвещения для всеобщего воскрешения1634. «Дело Самодержавия есть дело священное, внехрамовая литургия, есть братотворение чрез усыновление, как, дело восприемничества в крещении и помазании для исполнения долга душеприказчества, а душеприказчество и есть сущность самодержавия»1635. Такая высокая цель придаёт Самодержавию мессианское значение. Как в отцов – место он ответственен пред Богом и совестью. В этой непосредственности залог совершеннолетия общества, как семьи. Отвлечённо, – самодержавие побеждает «разъединяющее пространство», и «всепоглощающее время». Конкретно, поскольку исследование причин не-братства и регуляции дело Вселенского собора, Самодержец – «наместник», от него почин созыва собора, регуляции. Самодержец начинатель науки отеческой, предводитель естествоиспытателей, и археологов-историков. Высшая проверка целей науки принадлежит ему, «пока весь народ не станет орудием знания, как и орудием веры в деле Божием». Нет истины – науки без самодержавия и нет самодержавия без науки: самодержавие превращает науку в орудие религии. Самодержец высший объединитель всего и всех, начинатель всеобщего воскрешения1636. Так как соборность воплощена в храмах – музеях, храмах – школах, то самодержец должен строить храмы для регуляции, «принуждая интеллигенцию и толпу, распущенную, развращённую современным воспитанием, неспособную к единству, принуждая и эту толпу к познанию и учительству в школах – музеях»1637.
Православие и самодержавие символ единства вселен-
—104—
ского сознания и познания. Как проект, это единство, и предварительное, и уже действительное. Всеединство должно состоять в единстве неба и земли и, прежде всего, в единстве Востока и Запада. Православие разрешает вселенский, восточный вопрос. Но прежде чем решить вселенский вопрос, оно, естественно, должно решить местный восточный вопрос, вопрос о соединении Церквей.
Соединение церквей. Христианство распалось, не исполнив своего назначения. Католичество прониклось мирскими началами, сделалось литургией заслуги, «религией ужаса». Его внехрамовая литургия стала истощающим Крестовым походом, а не воскрешающим Крестовым ходом. Не вселенское сознание, не Бого-волие, а непогрешимое своеволие и неволие выражают сущность католицизма. В протестантстве открытое своеволие, собороборчество1638.
Православие, прежде всего, печалование о розни католичества и протестантства, печалование о своеволии и неволии, аллилуйя скорби. Оно голос Христа: «покайтесь»… «Отрицательно, православие есть печалование об иге и гнёте католическом, а вместе и о протестантском восстании и розни: положительно, православие есть храм собирания и воссозидания отделившихся»1639…
Если католичество узаконивает веру, а протестантство знание, то в православии вера и знание объединяются. Знание отцов, как воскрешение, как деловое знание, и является связующим цементом. Церкви могут и должны соединиться на основе общего дела, а так как общее дело, проект, в обряде, то соединение Церквей должно быть соединением в обряде. Догматическое единство без жизненного, обрядового единства – единство мнимое, юридическое, антихристианское. Лучше разойтись, чем стать лже-братьями. Пока костёл не обратиться в храм Троицы, храм-музей, до тех пор не будет действительного соединения Церквей. Как самодержавию принадлежит почин регуляции, так и объединение Церквей должно начаться со светского, политического объединения государей в единое «Мы». Естественно, что руководство в объединении принадлежит не слепой
—105—
вере и не мнимому знанию, а науке, осознавшей свою цель в регуляции. «Примирение это, т.е. действительное соединение может быть основано на познании причин разъединения, на познании этих причин учёными, т.е. неверующими и на устранение этих причин неверующими совокупно с верующими и затем на познании условий соединения и на усвоение их также теми и другими1640.
Вселенский собор, возглавляемый Самодержцем, исполняющим не свою и не чужую, а Божию волю, даст синтез веры и знания, католического, папского своеволия и гнёта и протестантского, личного своеволия всех, а не одного. Вселенское собирание Православия не внешнее и не мысленное, не ложный собор и не собороборство, а действительное собирание, начинающееся в храмах – музеях. Храм – музей объединяет духовное и светское, небо и землю. Православие, как объединение жизни, печалуется о жизни. Жизнь Запада, как и жизнь Востока, не особая, мистическая, а обычная естественная жизнь. Вопрос о соединении церквей – вопрос бытовой.
Народность
Проблема русской народности – проблема естественного земледельческого быта. Св. Русь – село, род, земледельческая община. Запад – город, государство, фабрика. Объединение с Западом должно быть претворением искусственного в естественное, торжеством над пауперизмом естественным – смертью. В чём сущность города? Город живёт за счёт села, но забывает своего кормильца. Город идолопоклонник. Его культ вещь и женщина. Приобретение вещи ради женщины выдвигает на первый план обогащение, а не воскрешение. Обогащение, как любовь к вещи, – забвение родства, смерти отцов1641. Город живёт не сыновне-отцовским, а половым чувством. Всё его творчество (наука, индустриализм, милитаризм) – лишь расширение чувства пола, лишь храм для женской статуи. Го-
—106—
род заменяет жизнь подобием; забыв опасность смерти, долг борьбы с природой – он служит природе, силе рождающей, служит её идолам. Всё в нём раздроблено, но внешнее сплочено. С одной стороны – богатые, учёные, с другой – бедный, неучёные. Братья забыли врага – природу и боятся, ослеплённые. Между тем, город лишь «временная комиссия»; его задача – познать природу, служить селу. Город должен сознать свой долг, должен поставить во главу угла вопрос о жизни и смерти, о регуляции природы. Переход от города к селу будет действительным крестным ходом, возвращением на родину сына, бывшего далече1642.
Католицизм, религия города, угнетающая личность ради вещи. И догматы, и обряды – подобия жизни – приняты за жизнь. Церковь стала государством в государстве, а не собором для воскрешения мёртвых. Отброшена истинная наука, истинное искусство. Как университет – храм науки и искусств – так и Церковь стали лишь пристройкой к фабрике, или самостоятельной фабрикой. Между тем смерть царствует. Знание и вера, наука и Церковь должны, как особо-избранная комиссия, поставить и решить вопрос о смерти. Пасхальный вопрос, сознать своё служивое, сторожевое положение. Католицизм должен раскаяться и чрез покаяние обратиться к селу, к отцам. Протестантство – явная религия города, религия розни и небратства. Православие зовёт город к покаянию. Как исполнение завета Христова, оно с Христом вещает: «горе городам».
С самого начала христианство стало на Руси печалованием о розни. Призвание князей было началом сторожевого государства. За всеми уклонениями, пришедшими из Византии, Русь, если не понимала, то чувствовала значение нераздельности и неслиянности Троицы, чувствовала родство всех и всего. В Московской Руси, истинный дух которой воплотился в жизни и деятельности Преподобного Сергия, начало дела родственного собирания.
Россия – село. Родовой быт, община, бессословный характер государства, Самодержавие, как жизнь по типу Тро-
—107—
ицы, и др. черты русской души – залог будущего. Вся глубина души России, русской народности выразилась в построении обыденных храмов. Они воздвигались добровольно, единодушно, в непродолжительное время. В этой высшей форме крестьянских помочей и толков было нечто чудесное. Это символ цельности, святости русской души. Ведь, в построении храмов объединялась вся догматика, вся этика, вся эстетика. Та же особенность русской души выставляется в причинах построения храмов. Построение храма было выражением раскаяния за бездействие, за необладание слепой стихийной силой (моровая язва, голодовки) и знаком умиротворения. В Спасо-голодовых и Спасо-моровых храмах – символическая регуляция1643…
Россия тёмная, непросвещённая, но она сохранила образ Божий, она не подменила личность вещью, благолепие нетления богатством. Пасху – убийственным прогрессом. Как страна земледельческая, Россия ставит в первую очередь проблему природы, проблему регуляции, проблему хлеба насущного. Это дело естественное, необходимое, дело естественного воссоздания. Проблема регуляции разрешить вопрос продовольственный, вопрос о богатстве и бедности1644. Углубив вопрос, Россия привлечёт на службу селу городское знание – науку и искусство, она укажет им плодотворную цель, забытый, но не забываемый долг. Сама жизнь города, движимая борьбой из-за вещей, из-за хлеба, потеряет свой смысл. Социально-экономический вопрос будет разрешён. Просвещённое село соединит, разъединённые городом, два разума: мысль и дело, ум и сердце, учёных и неучёных.
Но регуляция не только решает продовольственный вопрос, но и вопрос санитарный, или вопрос о всеобщем оздоровлении, воскрешении. Регуляция, как земледельческая функция, станет собирать прах отцов: вещи следствия соединяться в личности, в причины. Городской культ подобно вещи, потеряет силу и смысл. Погоня за вещами, похоть и чувственность преобразуют в сыновнее чувство, в волю к бесконечному творчеству.
—108—
Так село, как храм естествознания, разрешает социально-экономический вопрос, преображая жизнь городскую в жизнь сельскую, скрижали каменные в скрижали сердца. Городской милитаризм станет сельским: борьбой с природой; городской индустриализм – органотворением, поистине, семейным индустриализмом. Настанет всеобщее разоружение: мечи перекуют на орала1645.
В этом направлении должны идти объединительные думы России. Душа русского народа – душа сельская, крестьянская. Регуляция приведёт к обладанию землёй, к истинному земледелию, воскресающему хлеб насущный – отцов наших. Для русского народа весна – символ Пасхи предчувствуется, как всеобщая весна, всеобщее воскрешение. Душа русской народности в вере в Бога Триединого, в обет жить по Божьи: возделывать землю, прах предков для всеобщего воскрешения.
Итак, Православие – религия земледельческая. Город, как мысль грешная и небратская и село, как неосмысленное дело, объединяются Православием в селе – городе, сельском храме – музее. Сын Села – Сын человеческий, сын города – блудный сын, служащий богам иным. Православие преображает сыновство в Богосыновство. Объединив Запад, Православие должно решить восточный вопрос, вопрос не городской, а степной. Ислам – религия степи. Если Запад – новоязычество, то Ислам – ново-иудейство. Превращение города в село разрешает Западный вопрос. Вопрос степной – вопрос регуляции, вопрос континентальный. Россия – сердцевина континента, страна стихийного разгула. Регуляция будет очеловечиванием природы, насаждением вселенского древа жизни. Россия должна превратить весь материк в страну земледелия, всех сынов в крестьян – христиан. Тогда земля, управляемая единым самодержавием, станет естественным, действительным Сыном Человеческим. Сын человеческий – сын земли, брат земной. Поскольку земля – небесное тело, один
—109—
мир среди миров, – сын человеческий будет сыном неба, всемирным братом.
Православие, самодержавие и народность ведут к истинному патриотизму: все – сыны отцов, сыны Бога…
Первоначальная форма религии – культ предков – совмещает в себе полноту знания и искусства. Православие, как религия земледельческая, высшее выражение культа предков. В православии «…религия, наука, искусство в воссоединившем в себе городе и кочевой быт сёл будут едино»1646. Они «будут едино», потому что Православие – долг, заповедь, не данное, а заданное. Долгом можно пренебречь, заповедь нарушить1647.
Судьбы земли, судьбы неба зависят от Православной России.
Москва – третий Рим, четвёртому не быть.
Жизнь или смерть?
Сыны свободны…
С. Голованенко
Каптеров П.Н. Телеология неоламаркистов: III. Телеология, причинность и целестремительность // Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 110–139 (2-я пагин.). (Продолжение).
—110—
В предыдущей статье1648 мы изложили учение неоламаркистов о целесообразности, их теорию телеологических актов: она начинается, как мы видели, с анализа отношений теологии к причастности: этот пункт, в виду его особого философского интереса, мы и поставим здесь в первую очередь на обсуждение.
Конечно, с самого начала необходимо остановиться на анализе понятия цели, целесообразного, составляющего центр всякого телеологического учения. Здесь мы вступаем в область, где всего плодотворнее и закономернее ощущается необходимость связи чисто эмпирических данных науки с теоретико-познавательными и логическими построениями: здесь естествоиспытатель необходимо должен обратиться к философскому анализу, чтобы оправдать и уяснить себе приложимость принципа цели к природе: точно так же и философ пользуется данными опыта в качестве поля применения теологического принципа. Правда, естествоиспытатели старого закала, как мы уже говорили ранее, стремятся вообще избегнуть допущения принципа цели в свои механико-каузальные построения: они в таких случаях нисколько не прибегают к философскому анализу понятий и теорий, а догматически, исходя из своей веры в механичность мира, устраняют понятие цели из области своего рассмотрения. И в то же время, помимо воли и сознания, они повсюду и постоянно пользуются этим запретным принципом, без чего бы непонятна роль орга-
—111—
нов, их функций и т.д. и сами их «механические» законы развития покоятся также на телеологических основаниях, не исключая и самой борьбы за существование и естественного отбора. Это и есть та «бессознательная теология» (Вундт), которая борется с понятием цели, и в то же время постоянно им пользуется.
В самом понятии «целесообразного» мы необходимо должны различать два момента: активный и пассивный, т.е. различать понятия «приспособляться» и «быть приспособленным»1649. В первом случае мы имеем на лицо устремление (Erstreben) к некоторой цели, «имение цели», некоторый динамический элемент; во втором мы лишь констатируем наличность целесообразного, безотносительно ко всякому устремлению; нетрудно видеть, что вопрос о происхождении целесообразного тесно связан именно с активным моментом в понятии его: есть ли целесообразное продукт устремления к цели, или же оно возникло в силу других, не связанных с понятием цели причин, – вот основной вопрос. Второй вопрос таков: если целесообразное есть продукт устремления к цели, то кто ставит эти цели? Сравнить ли их сам стремящийся к целесообразности индивидуум, или же некий высший Разум? Сообразно с этим необходимо установить точную терминологию.
Почин в этом направлении был сделан знаменитым эмбриологом К. фон-Бэром ещё в 70-х годах XIX столетия; он вместо Zweck, zweckmässig (– keit) вводит термины Ziel, zielstrebig ( – keit) потому, что эти последние термины менее напоминают предвзятое намерение1650. Некоторые переводчики даже так и переводят – Zweck – «намерение», а Ziel – «цель», чтобы подчеркнуть эту разницу; во всяком случае, термин Zielstrebigkeit – «целестремительность» – уже вошёл во всеобщее пользование. Сам Бэр так мотивирует необходимость такой терминологии: Ziel – понятие более неопределённое, благодаря чему оно заключает в себе и понятие Zweck; однако, оно не предполагает, как
—112—
это последнее (Zweck) сознания. Das Ziel есть конец движения и совершенно не заключает необходимости или принуждения. «Zweck», по нашему немецкому словоупотреблению, есть сознательно избранная Ziel, почему Zweck и не должна разыскиваться в природе»1651. В русском языке трудно передать эту разницу между Ziel и Zweck: мы имеем лишь одно слово для обоих случаев: перевести Zweck – «нам ранее» – можно лишь с большой натяжкой, но и то нельзя образовать точного термина соответствующего слову «zweckmässig»; всё равно, приходится переводить его «целесообразный».
Как бы то ни было, из этого анализа понятий и терминов мы видим, что «целестремительность» означает, во-первых – непреднамеренность цели, во-вторых – наличность активного элемента, «стремительности». Можно, конечно, спорить относительно пригодности этого термина: напр. Кениг думает, что он отнюдь не устраняет необходимости предположения целестановления (Zwecksetzung), а лишь сглаживает, затушевывает её; Бэру не удаётся устранить подразумевающуюся ставящую цели разумность или реализующую цели волю1652. Эйслер же думает, что «целестремительность вполне мыслима и не заключает в себе ничего мистического; её надо понимать в смысле тенденции существа к изменению неприспособленного, неприятного и восстановления подходящего, приятного или, по крайней мере, выносимого состояния»1653.
Далее, необходимо отметить, что весьма строго нужно различать целесообразность телеологического акта и «целесообразность цели», если можно так выразиться: всякий акт целесообразен, если он достигает какой-нибудь намеченной конечной цели, но какова эта самая цель – вопрос другой: цель может быть нелепой, вредной и т.д. Тут возможна большая путаница понятий, и чтобы предупредить её, необходимо указать, что обиходное, так сказать, употребление понятий «целесообразности» обычно подменяет его поняти-
—113—
ем «полезности», т.е. различные действия и образования рассматриваются с точки зрения их пригодности для поддержания жизни и благосостояния индивидуума или рода. Однако, мы усиленно подчёркивали ранее, что таковая утилитарная точка зрения и основания на ней телеология слишком узки, неглубоки и не захватывают многих явлений природы, не могущих быть оцененными с точки зрения полезности; другими словами, цель процесса может и не быть обязательно чем-нибудь полезным, «целесообразным» с обычной точки зрения; польза далеко не всегда есть цель телеологических актов. Поэтому-то мы ранее и указывали всегда, что большое количество явлений природы ускальзывают из сферы вопросов, объяснимых дарвинизмом и ламаркизмом лишь потому, что эти оба учения слишком прочно стоят на утилитарной точки зрения, т.е. убеждены, что цель изменений, приспособлений и т.д. – полезность: в действительности же цели телеологических процессов природы сами по себе весьма гадательны, и заниматься их оценкой – не входит в наши задачи; к тому же сопряжено с опасностью вернуться к старой телеологии целей природы и предугадываемых намерений в ней; мы будем обсуждать лишь телеологичность самих процессов, т.е. наличность устремления к некоторым целям; каковы же эти цели сами по себе – мы обсуждать и оценивать пока не будем.
Многими учёными и со всех сторон уже выяснено, что понятие цели первоначально абстрагировано из отношений человеческой волевой деятельности, в которой принцип цели имеет особенно значительную сферу применения.
«Раз установлено, что понятие цели извлекается из волевой деятельности, то и наоборот – последняя заключает в себе понятие цели как свой существенный элемент, понятие цели необходимо предполагает присутствие разумности (Intelligenz) и воли (Wollens), во-первых: потому что цель есть нечто представляемое и только в представлении состоящее; во-вторых – потому что указывает на настоящий или будущий волевой акт. Мы увидим далее, что если мыслима разумность без воли, то слепая, не направленная к определённой цели воля не существует и не может существовать, и какой-либо телесный акт мо-
—114—
жет быть назван волевым актом лишь в том случае, если она соответствует какому-либо представлению»1654.
В виду такой связи понятия цели с психикой действующей личности многие, особенно противники признания бессознательной психики, настаивают на необходимости всегда связывать понятие цели с наличностью сознательной, пользующейся предыдущим опытом разумности: «целесообразное действие или целесообразный процесс, с одной стороны, и сознание с другой – такие явления, которых нельзя разделять произвольно»1655. Поэтому целесообразные действия мы можем предполагать лишь там, где имеется развитая нервная система: допускать целедействующие факторы, впадать в полный произвол, которому не будет никакого предела1656.
Таким образом, понятие цели специально применимо в субъективной сфере и тесно связано с основными проявлениями психики; возникает новый вопрос: какова же природа этого принципа, не субъективен ли он сам по себе? Неоламаркисты и неовиталисты оспаривают это, теологи же кантианцы, начиная с самого Канта, утверждают не менее решительно субъективность принципа цели. Решению этого центрального вопроса мы придаём большое значение; тут должен выясниться также и вопрос об отношении теологии к причинности.
Неоламаркисты, как мы это показали в предыдущей статье, исходят из положения, что причинность имеет необходимое всеобщее значение, но ею одной не исчерпываются наличные в природе связи явлений и вещей; причинность всеобща, но не единственна: кроме неё есть ещё, напр., связь телеологическая, которая отличается от причинной тем, что вместо двух членов, причины и следствия, она характеризуется тремя членами, между которыми имеется на лицо телеологическое соотношение. Именно за и наступает в так, что становится возможным с: а и в переменены, с – постоянно.
—115—
Эти воззрения, формулированные Косеманном, как нам кажется, не укрепили позиции неоламаркистов, и едва ли способны хоть сколько-нибудь решить вопрос и взаимоотношения теологии и причинности: в них много наивного и даже прямо нелепого. Против начального утверждения всеобщности, но не единственности причинной связи, едва ли возможно спорить; закон причинности заключается лишь в формальном требовании, чтобы рассматривать каждое явление не обособленным, не абсолютно автономным, но находящемся в связи хоть с одним из остальных: ничто не возникает само по себе, и всякое явление должно иметь свою причину. Однако, требования закона причинности отнюдь не простираются ни на выяснение, какова эта причина, ни на характер, самой связи; за одним явлением необходимо следует другое, но как, это не важно. Поэтому закон причинности прямо не касается реальных связей и взаимоотношений в мире явлений, их может быть бесчисленное множество, но все они должны удовлетворять одному требованию: у каждого последующего явления должно быть своё предыдущее, с которым оно находится в некоторой закономерной связи.
Телеологическая связь явлений, по нашему глубокому убеждению, есть, в сущности, та же причина, но лишь взятая в другой плоскости, под другим углом зрения: причинная – чисто логическое требование голой последовательности: телеологическая – уже вносит принцип оценки, она хочет выяснить смысл, значение процесса: она интересуется не столько самой последовательностью, сколько конечным результатом, к которому приводит цель, несомненно, причинных взаимоотношений. Поэтому, как нам кажется, нельзя считать причинность и телеологию явлениями одного порядка, и признавать лишь одно из них, или заменять его другим: причинность нельзя поставить на место телеологии, как нельзя выразить вес в единицах длины. Косеманн же явно считает эти обе закономерности хотя и противоположными, но сравнимыми, способными замещать одна другую: там, где действует его трёхчленная формула, обычной двухчленной причинной уже нет места. Мы уже упоминали о толковании Вагнера, пытающегося понимать под причинностью у Косеманна лишь механиче-
—116—
скую причинность; но это толкование совершенно произвольно, так как Косеманн везде говорит прямо о причинности вообще. По его мнению, хотя материя и энергетические элементы организма и таковы же, как и в неодушевлённой природе, однако они обнаруживают в организме особую, телеологическую закономерность, отличающуюся от причинной; обе закономерности являются выражениями единой общей необходимости природы. Косеманн вообще утверждает наличность телеологических связей лишь в организованной природе. Значит, по его мнению, причинность и телеология не существуют одновременно, а заменяют одна другую; в неорганическом мире – простая причинность; в органическом – телеология. Мы уже убеждены, что и причинная, и телеологическая связь существуют одновременно, приложимы к одним и тем же процессам и нисколько не вторгаются в области друг друга, хотя бы просто потому, что эти их области лежат в различных плоскостях и столкновение между ними невозможно.
Обратимся к формуле Косеманна: по нашему мнению, она не выдерживает никакой критики. Прежде всего, выражение М=f (S), где M изменчиво, а S постоянно, есть математическая нелепость, и переменная функция М от постоянного S противоречит самому понятию функции. Но, кроме функциональных отношений, здесь замещаются неизбежно и временные; именно, сперва мы имеем antecedens потом medium, потом succedens; средний член оказывается в функциональной зависимости от переменного А, предшествующего М, и от постоянного S, последующего по отношению к М, каковая сложная закономерность, да ещё с временной последовательностью, математически также бессмысленна1657. Необходимо обратить внимание на третий член формулы Косеманна, его знаменитый постоянный S; всякому очевидно, что это вовсе не что-либо реальное, а просто лишь абстрактное понятие отношения, принадлежащее рефлексии, а не действительности.
—117—
Припомним схему телеологической связи по Косеманну:
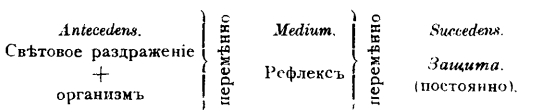
Ясно, что защита есть лишь наше суждение о значении или цели суждения зрачка для организма. Этот третий член, конечно, постоянен, как понятие, в то время как сужение зрачка (medium) меняется сообразно со световым раздражением (antecedens). Но спрашивается, как medium, некоторый реальный процесс, акт, может зависеть от seccedens, который не более, как отвлечённое понятие?1658 В реальную причинную связь вдруг вторгается понятие, претендующее при этом на роль причины, так как, по мысли Косеманна, рефлекс зависит и от своей цели, т.е. защиты. Каким же образом, возможно, здесь установить реальную связь? Ответ, конечно, может быть только один: S, как постоянное понятие, может быть причиной М только не как его последующее, а как предшествующее ему представление цели: тогда придётся приписать третьему члену «eine ideelle Präexistenz», по выражению Кениги, идеальное предсуществование в виде представления. Только в этом случае третий член получает смысл причины, от которой может зависеть М; во волевом процессе М мы назовём средством. В тех же процессах, которые разбирает Косеманн, третий член его формулы – просто субъективная оценка процесса, которая отнюдь не связана при этом необходимо с одними органическими процессами: формула Косеманна, вопреки его намерениям, вполне применима и к неорганическим процессам, например:
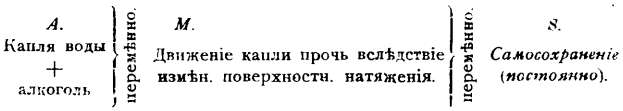
—118—
или ещё:
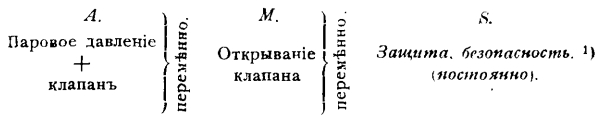
Косеманн думал своими формулами уловить новую закономерность природы, равноценную с причинной, но уловил лишь давно всем известную абстракцию, приложимую к огромному количеству чисто причинных органических или неорганических процессов, безразлично. Никакой специальной телеологической закономерности, которую стоило бы выражать формулами и ставить на место причинной, нет: всякая теология должна базироваться на обычной причинности, с привнесением субъективного момента оценки процесса в связи с конечным его результатом. Если мы не будем обращать внимание на конечный результат и оценку процесса, то получим обычную объективную причинную связь.
Таким образом, можно лишь посоветовать неоламаркистам не опираться в своих построениях на «эмпирическую телеологию» Косеманна, и не стремиться заменять закон причинности своим телеологическим, хотя бы потому, что это просто невыполнимо. Телеологическая связь явлений возможна и имеется в действительности, но она осуществляется неизбежно в форме причинной связи, даже механической, и мы должны в цепи механически обусловленных событий подметить проявление закономерности иного порядка – телеологической; эта иная закономерность и есть истинная основа механизма, fons mechanism. по выражению Лейбница. Неоламаркисты, как нам кажется, легко могут отбросить все построения Косеманна, не потеряв ничего и много выиграв в цельности и основательности своих воззрений; формулы Косеманна не вытекают органически из основоположений неоламаркизма, и попытки связать их друг с другом нужно признать ложным шагом на пути к теоретико-познавательному оправданию телеологии.
—119—
Дальнейший логический анализ взаимоотношения понятий цели и причины приводит нас к признанию общности происхождения обоих понятий; закон причинности, помимо своей и абсолютной всеобщности, содержит в себе ещё другое свойство – постоянную возможность логического обращения (Umkehrung): «целевая связь есть обращённая причинная: причинный принцип есть следование от причины к действиям, а целевой принцип, наоборот, – от следствия к причине, т.е. от целей к средствам»1659. «Связь цели и средства есть обращённая связь причины и следствия, и всякую причинную связь принципиально можно обратить в телеологическую, и наоборот. Однако, такое обращение не всегда возможно в отдельных случаях, вследствие недостаточности наших знаний условий явления: отсюда видно, что в естествознании есть две формы применения принципа цели: 1) эквивалентный причинному рассмотрению, 2) провизорный, долженствующий служить как бы замещением окончательно не завершённого причинного рассмотрения. Первая форма заимствована из рассмотрения искусственной машины и применима всего чаще в механике, и также, напр., при объяснении сердечных и дыхательных движений и т.п. Провизорный же принцип применяется почти только в биологии, что ясно следует из сложной природы биологических проблем… К таковому провизорному целе-рассмотрению относится, напр., представление о равновесии между ассимиляцией и диссимиляцией, на чём покоится сохранность жизненных особенностей клетки, приспособления организмов к их жизненным условиям, и т.д. Все эти телеологические понятия, содержащие, однако, много причинных проблем, которые частью (напр., в вопр. о равновесии…) уже с успехом разработаны причинным анализом. Если это и не во всех случаях удаётся, то это ещё отнюдь не даёт оснований считать телеологический способ рассмотрения окончательным и призывать целедеятельные жизненные силы; такой способ, прежде всего, представляет собой логическую ошибку против сущности целевого принципа, именно, в виду его обратимости1660. Весьма важно то обстоятельство, что общие по
—120—
происхождению телеологический и принципиальный принцип глубоко разделяются понятиями свободы и необходимости. «Действие есть причина внешнего результата и, в то же время, средство, благодаря которому последний достигается. Эта психологическая общность происхождения обоих понятий повлияла и на понимание их логического отношения. Если с предположением о субстанциальной причине связывается постулат необходимости её действий, то в этом в то же время заключается отрицание цели: так как все действия количественно и качественно определены в субстанции, то выбор между различными возможными результатами, как его производит действующий сообразно целям рассудок, невозможен. Если, напротив того, субстанции приписывается свобода при произведении её действий, так что действительные события представляются результатами совершившегося выбора, то субстанция сама есть целепричина (Zweckursache) и, как таковая, она изъята от всякого принудительного определения»1661. Некоторые сторонники теории эволюции полагают, что она должна совершенно заменить телеологическое объяснение причинным. «Однако, это утверждение основано на непонимании истинного значения понятия цели. Последнее существует ведь на лицо далеко не только там, где, подобно тому, как это бывает при наших произвольных поступках, представление о цели предшествует ряду событий; но его следует признать во всех тех случаях, когда какая-либо причинная связь в силу правильности определённых конечных эффектов, и комбинаций, в которые вступают друг с другом эти эффекты, вызывает логическое предвосхищение действий, которое должно сделать понятным связь самих причинных условий… И витализм прежней физиологии был не потому, что он вообще применял телеологическое истолкование, а потому, что он применял его в смысле того ложного понятия целепричины, при котором, вместо требуемого здесь регрессивного причинного объяснения, производилось лишь подведение под общие понятия. Поэтому нынешняя физиология никоим образом не устранила понятия цели и при исследовании функций развитого организма, но применяет
—121—
его с точно в том же смысле, как и практическая механика: как вид причинного истолкования, при котором, в силу специальных условий предмета, за исходный пункт принимаются те действия, которые производят органы и их элементы порознь и совместно»1662. Характерно, что никто так не изведал нужды в обращении причинного объяснения в целевое, как именно механическое направление в биологии, стремившееся рассматривать организм как «природную машину»1663. Против этого положения об обратимости причинного процесса в телеологический и обратно ничего нельзя возразить по существу, но необходимо сделать некоторые необходимые оговорки и ограничения. Очевидно, что Вундт имеет здесь в виду лишь чисто логическую, формальную сторону вопроса, и оперирует с абстрактным процессом, как бы с математической формулой: однако, было бы большим заблуждением думать, что в результате такового обращения мы и в действительности из причинной связи получим, на самом деле, только её необходимое условие, без которого она не может осуществиться, но, кроме того, мы должны привнести и нечто новое, чего не было в причинной связи. Мы уже говорили ранее, что причинная связь носит безразличный, индифферентный характер; кроме того, она совершенно не заключает в себе динамического элемента, устремления; это элемент, в то же время, совершенно необходим для телеологического процесса и представляет, можно прямо сказать, один из характернейших его признаков. Представление цели может и отсутствовать в телеологическом акте, но активного стремления к хотя бы и не сознанной цели исключить из него нельзя: когда целесообразно возникает случайно, мы не можем уже говорить о целесообразном акте: тут имеется налицо целесообразное образование, но нет никаких внутренних телеологических оснований для его возникновения; это – внешняя телеология случайности, столь характерная для дарвинизма.
Причинная связь, как общее формальное требование на-
—122—
шего рассудка, совершенно одинаково может удовлетвориться указанием того, или другого, или третьего явления в качестве причины; ей нужно лишь, чтобы вообще было какое бы то ни было предшествующее явление могущее быть названным причиной исследуемого явления. Тут совершенно не может быть речи о направлении процесса; оно безразлично с точки зрения формальной причинности. Однако, оно совершенно не безразлично для процесса телеологического: в нём есть стремление в некотором определённом направлении, и произвольная перемена последнего влечёт за собой, по большей части, нарушение целесообразности самого акта. Правда, одна и та же цель может достигаться различными путями, но наличность направления в общем смысле здесь всё же остаётся бесспорной.
Из этого видно, что когда мы подвергаем регрессивному обращению причинный процесс, то происходит следующее явление: мы, т.е. некие сознательно действующие индивидуумы, берём явление, служащее причиной в каузальной связи, за цель (очевидно, в форме представления, придавая ей «eine ideelie Präexistenz»), а следствие употребляем в качестве средства; в результате мы и получаем, правда, телеологический процесс из обращенного причинного, но каким путём? – вмешательством сознательной воли разумного индивидуума. Только воля, способная придать направление и движение причинной связи, может обратить её в настоящую телеологическую: без участия направляющей и регулирующей воли эта знаменитая «обратимость» останется абстрактной логической формулой, неприменимой к действительным процесса; воля, олицетворяющая собой динамический элемент, характеризующий телеологический акт, совершенно чужда и не нужна причинному отношению; там всё решается в пределах категорий разума, и ей там нечего делать; в телеологической же связи мы не можем обойтись без неё, дающей направление и делающей из причиной связи телеологическую. Но скажут: ведь и в процессах неорганических, чисто механических, есть направление, совершенно определённое? Однако, мы по этому признаку ещё не считаем таковой механический процесс за телеологический? Совершенно верно, но не нужно упускать из виду, что это «направление» в
—123—
механических процессах определено совершенно необходимо раз навсегда, может быть точно формулировано, предсказано и осуществляется всегда одинаково, в цепи одних и тех же причинных членов. Тут налицо имеется как раз та «необходимость», о которой говорит Вундт и которая не имеет такой власти над явлениями органического мира, где стремление может выразиться в виде весьма различных сочетаний: здесь возможен некоторый выбор, как результат свободы. Приведём такой пример: допустим, что если мы нагреем некоторый металлический стержень на 1°, то получим прирост его длинны на 1 mm; тут связь просто причинная, и легко тотчас же установить зависимость:
нагревание на 1° – производит – удлинение на 1 mm. Всякий раз, как мы такой стержень будем нагревать на 1°, мы необходимо будем получать удлинение на 1 mm. Эту причинную связь путём обращения можно сделать телеологической, и она примет такую формулу: чтобы получить удлинение определённого стержня на 1 mm, надо нагреть его на 1°. Следствие (удлинение) выступает здесь в качестве цели, а причина (нагрев) – в качестве средства. Возьмём теперь образчик из другой области: допустим, что некий экспериментатор установил, что повышение температуры на 10° при воспитании куколок даёт более интенсивную окраску известных частей крылышка определённого вида бабочек: эта зависимость, несомненно, причинная, но уже совсем иного характера, чем в случае удлинения стержня от нагревания; тут совершенно нет необходимого следования: тот же самый вид на то же самое повышение температуры на 10° может реагировать и совершенно обратно – побледнением окраски, или даже вовсе не реагировать; он может дать или одну, или две, или три, или даже смесь нескольких аберраций; всё это неоспоримо подтверждено экспериментами. Поэтому, когда мы попробуем обратить эту связь в телеологическую, и сказать, что для получения более интенсивной окраски крылышек определённого вида бабочек нужно повысить температуру на 10°, то это будет лишь допустимым предположением, которое может оправдаться; это совершенно не то, что непоколебимая уверенность в слу-
—124—
чае чисто механической связи. В случае воздействия, напр., повышенной температуры на организм мы должны, прежде всего, считаться с тем обстоятельством, что это воздействие выражается в форме раздражения, которое можно уподобить искре, взрывающей пороховой погреб: незначительное само по себе раздражение может вызвать весьма большие последствия. Но, что всего важнее, кроме количественного несоответствия между раздражением и реакцией, весьма часто наблюдается и качественное различие: реакции могут быть весьма разнообразны и одно и то же раздражение может вызвать самые различные противоположные реакции. В этом отношении очень поучительны явления так наз. «гетероморфоза» при регенерации утраченных частей организма: очень часто организм возмещает потерю путём создания нового образования, не похожего на утраченное, напр. – регенерирует ходильную ножку вместо клешни (у рака), и т.д. Не нужно упускать, конечно, из виду, что в органических явлениях преобладают более сложные взаимоотношения, более сложные и трудные для анализа виды механической связи, так что часто трудно установить причинную цепь: но, помимо этого, самое важное заключается в том, что в тех органических процессах, которые мы называем телеологическими, привходит в механическую связь и нечто новое: то, что делает возможным выбор и устремление согласно ему, т.е., нечто похожее на психику, что и создаёт телеологический акт. Изменение температуры не просто механически вызывает изменение пигмента, как мы это уже указали ранее: оно производит известное действие на «ощущение состояния» субъекта, по терминологии неоламаркистов: возникает «потребность» так или иначе, изменить своё состояние сообразно с изменившимися условиями. При этом, чтобы резче оттенить наличность психического члена в этой последовательности, неоламаркисты подчёркивают, что ощущение потребности не вызывает прямо средства к своему удовлетворению, а только стремление к устраняющей потребности реакции, которая и пользуется подходящими средствами1664.
—125—
Если мы будем, таким образом, считать возможным в действительности обращение всякой причинной зависимости в телеологическую, то рискуем совершенно стушевать эту основную разницу между ними, упустив психический фактор, имеющий налицо лишь в телеологических аспектах, и совершенно отсутствующий в актах механических. Таким образом, «обращение» должно носить лишь отвлечённый, логически-формальный характер; телеологическая и механические связи, обе равно являющиеся формами причинной связи, различаются участием в телеологической особого жизненного фактора, который неоламаркисты называют психическим, обуславливающим некоторую свободу этих актов; отсутствие же этого фактора (если, конечно, он не вносит извне в виде человеческого интеллекта) и необходимость характеризуют связь механическую.
Итак, отсюда ясно, что телеология противоположна не причинности, а механичности, и конфликт возможен только с ней. И телеологическая, и механическая последовательность равно причинны; но между собой они не согласуются, потому что основаны на различных принципах.
Чтобы решить критический этот вопрос, нам необходимо обратиться к Канту и его «Критике способности суждения», на которую часто ссылаются неоламаркисты и с которой не менее часто они полемизируют. Нужно предупредить, что позицию Канта в вопросе о телеологии многие считают не совсем ясной, и даже такие кантианцы, как Кениг, затрудняются сказать точно, был ли он настоящим телеологом в смысле наших неовиталистов, или же сторонником механической биологии: это трудно решить на основании «Критики способности суждения», которая из всех его главных сочинений представляет наибольшие затруднения для понимания и допускает много толкований. Кениг даже думает, что сам Кант не достиг полной ясности в этих своих воззрениях1665. Противники же телеологии Канта, как напр. Гартманн, прямо утверждают, что она представляет собой скопление острейших противоречий, и т.д.1666.
—126—
Кант настаивает на недостаточности механизма для объяснения органических явлений: «Органическое существо не есть только машина, ибо оно имеет не только движущую силу, но обладает и творческой силой и притом такой, какую она сообщает материи, ещё неусвоенной ею (организует её), – следовательно, распространяющейся творческой силой, которую нельзя объяснить только через движущую способность (механизм)». «Органический продукт природы есть то, в чём все цель и вместе всё средство. Ничего в нём не бывает даром, бесцельно и ничего нельзя приписать слепому, физическому механизму»1667. При научном исследовании необходимо, по мнению Канта, откинуть бесцельность и случайность образований: «всё в мире для чего-нибудь хорошо, ничего в нём нет бесцельного»1668. Это признание необходимости телеологической точки зрения служит поводом для неоламаркистов утверждать, что Кант признавал, в сущности их «принцип суждения»: «что целесообразное может происходить лишь благодаря намеренно (absichtlich) действующей причине, благодаря «принципу суждения», – для Канта составляло положение аподиктической достоверности. Он повторяет его в бесчисленных применениях. Так же аподиктически достоверна была для него невозможность думать, будто целесообразное могло возникнуть благодаря механической причинности, из слепо действующих сил материи»1669. Это кантовская, а вместе с тем и ламарковская аксиома теологии. Кантовская аксиома основывается на непререкаемом заключении, что всякое искусственное сооружение, геометрическая фигура или машина может получиться лишь как следствие мыслящей природы, каков организм, должны иметь «принцип суждения» в качестве причины.
Кант стремится далее выяснить характер применения принципа цели к явлениям природы, и приходит:
—127—
к выводу, что нет никаких оснований приписывать природе объективную целесообразность; однако, введение телеологических суждений в естествознание допустимо, «но только для того, чтобы по аналогии с причинностью по целям подвести его под принципы наблюдения и изыскания, не имея притязания объяснить его по этой причинности»1670. Понятие цели отнюдь не вводит в науку какой-нибудь сверхъестественной причины, «не вводит особой основы причинности, а прибавляют только ради применения разума другой род исследования, чем исследование по механическим законам, дабы выполнить недостаточность последнего даже для эмпирического исследования всех частных законов природы». Это «только вид причинности природы по аналогии с нашей в техническом применении разума». Мы не можем решить, достаточно ли одних сил природы (механизма природы) для производства продуктов природы, или же здесь участвует некий архитектонический разум; мы этого не можем решить объективно, но «по отношению к нашей познавательной способности один механизм природы не может дать никакой основы для объяснения происхождения органических существ»1671. «если я говорю: возникновение известных вещей природы возможно только через такую причину, которая определяется к деятельности по намерениям, – то это нечто совершенно другое, чем в том случае, когда я говорю: я, по своеобразным свойствам моей познавательной способности, о возможности этих вещей и их возникновении не могу судить иначе, если не мыслю себе для этого причины, которая действует по намерениям, т.е. существа, которое продуктивно по аналогии с причинностью рассудка. В первом случае я хочу решить нечто относительно объекта и обязан доказать объективную реальность предполагаемого понятия, во-втором – разум определяет применение моей познавательной способности соответственно своим особенностям и существенным условиям как своего объёма, так и своих границ. Следовательно, первый принцип есть объективное основоположение для определяющей, а второй – субъ-
—128—
ективное основоположение только для рефлектирующей способности суждения, – значит, только максима её, которую указывает ей разум»1672.
Таким образом, мы видим, что Кант центр тяжести вопроса о телеологии переносит в область субъективную, и в этой же сфере решает и вопрос о взаимоотношении телеологии и причинности; он говорит, что понятие о вещи, как цели природы в себе, может быть лишь регулятивным, а не конститутивным. (Кант, ib., стр. 259.). Это нужно понимать так: можно утверждать, что Кант не причислял к категориям понятие цели, и придавал ему существенно иное значение, нежели понятию субстанции или причинности. Понятие цели хотя и есть «ein besonderer Begriff a priori», однако его происхождение корениться не в чистом разуме, а в рефлектирующей силе суждения, т.е. оно составляет просто вспомогательное средство для установления единства и связи в собрании того, что с точки зрения чистого разума кажется случайным. Понятия разума априорны и конструктивны, т.е. суть условия возможности опыта, понятия же силы суждения хотя и априорны, однако лишь регулятивны, т.е. суть формы, которым дополнительно мы подчиняем объекты, не будучи связаны понятием самого объекта. Напр., законы субстанции и причинности, которые разум предписывает природе, чтобы во всех явлениях содержалось нечто неизменное или чтобы каждое изменение имело своей причиной другое явление, и при этом все особенности, число и т.д., – всё, что находится в природе субстанций, а также содержание единичных законов природы они оставляют неопределёнными. Понятие цели во всех его видоизменениях не есть категория, которая должна быть применяема ко всякому возможному предмету опыта, – это просто максима способности суждения, при по-
—129—
мощи которой мы ищем единства среди случайностей, а никак не теоретическое суждение о самом объекте1673.
Принцип цели, хотя и выводится из опыта, но он настолько всеобщен и необходим, что должен иметь в основе какой-нибудь принцип a priori (хотя бы и регулятивный), и хотя бы эти цели заключались только в идее того субъекта, который высказывает суждение (Кант, ib., стр. 261.). Но нельзя пользоваться вещами, как целями природы, в качестве основы объяснения их существования; нельзя, напр., считать реки целями природы лишь потому, что они содействуют общению между народами внутри страны и т.д. (Кант, ib., стр. 264.).
Спрашивается теперь, какое же место может занимать механическое объяснение явлений природы наряду с таким широким применением телеологического принципа? Кант полагает, что мы должны «все продукты и события природы, даже самые целесообразные, объяснять механически до тех пор, пока только это в нашей возможности, но, не смотря на эти механические причины, эти продукты мы должны подчинять причинности по целям». «Разумно и даже похвально следить за физическим механизмом в интересах объяснения продуктов природы настолько далеко, насколько это возможно делать с вероятностью и, если прекращать этот опыт, то не потому, что на этой дороге невозможно встретить целесообразности природы в себе, а потому, что это невозможно для нас, как людей; для этого нужно нечто совершенно другое, а не наше чувственное созерцание, и нужно определённое познание интеллигибельного субстрата природы, основание для которого можно было бы указать даже из механизма явлений по частным законам: а всё это совершенно превышает нашу способность»1674.
Теперь возникает для Канта самый важный вопрос: даёт ли нам телеологическая точка зрения право заключать о некотором разумном Первосуществе, которое и определяет эти цели природы? Основу целесообразности, говорит Кант, нужно класть вне природы, в высшем
—130—
рассудке, а отнюдь не искать в материи, которую нельзя мыслить живой (понятие живой материи заключает в себе противоречие, ибо безжизненность, inertia, есть существенное свойство её; гилозоизм невозможен). «Но это только основа для рефлектирующей, а не для определяющей способности суждения – она, безусловно, не может давать нам права ни для какого объективного утверждения» (Кант, ib., стр. 284–5.). «Объективно мы не можем доказать суждения: есть разумное первосущество, – но можем доказать его только субъективно, для применения нашей способности суждения в её рефлексии о целях в природе, которых мы не можем мыслить ни по какому другому принципу, кроме принципа преднамеренной причинности, высшей причины»1675.
Таким образом, Кант признал некоторую неравноправность принципов причинного и телеологического в объективной их оценке. Кроме того, его требование понимать органические процессы насколько только возможно глубже – механически, создаёт антиномию с необходимостью применять к тем же органическим процессам телеологическую точку зрения. Тезис гласит: «необходимо, чтобы о всяком произведении материальных вещей и их форм, возможно, было судить только на основании механических законов». Антитезис утверждает: «о некоторых продуктах материальной природы, т.е. организмах, нельзя судить только на основании механических законов: их рассмотрение требует совершенно другого рода причинности, именно – закона конечных причин». Если мы эти противоречивые положения примем за физические объективные законы, то мы получим неразрешимое противоречие: но антиномия разрешается легко в том случае, если мы признаём оба положения лишь за максимы способности суждения; при этом нужно допустить, что тезис относится к определяющей, а антитезис – к рефлектирующей способности суждения; тогда эта антиномия окажется призрачной и устраняется сама собой1676.
Вопрос об отнесении принципа цели к рефлектирующей способности суждения вызвал много споров и недо-
—131—
разумений; напр., Гартманн стоит на той точке зрения, что не только причинный, но и телеологический способ рассмотрения имеет категориальный характер, и Кант якобы лишь по тому предубеждению не включил принцип цели в таблицу категорий, что будто телеологический акт есть нечто подобное сознательному, произвольному волевому акту, т.е. сложному психологическому процессу, с участием представления цели и т.д., чего нельзя переносить, по мнению Канта, на отношения внешнего мира. В действительности же, сознание в телеологическом акте отнюдь не является необходимым условием: оно вполне может отсутствовать, не вызвав этим никаких изменений в телеологических отношениях.
Рассматриваемые гносеологически и причинность, и телеологическая связь не созданы из восприятий, но суть значения связи происходящего, гипотезы, привносимые разумом, чтобы ориентироваться в своих восприятиях, говорит Гартманн. Естествознание боится в лице теологии допустить в природу произвольно свободный фактор, который нарушал бы замкнутую её причинность. Оно боится допустить вместе с телеологией в природу нечто не-естественное, сверх-природное, метафизическое, что, по учению агностиков, непознаваемо. Эту телеофобию нужно рассматривать как детскую болезнь молодой, преуспевающей науки. Финальность в такой же степени закономерна, как и причинность, хотя её законы нельзя выразить математически; о произвольной же свободе здесь не может быть и речи. Естествознание, не раздумывая, оперирует только с причинностью, без которой оно ничего не могло бы поделать, и отбрасывает телеологию, не относящуюся непосредственно к его «орудиям»; это ещё терпимо в физике, но недопустимо в биологии1677. По мнению Гартманна, в мире царит общий «Finalkausalität»1678: «Финальность и причинность в царстве природы суть равноправные и взаимно координированные категории, которые в действительности всегда связаны между собой и могут
—132—
быть разделены лишь абстрагирующей деятельностью сознательной мысли»1679.
Не трудно заметить, что Кант и Гартманн стоят на различной почве: Кант ставит вопрос чисто гносеологически; его интересует формальная, логическая сторона вопроса, и он оперирует с абстрактными процессами, а не реальными, протекающими в живой природе; даже больше, Кёнинг убеждён, что Кант и не решал вопроса о том, какова реальная связь явлений природы – механическая или телеологическая, а лишь думал о том, какую из этих двух схем положить в основу при рассмотрении явлений в качестве руководящей нити1680. Гартманн же стремиться, наоборот, идти от природы, от опыта к познающей способности человека, и из наличности телеологии в природе оправдывать её равноправие с причинностью в глазах исследующего разума. Тут и возможно, нам кажется, найти путь к применению этих противоречащих взглядов в том направлении, что можно придать двоякое значение принципу цели, сообразно двум сферам его применения, или, вернее, двум точкам зрения на него; с точки зрения критики силы суждения он, конечно, не более, как субъективная максима рефлектирующей способности суждения, но не фикция, а обладающая необходимостью в применении к рассмотрению органических явлений; эта категория не обладает такой же универсальностью, как категория причинности, но всё же покоится на априорном, хотя и регулятивном принципе. Итак, не пускаясь в запутанные вопросы о категоральности принципа цели, мы поставим вопрос более подходящим для наших задач образом: действительно ли принцип цели – только субъективный способ рассмотрения явлений, и не имеет объективного значения? Неоламаркисты и неовиталисты, вообще – все современные телеологи-биологи усиленно настаивают на объективном значении принципа цели. Напр., Рейнке говорит: «если бы было справедливо, что только человеческий ум толкует природу в смысле её целесообразности, то
—133—
растения и животные перестали бы быть целесообразными, если бы вымерли все люди»1681. Вагнер полагает, что Кант ошибочно считал телеологию лишь способом рассмотрения, а не научным принципом объяснения; но нужно иметь в виду, что Кант всегда имел перед глазами лишь трансцендентную телеологию, для научного опровержения которой, по мнению Вагнера, нам не нужно теперь никакого Канта1682. Действительно, сравнив современную автотелеологию неоламаркистов с типичной «альтруистической» телеологией Канта мы сразу увидим, что их даже трудно сравнивать между собой; в них есть несоизмеримый элемент.
Для Канта вся телеология сводилась к обнаруживаемым целям природы, которые ставит высший Разум, его телеология носит резко трансцендентальный характер, когда в бездушную, мёртвую материю извне вкладывается смысл и жизнь, стремление и развитие; эволюция, как её теперь понимают. Кант не знал, и в мире понятий и категорий чистого разума, с которыми он преимущественно оперировал, всё было определено раз навсегда, по неизменным законам разума, как в системе Спинозы; опыт, реальная природа – всё это казалось чем-то внешним, не имеющим самостоятельной цены: разум предписывал свои законы природе. Поэтому и вся телеология Канта совершенно отвлечённого сорта; она даже не задаётся вопросом о реальной целесообразности природы, а прямо считает её привносимой извне; она изучает не реальные процессы, которые мы называем телеологическими, а связь и происхождение понятий, их логические, формальные отношения. И в этом смысле понятие цели, именно цели природы, назначения отдельных вещей, конечно, явно субъективного и эвристического характера и есть лишь максима рефлектирующей способности суждения; именно о таких целях всё время говорит Кант: других он не знал.
Но со времени Канта многое изменилось в этой области; появилось понятие о приспособлении, психологическом факторе
—134—
органических изменений, об автономии жизненных процессов, о регуляции и т.д., родилась современная теория эволюции со всеми сопутствующими ей теориями и построениями. Вместе с тем совершенно изменилось и само понятие цели и употребление его: им уже не пользуются для обозначения целей природы; уже не ищут трансцендентного разума, ставящего свои цели в природе; даже больше, говорят о непреднамеренных целях, бессознательных целях и т.п., т.е. собственно говоря, не совсем точно пользуются понятием цели: нужно бы сказать – целестремительность, стремление, влечение – вот с чем оперирует современная телеология. Все эти элементы совершенно чужды Канту; у него даже вообще нет телеологического акта; у него целесообразность дана, но не возникает и, тем более, не развивается. Поэтому, напр., развитие длинных ног у прибрежных птиц в результате упражнения – несомненно, телеологический процесс, – для Канта осталось бы непонятным: никто не решился бы приписать птицам рассуждение: «давайте, разовьём ноги, чтобы лучше ходить по дну водоёмов», и в то же время современный естествоиспытатель не признает удлинение ног осуществлением цели, поставленной высшим Разумом; какова же может быть в этом процессе роль «эвристического принципа цели»? Он может быть применён лишь к конечному результату, в форме нашего субъективного суждения: «У прибрежных голенастых птиц ноги длинны для того, чтобы им удобнее было ходить по дну водоёмов, не намокая в воде». Это и есть применение эвристического принципа цели. Но в самом телеологическом процессе он не играл, да и не мог играть активной роли; там действовал, очевидно, какой-то иной принцип, имеющий и объективное значение. Птица, стремясь как можно выше стоять на ногах в воде, чтобы не намокнуть, не ставит себе сознательной цели – удлинением ног избавиться от этого неудобства, и никто иной такой цели птице не ставил, а между тем, путём длительного упражнения и наследственной передачи удлинение ног было достигнуто, и обсуждая этот конечный результат, мы можем сказать, что удлинение ног – это цель всего процесса; но какая цель? Это просто наша оценка акта. Однако такой цели никто те-
—135—
перь и не будет приписывать объективное значение: никто не признаёт за ней и способности быть побудительной причиной, стимулом телеологического акта: такой побудительной причиной может быть только то, что не совсем точно называется целестремительностью, понимаемой как стремление, в данном случае – избежать намокания, но не в виде преднамеренной сознательной цели; это имманентная, имеющая объективное значение движущая причина телеологического акта; очень часто её называют целью, стараясь втиснуть в это достаточно определённое понятие и непреднамеренность, и динамический элемент – стремление, но это просто лишь неудачная терминология: нужно пользоваться в таких случаях бэровской «Zielstrebigkeit», переводимой по-русски словом «целестремительность» за отсутствием различных терминов для «Ziel» и «Zweck».
Кроме того, мы можем указать и такие факты, когда цель, существующая сначала в виде сознательного представления цели, достигает своей объективности вовне, является, до некоторой степени, причиной, производящей вполне объективные явления: именно, сюда подходит вся сознательная целедеятельность человека и высших животных. Всем известно, что телеологическая связь явлений всего яснее заметна в сфере психологической жизни; но она не остаётся лишь в границах психики, а является (хотя бы через посредство механических связей) на явления объективного мира. Этого нельзя отрицать по отношению к высшим животным. Неоламаркисты эту целедеятельность на высших ступенях сознания и берут за исходный пункт своей телеологии, считая, что она же проявляется и на низших ступенях развития в виде той целестремительности, о которой мы говорили выше и которая обусловливает появление приспособлений и многих морфологических изменений. Это же разумеет и Гартманн, говоря, что вполне законно рассматривать целесообразную деятельность человеческого духа как лишь освещённую светом сознания саму по себе бессознательную целесообразность природы. Прежде всего, говорит Гартманн, человек должен признать целесообразность (Finalität) в своих волевых дей-
—136—
ствиях: он имеет в сознании сперва мотив, затем цель, в-третьих – причинную связь между целью и средством, в-четвёртых – направленный на средство волевой акт. Во многих случаях оба средних члена (цель и причинная связь) остаются бессознательными, и сознаются лишь оба крайних члена (мотив и волевое действие). Только рефлектирующая целесообразная деятельность вполне сознательна, инстинктивная – полусознательная, рефлекторная – сознательна лишь на четверть (¼), и в органических образованиях вполне бессознательна. В рефлекторных действиях есть лишь сознание мотива, или раздражения. Целесообразность в мире, начавшись в бессознательной стадии в органических образованиях, постепенно всё более и более приобщается к сознанию, через рефлекторную и инстинктивную ступень, возвышаясь до сознательной, рефлектирующей. Спросим себя теперь: каков же характер понятия цели в этих телеологических актах? Может ли он считаться лишь субъективной максимой способности суждения? Очевидно, нет; понятие цели может иметь и некоторое объективное значение, которое проявляется в телеологических актах; отсюда ясно, что эта новейшая биологическая телеология, к которой в значительной степени примыкает и Гартманн, стоит совсем на иной почве, нежели Кант, и располагает совсем иным материалом; поэтому и само содержание понятия цели у них различно, различны и конечные выводы. Типично трансцендентную телеологию Канта, оперирующую с формальными понятиями и оставляющими в стороне реальную природу, трудно даже сравнивать с автотелеологией неоламаркистов, утверждённой на новейших экспериментальных и неохотно пускающейся в критику происхождения и связи отвлечённых понятий. Они говорят на различных языках: Кант о трансцендентных целях природы, неоламаркисты – об имманентной целестремительности, отрицающей цели природы; Кант – о формальной телеологической связи понятий, неоламаркисты – о реальных телеологических актах, о которых Кант и не упоминает, и т.д. Точно также и вопрос о пресловутой антиномии между механическим и телеологи-
—137—
ческим методом объяснения органических явлений решается неоламаркистами совершенно в иной плоскости и в ином духе, нежели у Канта. Паули основательно полагает, что разрушение этой антиномии вовсе не входило в намерение Канта при исследовании телеологической проблемы; ему нужно было перенести объяснение объективной разумности целесообразных явлений природы в критику человеческой способности познания, в субъективную гносеологическую область. Неоламаркисты же стараются доказать призрачность антиномии не путём критики понятий и способности суждения, а путём её приложения к действительности, как и подобает биологам. По их мнению, требование механической закономерности (а не механической причинности) отнюдь не ставит телеологический принцип ламаркизма ни в какую антиномию с механикой. «Принцип суждения», при современном состоянии наших знаний свойственный даже клетке, ничего не меняет в известной механической закономерности строения или функции органа. Динамические и статистические законы механики без всякого противоречия совместимы с «принципом суждения». Первые он обращает, благодаря соединённому с ним понятию физической энергии, в причину механических действий, а благодаря своему психическому предикату, оказывается психофизической причиной, притом эмпирического, а не метафизического характера. Органическая причина действует по механическим законам, на основании которых должен быть построен инструмент, аппарат, если им хотят достичь действий, к которым он предназначен; т.е. механизм органических явлений основан на чисто механических принципах, и его следует изучать с точки зрения механизма. Одно из больших препятствий для Канта для признания органической телеологии заключается в необходимости допустить возникновение жизни из неорганического, что Паули устраняет признанием некоторой оживлённости материи, т.е. некоторого естественнонаучного, не метафизического гилозоизма, основывающегося на фактических реакциях неорганических тел, уже экспериментально доказанных1683.
—138—
Этим признанием гилозоизма неоламаркисты в корне противоречат аристотелико-картезианскому воззрению на материю, как на нечто совершенно безжизненное и бездушное, какового воззрения держится и Кант, считая, что безжизненность и инерция – основные свойства материи, вытекающие из самого её понятия, которому противоречит, поэтому, понятие живой материи, так что гилозоизм, по его мнению, это «смерть натурфилософии».
Не входя в разрешение этого противоречия, мы укажем лишь, что у весьма многих современных философов и естествоиспытателей имеется несомненный наклон к гилозоизму, в особенности в связи с обще-энергетическим характером мировоззрения, и этот наклон имеет за себя некоторые серьёзные доводы. Точно так же сторонники психофизического параллелизма в большинстве случаев допускают наличность элементарных проявлений чего-то родственного психическому элементу даже в неорганической области, так что позиция неоламаркистов, при современном положении дел, совершенно не ведёт к «смерти натурфилософии», а скорее – к её возрождению.
Если мы подведём итоги всему вышесказанному, то убедимся, что всё же телеологии Канта и неоламаркистов не так противоречивы и несовместимы, как это кажется сначала; сами неоламаркисты признают из «Критики способности суждения» лишь одно важное для себя утверждение – о недостаточности одного механического объяснения природы и необходимости применения телеологической точки зрения при известных условиях; но и основное положение Канта, что понятие цели есть максима рефлектирующей способности суждения, нам кажется возможным совместить с телеологией неоламаркистов, настаивающей на объективном значении принципа цели.
Если мы берём схематизированный мир Канта, состоящий из целей и сочетаний абстрактных понятий, где нет развития и движения, где всё оценивается лишь с формальной, гносеологической точки зрения, то мы можем признать, что там принцип цели, действительно, играет приписываемую им Кантом роль; если же мы обратимся к данным опыта, к конкретным связям и процессам, наблюдаемым в эмпирическом мире, то там мы прину-
—139—
ждены будем признать и более широкое значение за принципом цели, – т.е. не только субъективное, но и объективное.
Формально эвристическое понятие цели приложимо при рассмотрении не только органических, но и неорганических процессов, если ряд причин и следствий мы будем рассматривать по отношению к некоторому конечному результату, т.е. по принципу обратимости причинной связи в телеологическую по Вундту и др. Понятие же целестремительности, характеризующее телеологический акт, не может быть применено к неорганическим процессам, так как в него мы вкладываем некоторое имманентное стремление, избирающее путь для осуществления телеологического акта, а также вкладываем и указание на цель, хотя бы не сознаваемую и не пред-намечаемую; всё это мы констатируем только в сфере органических и психических явлений. Задача психобиологии неоламаркистов и состоит в том, чтобы доказать, что сущность органических и психических явлений тождественна, что нет специальной «жизненной силы», а есть лишь универсальное начало психического характера: «принцип суждения» на низших стадиях развития, постепенно развивающийся, дифференцирующийся и достигающий превращения в сознательную психику высших животных и человека. При критическом рассмотрении «психобиологии» неоламаркистов, в связи с анализом волевой деятельности, мы вернёмся опять к вопросу о взаимоотношении телеологии и механизма, к решению этой кантовской антиномии.
П.Н. Каптерев
Критика
I. Феодор (Поздеевский), еп. [Рец. на:] Флоренский П., свящ. О духовной истине: Опыт православной Феодицеи («Столп и утверждение истины»). М., 1912 //Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 140–181 (2-я пагин.).
—140—
«Интересующимся новинками книжного рынка вероятно известна появившаяся не так давно книга о. Павла Флоренского под заглавием «Столп и Утверждение Истины». Опыт православной феодицеи в 12-ти письмах. Считаем необходимым заметить, что рассматриваемая нами книга и эта последняя при своём сходстве даже в заглавиях не тождественны в объёме своего содержания. Последней, т.е. нами рассматриваемой, не достаёт в сравнении с первой целых четырёх больших глав с примечаниями и пояснениями к ним. Упоминаем об этом исключительно с той целью и потому, чтобы предупредить возможность отожествления кем-нибудь этих 2-х книг, из коих нами рассматриваемая напечатана ещё в 1914 г.; тем более, что эти, недостающие нашей книге, главы в богословском отношении особенно интересны и могут давать как бы исходную точку отправления для определённой оценки и всей книги с богословской точки зрения преимущественно. Об этой книге уже и высказывались в печати мнения с богословской и философской точек зрения; надеемся они известны. Заметим только, что центр тяжести суждений и мнений об этой книге вовсе не сосредоточивался на тех главах, коих не достаёт нашей книге, а главным образом на тех, кои входят в нашу книгу и составляют её исключительное содержание. Таким образом, можно с правом говорить, что в рассматриваемой нами книге автор существо дела уже высказал, а потому всё характер-
—141—
ное для его религиозно-философского мышления в ней, очевидно, им выражено. Это так и на самом деле.
Автор хочет говорить в рассматриваемой нами книге «о духовной истине», хочет найти «столп и утверждение истины», как видно из самого заглавия книги. Эту задачу он и осуществляет вполне в тех семи главах, из коих состоит эта его книга (1 гл. Сомнение, 2-я гл. Триединство, 3-я гл. Свет Истины, 4-я гл. Утешитель, 5-я гл. Противоречие, 6-я гл. Грех, 7-я гл. Тварь с добавлением к сему обращения к читателю, и примечаниями), так что читатель остаётся совершенно удовлетворённым со стороны законченности самого труда и полноты раскрытия выдвинутых книгой вопросов; другое дело, остаётся ли он удовлетворённым по существу самих суждений автора и тех основных положений, кои устанавливаются автором в книге, а равно вопрос и в том, готов ли читатель признать бесспорным сам ход суждения автора и те окончательные выводы, к которым он приходит в своей книге. Тут дело конечно личного вкуса и мнения, как о всякой другой книге, как и о всякой другой вообще вещи.
Книга о. Павла удивительно оригинальна и своеобразна и по содержанию, и по построению, и по своему стилю, вот первое впечатление от неё. Заглавие книги, несомненно, определяет задачу книги, несомненно, также определяет, во всяком случае, естественно, чтобы определяло, и содержание книги. Так, по крайней мере, привык ожидать этого читатель, да так, кажется, обычно делает и всякий автор. У о. Павла оригинальность и своеобразность книги начинается уже от сюда. «О Духовной Истине», иначе «Столп и Утверждение Истины», вот как называется его книга. Этому вполне отвечает и указываемая самим автором совершенно определённая задача его труда в обращении к читателю. «Живой религиозный опыт, как единственный законный способ познания догматов», так мне хотелось бы выразить общее стремление моей книги, говорит автор (3 стр.). Православному человеку, особенно богослову, конечно, излишне пояснять, что догматы есть откровенные христианские истины, к которым и приложимо наименование духовных истин по преимуществу в отличие от всяких
—142—
других истин человеческих, научных или общежитейских, известно также, что это духовное и востязуется духовно по апостолу и что только духовный человек приемлет то, что от Духа Божия и что всякое ведение о Боге есть удел нравственной чистоты (чистые сердцем Бога узрят). Посему и приступая к чтению книги с таким определённым заглавием, как книга о. Павла «О Духовной Истине», всякий вполне может удовлетворяться таким точным соответствующим заглавием книги определением со стороны автора задачи своего труда и в дальнейшем может ожидать ничего иного, как рассуждений о христианских догматах и о религиозном опыте, как пути к их познанию. Задача труда, повторяем, указана автором на первой же строке книги в полном соответствии с заглавием. Далее: в числе христианских догматов есть догмат и о Церкви, так что, если наименование книги «Столп и Утверждение Истины» понимать как более частное определение задачи труда, сравнительно с тем, что даётся в наименовании «О Духовной Истине», то читатель вправе ожидать в дальнейшем у автора рассуждения о церкви, так как ведь и само выражение «Столп и Утверждение Истины» прилагаемое апостолом к церкви (1Тим.3:15), к ней и может только отсылать христианскую мысль. Само уже содержание книги должно показывать, рассуждает ли автор о церкви, как сокровищнице и утверждении истины, согласно мысли апостола и святых отец. Так или иначе, но читатель вправе ожидать от книги, что в ней будет речь о церкви. Да и сам автор не устраняет из сознания читателя идеи церкви, а, напротив, даёт полное основание думать, что он будет говорить о церкви, как вместилище тех «духовных сокровищ» (выражение автора), кои познаются живым религиозным опытом, к коим принадлежат и догматы церковные (См. к читателю 1 стр. ср., 1 и 2-я гл.). Итак, религиозный опыт, догматы христианские, церковь Христова вот те основные пункты или предметы, которые, кажется, ясно определяются самим автором, как задача
—143—
его туда в наименованиях самой книги и в первых её строках: раскрытие их вправе ожидать и читатель.
И, однако, в труде автора сразу нет специальной речи ни о догматах, ни о религиозном опыте, той речи, какую мы привыкли слушать или читать в сочинениях, посвященных указанным темам. Вот почему, быть может и сам автор, перечитывая потом свой труд и сопоставляя всё сказанное в книге с её наименованиями и с тем, что он сказал о задаче труда в первых строках обращения к читателю потом в послесловии к другой книге «Столп и Утверждение Истины», рознящейся от нашей книги только 4-мя новыми добавочными главами и преимущественно богословского характера, в частности заключающими и суждения о церкви (см. «Послесловие») должен был сознаться, что со стороны содержания его книга выполняет другую задачу, именно: она решает вопрос «как возможен рассудок?» «Попытку дать ответ на поставленный вопрос представляет вся настоящая работа в целом её объеме», говорит тем сам автор. А что автор совершенно прав в этом своём утверждении относительно своей книги и что высказанное нами выше мнение об её содержании не голословно и чтобы нам не навязать ему своих мыслей отсылаем читателя к «Послесловию» книги «Столпы и Утверждение Истины», где конспективно, но вполне определённо, последовательно и точно передан весь ход мыслей автора и дана им самим как бы краткая схема его труда, главным образом в приложении к первым 7-ми главам труда, общим с нашей книгой. «Теперь в конце немалого пути, как начинает автор своё послесловие, уместно оглянуться в спять и с достигнутой высоты осмотреть путь свой и точку отправления». Что же он видит с «достигнутой им высоты», и каков путь, совершённый его мыслью». «Есть два мира, говорит автор, этот и тот, первый весь рассыпается в противоречиях, если не живёт силами второго… Эти противоречия – антиномии и в нашем существе, как и во всей твари, они в нашей воле, в чувствах, рассудке… Рассмотрим рассудок наш. Он не целен, он рассыпается в антиномиях и их также много, как и актов рассудка. Од-
—144—
нако в существе своём антиномия рассудка приводится к дилемме: конечность или бесконечность… в рассудке статика его и динамика его исключают друг друга, но вместе с тем и не могут быть друг без друга… Первая есть закон тожества и как одна из норм рассудка требует остановки мысли, вторая есть закон достаточного основания и, как норма рассудка, требует беспредельного движения»… Рассудок равно нуждается в обоих своих нормах, и не без одной, т.е. без начала конечности, – ни без другой, т.е. начала бесконечности – работать не может. Он не может работать, однако и при пользовании обоими ими, ибо они не совместимы. Нормы рассудка необходимы, но они не возможны. Рассудок оказывается, таким образом, насквозь антиномическим в своей тончайшей структуре». Как же возможен рассудок? «Рассудок возможен не в самом себе, а через предмет своего мышления и именно в том и только в том случае, когда он имеет такой объект мышления, в котором оба противоречащие законы его деятельности, т.е. законы тожества и достаточного основания совпадают», другими словами, он возможен лишь при таком мышлении, при котором обе основы рассудок, т.е. начало конечности и начало бесконечности – становятся на деле одной»… Иначе: «рассудок возможен, если дана ему абсолютная актуальная бесконечность». Таким объектом мышления, делающим рассудок возможным, является, по автору, Триипостасное Единство. Триипостасное Единство есть «корень разума» и рассудок возможен потому, что есть Трисиятельный Свет и постольку, поскольку он живёт Его светом».
Дальнейшей задачей автора было выяснить, каковы формальные и реальные условия данности такового объекта. Вопрос «о вере веруемой – перешёл в вопрос о вере верующей» к образу её возникновения. Выяснив, что веры (т.е. Триединство как предмет веры) и «как» (т.е. доказав, что Триединство может быть воспринято только верой, а не рассудком), автор был поставлен лицом к лицу с новым вопросом – об условиях возникновения веры. «Геенна» или «подвиг веры» tertium non datur; вот чем обусловливается возникновение веры по автору. Но то и другое средство имеет в основе своей действенную
—145—
природу имеющего уверовать. Этой-то двойственностью теперь и было необходимо заняться далее. Это автор делает преимущественно в двух последних главах своего труда, под заглавием Грех (6-я гл.) и Тварь (7-я гл.), объясняя движение человеческого сознания к Трисиятельной Истине.
Мы нарочно, отчасти словами автора из послесловия книги «Столпы и Утверждение Истины» изложили схему его труда, чтобы избежать, быть может, менее точного изложения совершенно тех же мыслей автора по тексту содержания 1, 2, 3, 4 гл. рассматриваемого нами сочинения и чтобы показать те основные пункты и вопросы, на которых держится мысль автора и в том имеет оправдание высказанного нам впечатления: это схематическое изложение хода его мысли нам необходимо и для дальнейшего, так как придётся иметь дело с содержанием самой книги.
Итак, вопрос о рассудке в его основных нормах деятельности и в отношении его к истине и вопрос о вере, восприемлющей истину, вот что составляет основное содержание книги автора. Но почему же он, выдвигая идею церкви в заглавие книги, идею христианских догматов, как духовных истин и путь духовного опыта к их постижению, в самой книге как бы уклоняется от этой задачи. Нельзя же, ведь, на самом деле того, что он говорит собственно прямо о церкви в книге считать изложением богословского учения о церкви: даже более того: автор, упомянув вполне определённо в обращении к читателю, о церкви, как вместилище духовных сокровищ, нарочно и сознательно налагает печать молчания на свои уста и рекомендует в качестве пути познания этих сокровищ только духовный непосредственный опыт (3 стр.). Конечно, автор мог бы тогда говорить о церкви с точки зрения духовного опыта своего или чужого, о котором он знает, так как, ведь, если есть этот духовный опыт, как некое жизненное богатство, то, несомненно, можно и говорить об этом опыте в приложении к идее церкви. «Но кто я, чтобы писать о духовном, говорит автор. Ни я, никто другой, продолжает он, и не сможет определить, что такое церковность». Однако, всё же,
—146—
по его мнению, «церковность есть особая, новая жизнь, данная человеку, но подобно всякой жизни недоступная рассудку». Ещё точнее: «церковность, по нему, есть новая жизнь в Духе (разумеется, Святом), а церковь согласно апостолу, есть тело Христово, полнота наполняющего всё во всём» (Еф.1:23). Автор указывает даже критерий правильности этой церковности как новой жизни, именно, «красота» (стр. 7). Кажется, уже из этих определений автора церкви и церковности, как из вполне определённых богословских идей, по существу вполне православных и догматически верных, можно было исходить к построению целой богословской концепции о Церкви. Однако автор на восьми (80 страницах своего обращения к читателю неоднократно и с возрастающей настойчивостью продолжает утверждать о недоступности для человеческого рассудка понятия церковности, о невозможности для него определять и раскрывать её и о единственной возможности постичь её только приятием в свою жизнь самой стихии церковности. «Истинная церковность – православие – показуется, а не доказуется», говорит автор и решительно отсылает всякого желающего понять православие (т.е. истинную церковность) прямо к духовному опыту. Этим указанием на необходимость опыта он и ограничивает пока свои суждения и о самом духовном опыте, и о церковности. Всё это, несомненно, верно и с православной точки зрения не только приемлемо, но иначе и быть не может, однако не избавляет читателя от назойливости приблизительно таких вопросов и недоумений: если церковность есть особая, новая жизнь в Духе, то разве нельзя эту жизнь делать предметом теоретического рассмотрения на основе данных духовного опыта своего или чужого? разве процесс этой жизни и её законы не доступны для раскрытия? разве нет иного более определённого критерия правильности этой жизни, чем выдвигаемая автором духовная красота, которую способны разобрать, по словам автора, только особые мастера этого дела? Как и всякая человеческая жизнь слагается при участии всех наличных сил человеческого духа, так и в приложении к церковности должна быть и, несомненно, есть полнота участия в ней всех сил человеческой личности, теоретических и практических, почему и в церкви есть откро-
—147—
венное учение о котором дана заповедь: «шедши научите вся языки…», есть и Символ веры, как критерий истинной церковности, есть и частнейшие указания этих признаков истинности православной веры, вроде того наставления, которое даёт апостол Иоанн: «всяк не исповедующий Иисуса Христа, во плоти пришедша, есть антихрист»: и делами жизни доказывается или показывается не иное что как исповедание веры, (как это говорят апостолы Иаков и Иоанн) и жизнь в Духе может быть воспреемлема не только как красота, но и как истина и Добро, могущее быть критерием для самой духовной красоты и сами имеющие критерий своей истинности в откровении и разуме церковном. И, однако, повторяем, сам автор, давши движение мысли читателя в указанных направлениях своим определением, идеи церкви и церковности, решительно отказывается от дальнейшего приложения и продолжения своих суждений о церкви, как дела даже «бесполезного» (стр. 5 и 6).
Сказанное в приложении к идее церкви можно (целиком) относить и к идее духовной истины, как предмету исследования автора. Автор не определяет, что он разумеет под духовной истиной в отличие от недуховной: определение истины «истина есть интуиция – дискурсия» (39) вовсе не есть у него результат духовного опыта в приложении к христианскому догмату, на котором (т.е. на опыте) он настаивает; вне этого же опыта стоит у него и чисто православное построение понятий об истине; «что истина есть сущность о трёх ипостасях» (45). Автор пользуется в приложении к вопросу об истине терминами христианскими как-то неожиданно для читателя, исследуя рассудок в его норме и в его отношении к истине, предполагая «загодя», выразимся словами автора, в читателе способность понимать и восполнять недоговоренное им. Читателю представляется самому догадываться, что истина, определяемая автором в формуле христианского догмата (триединство), но выводимое как логическое построение из рассмотрения норм рассудка, делается или может быть называемая духовной потому, что воспринимается верой в атмосфере надежды и любви, вернее даётся Св. Духом (гл. 3, 4 и особ. 5). Конечно, здесь бы и уместно было го-
—148—
ворить о духовном опыте как процессе жизни, уясняющему истину и о триединстве как духовной истине, которую ищет автор. Однако он говорит здесь о духовном опыте как пути познания догматов – духовных истин, не в смысле цельного процесса жизни, а имеет в виду выяснение основных христианских настроений веры, надежды, любви в их отношении к приятию истины: причём о надежде только упоминается как бы мимоходом, а речь о духовной истине заменяется суждениями о предметах, относящихся к духовной жизни (гл. 5, 6 и 7). Так богословская мысль читателя, привыкшая отправляться от известных богословских терминов, в направлении тоже определённых богословских идей должна в сочинении автора сделать непривычную для неё своеобразную работу, чтобы всё-таки признать вместе с автором в заключение его труда, что цель его работы достигнута, т.е. духовная истина показана и столп и утверждение истины для человеческого сознания ясен. И мы действительно можем, не смотря на всё сказанное выше, прочитавши книгу о. Павла и совершивши совсем непривычный для богословской мысли путь, сказать: автор написал о том, о чём он хотел писать и что выразил в самом заглавии книги, он утвердил и уяснил в нашем сознании абсолютную ценность духовной истины (именно триединства, как основного христианского догмата) и утвердил в нашем сознании Церковь, как единое утверждение и столп абсолютной истины. И если бы нас спросили, почему же автор сделал это как бы несколько необычным путём, можем объяснить указанием на то, кому собственно автор предназначает свой труд. «Если я придаю некоторое значение своим письмам (т.е. своей книге состоящей из писем) то исключительно подготовленное, для оглашенных, пока у них не будет прямого питания из рук матери – значение, как огласительных слов во дворе церковном», (стр. 5 к читателю). Да, для стоящих ещё во дворе церковном и можно говорить о духовном и объяснить это духовное только таким путём, каким говорит в книге автор. Можно, спускаясь как бы до них, принимая и то, что они принимают как несомненное, в частности рассудок, как абсолютного монарха в
—149—
деле истины, разрушить те опоры их жизни, на коих они утверждаются, можно показать нелепость их упований и как бы сократовским чисто методом помочь родиться им для высшей истины. Автор буквально берёт как бы этих оглашенных со всею мощью их рассудочного богатства на свои уже окрепшие в духовном смысле плечи и неожиданно для них самих, знакомыми для них всё-таки путями приводит к отречению от своей мнимой истины к принятию трисиятельного света. Автор как бы питает их млеком, чтобы они возросли для принятия твёрдой пищи, ибо с душевными нельзя говорить языком выработанных богословских концепций, нужно к этому их приготовить и приготовить так, чтобы они уже не могли оглядываться в спять. Автор это и выполнил прекрасно в своей книге. В том и оригинальность, и своеобразность его книги, повторяем, что автор, указав в наименовании её определённую задачу, далее как бы отступает от неё, а в результате получает именно то, что он хотел сделать. Пусть читатель не поддаётся, как и нам думалось сначала, тому лёгкому объяснению, которое напрашивается сам собой на основании слов автора, что его книга состоит из набросков, писанных в разные времена и под разными настроениями (3 стр.) и будто, автор просто забывал свою цель. Это, правда, отразилось некоторым образом в книге, но вовсе не в том смысле, в каком мы доселе говорили. Нам хочется даже сказать, что книгой автора иллюстрируется как бы тот закон тожества или самотожества в высшей его форме, о котором он говорит в 1-й и 2-й гл. своего труда, в частности на стр. 43, что А, бывая не-А в этом находит своё утверждение как А. Так и у него в книге: предмет его сочинения, как бы переставая быть предметом содержания его книги, утверждает себя со всей ясностью. Может быть, это одна из многочисленных антиномий, о которых говорит автор, так удачно им разрешаемая. Это ещё не всё. Обратимся к самому содержанию его книги.
Мы уже раньше изложили словами самого автора схему его труда. Эта схема развёртывается у автора почти на 300 страницах книги в чрезвычайное богатство философских и богословских концепций, весьма тонких филологических
—150—
наблюдений и выводов из них, в тончайший анализ законов логического мышления и своеобразное приведение к объединению разнообразных продуктов мысли древних философов и мыслей святых отцов; всё это у автора удивительно спаяно в единстве задуманной цели труда и проникнуто живым чувством самого искреннего убеждения. И только на счет скромности автора, несомненно, следует относить его заявление в книге, «что он только набрасывает свои мысли, кажется больше чувствует, нежели высказывает», «я боюсь утверждать, говорит он, а предпочитаю спрашивать» (см. стр. 121 и 123). Если это и справедливо в каком-либо смысле, то разве в том, что автор действительно в своём труде более анализирует и обнажает элементы богословской и философской мысли, нежели строит последовательную систему и всё-таки в результате у него получается совершенно определённая концепция мысли, выношенная автором, прочувствованная и продуманная глубоко. В раскрытии схемы своего труда, особенно в первой её половине, автор избрал путь и способ логического анализа и философских концепций, а богословского элемента в первых главах его труда не так много. Несомненно, это объясняется назначением его книги для «оглашенных», привыкших к мирской философии, к логистике и к философскому методу; объясняется это тем, что он должен был сначала говорить в своей книге о рассудке в направлении поставленного им вопроса: «как возможен рассудок?» и только далее с главы 3-й у него прибывает богословский элемент и богословский способ мышления. Конечно и этому вопросу о рассудке, в его бытии и в отношении к познанию истины (автор как увидим и занимается собственно оценкой рассудка со стороны познания им истины, можно было придать решение в виде богословской концепции преимущественно, можно было и в приложении к нему философствовать стоя на почве чисто христианских идей и основных положений, высказанных св. отцами, тем более, что автор их вовсе не чуждается. Вероятно, автор знает, что у преп. Исаака Сириянина, есть весьма глубокие рассуждения по вопросу о познании человеческом, рассуждения глубоко философские, но
—151—
на почве христианских идей. Таковы преимущественно его слова о «трёх ведениях» (сл. 25, 26, 27, 28, 29, изд. М. Д. А. 1893 г.), в коих даётся изъяснение и природы рассудочного познания, и ценности этого познания. Как раз автору это на тему, но почему-то он совершенно опустил в своей книге мысли этого христианского философа. Надеемся, известен автору и другой великий христианский богослов и мыслитель, у которого есть не менее ценные суждения о рассудочном познании человека, чем у преп. Исаака Сириянина – это св. Максим Исповедник. Ведь у него совершенно такое же почти отношение к рассудку, как способу познания истины, как и у автора, т.е. объясняется полная недостаточность и несовершенство рассудочного познания. И примечательно то, что, как у преп. Исаака и Максима эта теория познания раскрывается из христианской идеи грехопадения и отсюда искажение человека, так и наш автор, хотя показывает недостаточность рассудка в деле познания истины из него же самого, т.е. из самого же рассудка, но в конечном итоге указывает причину этой недостаточности тоже в греховной порче. И, однако, у автора почему-то опять обойдён в этом пункте и св. Максим Исповедник. А разве не на тему автору, такое напр., суждение этого св. отца: «знай, что Адам первозданный создан был от Бога не воображательным. Ум его, чистый и безвидный, будучи и в деятельности своей умом, не принимал сам вида или образа от воздействия чувства или от образов вещей чувствительных; не употребляя этой низшей силы воображения… он высшей силой души, т.е. мыслью, чисто, несовершенно и духовно созерцал одни чистые идеи вещей или их значения мысленные. После же грехопадения Адам низринут был из мысленной оной, равноангельской, чистой, разумной и безобразной жизни в эту чувственную, многосоставную, многовидную, погружённую в образы и мечтания. Этим своим воображательным мечтанием человек введён во всевозможные заблуждения; нравоучения наполнились разными обольщениями, философия многими лжеучениями, богословие непотребными и нелепыми догматами и баснями, и не только древние, но и новейшие мыслители, желая любомудрствовать о Боге и о божественных, простых и недо-
—152—
ступных воображению таинствах (ибо в этом труде должна работать высшая сила души – ум), вместо истины нашли ложь и, таким образом, вместо богословов явились баснословами, предавшись по Апостолу в «неискусен ум» (Рим.1:28)… вот почему, если хочешь улучить божественный свет и истину обнажи ум свой от всякого воображения и памяти вещей чувственных, плохих и хороших» (см. «Невидимая Брань» изд. 1904 г. 114–116 стр.). Думается, что автору всё это на тему, в частности о памяти, которой он посвящает весьма достаточно внимания в 6 гл. своего труда. Мы понимаем, что автор писал для оглашенных и потому должен был вводить в их сознание элементы богословской мысли и христианского откровения с мудрой поспешностью; в этом резоне его отвлечённо философской и логической концепции и оправдание указанного нами как бы опущения. Но всё же ведь автор в ходе своих суждений о рассудке и об истине, должен был в пояснение расколотости рассудка и всего бытия выдвинуть идею греха, чисто уже богословскую, приемлемую конечно верой, а не рассудком и, таким образом, сделать логический разрыв в ходе своих рассудочных концепций и ввёл сюда элемент из иного богословского мира понятий. Может быть, и здесь некоторая иллюстрация неизбежности в этом мире повсюду антиномий, о которых так хорошо говорит автор в своём труде.
Но, кажется, пора уже подойти ближе к содержанию книги автора.
Основная мысль книги автора, к которой сводится всё её содержание и которая руководит всем ходом суждений автора, в конечном своём итоге может быть по нашему мнению выражена в богословском языке в следующем, известном всякому, изречении Спасителя: «если пребудете в словеси Моем, познаете истину и истина свободит вы» (Ин.8:32). Понятно конечно, что здесь утверждается необходимость веры во Христа и Его учение (принятие и пребывание в Его словах, т.е. в том, что Он говорил), как пути к познанию истины, утверждается далее и следствие этого познания истины – свобода. Каким путём Господь призывал к вере и доказывал её необходимость мы конечно знаем из Евангелия: как приво-
—153—
дили к вере св. Апостолы, как строилась их проповедь христианской истины, мы знаем немного, но основной характер этой проповеди всё же знаем на основании того указания, какое сделал Ап. Павел, заметив о своей проповеди, что «она была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1Кор.2:4) и что Христос послал его благовестить: «не в премудрости слова, да не испраздниться крест Христов» (1Кор.1:17). Жажда и искание истины была, конечно, и у современников Христа и апостолов; это было даже характерной особенностью Эллинов, которые по слову апостола «премудрости ищут» (1Кор.1:22) и, однако на путь премудрости в деле откровения истины ни Христос, ни апостолы не становились, а напротив отрицали этот путь. Требовалась только и только свободная вера словом проповеди, вне её логических предпосылок и доказательств, так как сама истина далеко выходила за пределы логических построений и выражала не идеальное устроение теоретически-познавательных сил человеческого ума, а единое реальное бытие, дающее смысл и человеческой личности («Я есмь путь, истина и жизнь» – говорит Христос), а вера утверждалась не как теоретико-гносеологический принцип в приложении к истине, а как онтологическое начало, как даже рождение для нового бытия, как сила, реально вводящая человека в новое соотношение с бытием, и действенная включительно до чудотворений.
Та же мысль о вере, как едином пути к познанию истины и об истине, дающей нам свободу, с чрезвычайно сильным и ярким пояснением исполнения на мудрых века сего слов писания «погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергну» утверждается и всей книгой о. Павла, но раскрывается не в стиле этой, приведённой нами на богословском языке формуле, а в другой научной философской оболочке, что даёт некоторую своеобразность и особенность основным положениям и суждениям автора. «Не интуиция и не дискурсия дают ведение истины, говорит автор на стр. 90 своей книги. Оно возникает в душе от свободного откровения самой триипостасной истины, от благодатного посещения души Духом Святым. Начатком такого посещения бывает волевой
—154—
акт веры, абсолютно возможный для самости человеческий и совершающийся чрез привлечение Отцом, сущим на небесах» (Ин.5:44). Если эти слова автора дополнить ещё тем, что он говорит применительно к словам Евангелия на стр. 19, что «познанная истина делает человека свободным»; свободным от всякого греха, т.е. от греха и в области ведения, ото всего, что неистинно, что не соответствует истине», то в них можно иметь краткое точное выражение содержания книги автора в его собственной концепции и формулировке.
Автор знает, как знали это и проповедники христианства, общее стремление к истине и потребность иметь её (см. стр. 9); знает, что истины ищут и искали путем рассудочного познания и рассудочных построений, ибо признают за рассудком и видят в рассудке конечную основу всякой истины, здесь же в его законах утверждают и критерий истины (гл. 1-я). И пока человек верит в свой рассудок, как в возможный путь для достижения истины, ему невозможно отказаться от этого рассудка и ступить на иной путь восприятия истины – путь веры. Автор знает и это и знает хорошо, что рассудок всё равно никогда не может привести к истине, к истине единой, божественной и абсолютной (см. 9 и 10 стр.) он и старается, прежде всего, в своей книге поразить рассудок насмерть (как он говорит) (стр. 50), чтобы те самые «оглашенные и стоящие во дворе церковном», для которых он пишет свою книгу, оставили этот рассудок, как негодный для познания истины, обновились умом чрез подвиг веры и в этой вере получили знание истины. Как же автор поражает и ниспровергает человеческий рассудок с пьедестала его величия, претендующего на монополию истины? Рассмотрением норм его деятельности. Рассудок может принять что-либо за истину, если соблюдены условия достоверности истины. «Достоверность истины, по автору, есть интеллектуальное чувство принятия произносимого суждения в качестве истинного» (стр. 19) и выражается у обладающего истиной в состоянии полной удовлетворённости… Достигается такое состояние удовлетворением суждения о чём-либо известному положению, называемому мерилом и критерием истины» (ibid.), так что вопрос о достоверности истины
—155—
сводится к вопросу о нахождении критерия истины. Таких критериев истины в рассудочном мышлении два: закон тожества – интуиция и закон достаточного основания – дискурсия; это две основные нормы деятельности рассудка на пути постижения истины. Могут ли они на самом деле гарантировать человеку истину? Нет, не могут, говорит автор, и доказывает это путём тончайшего логического анализа этих основных норм рассудка. По закону тожества – интуиции вся сила мышления состоит в том, чтобы всякое А разграничить от не-А и твёрдо держаться этого разграничения. Вместимо в рассудок и отвечает его требованиям лишь то, что выделено из среды прочего, что не смешивается с прочим, что замкнуто в себе и самотожественно (25 стр.) говорит автор; это статический план рассудка. По закону достаточного основания дискурсии – каждое А должно иметь свою основу в не-А; сущность всякого доказательства именно в приведении А к тому, что само не есть А, к не-А, ибо иначе объяснено было бы тождественном. Это динамический план рассудка – план устремления его к обосновке понятия (стр. 29).
Мыслить ясно и отчётливо это значит под А разуметь А и ничего более: объяснять и доказывать это значит выходить мыслью за пределы А к не-А. Мыслить ясно и отчётливо – это значит стоять на А и не сбиваться с него к не-А (закон тожества); объяснять, т.е. определять и доказывать это значит идти от А к Б – к тому, что не есть А (закон дискурсии – достаточного основания). Но чтобы объяснить и доказывать А надо его сперва мыслить ясно и отчётливо надо понимать это А, т.е. надо объяснить это А, т.е. определять, доказывать – надо устанавливать А как не-А; но для последнего опять-таки надо устанавливать А как А. Итак процесс идёт в бесконечность. Одна функция разума (?) предполагает другую, но вместе, одна исключает другую. Всякое ясное и отчётливое мышление устанавливает тожество А=А; всякое не тожественное объяснение приводит А к не-А. Утверждение А как А и утверждение его как не-А таковы два основные момента мысли. С одной стороны статическая множественность понятий, ибо каждое из многих А закрепляется в своём противоположении всем
—156—
прочим; с другой динамическое единство их, ибо каждое из многих А приводится к другому, это к третьему и т.д. (см. гл. 1 и 2-я). Один сам по себе закон тожества – интуиции, как критерия истины, не достаточен; он говорит только одно: всякая данность есть она сама; всякое А есть А, но почему, не отвечает, и поэтому из есть никак нельзя вывести необходимо (стр. 22). Если наличная данность является критерием, то как везде и всегда; поэтому все взаимно-исключающие А, как данные, истины – все истинно: но это приводит к нулю значение закона тожества (стр. 23) и рассудочное по закону тожества есть в то же время и необъяснимое, ибо объяснить А значит привести А к не-А, вывести А из не-А; но если А действительно удовлетворяет требованиям рассудка, то тем самым и не приводимо к другому, необъяснимо (стр. 25).
Итак, интуиция – закон тожества – в своей данности и реальности слепа и неразумна и достоверности дать не может (26 стр.). Так же недостаточен в смысле критерия достоверности и закон достаточного основания – дискурсия.
По этому закону достоверность какого-нибудь суждения полагается в приводимости его к другому суждению. В другом суждении данное является как бы оправданным в своей правде. Разум переходит от данного к суждению обосновывающему, а это последнее должно быть оправдано в другом и так далее без конца, именно без конца (37 стр.). Автор особенно настаивает на этой бесконечности дискурсии («дурной бесконечности», как он выражается) и старается доказать эту свою мысль, делая от сюда свой вывод, что дискурсия в качестве критерия истины не достаточна, ибо она является только возможной величиной, а не данной, хотя и разумной, т.е. удовлетворяющей разум (28 стр.). Итак, один закон рассудка – интуиция – закон тожества – создаёт слепую данность, данность неразумную, а дискурсия даёт разумность, но только возможную, а не данную. Конечная интуиция и безграничная дискурсия – вот сцилла и харибда на пути рассудка к достоверности, говорит автор (29 стр.); на пути рассудка выхода из этого положения нет и в результате скепсис, доходящий до собственного отрицания (32–33 стр.).
—157—
Заметим кстати, что эти страницы книги, где автор доказывает бессилие законов рассудка в деле истины и говорит о конечных результатах скепсиса, исполнены чрезвычайной красочности и силы. Как же быть далее с рассудком, как способом познания истины? Если рассудок в силу закона тожества должен всегда стоять на данном при многочисленности отдельных понятий, стоять на единичном и конечном, т.е. ограниченном, а в силу закона дискурсии – достаточного основания – должен идти на всякую данность; т.е. единичность и ограниченность, ибо всякое объяснение требует бесконечного ряда доказательных звеньев, из которых каждое нарушает самотожество понятия объясняемого, то ясно, что в рассудке действуют две совершенно противоречащие нормы, из коих одна требует остановки мысли (закон тожества), а другая беспредельного движения (закон достаточного основания). Но к этим двум законам сводятся все нормы рассудка, и рассудок равно нуждается в обоих их и не без начала конечности, ни без начала бесконечности работать не может. Но он не может работать и при пользовании обоими ими, ибо они не совместимы; нормы рассудка необходимы, но они невозможны и рассудок, таким образом, оказывается антиномическим.
Как продолжать искание истины? Автор категорически утверждает, что «для искания истины нужно оказаться вне рассудка, выйти за его пределы и к этому вынуждает нас сам рассудок, так как он всё равно отказывается служить» (стр. 38). И вот по необходимости, руководствуясь уже не философским скепсисом, а только чувством и надеждой избавиться от мучительности ἐποχή и найти истину приходится вступить на путь пробабилизма и сделать проблематическое построение имея, в виду, что быть может оно окажется достоверным. Таким образом, искание истины с почвы умозрения переносится в область опыта, фактического восприятия, но такого, которое должно соединять в себе и внутреннюю разумность (38 стр.). Автор и делает это проблематическое построение понятия истины: Истина есть интуиция – дискурсия (стр. 39), т.е. истина есть интуиция, которая доказуема, она есть реальная разумность и разумная реальность, или бесконечная конеч-
—158—
ность и конечная бесконечность (ibid). Утверждается новый закон: «духовного тожества» (48). Пробаблистически-предположительное построение ведёт к утверждению истины, как самодоказательного Субъекта, такого Субъекта, который чрез себя постигается и доказывается (40 стр.).
Это возможно только тогда, когда Субъект истины есть отношение трёх; отсюда и истина есть единая сущность о трёх ипостасях (41 стр.). Так автор приходит к утверждению основного христианского догмата о Триединстве, как основе истины. «Троица единосущная и нераздельная, единица триипостасная и соприсущная – вот единственная схема, обещающая разрешить ἐποχὴ, если только можно удовлетворить вопросу скепсиса» говорит автор (47); «найдена, по автору, единственная для разума (?) возможная идея истины». Но есть ли она вообще, да и можем ли мы мыслить истину, как самодоказанного субъекта? Для рассудка эта идея истины не имеет и не может иметь смысла; формула: «Троица во Единице и Единица в Троице» для него ничего не обозначает, говорит автор (55 стр.) «и, однако сами нормы рассудка, закон тожества и достаточного основания, приводит к такой формуле и к такому сочетанию терминов», сам рассудок требует, чтобы это положение было исходным пунктом всего ведения. Осуждая сам себя, рассудок требует Троицы во Единице, но не может вместить Её (55 стр.). Сам от себя разум и не пришёл бы никогда к возможности такого сочетания, только авторитет «власть имеющего» может быть опорной точкой для усилий разума построить себе новую норму деятельности и стать «новым разумом» (55 стр.). Это и делается свободным подвигом самоотречения, самоопределения, делается «верой», так что, если вообще достижимо «бестрепетное сердце истины», говорит автор, «то путь к нему гефсиманский подвиг веры» (56). Итак, истина может быть достигнута под условием освобождения из плена рассудка и в послушании веры: иначе погибель в ἐποχὴ (57 стр.); но так нужно рассуждать, если истина существует. А как получить знание не об истине, а знание самой истины? тоже верой; нам надо или умирать в агонии на нашем краю бездны скепсиса и ἐποχὴ или идти на авось и искать новой земли, на которой живёт правда, го-
—159—
ворит автор, Это мучительное колебание должно разрешиться началом живой веры в истину» я не знаю, есть ли Истина, но ощущаю всем нутром (говорит автор), что не могу без неё; может быть её нет, но люблю её и отношусь к ней как существующей и, преодолевая трояким подвигом веры, надежды и любви коснись закона тожества, свою судьбу, разум, саму душу всего искания – «требование достоверности» – я вручаю самой истине и вступаю с ней в личное, живое общение (стр. 62 и 67).
Может быть, мы слишком долго остановились на изложении хода мыслей автора в его критическом анализе рассудка, но это существенно необходимо, так как ведь к признанию необходимости веры и христианской истины автор хочет приводить человеческое сознание этим путём чисто логического процесса. Рассудок сам себя должен отвергнуть, ибо он не может вместить такой истины, которая соответствовала бы его собственным нормам и для того, чтобы получить Истину единую и абсолютную, на которую могло бы опереться человеческое сознание, нужна вера, а сама Истина, соответствующая нормам рассудка, но в тоже время и превышающая их, есть христианский догмат Триединства. Таково утверждение автора, раскрываемое главным образом в первых трёх главах его сочинения и дополненное в раскрытии 4 и 5-й главами. Хочется поставить автору ряд вопросов, невольно возникающих при ознакомлении с ходом его мыслей и суждений. Почему автор не сделал нигде в своём сочинении ни нарочитого примечания, а ещё бы лучше нарочитой предпосылки, в которой изложил бы, хоть кратко и на почве общепринятой в науке психологии, как нужно смотреть и как он сам смотрит на разум человеческий и на рассудок; что есть разум и что есть рассудок? вот что оставлено по нашему мнению без достаточного разъяснения.
Автор решает в сочинении вопрос, как возможен рассудок и конечно читателю требуется ясность в установке понятия о рассудке и строгое разграничение терминов: ум, разум, рассудок, чтобы избежать некоторых может быть даже излишних недоумений. А между тем у автора употребляются эти два термина: разум и рассудок, как будто без достаточной разграниченности. В некото-
—160—
рых случаях как будто он понимает рассудок в том смысле, что падший разум и есть рассудок. Но тогда, почему же в других случаях он сам различает их и говорит всегда о рассудке, да и мы привыкли различать их; во всяком случае, автор должен был пояснить своё определение и понимание рассудка.
Глава 1-я у автора по преимуществу говорит о рассудке и о формах суждений. Здесь как будто рассудок противопоставляется разуму: «то, что рассудочно, говорит автор, то неразумно, – несообразно мере разума; разум противен рассудку, как и этот последний первому» (стр. 25). Заметим, что пред этим автор не делал ни каких замечаний о разуме, как он его понимает и как устанавливать нужно его отношение к рассудку, о котором он всё же более или менее даёт возможность составить понятие на основании предшествующих страниц (1–24). Совсем иное о разуме говорит автор на 26 стр.; понимая под ним деятельность рассудка: «обращаюсь теперь к суждению опосредствованному, т.е. к дискурсии, ибо здесь разум discurrit – перебегает к суждению какому-то другому»: «разум переходит к суждению обосновывающему». И таких мест, где вперемежку, без достаточных объяснений употребляются термины: рассудочность, разумность, разум и рассудок можно указать в книге почти на каждой странице (снеси, напр. стр. 37, 38, 43, 47, 54, 55 особен.), 59, 60, 63, 64, 68, 69, 153, 132, 163 и т.д.).
Впрочем, указанный по нашему мнению пробел в ходе суждений автора приложим не только к этому пункту, главному в сочинении, о рассудке, а характерен, пожалуй, вообще для книги автора. Глубоко переживая христианство и понимая всё, что относится к области богословской терминологии, он как бы забывает, что пишет для малопонимающих, оглашенных, и пользуется этими терминами как-то неожиданно, предполагая их понятными, напр. говорит о «духовной жизни» (70), «об умном мысленном свете» (91 стр.), о «духовном опыте» и «подвиге» и прочем, как о вещах совершенно понятных, не раскрывая их. Это первое, что хочется заметить автору по поводу его суждений и анализа человеческого рассудка. Далее.
Если основные законы деятельности рассудка не могут
—161—
гарантировать человеку в конечном результате ничего кроме скепсиса и ἐποχὴ, то какую же цену могут иметь суждения самого автора, несомненно, строящееся не вне законов рассудка? Могут ли они (эти суждения) иметь даже ту цену пробабилизма, какую он сам за ними хочет признать, составляя понятие об Истине. Если от скепсиса и от мук ἐποχὴ, если только они будут доказаны неоспоримо, можно избавить себя, вступив на путь веры в христианскую Истину, как единственную остающуюся вероятную Истину, то можно ли ступить на путь надежды, хотя и не логической, как выражается автор (стр. 36), что в Истине, как её определяет автор (истина есть интуиция – дискурсия) можно найти удовлетворение требованиям рассудка об Истине. Там, действительно полная разочарованность в рассудке и жажда Истины может создать психологическую необходимость веры в христианскую Истину, а здесь автор, выходя в пробабилистическом построении понятия об Истине за пределы рассудка (стр. 38) и в то же время показывая, что такого построения требует сам рассудок и сам стоя в своих суждениях, несомненно, на почве законов рассудочной деятельности, отнимает, кажется, и логическую, и психологическую необходимость веры. Логическую потому, что пробабилизм никогда её не может создать и не может обязывать рассудок себе, ибо он требует логики. Да едва ли и сам автор желает такой веры, судя по тому, что он говорит на стр. 60 и на протяжении первых 2-х глав. А психологическую потому, что в собственном построении автора можно находить для себя возможность отстаивать права рассудка, искать его утверждения в разнообразных новых пробабилистических построениях истины. Итак, если читатель принимает суждения автора о рассудке и результаты их за истинные, то действительно должен отрицать рассудок, как критерий истины, а если, убедившись чрез суждения автора в истинности отрицания рассудка, захочет быть последовательным, то должен отрицать и суждения самого автора, т.е. должен был утверждать рассудок. Эту антиномию, кажется, автор не разрешает по тому типу, по какому он ищет разрешения антиномии законов рассудка в высшем законе тожества (43 стр.). Мы затрудняемся
—162—
несколько понимать, какую необходимость веры автор утверждает: чисто логическую или психологическую. Если судить потому, что он саму идею Истины строит исходя из основных законов рассудка и ищет формулы, которая бы хотя и выходила за пределы рассудка, то удовлетворяла его в основных непримиримых его моментах, то можно думать, что автор ищет логической необходимости веры. Но тогда зачем же он повторяет неоднократно на страницах своей книги, что и вера и ведение Истины от Бога, от Св. Духа и т.д. Да и какое бы тогда было преимущество этой веры и различие её от всякой другой веры, гносеологической, научной. Если же автор желает показать психологическую необходимость веры, то зачем он стремится непременно в чертах Истины видеть осуществляемыми законы рассудка и из этих законов исходить в построении идеи Истины? В первом случае рационализируется Истина, стоящая выше рассудка и всё же не достигается цель, во втором случае делаются ненужными те логические построения идеи Истины, которые находим у автора. Может быть, автор предполагает уяснить необходимость наличности той и другой, но ведь едва ли область логики может в каких-нибудь определённых рамках уживаться с психологией, особенно с психологией чувства (см. 37, 36 и др. стр. 1-й, 2-й и 3-й гл.), столь разнообразного в своих зарождениях и едва ли можно утверждать в то же время свободу подвига веры. Далее: автор рассматривает закон рассудочного познания, процесс суждения и образования понятий и строит понятие истины в том направлении, чтобы эта идея Истины, хотя и выходила за пределы рассудка, но удовлетворяла его законам: «итак, если истина есть, то она интуиция-дискурсия», говорит автор (стр. 39); «такова абсолютная Истина, если она существует: в ней должен находить себе оправдание закон тожества», продолжает он (40). Итак, законы гносеологии, заметим, низшей гносеологии, рассудка падшего человека, возводятся как бы в законы гносеологии и ими определяется реальное лицо, бессмертной и пресветлой Истины. Не слишком ли дерзновенно проникать рассудком в природу Абсолютной Истины – Тройческого Единства на основании анализа рассудка? Может быть
—163—
автор от этого и впадает в некоторый круг или противоречие. Строя идею Истины так, чтобы она осуществляла собой идеальное сочетание законов рассудка, как критериев Истины, он должен был с одной стороны строить эту идею так, чтобы она не вмещалась в рассудок, иначе утверждался бы рассудок и признавалась бы абсолютная Истина приемлемой и постижимой разумом, и отвергалась бы вера; с другой стороны, так строит, чтобы Истина эта была, как бы тесно связана с ним, даже была бы объектом его мышления, как он сам говорит, что рассудок возможен в том только случае, если он имеет такой объект мышления, в котором оба противоречащие «закона деятельности его совпадают». Таким образом, желая объяснить и тем утвердить рассудок, автор то противоречие в нём, которое касается норм его деятельности, как критериев истины, разрешается созданием такого объекта мышления, в котором это противоречие уничтожено, и который всё же рассудком быть воспринят и мыслим, не может. Так рассудок и утверждается и уничтожается одновременно; правда автор принимает и разрешает эту антиномию утверждением «нового высшего закона тожества» (48 стр.), науке кажется ещё не известного. Если это так, то, может быть, в этом громадное открытие автора в области гносеологии. Если автор признаёт, что абсолютная Истина – триединство – не может быть предположением рассудка (102 стр.) и выводом из анализа рассудка при совершенном неведении её, а может быть она дана как внутренний факт жизни благодатью Христовой, то кажется проще было бы её осветить и оценить законы рассудочного познания и установить для них должное место. Правда у автора другая цель: привести чрез рассудок к вере; но тогда быть может искусственно не приписывалась бы рассудку та антиномичность, которой в собственной его деятельности нет, но которая действительно обнажается при свете христианской истины, которая действительно противоречит рассудку и категорически его отрицает и им определённо отрицается, как безумие и буйство. Мерка рассудка в отношении к христианской истине совершенно неприемлема, почему и требуется христианством обновление ума и ожидается упразднение разума.
—164—
Хочется спросить автора: рассудок сам по себе антиномичен или только в отношении к абсолютной истине и при сопоставлении с ней? Говоря о рассудке в его основных нормах, автор загодя уже не освещает ли его другим, ему самому уже светящим светом – Истины и только, как бы скрывает это от «оглашенных»? В самом деле, откуда у него антиномичность рассудка? Рассудок, как определённая познавательная способность действует по своим законам, как ему следует, и расколот не он, а весь человек, как и автор; увидим далее, признаёт это, расколот дух, ум человека. Рассудок заменил простое ведение, чистое созерцание умом всего познаваемого, познание стало процессом, а не простым актом ведения, как учат св. отцы. И конечно идея Абсолютной Истины, идея бесконечности, идея единства и т.д. это уже не идеи рассудка, а чего-то другого, может быть духа человеческого или ума, или разума, как угодно. Откуда собственно автор взял в рассудке динамический момент с планом в бесконечность? Напротив, в этом динамическом плане рассудок сам по себе, кажется, хочет непременно всё привести в конечность, каждое суждение привести чрез другое непременно к конечной ясности и обоснованности его, каждую интуицию, если она не ясна, объяснить чрез другое, но в результате найти её именно, и неудовлетворённость его происходит вовсе не потому, что он стремится в бесконечность, а оттого, что стремится к конечности, только не находит действительно такого первого, или (как угодно) последнего ясного, твёрдого и прочного, к чему можно всё привести, как в последней основе истины, но потому не находит, что берётся за непосильную работу, свести бесконечность в конечность, стать выше себя. И всё-таки фактически, хотя и заблуждаясь, рассудок в своём динамическом плане никогда не бывает бесконечным; он делает как бы мгновенный пробег по цепи суждений и всегда интуицию имеет так или иначе объясненной, т.е., осуществляет интуицию – дискурсию, хотя и низшей пробы. В том и состоят заблуждения рассудка (разные философские и религиозные учения), что он искал всегда воплощения интуиции – дискурсии в конечном и ложном, а христианство открыло истинную интуицию – дискур-
—165—
сию в Боге Триедином, в сочетании познания и жизни, в живой личной Истине Иисуса Христа.
Нам думается, что автор невольно и сам признаёт за рассудком динамический план не в бесконечность, а именно в конечность; собственно в заканчиваемость, чего и желает всегда рассудок. Исходя из анализа рассудка в построении идеи истины, автор как раз, кажется, вводит конечность в тот процесс «трёх», коим осуществляется актуальная бесконечность, именно А находит себя в Б как А, хотя и доказанным; процесс заканчивается нахождением или созерцанием себя чрез другое в третьем, но это третье есть доказанное первое. Что можно от сюда вывести в приложении к христианской истине кажется понятно и без пояснений. Нам кажется, что рассудок антиномичен не сам в себе, а только при сопоставлении его лицом к лицу с христианской истиной Триединства и пр. и только в отношении к ней; причём главная основа различия их: т.е. рассудка человеческого и разума Божия, в том, что наш рассудок исходит из различия различаемого им, вводя это в закон и норму бытия (отсюда и потребность дискурсии), а разум Божий, открывшийся в догмате, признавая различие различаемого утверждает вместе с этим и исходит из тожества различаемого и различного для рассудка, имея это нормой высшего бытия и предметом ведения и созерцания в вере, а не чрез рассудочное познание. А если в человеческом разуме признаются как бы врождённые идеи истины, бесконечности и прочее, то может быть объяснение той вечной неудовлетворённости рассудка в его познании истины; – и наличность антиномии в человеке может быть следует усматривать между разумом и рассудком в их требованиях. Может быть, мы и ошибаемся в этих своих суждениях, но они невольно возникли при чтении книги автора, главным образом в первой его половине. «Да и кто мы, скажем словами автора, чтобы писать и высказываться с уверенностью о философии и философской мудрости». «Вем бо и аз свою скудость и зазираем бываю совестью своею и худоумием своим; паче же и много тягостно ми сие великое дело есть» (см. стр. 5 к Читателю).
Однако перейдём к частностям. В первой главе (Со-
—166—
мнение) автор ищет Истины или достоверности Истины с точки зрения законов рассудка и, обнажая, можно сказать, самые корни рассудочной деятельности, находит в рассудке только одно противоречие и полную его непригодность привести человека к Истине, не частной какой-нибудь истине, а Истине вековечной, единой, божественной и абсолютной (см. стр. 9). Результат рассудочной деятельности в поисках Истины только один; абсолютный скепсис и полное Ἐποχὴ от всякого суждения, будет ли оно утверждением или отрицанием, воздержание даже от утверждения и высказывания самого скепсиса. Нам хочется спросить, имеет ли в виду автор в первой главе показать, что рассудок человеческий не может по своим законам достичь и получить знания об истине или саму Истину. Ведь автор сам эти две вещи различает, как видно из дальнейшего, очень строго. Так, в главе 5-й (Противоречие) утверждая, что Абсолютная истина провозвещается твари, значит и человеческому рассудку, Духом Святым, автор говорит, что знание Истины (слово истина с большой буквы), т.е. усвоение её тварью во времени и в пространстве делает уже знанием об Истине, а знание об Истине (истина с большой буквы) есть истина (истина с малой буквы стр. 136). Итак, в первой главе автор ищет Истины или знания о ней, т.е. истины? Кажется ведь то определение Истины, какое он даёт на стр. 39 «Истина есть интуиция – дискурсия» (истина с большой буквы) или то, какое он даёт на стр. 45 «следовательно, Истина есть единая сущность о трёх ипостасях» (истина опять с большой буквы) есть всё-таки положение человеческого рассудка, хотя и пробаблистическое сначала (по автору) см. стр. 37–38), значит, есть уже суждение об Истине, выражение человеческого знания об Истине и, следовательно, есть уже истина, (истина с малой буквы) согласно утверждению самого автора на стр. 136, как надеемся и всякий христианский догмат есть знание об Истине; так ведь понимает догматы и сам автор в главе 5-й см. стр. 136–140.
И, однако, автор, выдвинув в 1-й гл. вопрос об абсолютной Истине с точки зрения нахождения её рассудком и сам потом строя понятие об Истине везде пишет это слово с большой буквы, очевидно разумея не знание
—167—
об Истине, а предполагая говорить и искать самой Истины. Это по нашему мнению всё-таки нужно бы автору пояснить. Тем более, что во 2-й главе он уже говорит только о найденной для разума идеи истины (истина с малой буквы) (стр. 47). Далее: «в истинности Истины удостоверяет достоверность, говорит автор (11 стр.), а достоверность есть интеллектуальное чувство принятия известного суждения в качестве истинного; это чувство (удовлетворённости, так его нужно называть) достигается соответствием суждения критериям истины» (19). Итак, не вводится ли субъективизм в эту область, где должна рождаться истина, ибо где же объективная и общая мера того, что критерии (закон тожества – интуиции и достаточного основания – дискурсии) в данном случае действовали правильно у известного человека; чувство удовлетворённости настолько субъективно и изменчиво, что апеллировать к нему, особенно в искании и принятии единой истины рискованно, вот почему и пробабилистическое построение понятия истины, делаемое автором, может быть и единственным выходом из скепсиса и ἐποχὴ, а в зависимости от состояния духа мыслящего может быть принято и иное построение, как истинное, по крайней мере, до времени. А автор как бы спешит навязать это понятие об Истине читателю, как бы считая его единственно возможным пробабилистическим построением, даже более того, он незаметно как бы делает логическую непоследовательность, а именно: построив пробабилистическое понятие об Истине на стр. 38–39, он этот свой пробабилизм, относящийся только к понятию истины, тут же на стр. 39 переносит уже на её бытие: «итак, говорит автор, если Истина есть, то она – реальная разумность и разумная реальность» (39). Значит, теперь должен быть вопрос, есть ли эта истина, а не о том, правильно ли определяет пробабилистическое построение автором понятия Истины эту Истину; она берётся уже как бы несомненное для дальнейшего раскрытия, что есть Истина. И хотя автор неоднократно упоминает об опыте, как пути восприятия истины (стр. 39:39) но здесь в 1-й гл. определение истины не результат опыта, а результат неудовлетворённости чувства и неудовлетворён-
—168—
ности рассудка с апеллированием к необходимости веры на почве живущей в человеке истины (30) и надежды, что она есть (36). На этой несомненной почве у автора, как это можно видеть во 2-й гл. (Триединство) определяется уже новое в сравнении с прежним отношение к сделанному им понятию Истины. «Найдена единственная для рассудка возможная идея Истины, пишет автор, однако не рискуем ли мы остаться с одной только идеей – вот вопрос. Истина есть несомненно то, что мы сказали о ней (разумеется в предшествующей главе); но есть ли она, мы того не знаем» (стр. 47). Таким образом, автор уже не сомневается, что Истина есть то, что о ней раньше сказано, вопрос только о её бытии. И этот вопрос, как вопрос об истинности самого понятия об Истине, решается требованием веры, которой нужно в этом случае принести в жертву разум человеческий и все её богатства. «Свою судьбу, свой разум, саму душу своего искания – требование достоверности я вручаю в руки самой Истины» говорит автор, чрез веру в само её бытие» (стр. 64). Заметим кстати, что эта 2-я глава у автора чрезвычайно сильна и красочна и такого психологически глубокого выяснения необходимости веры в догмат троичности, и выяснения отношения рассудка к догмату, едва ли можно указать у кого. Глубокого и серьёзного внимания богословов заслуживают и суждения автора о заслугах св. Афанасия В. в борьбе с арианством, анализ автора терминов «ὑπὸστασις» и «οὐσια»; «ὀμοούσιος» «ὀμιούσιος» и раскрытие им процесса веры, начиная с той стадии, на которой она, т.е. вера, говорит сначала словами Тертуллиана: «credo quia absurdum est», затем с Ансельмом Кентерберийским «credo ut intelligam» (57–58). Так, требуя веры в бытие или данность Истины и преодолевая при помощи Божией (64) трояким подвигом веры, надежды, любви» закон рассудка (36), автор не только уразумевает свою веру (стр. 58), но и вступает с Истиной уже в живое, личное общение (стр. 66 гл. 3-я), согласно слову писания, что «вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11:4). Третья глава сочинения (Света Истины) и посвящается автором уяснению вопроса о любви как пути познания Истины
—169—
и того основного утверждения, что ведение Истины, открывающееся в таинстве Троичности, вне Христа невозможно (102 стр.). «Ведение Истины, говорит автор на стр. 90, возникает в душе от свободного откровения самой Триипостасной Истины, от благодатного посещения души Духом Святым. Начатком такого посещения является волевой акт веры, абсолютно невозможный для самости человеческой и совершающийся «Отцом сущим на небесех» (Ин.5:44). Итак, путь принятия истины – вера, а путь познания (опытного) истины есть любовь. «Сделав усилие над собой ради любви к Истине, говорит автор, я вступил с Истиной в личное, живое общение (неохотно добавляю: если только Она есть вообще)»; в любви я нашёл начальную стадию давно желанной интуиции» стр. 66, ср. 85 (т.е. интуиции разумной, а не слепой; – интуиции самодоказанной). И так как Бог или Истина есть любовь (67 стр.), то в любови и открывается новый путь практического познания, который можно и должно назвать подвигом личного опыта (67 стр.). Автору прекрасно, по нашему мнению, удаётся выяснить это основное положение, «что только в любви мыслимо действительное познание истины, а равно, что познание Истины обнаруживается себя любовью» (69 стр.). В богословском смысле эта глава чрезвычайно интересна и ценна, как уясняющая божественную природу любви, как сущности христианства и как начала божественной жизни и Истины. При этом автор сам настаивает, что любовь он понимает не «в субъективно-метафизическом» (86), почему и суждения о любви у него заканчиваются в этой главе раскрытием начал той духовной жизни, которая зарождается в сфере любви, ведёт к общению с Богом – Истиной, к Свету умному, но только чрез подвиг жизни, чрез очищение и возрождение, совершающееся на аскетическом пути (94–95 и сл. стр.). Нам хочется сделать только небольшое замечание к этим прекрасным и глубоким рассуждениям автора. Если бы автор в предшествующих главах рассуждал в сфере христианских понятий и на почве уже верующей христианской мысли, то ничего бы не было странного, если бы он в 3-й гл. сразу же заговорил о Боге, как любви и о живом общении с Богом-
—170—
Истиной чрез любовь, предполагая это уже приемлемым для христианского верующего разума. Но ведь, во-первых, он говорит об общении с тем, что в бытии ещё не доказано, это и сам он оговаривает словами: «если только истина есть»; во-вторых, утверждение его «если Бог есть – а для нас это делается несомненным (?), то Он, необходимо, есть абсолютная любовь» (стр. 66), не обоснованно в предыдущем, ибо там о любви собственно говорилось как о субъективно-психологическом настроении человека в отношении к истине, а не как объективно-метафизическом живом начале, вводящим человека в реальное общение с истиной и в жизнь Истины. Это стало необходимо автору для того, чтобы обосновать новый гносеологический принцип – нравственный личный опыт, открывающийся в христианской любви. Всё это, повторяем прекрасно понятно и приемлемо в сфере раскрытия богословских понятий для верующей мысли, а в ходе суждений автора кажется некоторой методологической некорректностью.
Автору следовало самому как-нибудь добираться до тех основных христианских понятий, которые у него выдвигаются вдруг как данные и только потом уже объясняются в том направлении, какое определила предшествующая его работа; причём всегда заметна тенденция всё рассматривать под углом закона тожества, как его преодоление или одухотворение, как будто можно все процессы христианской жизни сводить на гносеологию и само духовное возрождение видеть в освобождении от έποχή (стр. 80 и след.). И почему опять здесь автор, признавая триаду основных настроений в духовном подвиге человека в отношении к истине; «верь в Истину, надейся на Истину и люби Истину» (говорит он), совсем опускает и здесь, и в дальнейшем вопрос о значении надежды (см. стр. 67 и сл.).
Может быть следовало бы попытаться найти ей место в приложении к вопросу об аскетическом пути, которому автор уделяет по существу дела очень много внимания в своём сочинении и скажем даже: всем своим сочинением он проповедует аскетизм, глубоко его понимает и раскрывает, так что для науки аскетики сочинение
—171—
о. Павла даёт прекрасный материал, указывая пути установки самих основ аскетизма, как факта жизни и аскетики, как науки об этом духовном искусстве из искусств (стр. 94). Кажется сам автор на стр. 122 (4-я гл. Утешитель) весьма определённо высказывает своё интимное чувство, в котором христианская надежда утверждается как успокоение верующего сердца в отношении к будущим судьбам Церкви, дающее твёрдость подвигу духовного возрождения, в частности она утверждается как бы предощущение полноты благодатной жизни Церкви Христовой в Святом Духе. Но всё же автор так и ограничивается этим только чувством по отношению к христианской надежде в смысле указания её объекта, а главу 4-ю посвящает, можно сказать, исключительно вопросу о третьей ипостаси Св. Троицы, т.е. Святому Духу, как совершителю благодатной жизни в человечестве, просвещающего человека светом Истины и преобразующему всё тварное естество (105 стр.). Автор, между прочим, останавливает в этой главе своё внимание на том факте, что в христианском церковном сознании и в истории богословской мысли идея Св. Духа, как третьей ипостаси, менее раскрыта сравнительно с идеей Сына Божия, как второй ипостаси и даёт этому объяснение. С этой целью он делает весьма интересный обзор исторической богословской мысли в лице её виднейших представителей (Тертуллиана, Оригена, Иустина Философа, Григория Богослова, Василия Великого, Афанасия Великого, Григория Нисского или памятников письменности Ерма, св. Климента Ал. и др., равно аскетов: Симеона Нового Богосл., Максима Исповед.) и констатируем постоянную «явную как бы недоговорённость или несмелость богословской мысли в отношении к вопросу о третьей ипостаси Св. Троицы». Сам автор объясняет это тем, что в жизни Церкви не пришла ещё полнота времён; земная Церковь совершает свой воинствующий путь и пока только отдельные духовные личности на конце своего тернистого подвижнического пути получали осияние и ведение Св. Духа, а полнота общецерковного откровения Св. Духа и ведение его совершится при полноте всего обновлённого тела Церкви, когда уже времени, т.е. истории не будет, а будет новая земля и новое небо, т.е. за пределами этого мира (см. стр.
—172—
104, 105 и др.). При этом автор прекрасно выясняет всю несостоятельность и ложь людей так называемого «нового религиозного сознания», чисто хилиастически ожидающих какой-то эпохи Параклита, т.е. полноты откровения Св. Духа в пределах земного, исторического существования (стр. 119, 126–127) Церкви и защищает (автор) Церковь от той грязи, которой её забрасывают (см. стр. 122). Все эти прекрасные мысли автора по нашему мнению для большей ясности требовали бы маленькой корректуры. Сама идея Св. Духа, совершающего в человеке познание Истины и жизнь в Истине (стр. 1 и 4), т.е. подвижничество, в ходе мыслей автора кажется, недостаточно определяется в своём ограничении от идеи других ипостасей Св. Троицы. Только ведь перед этим автор на стр. 91 говорит, что Истина, как «свет разума» воссияла миру Рождеством Христовым, почему и поётся в тропаре:
«рождество Твое Христе Боже наш
возсия мирови свете разума…»
почему и Христос называется «Тихим Светом», «Светом Истинным» и т.д. Далее: что собственно означают слова автора, что о Св. Духе, как Ипостаси менее знают в сравнении с тем, что сказано о Сыне Божием, как об Ипостаси? Что значит знать, как об Ипостаси? (см. стр. 112, 116, 117 и др.).
Бытие Св. Духа, как Ипостаси, ведь утверждается постоянно в Евангелии и, особенно в Деяниях и Посланиях Апостольских, в Символе Веры, в творениях св. отцов, особенно у аскетов и в богослужебных книгах. Если автор ссылается на службу пятидесятницы в доказательство своей мысли, то почему же он не берёт во внимание стихирь и тропарей этой службы, а только одни молитвы на вечерни, почему не берёт специальной службы Св. Духу. Если, по его мнению «образ исхождения Св. духа остаётся неизъяснимым», как говорит Василий Великий и о «непостижимости исхождения Св. Духа» говорит Григорий Нисский, то ведь те же св. Отцы и многие другие и «рождение Сына от Отца» называли «неизреченным». А то, что говорит Григорий Богослов в своих «Догматических поэмах», именно его слова: «и ещё Спаситель го-
—173—
ворил, что будем все научены снисшедшем Духом… Сюда-то я отношу и само Божество Духа, ясно открытое впоследствии, когда уже видение сиё сделалось благоприемлемым и удобовместимым, по прославлении – ἀποκατάστασιν – Спасителя» стр. 130, кажется вовсе мало подтверждает мысль автора, хотя и приводится у него для подтверждения его мысли. Нам думается, что в отношении к третьей Ипостаси Св. Троицы в истории церковного сознания дело обстояло таким образом. Первое время все христиане были харизматиками, переживали явление Св. Духа и общение с Ним было как факт внутренней жизни и потому говорили о нём (особенно Апостолы в Посланиях) постоянно и просто как о явлении обычном в христианской жизни и несомненном; потом харизма сократилась и харизматиками явились аскеты (как говорит и автор стр. 231) и вообще особые облагодатствованные избранники Божии, которые также говорили о Св. Духе, постоянно переживая его в личном опыте (почему все аскетические творения полны речами о Св. Духе). Для большинства же церковного тела Дух Св. остался в сознании и в учении только почти как христианского мировоззрения и раскрывать эту идею в логических формулах действительно весьма трудно, так как Св. Дух более переживается, нежели логически раскрывается, ибо он «жизнь» и «живот». Иначе обстояло с идеей Логоса, второй Ипостаси Св. Троицы, воплотившейся и вочеловечившейся. По отношению к ней сразу же начались сомнения (гностики и др.), отрицалось Божество И. Христа и пр., ибо сама идея воплощения Божества казалась неприемлема и это нельзя было сделать фактом внутреннего опыта, как переживание Св. Духа; трудно было верить в И. Христа как Бога, а ведь без веры в Него и Дух Св. не даровался, а при скудности благодатной жизни от Духа Св. сразу же возникали и сомнения в основных догматах христианства, т.е. в Божестве И. Христа. Так в первые века и получалось богатство разработки учения и о Второй Ипостаси, а Дух Св. всегда восприемлется благодатной жизнью, что было особенно у первых христиан и теперь у духоносных людей, и не требуется тогда теоретического учения, а только констатирование самого факта, что и было и есть теперь, как и сам автор утвер-
—174—
ждает в этой главе и в предшествующей (см. стр. 95–101, 132–135).
Впрочем, у автора 4-я глава об Утешителе и не имеет целью специального обследования этого вопроса с его историко-догматической точки зрения и то, что здесь говорится автором, а говорится, повторяем, прекрасно и по существу неоспоримо, направляется к утверждению основной его мысли, что познание Истины даётся Св. Духом и это есть духовный подвиг, совершаемый в Духе Святом, которого обязаны стяжать все христиане и в полноте этого стяжания уже «созерцать» истину лицом к лицу. В процессе этого духовного творчества и только в нём одном и могут для человека разрешаться все противоречия его мысли в отношении к истине и противоречия самой жизни. Ведь и сама Истина, возвещаемая Св. духом человеку, будучи воспринята его сознанием, делается уже знанием об Истине, т.е. истиной и в структуре человеческого рассудка оказывается полной противоречия. Пятая глава (Противоречие) и посвящается автором уяснению вопроса о том, «как представляется Божественная Истина человеческому рассудку» (стр. 137). Рассудок берётся теперь автором в рассмотрение не со стороны основных законов его: тожества и достаточного основания, а со стороны его структуры в постижении им Истины, в процессе знания им об Истине. «Знание даётся рассудку в виде некоего суждения (138) и таким суждением об Истине, в коем даётся рассудку её знание является христианский догмат. Христианский догмат и есть истина, открытая человеческому рассудку об Истине. Он тоже антиномичен, (140) да и должен быть антиномичен с точки зрения рассудка, так как подвиг веры, акт само-отрешения рассудка и может начаться только при антиномии, только ей ведь и можно верить, а все прочие или принимать или отрицать. «С догмата и начинается наше спасение, говорит автор, ибо он только будучи антиномичен и даёт место свободной вере» (140).
Автор прекрасно разъясняет в этой главе причину вообще антиномии рассудка, делая справки из истории древней и новой философии, коим идея антиномии была всегда присуща, и переходя затем на почву христианского мышле-
—175—
ния объясняет эту антиномию рассудка в отношении к истине раздробленностью самого человеческого рассудка, более того дробностью самого бытия, включая сюда и рассудок (152). Причина же этой раздробленности бытия грех твари. Вот почему и догмат, неприемлемый греховным рассудком, как противоречащий его структуре, в благодатном, очищенном от греха состоянии души, воспринимается благодатным разумом в сфере молитвы и подвига как самодоказанная истина и аксиома (152–153). Здесь автор стоит вполне на почве православного святоотеческого учения о необходимости очищать ум для постижения христианской истины и, как мы уже указали, приходится только пожалеть несколько, что он не использовал прекрасных суждений об этом предмете Исаака Сириянина, Максима Исповедника, того, что написано в «Невидимой брани» и др. Но для целей книги, написанной для оглашенных, может быть даже лучше, что автор своим путём философского анализа логических законов мышления приходит к тому же самому, к чему пришли святые отцы духовным опытом жизни. Идея греха, объясняющая раздробленность бытия, и человеческого рассудка в частности и составляет содержание следующих 2-х глав сочинения, из коих в первой (VI гл. «Грех») автор специально рассуждает о грехе в его сущности, а в VII главе «Тварь» – раскрывает начало благодатного обновления тварного бытия. Суждение автора о грехе в смысле анализа сущности его природы и действий прекрасны и глубоко психологичны, в богословском смысле они весьма ценны для Нравственного Богословия и, особенно для аскетики как науки. Притом все эти суждения имеют в своей основе данные божественные откровения (в частности послание ап. Иоанна Богослова) и святоотеческий разум. По существу мы не находим сказать что-нибудь против этих суждений автора. Особенность некоторых суждений автора обусловливается и здесь, как и в других местах его книги, его главной задачей смотреть на все точки зрения человеческого рассудка, в его природе и структуре видеть данные для утверждения истинности и необходимости христианства в его цельности. Вот почему автор, определяя грех согласно с Ап. Иоанном Богословом «что он есть
—176—
беззаконие» (Ин.3:4) и поясняя, что в онтологической своей глубине (162) он есть «ничто», лишь «мнимое существование» (163), есть причина всякой раздробленности, в приложении к человеку, объясняет этот грех, как нежелание выйти из закона «тожества» Я. (170 стр.). Таким образом, автор проявление греха в человеке, согласно своему плану, рассматривает рассудок человеческий, берёт как бы только в приложении к законам мышления и в грехе видит царство закона тожества и только его одного, а посему и неразумия (170–171). Правда, и у восточных св. отцов грех рассматривается как уклонение человека от созерцания только Бога, от мысли только о Нём, как Едином на потребу, уклонение на путь многих помыслов и прежде всего на путь самоутверждения. У св. отцов только это не имеет той специальной логической или гносеологической окраски, как у автора, а более нравственно-психологическую; но может быть в этом и заслуга автора, переведшего объяснение действий тайны греха на структуру и природу нашего ума. В связи с этим уклоном в рассмотрении греха автор определяет и сущность «той устроенности души», которая противоположна греховному её состоянию; это есть целомудрие (173:177) в смысле цело-умия, здраво-умия (σο-φροσύνη); самособранность, крепость, простота, как органическое единство и цельность человеческой личности (173). Сущность целомудрия с субъективной стороны, как переживание целомудренной души, есть блаженство «в смысле умиренного и умеренного сердца» (185), а объективно, онтологически, как «момент жизни Божией» (185) она есть «память Божия», «вечная память», – которую поют обычно усопшему, ибо быть в памяти Божией значит быть и в вечном бытии (187)! Заметим опять, что у автора в суждениях по указанными пунктам чрезвычайно много весьма тонких наблюдений, и неожиданных сопоставлений и выводов, весьма хорошо объясняющих некоторые частные стороны христианского учения и христианской психологии, в частности происхождение ересей. Нам думается только, что если автор определил целомудрие параллельно греху как характерный момент состояния ума, то и блаженство должен бы быть определять более в этом же направлении к уму, а не
—177—
как умиротворение «сердечного кружения» (181). У него как-то совмещаются элементы ума и сердца в понятии блаженства, как это действительно и должно быть, но не достаёт некоторой отчётливости в смысле согласованности с основной мыслью. «Блаженство, как отдых от неустанно-жадного и никогда не удовлетворённого хотения», говорит автор на стр. 182; с другой стороны «блаженство можно получить только пресуществив помыслы в высшее созерцание» (183); так в блаженстве есть элементы и в отношении ума и сердца, но интимная связь их достаточно не раскрыта, по крайней мере, здесь; её скорее можно видеть из последней главы, где автор говорит о значении в нашей жизни сердца. А потом, если блаженство есть успокоение, то как же «алчущие и жаждущие правды» блаженны; это явление бесконечное, ибо бесконечна сама правда. Нужно сказать, что аскетический подвиг, как путь к блаженству, гораздо шире, чем это здесь намечает автор и охватывает все стороны существа человека и в качестве только отдельных моментов или сторон входит в душевную жизнь то, о чём говорит автор, а не вмещается в них совсем. Автор, как и сам думает, говоря в заключение своих суждений о блаженстве: «целомудренное житие есть цельность и не испорченность человеческого существа» (185) (а не только ума). В плоскости онтологии целомудрие есть «вечная память Божия» (185, 186, 187 и стр. 177). Уже и человеческой познавательной деятельности память по автору есть свидетельство нашего надвременного естества (195); а Божия память и Божие творчество тожественны (195) и потому быть в памяти Божией значит быть в общении с Его бытием, быть в раю. Но если «память вечная» есть объективная сторона целомудрия, субъективно выражающегося в блаженстве, то почему же мы поминаем и просим «вечной памяти» особенно за грешных, а святых уже не поминаем. Да разве и грешники, не имущие целомудрия, не в памяти Божией? Наконец, можно ли по существу дела приписывать Богу память, которая есть явление в пределах временности и связана с этим временным бытием, а по учению св. отцов есть проявление низшего, греховного строя деятельности ума человеческого.
—178—
Да едва ли её и справедливо считать выражением творческого, активного начала: у ней есть свои законы, каждый факт душевной жизни связан с другим законом ассоциации и поэтому памяти присуща более пассивность, чем активность; а когда познание упраздняется и настанет ведение и созерцание, то и память упразднится, как ненужная, как связанная только с греховным бытием.
Перейдём к последней VII-й главе сочинения «Тварь». Предметом этой главы служит у автора раскрытие процесса обновления твари, как перехода от греха к целомудренному состоянию. Автор берёт для рассмотрения здесь не всю тварь, а собственно человеческую личность, на том основании, вполне законном, что обновление твари зависит от обновления человека, согласно словам Ап. Павла (Рим.8:14) (см. стр. 206). Что такое уцеломудренная личность и как это достигается, вот по существу, о чём говорит здесь автор. Эта глава, если можно так выразиться, по преимуществу аскетическая и вводит читателя в круг явлений духовного опыта и мистики. Здесь автор прекрасно раскрывает некоторые стороны христианской антропологии, напр. значение сердца в духовной жизни; попутно обличает фальшь всякого подвижничества вне христианства и его существенное отличие от первого, обличает современных хилиастов, современных проповедников «святой плоти» (224, 226 и др.), наносит решительный удар и беспощадно критикует всякое мировоззрение вне христианства, доказывает что и сама наука стала возможной только при наличности христианских идей. Нам показалась в этой главе только некоторая несогласованность частных положений с высказанными раньше: напр. на стр. 197 автор, различая зло и грех, первое определяет как духовное искривлённое, а грех всё, что ведёт к таковому, т.е. повод или средство; как будто раньше в 6 гл. он грех определяет именно, как искажение бытия, беззаконие; здесь видимо имеет в виду простой греховный поступок. Целомудрие у него в этой главе понимается уже исключительно как чистота сердца, а не состояние ума (202), причём сердце выдвигается как центр духовной жизни, а церковная мистика называется мистикой груди, в отличие от мистики живота (присущей оргиасти-
—179—
ческим культам древности) и мистики головы (индусской).
Нам думается, что церковная мистика не есть мистика груди или сердца, а непременная объединённая мистика всех сторон человеческого существа; ума, и сердца, и воли, и тела, если угодно, иначе и получается явление хлыстовства, столь обычного теперь и духовной прелести. Припомним автору, что у св. отцов всегда указывается 8 глав. страстей, из которых каждая имеет отношение к известной области души или тела человеческого, борьбой с ними оздоравливается и уцеломудривается или тело (блуд, чрево-угодие) или воля в её настроении (гнев, сребролюбие). Сердце выдвигается в духовной жизни потому, что в процессе волевой деятельности оно своим чувствованием и желанием обусловливает совершение дела или поступка, оно самый важный стимул греха и добра в их осуществлении, а главное, сердечная область есть вполне достояние человека; ум может и невольно загрязняться от приражений врага, а сердце только охотной волей человека, за него он ответствен; припомнить нужно моменты развития страсти и всякого греха и тогда это будет понятно. Можно ли, напр., очистить сердце без очищения ума. У св. отцов ум признаётся кормчим и от его обращения к Богу и чистоты зависит устроение души. Повторяем, в духовной христианской жизни всё целостно и объединено, да так и должно быть по мысли самого автора, ибо, где уничтожается грех, там восстановляется целостность. Признанием этой целостности в человеке, восстанавливаемой чрез подвиг, как цели его жизни и высшего её основания и разума, а чрез человека целостности и красоты всей твари, автор и заканчивает свою книгу.
Что сказать о ней в заключение.
Как огласительное слово для стоящих «во дворе церковном», а так просит смотреть на его книгу сам автор (5 стр.), книга выполнена прекрасно. Сделана полная апология христианской веры, как единственной истины и сделана тем путём и в той сфере мысли, в какой полагают последний резон всякой истины поклонники че-
—180—
ловеческого рассудка и всё сказано на родном для них языке рассудка, логики и философии. Автор как бы великодушно сам ради них спускается «до кладенцов хананейских мыслей» (см. канон Андр. Критск.), из которых люди рассудка думают черпать и пить воду истины и показывает, что истина не в этих кладенцах, а в камене веры Христе, из Которого текут реки воды живой и токи премудрости, источаемые верой.
Как Феодиция, книга о. Павла может удовлетворить самый требовательный вкус, изощрённый в философии и богословии. Раскрывается вся примерная глубина христианства, его необходимость для человека, освещается светом христианства и уясняется им высший смысл жизни и бытия мира и всё частное, и основное в христианстве с необыкновенной ясностью, выявляется в своём высшем смысле и единстве. Не знаю есть ли на Западе что-либо подобное, но в русской литературе подобного опыта феодицеи нет и в этом смысле книга о. Павла явление исключительное. По нашему мнению она прекрасно дополняет то, что сказано в книге проф. Несмелова «Наука о человеке», но в другом плане исполнения.
Как труд богословско-философский, книга автора от начала до конца православна. Автор ниспровергает господство в жизни рассудка и его претензии на монополию истины, утверждает необходимость христианской веры, утверждает догматы, утверждает духовный подвиг, утверждает и защищает церковь, открывает ложь ересей древних и новых по их существу, осуждает «новое религиозное сознание «современной интеллигенции», хлыстовство, хилиазм, культ плоти; исповедуя грех как причину зла, он в благодати Св. Духа утверждает силу препобеждающую грех и обновляющую тварь. По нашему мнению у автора в тех немногих словах обращения к читателю, в коих он касается отличия православия от католичества и протестантства, сказано для понимания православия гораздо более, чем в специальной статье одного профессора напечатанной специально в американском журнале, для уяснения этого вопроса.
Книга о. Павла высоко научная; трудно сказать, в какой области научного знания автор не проявил себя спе-
—181—
циалиистом в этой книге. Он прекрасно знает античную философию и античный мир; в совершенстве изучил новую философию, показал себя филологом и математиком, проявил громадную начитанность и в святоотеческой литературе, в литературе богословской иностранной и русской. Одни примечания автора (62 страницы) сами по себе без наших слов могут говорить за научное достоинство его труда, и ценность их может быть понятна вполне только специалистам вроде самого автора. Но автор везде остаётся свободным от подавляющего влияния этого научного багажа; он везде творец и хозяин. Читая книгу автора, чувствуешь, что вместе с ней растёшь духовно, а не только приобретаешь знание в какой-нибудь области; да до неё и нужно дорасти, чтобы понять. Думается, что её будут читать с интересом и люди богословски образованные, и философствующие и просто интеллигентные.
Пусть даже некоторым соблазном в книге автора является необычный стиль писания, непринятый в богословских сочинениях способ выражения, особенный слог и строй речи; в этом сказался только индивидуализм автора и личная особенность его психики; на это просто не нужно обращать внимания при чтении его книги и это не умаляет по существу достоинств книги автора.
Ректор Академии Епископ Федор
II. Ремезов А.В. [Рец. на:] Розанов В.В. Апокалиптическая секта: (хлысты и скопцы). С-Пб., 1914 //Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 181–197 (2-я пагин.).
А.П. Чехов в одном из своих рассказов («Ариадна») отмечает устами его героя такое свойство русских разговоров:
– …Когда сойдутся немцы или англичане, то говорят о цене на шерсть, об урожае, о своих личных делах; но почему-то, когда сходимся мы, русские, то говорим только …о высоких материях и о женщинах. Мы так интеллигентны, так важны, что изрекаем одни истины и можем
—182—
решать вопросы только высшего порядка… Когда приходится говорить о пустяках, то мы трактуем их не иначе, как с высшей точки зрения.
Наоборот, в указанной книге В.В. Розанова приводится как раз противоположный упрёк: «Всё русское – рассказчики, а не мыслители», – у нас, будто бы, интерес к внешним фактам преобладает над интересом к объясняющим их принципам.
Судя по этому, можно было бы опасаться, что сама книга, стремясь восполнить отмеченный ею недостаток, уклониться в противоположную крайность и таким образом оправдает наблюдение Чехова. Однако, к счастью – с точки зрения интересов серьёзной характеристики наших сект, – она не только не заслуживает этого упрёка, но даже, если судить строго, гораздо ближе к отмечаемой ею самой крайности, чем к противоположной: в ней тоже нет «высоких материй», содержание её фактически исчерпывается фактическим материалом.
Этого нельзя не отметить, прежде всего, при оценке указанной книги и отметить с чувством искреннего удовлетворения. Ведь, при настоящем состоянии дела изучения русского сектантства ему ничего иного не нужно, кроме ознакомления с чисто фактическими данными: «Прежде такого (чисто фактического) изучения, по крайней мере, главнейших из наших сект, – чего у нас ещё не сделано, – всякие общие исторические, психологические и пр. объяснения каждой секты порознь, как бы ни были красноречиво написаны, останутся лишь общими местами, ни для кого не убедительными, исключая разве самих авторов их» – говорит один из серьёзных исследователей сектантства1684. Отсюда, объединённые в разбираемой книге статьи приобретают серьёзный интерес и даже, так сказать, научное значение как раз тем, что не стремятся быть научными: в них нет отвлечённых рассуждений, почти каждую мысль свою В.В. Розанов выражает описанием конкретного случая; язык книги, это – язык фактов, значительная доля которых собрана самим автором при личном общении с хлыстами. Правда, В.В. Розанову сравни-
—183—
тельно немного приходилось сталкиваться с ними, но всё-таки главная масса того, что передаёт он, – плод его личного непосредственного наблюдения, что при его умении тонко улавливать и мастерски передавать впечатления, производимые сектантами, придаёт его книге, несомненно, серьёзный интерес. Автор проникает в самую душу секты и чутко прислушивается, как к доминирующему в ней настроению, так и к нюансам в сложных переживаниях мистиков. Далеко не всякий, даже много и часто вращающийся в среде сектантов, способен так удачно подметить их общее настроение и, вообще, учесть производимое ими впечатление, а тем более так рельефно передать его, как это с лёгкостью опытного писателя делает В.В. Розанов. Поэтому, относительно его книги и в особенности её центральной (по содержанию и объёму) статьи: «Поездка к хлыстам» позволим себе высказать предположение, что многих, не обладающих даром проникновенной наблюдательности, чтение её лучше ознакомить с хлыстовством, чем даже личное, но кратковременное наблюдение. В.В. Розанов случайно встретил хлыстовского «христа» и поражён особенным характером его красивой наружности: это, по его наблюдениям, не пошловатая («a la кокотка» аполлоновская красота, но обаятельная красота сурового библейского пророка; он сравнивает его наружность с наружностью и манерой особенно «держать себя» у Владимира Соловьёва; по поводу слишком смуглого цвета его лица высказывает очень смелое предположение о его происхождении и заканчивает описание «Карлейлевской мыслью»: «Таланты, дьяволы! вся секта основана на талантливости, на признании таланта и поклонении ему!...» Впечатление при чтении получается совершенно полное и на редкость живое (89–90 стр.). Может быть, и правда, что даже при встрече с этим «христом» «на площади, на улице всякий бы оглянулся на него и запомнил бы» но, конечно, редко у кого это впечатление так бы точно, чисто кристаллизовалось, как это получается при чтении розановского описания. Далее, когда на следующей странице читаешь изложение речи «христа», то почему-то невольно следишь за каждым словом её и ловишь его с затаённым дыханием, словно, в самом деле, слушаешь одушевлённое из-
—184—
лияние энтузиаста-проповедника (91–92 стр.). Это уже – способность передавать не только голые факты, но и производимое ими на непосредственного наблюдателя впечатление, заражать равнодушного читателя этим последним, как будто вводить в его живое соприкосновение с описываемыми личностями.
Но кроме непосредственно наблюдавшихся самим автором фактов и пережитых им впечатлений, в содержании его книги можно различить три других элемента: это – во-первых, исторические сведения и, вообще, суждения о фактах, неподлежащих наблюдению самого автора; во-вторых – мысли, случайно высказанные «по поводу», в качестве простого уклонения в сторону; и, наконец, в-третьих, – основные мысли, воплощаемые в описываемых фактах и так или иначе связующие их. По отношению к этим сторонам книги приходится признать, что здесь дело обстоит далеко не так блестяще, а по отношению к первой из них даже, может быть, не совсем благополучно.
Прежде всего, В.В. Розанов беспомощен в определении исторических корней описываемой им секты. При чтении первой статьи книги кажется, что у автора составилось такое оригинальное представление о генетической взаимозависимости наших сект. Сначала имел место старообрядческий раскол, видевший свою задачу «в сохранении буквы и обряда, древнего типа святости», а в этом расколе в начале XVIII века обнаруживается «поворот духовный, диаметрально противоположный направлению, которым шли «буквенники» люди старого обряда», задача которых теперь «преобразовавшись и одухотворившись выразилась как задача огромной внутренней работы» (6 стр.). Так, будто бы, возникло духоборчество, которое в свою очередь является колыбелью для своих дальнейших разветвлений: хлыстовства со скопчеством («людей Божиих») и молоканства: «Люди Божии генетически связаны со спокойными, созерцательными ветвями духоборчества, как молоканство, которое удержалось на первоначальной, неопределённо общей ступени духоборческого искания» (8 стр.); более же мистическая фракция духоборчества, «хлыстовщина», достигла «своего апогея» в скопчестве (16 стр.), так что в последнем,
—185—
значит, «закончилось само духоборчество» (12 стр.; см. ещё: 19 прим., 21 и 23). На самом же деле, как известно, было как раз наоборот: указываемая В. В. Розановым в качестве последнего звена этой предполагаемой им эволюции хлыстовщины в истории является первой формой русского сектантства, современной по времени своего возникновения даже расколу, не говоря уже о духоборчестве, первые сведения о котором относятся к концу XVIII столетия, тогда как годом явления хлыстовщина на арене истории справедливо считается 1645; даже скопчество и то определило в этом отношении духоборчество (половина XVIII века). Как ни темны исторические истоки наших сект, всё же игнорирование здесь полуторастолетнего интервала ничем не извинительно. Из всей предполагаемой в первой статье лестницы отношений наших типичных сект между собой верна только одна ступень, – преемство между духоборчеством и молоканством; всё же остальное – ничем фактически не оправдываемая историческая несообразность. Правда, автор здесь как будто имеет в виду лишь психологическую сущность этих сект и выясняет взаимоотношение их настроений, так сказать, количество характеризующую каждую из них мистицизма; поэтому, и под духоборчеством он, по-видимому, разумеет не определённую секту, носящую это название, а нечто иное, среднее по яркости мистических тенденций между старообрядческим расколом и хлыстовством; это, кажется, если пользоваться лексиконом самого В.В. Розанова, первоначальная, спокойная, созерцательная неопределённо общая форма мистических исканий нашего сектантства. Но, не говоря уже о том, что В.В. Розанов почему-то совсем не предупреждает читателя о таком совершенно оригинальном понимании им определённо установленного термина, – ничего соответствующего этой форме и ступени в исторической действительности не было и быть не могло, ибо для неё, просто на просто, не оставалось даже места: хлыстовство, как уже замечено, возникло, по меньшей мере, параллельно расколу, и история нашего сектантства сразу открывается той сектой, которую В.В. Розанов считает одним из последних моментов раскольническо-сектантской эволюции.
Плодом такого же недостатка исторической осведомлён-
—186—
ности автора является и отрицание им наличности у хлыстов свального греха, которое он пытается обосновать фактом отсутствия у них деторождения (100). Но против его основного тезиса имеется столько объективных данных, в форме, например, установленных на суде фактов, что настаивать на нём всё равно, что доказывать отсутствие у хлыстов радений, как это и делают сами сектанты. Отсутствие же деторождения, по признанию самого В.В. Розанова, у хлыстов не абсолютно, а лишь относительно: случаи рождения у хлыстовок наблюдаются гораздо реже, чем этого следовало бы ожидать, если бы у них была узаконена та или иная форма плотского общения (102–103). Однако по отношению к этой форме его, о которой сейчас идёт речь, отсутствие обычных последствий естественно объясняется тем ненормальным состоянием субъекта (крайний нервный подъём, истощение от обязательно предшествующего радения), в котором она происходит, не говоря уже о несомненной редкости подобных явлений, так как едва ли кто не согласится с брошенной мимоходом оговоркой В.В. Розанова, что свальный грех имеет место очень редко. Что же касается второго доказательства, оброненного в примечании (103) и указывающего на тоскливое настроение, всегда сопровождающее развратный быт, то надо заметить, что с одной стороны и хлыстовская жизнерадостность, по наблюдению самого В.В. Розанова, какая-то не здешняя, возвышающаяся над обыденными интересами, среди которых хлысту тоже «тошным тошнёхонько, грустным грустнёшенько», а с другой – надо иметь в виду, что по вопросу о свальном грехе идёт речь не о развратном быте, а лишь о развратном культе. Разбираемое отрицание у В.В. Розанова является логическим следствием одной из главных мыслей его книги, поэтому мы ещё упомянем о нём, когда будем говорить об этих последних.
Из мелких ошибок в представлении исторической действительности В.В. Розанова надо указать допущенное им по доверию к баснословным рассказам самих скопцов (у Надеждина – 65 стр.) замечание, что Кондратий Семёнов был привезён в Петербург из Иркутска по повелению Павла (21), тогда как на самом деле основатель скопчества бежал из Сибири ещё в царство-
—187—
вание Екатерины II и уже в 1795 г. жил в селе Быково Московской губ.1685, откуда с воцарением Павла перебрался (1796–97 гг.) сначала в Москву, а потом уже в Петербург; значит ни о каком повелении императора о возвращении его из ссылки не может быть и речи.
В середине своей книги В.В. Розанов даёт место таким отделам, относительно которых приходится говорить об их серьёзном практическом значении для истории и обличения секты скопцов. Такое значение сам автор придаёт статье «Роковая филологическая ошибка», где предлагает переданное ему неким тульским мещанином Ив. Коноваловым толкование рокового для скопцов окончания 12-го стиха 19-ой гл. в Евангелии от Матфея: под «сделавшими самих себя скопцами для Царства Небесного», по мнению тульского экзегета, надо разуметь оскоплённых по несчастной случайности, «волей Божией», так как греческое διά в данном случае указывает не цель оскопления, а причину его, и, поэтому, «Царство Небесное» здесь надо понимать в смысле «воли Небесной». В таком толковании, прежде всего, бросается в глаза своеобразное понимание термина «Царство Небесное», каковое (понимание) В.В. Розанов опирается на книгу проф. С.Н. Трубецкого «Учение о Логосе». Однако сколько бы параллелей из древней еврейской письменности ни приводилось такому пониманию, всё равно надо признать, что одними этими параллелями нельзя установить значение, какое имел данный термин в устах Спасителя. Что получается из всего евангельского учения, если вместо «Царства Небесного» поставить в нём «Воля Божия»! Какого бы понимания этого основного предмета всей проповеди Христовой (Мф.4:23) мы ни держались, мы должны согласиться, что существенной чертой его является отношение к внутреннему миру человека (Лк.17:21). В разбираемом тексте такое понимание находит себе яркое соответствие в возвратном местоимении ἑαυτοὺϛ (самих себя), так что причинный смысл διά совершенно определённо указывает эту причину в самом человеке, в его личном произволении,
—188—
характеризуемом тем, что называется Царством Небесным; а в таком смысле принятие нравственного смысла текста, против которого восстаёт так В.В. Розанов, не может представляться какой-то недобросовестной натяжкой. Да и, вообще, неужели В.В. Розанову не известно, что в понятие причины одинаково входит не только причина действующая, предшествующая действию, но и причина конечная, телеологическая, т.е. как раз то самое, что называется целью; а в древнем языке едва ли возможно разграничение этих двух сторон её: переведите διά словом «ради», «по причине» и под., и оно будет выражать отношение причинности в общем смысле её.
Если по поводу статьи, в огромном практическом значении которой автор так уверен (132–133), рискованно разделять с ним это увлечение, то по отношению к соседним с ней частями книги приходится, наоборот, пожалеть, что автор сам не позаботился о том, чтобы расширить их значение из узкого круга интересов его книги; разумеем воспроизведённый В.В. Розановым текст «Страд» и «Посланий» Кондратия Селиванова: перепечатаны они здесь из соч. Надеждина с исключительной, по-видимому, целью иллюстрировать высказанные в книге положения и наблюдения как ими в целом, так и отдельными выражениями из них, которые и подчёркиваются соответствующими примечаниями. Но почему В.В. Розанов не воспользовался для своей книги изданием В.С. Толстого1686, содержащим по позыву П. Мельников1687 «самый полный и верный текст» этих исторических документов»? Ведь, все издания произведений основателя скопчества были сделаны больше чем 50 лет тому назад и теперь все без исключения становятся библиографической редкостью, так что издание их в книге В. В. Розанова может иметь практическую ценность как источник при изучении
—189—
истории скопчества, а в таком случае, конечно, надо было уже воспользоваться более точной и верной редакцией этих исторических документов, а не воспроизводить первой попавшейся только потому, что она оказалась под руками. Кроме того, в интересах этого же значения данных отделов надо было построже отнестись к корректуре их, а то в самом начале «Страд» бросаются в глаза две корректурных ошибки: «никому» вместо «некому», «оробела» вместо «обробела» (см. и у Толстого – 80 стр.). В греческом же тексте только что разобранной статьи («Роковая филологическая ошибка») отсутствие корректурных исправлений даже мешает чтению, так как здесь имеют место не только ошибки в расстановке надстрочных знаков, но и пропуски букв и т.п.1688; как только приводится греческое слово, так в нём обязательно делается 2–3 ошибки, так что, не занимаясь совсем корректурой греческого текста, я насчитал в нём 32 ошибки.
Заканчивая речь о значении книги В.В. Розанова для исторического ознакомления с сектантством, приходится вполне присоединиться к пожеланию его корреспондентов: «Нужно вам будет, господин Розанов, изучить хорошенько историю раскола и сектантства» (стр. 112:114); ведь нельзя же для целой книги со смелыми экскурсами в область истории ограничиваться знакомством с одним историческим исследованием (разумеем изданное Кельсиевым «Исследование» Надеждина), хотя и очень ценным и основательным, по написанным ни больше ни меньше как сто лет тому назад (в 1815 г.)! Для книги, непосредственно интересующейся современным состоянием своего предмета, этого, по меньшей мере, недостаточно. Ведь широкая публика с раскрытым ртом ловит все сообщения преподаваемые ей всякими неожиданными специалистами, и принимает их, как безусловно доказанные, «научно обоснованные». Услышишь убеждённое указание: «Да ведь ваш Апокалипсис написан в IV веке; это же теперь доказал Н. Морозов!» или то же самое о ветхозаветных пророческих книгах, – и «язык прилипнет к гортани»,
—190—
до того стыдно станет за невежественную доверчивость к подобному взору: разве здесь разубедишь указанием, что цитаты из названных св. книг находятся в сочинениях, несомненно принадлежащих 2-му веку?! «Исследования», подобные Морозовским, просто в лицо повторяющей их публике, и Боже сохрани всякого от соблазна лаврами их. Правда, уж такова судьба богословских вопросов, что всякий считает себя полноправным хозяином и высоким авторитетом в их сфере1689. Может быть, этого права и нельзя категорически отрицать, вследствие близости отвлеченных богословских вопросов душе каждого, но там, где дело касается объективных фактических данных, часто исторически установленных, там необходимы предварительная теоретическая подготовка и знакомство с тем, что уже сделано по данному вопросу. Впрочем, рекомендация В.В. Розанову ближе познакомиться с историей сектантства с нашей стороны является не столько указанием недостатков его книги, сколько действительным пожеланием: при его, обнаруженной в данной книге, способности улавливать сектантское настроение запас фактических сведений доставил бы ему много материала для дальнейших интересных статей о сектантах.
По всей разбираемой книге, благодаря особой манере В.В. Розанова излагать свои впечатления, разбросано много весьма интересных случайных мыслей и наблюдений. И них с удовольствием отмечаем наблюдение того горячего интереса, с каким и в обществе, и в народе принимается трактация вопросов веры не только, так сказать, на стороне от официальной Церкви, чем так любят «колоть глаза» враги её, но и в ней самой, её представителями, а так же – указание на беспримерную, ни с чем не сравнимую высокую оценку значения этих вопросов во все века.
Среди мыслей, брошенных мимоходом, всегда окажется несколько таких, которые придирчивому читателю могут показаться поспешными обобщениями. Характеризуя графа М. Сперанского, как типичного теоретика, совершенно оторвавшегося в своей деятельности от практической
—191—
жизни, В.В. Розанов считает это свойство характерным для питомцев духовной школы, которые будто бы совершенно лишены способности понимать внутреннюю творческую жизнь простого народа и только поражают методичностью и усидчивостью своих работ в области отвлечённых теорий. Но почему Н.А. Некрасов, желая выразить интимные и высокие порывы великой и святой души народной, вложил в их уста ни кого-либо другого, а именно семинариста? (см. конец его поэмы «Кому на Руси жить хорошо?»).
Идейная сторона разбираемой книги характеризуется двумя лежащими в основе её мыслями, причём первая, ставящая наше мистическое сектантство в связь со старообрядческим расколом со стороны их, так сказать религиозной активности, относится исключительно к началу книги (статья: «Мечта духовных христиан»), а вторая, – по вопросу об отношении половой сферы к духовной деятельности человека, – распространяется по остальной части её.
Способ рассматривать наше сектантство в связи со старообрядческим расколом имеет неоспоримое применение в области серьёзного изучения разнообразных сект и пользование им у В.В. Розанова, пользование, по-видимому, вследствие его собственного самостоятельного прозрения, составляет несомненное достоинство его книги. Но указанный раньше недостаток у него фактических сведений из истории этих явлений не дал ему возможности вполне правильно учесть отношение их внутреннего содержания. Доверившись сообщению «Розыска», называющему хлыстов раскольниками, В.В. Розанов принял, по-видимому, первых за особое течение среди вторых, и вследствие этого был принуждён слишком усиливаться, разыскивая в расколе идейные претенденты к хлыстовству, тогда как подобные усилия оказываются излишними, если принять во внимание хронологический параллелизм этих религиозных течений: в таком случае, помня, что каждое из них выражало своё собственное, специфическое начало религиозной жизни, можно довольствоваться более мелкими чертами их сходства, разыскивая: как характерные для раскола элементы в сектантстве, так и сектантские элементы в расколе, что и будет служить к взаимоуяснению и того, и другого. А В.В.
—192—
Розанову приходится доискиваться до общей расколу с сектантством сущности, о которой при правильном представлении исторической действительности он и не подумал бы. Эту сущность он полагает в активности религиозного настроения: «раскол (как и сектантство) есть восхождение к идеалу, усиление к лучшему». Сразу видно, что здесь ему пришлось волей-неволей слишком подвинуть в своём представлении раскол в направлении к сектантству. В подтверждение своего взгляда В.В. Розанов указывает что, например, по представлению секты бегунов «печатать Антихриста, сияющая на слугах антихристовых, не значит щепоть или крыжа, но – житие, согласно с мыслью Антихриста, но – подчинение ему, как Христу, исполнение во имя Христа – законов в духе Антихриста; презрение к вере при всём наружном к ней уважении, порабощение Церкви, измена древним обычаям» (30).
Но знает ли сам В.В. Розанов, как в старообрядческом представлении трактуется это самое «житие», на которое он проектирует своё понимание сущности раскола?
Как-то мне пришлось ехать в вагоне со старообрядцем-беспоповцем, начетчиком; нас ехала целая компания семинаристов, и мы, конечно, не замедлили попробовать своё оружие, припасённое на уроках по обличению раскола: начали толковать ему о том, что обрядовые несогласия не могут служить достаточной причиной церковного разделения, а он в ответ «зазирал» нас в «ересях»; тут были и «щепоть» и «спасибо» и проч. Когда, наконец, все подобные предметы были исчерпаны, он прибег к такому аргументу, причём по его выразительной жестикуляции видно было, что этому аргументу он придаёт решающее значение. Он показал на стаканы, из которых мы только что напились чаю, и спросил меня:
– Вот ты отсюда пьёшь?
– Пью.
– Ну, а ежели кошка аль пес напьётся, тоже будешь пить?
Начетчик пояснил:
– Вот так-то у вас всё: и то грех, и другое – не
—193—
грех… А это – тоже скажешь «обряд»?! Вот она и есть у вас самая ересь-то!
– Какая же? Как название?
– Расслабление – многозначительно произнёс наш собеседник и умолк.
По-видимому, и он в глубине души считал самым решительным способом обличать нас апелляцию к самой жизни, но и здесь не мог, как и весь раскол в его целом, отделаться от навязчивого представления обязательной неизменяемости старого уклада во внешнем строе жизни. Ведь и в приведённой В.В. Розановым выдержке отвлечённая мысль о жизни, угодной Антихристу, разрешается конкретным представлением об измене древним обычаям. Для типичного раскольника «древнее благочестие», т.е. неизвестный внешний уклад жизни и является настоящим идеалом веры, обладающим всей силой религиозной обаятельности. Но горячее почитание его раскольником нисколько не изменяет существа раскола, как вообще всяческое языческое почитание бессильно вызывать наше уважение к своим объектам: фетиш останется фетишем. В.В. Розанов, увлекаясь формальной стороной дела, силой религиозного темперамента, характеризующего известное явление, невольно преобразовывает в своём представлении и сам объект его, в котором ему представляется высоко религиозный идеал. На самом же деле, то, что привлекло его внимание в расколе, является лишь формой религии, обязательной во всех религиозных явлениях, нисколько не зависящей от их содержания, своего рода количеством, не влияющим на качество. Так что, при более близком рассмотрении, то самое «усилие к лучшему», каким В.В. Розанов связывает раскол с сектантством, является для них не более общим, чем для каждого из них в отдельности, – с одной стороны, и любой формой фетишизма – с другой; если для одного это «лучшее» заключается в верности стародавним обрядам и обычаям, а для другого, наоборот, проектируется в лабиринт сладостных мистико-экстатических переживаний, то что же остаётся от них общего?
Вторая основная мысль разбираемой книги едва ли может быть выражена в виде определённого формулированного те-
—194—
зиса, это – скорее тенденция, в которой автор излагает свои впечатления, или даже – вопрос, вопрос о той таинственной связи, которая, несомненно, существует между половой сферой человеческой природы и религиозной жизнью, между страстностью половой и силой религиозного влечения. Если прежде для В.В. Розанова эта связь, как известно, являлась в форме полного отожествления обеих областей, так что в сфере пола освещалось религиозным светом, а в религии не оставалось ничего вне-полового, то теперь как раз наоборот: религия, истинная страстность её устремлений, по представлению В.В. Розанова, начинается только тогда, когда с половой страстью оканчиваются все счёты. Тот самый г. Розанов, у которого религия, по его собственному выражению, «почти во всей своей существующей полноте струится от пола», и который, по справедливому разоблачению проф. М.М. Тареева1690, в своей религиозной метафизике «принципиально враждебен всякому идеально небесному порыву, ибо он хочет, чтобы единственной основой религии была физиология», теперь не только выступает понимающим потустороннее устремление духа человеческого, но и прекрасно изображает (64–75) ту специфически религиозную, так сказать, приподнятость настроения (взлёт над обыденными интересами), которую я бы обозначил церковным призывом: горе имеем сердца! В.В. Розанов подметил, что характеризующая эти порывы страстность или, как он выражается «тяга» заключает в себе «что-то половое», и приходит к заключению (это уже, по нашему мнению, подлинное логическое заключение, а не фактическое наблюдение), что эта страстность идёт на счёт половой, сопровождается атрофией половых влечений. Здесь – своего рода полярность этих влечений: с угасанием половой активности развивается энергия той религиозности, которую В.В. Розанов подметил у хлыстов. Так для него открылась завеса подлинных религиозных переживаний, и он проник в таинственную область религиозного мистицизма, раньше остававшуюся вне сферы его не только наблюдения, но и понимания. Теперь уже г. Розанов не бранится брезгливо и не издевается над монаше-
—195—
ством: он почувствовал в глубине его истинно-святую основу, но подошёл к нему, как это ни странно, чрез психологию хлыстов.
Много интересных и ценных сопоставлений дала книге основная тенденция, так что, собственно говоря, в этой последней, в её щекочущей внимание таинственности, кажется, и заключается разгадка того захватывающего интереса, с каким читается книга от начала до конца. Но затрагиваемая им область так таинственна сама по себе, что даже при том чрезвычайно осторожном, деликатном отношении к ней, какое имеет место в данной книге (В.В. Розанов не только не настаивает, а всё время как будто лишь спрашивает) всё же можно не везде соглашаться с основной тенденцией книги и кой-где указать направление несколько иное чем то, в каком ставит свой вопрос В.В. Розанов.
Нелегко отрешиться от прежнего взгляда, так настойчиво проповедовавшегося В.В. Розановым, и теперь, когда он высказывает, как будто диаметрально противоположное ему, всё же остаётся нечто общее с первым: сущность, глубочайшая внутренняя основа пола и религии по-прежнему, очевидно, остаётся общей; корнем их, как в прежней теории отожествления, так и в новой мысли о полярности, оказывается одно и то же, это – физиология, то целиком обнимающая религию, то всецело уходящая в неё. Но, говоря словами одного письма к В.В. Розанову, «один маленький факт важнее тысячи гипотез» (114), а факты как раз говорят за параллельность полового стремления религиозным настроениям: делание молитвы Иисусовой, – говорит еп. Феофан Затворник, – «иного ввергает в прелесть мечтательную, а иного, дивно сказать, в постоянное похотное состояние»1691. Подобные наблюдения важны в данном случае потому, что совершенно устраняют возможность речи о полярности половой и религиозной функций и указывают на совместимость их деятельности, так что, если следовать лишь собственным безотчётным порывам, то легко заметить грани между ними… Ведь, у
—196—
хлыстов совершенно нет критерия для того, чтобы разбираться в сложных мистических переживаниях крайнего экстаза, и они слепо следуют им: всё, испытываемое в подобных состояниях, бесконтрольно принимается ими за действие Духа Святаго. Значит, при таком направлении в постановке данного вопроса, – направлении, координируемом, с одной стороны, несомненным фактом связи полового возбуждения с состоянием религиозного подъёма, а с другой, – основным свойством нашего мистического сектантства безотчётно отдаваться экстатическим состояниям, предложение у наличности у них тех или иных половых эксцессов окажется настолько основательным, настолько же и невменяемым по отношению к самим сектантам, вследствие экстатической безотчётности подобных явлений. В ограниченной сфере близких к физиологии безотчётных влечений и мистических порывов трудно прийти к чистым религиозным состояниям: при отсутствии объективного наперёд установленного регулятора в форме определённых религиозных и нравственных представлений, «прелесть» здесь неизбежна. Почему это свв. Отцы боялись прикасаться даже к собственной плоти, а хлысты, по словам самого В.В. Розанова, что делают со своей «богородицей»? Понятно, что там боролись с похотью, гнали её, а здесь ловят подобное влечение и безотчётно следуют ему… Начинают и те и другие с религиозного подъёма, но первые знают, что дьявол и здесь строит свои козни, а у вторых всё, являющееся здесь, одинаково – «от духа». Вот почему В.В. Розанов так близко уловил настроение хлыстов, что и монашество мог понять только чрез них: у хлыстов, как и у него, религиозное – из физиологии; отсюда же и идеализация хлыстовской религиозности: «вероятнее всего предположить, что на радениях происходят, начинаясь танцами, какие-нибудь обряды поклонения, почитания, умиления в отношении их «христов», – но как именно – девственников, и «богородиц» – но как именно девственниц же (102)1692. На
—197—
самом же деле все эти «целомудренные» поцелуи женщин, постоянная манера «христов» окружать себя женщинами и проч. не «нечто половое», а самая подлинная похоть, в которую неизбежно впадают по действу диаволю все, отторгшиеся от церковного руководства в своей религиозной жизни и погружающиеся в лабиринт личных экстатических переживаний, близко связанных в своей религиозной жизни и погружающиеся в лабиринт личных экстатических переживаний, близко связанных в своей естественной форме с половой физиологией. До чистой религии здесь так же далеко, как от похоти до целомудрия.
Связь, в которой В.В. Розанов рассматривает сектантскую мистику с половой страстностью, составляет, как сказано, весьма интересную сторону книги. Но для читателя не интересующегося «корнями», не менее интересной покажется сама по себе статья о «Сибирском страннике», «имя которого теперь на устах всей России», и судьба которого, действительно, столь загадочна, что, сколько бы ни писали о нём, всё будет мало. Мысль поставить его рядом с другим историческим «известным стариком», «как называл Селиванова кн. А.Н. Голицын в официальных даже бумагах»1693 должна быть признана великолепной. Всё это обещает новой книге В.В. Розанова самое широкое распространение, чего мы от всей души желаем ей, а автору её вместе с тем – и новых столь же психологически проникновенных трудов по ознакомлению с сектантством.
А. Ремезов
Фигуровский И.В. Из академической жизни [Встреча студентов LVIII курса Московской Духовной Академии через десять лет после выпуска] //Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 198–206 (2-я пагин.).
—198—
Товарищеский праздник
Воспитанники LVIII выпуска Московской Духовной Академии при окончании курса дали взаимное обещание собраться в стенах Академии по истечении десяти лет. Это обещание не осталось только мечтой.
К 25 июня прошлого года потянулись к родной Академии её бывшие питомцы LVIII курса с различных концов отчизны. Всего собралось 22 человека: Из Москвы – о. Архим (ныне Преосв.) Модест, о. А.Н. Заозерский, о. В. В. Знаменский, А.Н. Спасский, П.П. Головачев, Б.С. Пушкин, И.Н. Пятницкий; из под Москвы – П.А. Афанасьев; из Сирии – о. Архим. Игнатий (Абурруст), привезший, м.п., приветствие Его Святейшества, Патриарха Антиохийского Григория; из Витебска – о. Д.С. Богоявленский; из Рязани – А.С. Смирнов; из Бахмута – А.Д. Студенский; из Переславля Залесского – Н.Л. Зеленин; из Острога – В.И. Муравьев; из Нолинска – П.Н. Евладов; из Самары – М.К. Алмазов; из Оренбурга – В. Я. Струминский; из Херсонской губ. – К.Ф. Нечаев; из Иркутска – И.А. Арефьев; из Вятки – П.С. Чулков; из Твери – П.П. Неклюков; из Красноярска – И.В. Фигуровский и один – Д.И. Орлов – прибыл, когда большинство уже разъехалось из академии.
Предварительно собравшись в Москве, несколько товарищей наметили программу празднования. По традиционному обычаю решено было накануне 25-го совершить поминовение почивших наставников и товарищей. За десятилетний срок наши ряды уже успели поредеть. Умерли по оконча-
—199—
нии Академии: Вершинский Г.П., Лепехин Н.В., о. Н.Н. Соловьев, Строев А.В., Успенский М.П., Фиолетов С.В. Так как академическая церковь в эту пору ремонтировалась, то, с любезного согласия о. Архимандрита Товии, богослужение совершено было в церкви митрополичьих покоев. Всенощное бдение совершал о. Д. Богоявленский, а на полиелей и парастас выходили все товарищи священнослужители во главе с о. Модестом. Чтецами и певцами были остальные товарищи, да два-три случайно, кажется, зашедших инока Лавры. Умилительную картину представляло это богослужение. Строгие ценители пения здесь встретили бы, конечно, много шероховатостей, потому что разнообразие местных напевов должно было давать себя чувствовать. но зато здесь было много неподдельного чувства, молилась душа в родной обстановке, под кровом. Препод. Отца нашего Сергия, и невольно сгибались колени и обращался взор горе, когда раздавались трогательные: «Со святыми упокой» и «Вечная память». Здесь было наглядное подтверждение, что память о былом не умерла, что дороги нам безвременно ушедшие товарищи, что в эти знаменательные дни, мы верили, они незримо присутствовали среди нас.
Поздним вечером окончилось Богослужение. По установившемуся обычаю, родная Академия предложила нам свою вечернюю трапезу. Тут впервые собрались почти в полном составе съехавшиеся. Начались взаимные расспросы. Стали делиться своими переживаниями. «Тогда считать мы стали раны, товарищей считать». Как уже сказано выше, некоторых и не досчитались. В разговорах выяснялась и внутренняя физиономия товарищей и обстоятельства внешней жизни. Общее впечатление – судьба улыбалась не многим. И на внешнем виде заметны следы пережитого. У одного проглядывает седина, у другого чело разукрашивают предательские морщины. Почти у всех сосредоточенное выражение. Не заметно беззаботного веселия, признака милой юности. Настроение сдержанное, но бодрое. Руки не опускаются ещё в бессильной борьбе. Приятнее всего, что внутренний облик всех остался нетронутым. Идеалы, какие воспитывались на школьной скамье, ещё не разбиты. Нет юных восторгов, но нет и разочарования, апатии.
—200—
Жизнь многих потрепала, для иных она была мачехой, расстроила семейные радости, вырвала безжалостно из семьи самое дорогое. Но даже и эти, потерпевшие кораблекрушение в жизни, не теряют мужества и бодро смотрят вперёд. Нужно сказать, что и на всех эти годы положили печать. Десять лет – время, по-видимому, очень малое. Но не следует забывать, что на эти годы падает период разрухи, который сильно отразился на тех, кто стояли у школьного дела. Об этом времени с полным правом можно сказать: «так мало жито, так много пережито». И думается, этот десяток лет нельзя измерять обычными годами.
Товарищеская беседа затянулась далеко заполночь. А с раннего утра стало наблюдаться вновь оживление. Кто подготовлялся к богослужению, кто делал хозяйственные распоряжения. Литургию совершали все священнослужители, во главе с о. Модестом. Пел небольшой хор из лаврской братии, дополняемый нами. Во время запричастного о. А.Н. Заозерский обратился к товарищам с таким словом привета.
«Се что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе» (Пс.132:1).
Не раз и не два мы слыхали и сами произносили это прекрасное выражение псалмопевца: и насколько оно нам привычно, настолько же и понятно. Ведь ясно для каждого из нас, что действительно, нет большего счастья и нет большей радости, как быть со всеми в дружбе и любви. Но эти слова были произнесены тогда, когда ещё и не занималась на горизонте нашей человеческой жизни заря Христианской веры и любви, когда весь языческий мир, этот, по выражению Блаж. Августина, «град земной», приходил как раз к обратному выводу и заключению, к тому, что homo homini lupus est. Теперь же, когда на земле среди нас побывала Сама Воплощённая Любовь, когда мы узнали, что наш Господь, этот Грозный судья и Мститель Ветхого Завета, именно и носит это святое наименование, любовь и единение стали залогом счастья и Царства Божия на земле.
На самом деле, что лежит в основе всех форм человеческого общежития, будет ли то семья, племя, государство, город или союз, как не потребность людей в любви между собой и взаимном единении? Чем бредят
—201—
социалистические теории и к чему стремятся социалисты практики, как не к тому же единению? Не на той ли почве основана среди нас и Христова Церковь, «Град Божий» на грешной земле? Не оно ли, наконец, это единение, собрало и нас сюда после десятилетней разлуки? Чем иначе можно было бы объяснить наш съезд? Общностью интересов нашей службы и общественного положения? Но… «кое общение монаха с акцизным чиновником». Может быть, общность нашего семейного благополучия? Но в то время, как одни из нас наслаждаются семейным счастьем, у других оно ещё в перспективе, а у иных уже и в прошлом. Может быть, наконец, общие интересы личной, интимной жизни, жизни понятий и убеждений человека? Но… лучше не касаться «святого святых» человека, не копаться в его душе; да в наше время и в целях большего единения, оно, пожалуй, и не безопасно. Если во времена Христа Спасителя сердце человеческое порождало «хулы, татьбы, любодеяние» и прочее зло, то теперь к этому последнему присоединились ещё и политические страсти, которые не столько роднят людей, сколько разнят их, не столько способствуют единению и любви, сколько разоряют их.
Нет, дорогие друзья! Нас сюда привела именно любовь и наши, не скажу товарищеские, а больше того, дружеские отношения. Ведь мы пришли сюда, в Академию, в таком возрасте, когда человек смотрит на всё чисто и радостно, когда все теневые стороны и штрихи окружающей жизни еле-еле бывают для него заметны. И неудивительно, если мы встретили друг друга так сердечно и искренно, оценив взаимно качество и достоинство своих характеров, оставив в то же время без внимания все недочёты и крайности.
Но вот прошло уже 10 лет, как мы, после четырёхлетней совместной жизни, вновь расстались, сохранили свою прежнюю силу и свежесть. Наша взаимная дружба, потребность единения и любви сказались с не меньшим, если ещё не с большим чувством. Доказательством тому служат наши не прошенные и тщетно подавляемые в присутствии посторонних слёзы. У нас ныне поистине великий праздник, день нашего не великого по времени, но великого по существу юбилея,
—202—
день самых лучших сторон, самых звучных струн человеческого сердца! По закону Ветхого Завета, в дни и годы юбилейные отдыхала плоть – человека то, или животного – и даже сама земля, теперь, в Новом Завете, должна отдыхать душа человека, как самое дорогое и бесценное в мире; и мы сегодня отдыхаем в родном по духу кружке именно душой.
Да не коснётся же и впредь ни какая скверна и пошлость житейская нашей золотой дружбы! Отсюда из стен дорогой нам «almae matris» мы вышли все великими гражданами «града Божия» на земле; понесём же и впредь высоко пред Богом знамя своё, знамя любви и единения. Взаимная дружба да усугубит счастье счастливым да поддержит и укрепит несчастных, да даст всем нам вообще свет, теплоту и радость жизни! Любя друг друга, мы научимся ценить и любить человека вообще, а любя последнего, будем любить и Того, Кто есть Любовь «Господь, учил св. отец (Блаж. Августин), – это центр, а люди радиусы, идущие из него, и по мере того, как кто приближается друг к другу, приближается невольно и к Самому Богу».
После литургии отслужен благодарственный молебен, при чём, после обычных многолетствований, о. Архим. Модест провозгласил многолетие Высокопреосвященному Арсению, Архиепископу Новгородскому. Преосвященному Евдокиму, Епископу Каширскому, Наставникам Академии и её питомцам LVIII выпуска. Дружным «многая лета!» покрыто было это возглашение. После молебна все присутствующие сочли долгом лично поблагодарить о. Наместника Лавры и о. Инспектора Академии, Архимандрита Анатолия, (Преосвященного Ректора в Академии в эти дни не было).
В 12 часов началась, если так можно выразиться, официальная часть празднования. Во время завтрака, инициатор съезда П.С. Чулков обратился к товарищам с речью, в которой, между прочим, сказал: «За 10 лет нашего плавания по бурному житейскому морю много воды утекло в безбрежный вечный океан, много штормов и бурь пережил каждый из нас, много разочарований омрачило наши юношеские светлые мысли, фактически убедив нас, что страстно любимая всеми нами жизнь не есть сплошной цве-
—203—
тущий куст, что под благоухающими красивыми цветами этого куста помещаются острые колючие шипы, пронизывающие мускулы до костей, терзающие защищённые, и, по-видимому, недоступные им органы – нашу душу и сердце. Многое изменилось за эти 10 лет, но… хочу надеяться и верю, что не изменился наш добрый девиз: идти вперёд к свету и знанию, служить вечной правде и добру».
Дружным – ура! покрыт был этот тост.
В 3 часа дня назначена была братская трапеза, на которую приглашено было академическое начальство, все бывшие наставники и служившие в Академии в годы 1899–1903. К сожалению, не все могли посетить нашу скромную трапезу. Одних в этот день не было дома, другие отвлечены недосугами, третьим воспрепятствовало нездоровье. За обедом сказано было много сердечных пожеланий. Переживалось былое. Вспоминали наших наставников. Единодушно постановили послать телеграмму бывшему нашему Ректору, Высокопреосвященнейшему Арсению, Архиепископу Новгородскому. Вот текст этой телеграммы: «Собравшиеся, по истечении десяти лет по окончании курса, питомцы Московской Академии LVIII выпуска шлют вам и в Вашем лице своим воспитателям и наставникам искренний привет. Мир почившим, здравие и долгоденствие живущим».
Тёплые речи обращены были и по адресу дорогой нам Академии, которая, как высказал И.А. Арефьев, научила нас сознательно относится к окружающей жизни, сформировала наши убеждения, создала известное миросозерцание, воспитала в нас такую любовь к себе, что, и по выходе из школы, мы всегда переживаем и все её радости и скорби. Выраженно было искренне пожелание, чтобы традиции старой деревенской Академии, как самое дорогое наследие, сохранены были и теперешней Императорской Академией.
С глубоким вниманием и благодарностью выслушали мы приветствия и пожелания наших учителей, – глубокоуважаемых А.Д. Беляева и С.С. Глаголева.
В конце товарищеской трапезы пожелали бодрости душевной тем товарищам, кто перенёс особенно тяжёлые потери. В заключение прочитаны были приветственные телеграммы отсутствующих товарищей.
—204—
Из Прилук: Душой участвую в вашем собрании, сердечно приветствую дорогих товарищей, очень сожалею, что не могу присутствовать. Туницкий.
Из Ялты: Приветствую собравшихся товарищей, жалею, что не мог лично засвидетельствовать одушевляющие меня товарищеские чувства. Славгородский.
Из Волочка: Приветствую товарищеское собрание, ночью буду в Москве, надеюсь увидеть. Орлов.
После братской трапезы товарищи отправились в Троицкий собор, где о. А.Н. Заозерский отслужил молебен у мощей Преп. Сергия.
Вечер решено было посвятить дружеской беседе и решению вопроса о том, чем ознаменовать настоящий товарищеский праздник. Делались различные предложения. У большинства мысль невольно останавливалась на оказании помощи селянам умерших товарищей. Долго не отливалось это желание в определённые формы. Радостная весть о прошедших через законодательные учреждения новых штатных духовноучебных заведений дала повод некоторым внести предложение об организации особого фонда LVIII курса для вспомоществования товарищам и их семьям. После долгих прений выработано было положение об этом фонде.
Знаем, что этим маленьким фондом мы не в силах отереть все слёзы попавших в беду товарищей, но если нам удастся ежегодно улучшить положение хоть одной бедствующей семьи, то, думаем, и это будет благим делом.
В связи с вопросом о материальной помощи товарищам поднят был вопрос о моральной поддержке. Здесь особенно ярко выступает нужда в своём специальном издании, которое бы являлось выразителем средней и низшей духовной школы. В России школы всех ведомств, кажется, имеют свои журналы, одна лишь средняя духовная школа остаётся без своего издания. Академические журналы не должны идти в счёт. Во-первых, это учёные издания. Правда, и нам любезно иногда предоставляют здесь страницы, но это, конечно, некоторое самопожертвование со стороны редакций. А во-вторых, и это самое главное, – большинство нас педагогов привыкли смотреть на академические журналы с некоторой робостью и потому немногие
—205—
решаются просить себе места на страницах этих изданий. Вот почему нам необходим свой педагогический журнал, где бы каждый из нас не стеснялся поделиться своим опытом, своими сомнениями и переживаниями. Теперь идёт коренной вопрос о реформе духовной школы, а между тем в разрешении этого вопроса совсем почти не слышно голосов лиц наиболее заинтересованных – педагогов школы. Бояться особой скудости этого издания едва ли можно: ведь нас педагогов большая рать. Всё дело в деньгах. Но мы полагаем, что школьное дело так важно, что наше начальство (Учебный Комитет) должен бы нам дать субсидию, как субсидирует Училищный Совет «Народное Образование». Свой журнал скорее сплотил бы нас, расшевелил и оживил. Он отображал бы всю нашу жизнь с её светлыми и теневыми сторонами. Отсюда мы, между прочим, узнавали бы обо всех переменах в судьбе товарищей. С нами не случалось бы того, что встретилось сейчас на нашем съезде: никто не мог сообщить о судьбе семейств скончавшихся товарищей. Порой и рады бы помочь, да не знаешь, куда адресоваться…
Со следующего дня начался уже разъезд по домам. На прощанье решено было, что через десять лет снова собраться, если возможно, и с семьями. А чтобы не растерять друг друга, согласились о всякой перемене по службе уведомлять П.С. Чулкова, который охотно согласился быть нашим связующим центром…
Оглядываясь теперь назад, невольно спрашиваешь себя, оправдал ли съезд возлагаемые на него надежды, имеет ли он вообще какой смысл. Тем настойчивее стоят эти вопросы, что их задавали не раз и посторонние. Моё личное глубокое убеждение, что смысл периодических съездов товарищей есть, и не малый, и я благодарю судьбу, что она не помешала мне пробыть эти дни под кровом дорогой для меня Академии, в кругу близких мне лиц. Когда собирались мы ехать на съезд, то не задавались особенно широкими планами. Вот почему мы и не вынесли каких-либо широковещательных резолюций, которым в большинстве случаев не приходится видеть осуществления. У нас была своя маленькая цель – взаимной поддержкой подкрепить друг друга на тяжёлом жизненном пути. И
—206—
я верю, что эта цель достигнута. То не секрет, что в редких из наших учебных заведениях есть настоящая корпоративная жизнь. Тут трудно встретить бескорыстную поддержку. И вот мысль невольно уносится к дням юности, к золотому времени студенчества, когда все мы составляли единую дружную семью. Эти братские чувства мы и имели случай подновить теперь личным свиданием. Отрадней становится на душе, чувствуешь, что вырастают крылья и бодро идёшь на жизненный путь, не страшась бурь и непогоды. Опустятся в изнеможении руки, вырвется из наболевшей души стон, как у Гоголевского Остапа: «батько! слышишь ли ты всё это!» И чувствуешь, что отовсюду – из Бахмута и Острога, из Нолинска и Самары, из Оренбурга и Иркутска несётся один одобряющий ответ: «слышу!» Ради этой только моральной поддержки стоит поехать за четыре-пять тысяч вёрст. И как жаль тех из товарищей, кто хотел быть с нами и не мог этого сделать по независящим обстоятельствам. Хочется верить, что когда в другой раз раздаётся кличь о съезде, и они придут к нам со своими радостями и горем.
«Братцы! слышите ли вы всё это?!».
И. Фигуровский
Журналы обозрений Совета Императорской Московской Духовной академии за 1913 год //Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 577–640 (3-я пагин.).
—577—
о назначении названным лицам пособия из Синодальных сумм на путевые расходы и содержание в С.-Петербурге в размере – по 150 рублей каждому. – 2) В настоящее время один из избранных представителей Академии – ординарный профессор М.М. Богословский – серьёзно болен (воспалением лёгких) и принять участие в Совещании не имеет возможности.
Определили: В случае удовлетворения Святейшим Синодом ходатайства Совета, изложенного в п. 1 справки, – вторым представлением от Академии на Предварительное Совещание при Императорской Академии Наук для обсуждения вопросов, связанных с устройством в 1918 году в С.-Петербурге IV-го Международного Исторического Съезда, избрать (вместо ординарного профессора М.М. Богословского) экстраординарного профессора Академии по кафедре истории и обличения западных исповеданий, в связи с историей Западной церкви от 1054 года до настоящего времени, А.П. Орлова, – о чём и сообщить Императорской Академии Наук.
VI. Отношение Управления императорской Публичной Библиотеки:
«Императорская Публичная Библиотека празднует 2-го января 1914 года столетие со дня открытия её на пользу общую.
Управление Библиотеки льстит себя надеждой, что Императорская Московская Духовная Академия почтит своим участием торжественный акт, который состоится в этот день в 1 час дня в читальном зале Библиотеки, и просит уведомить заблаговременно, если участие это выразится посылкой депутации».
Определили: Приветствовать Императорскую Публичную Библиотеку, по случаю исполняющегося 2-го января 1914 г. столетия со дня её открытия на пользу общую, поднесением адреса от имени Императорской московской духовной Академии через особую депутацию из экстраординарных профессоров Академии – Н.Л. Туницкого и священника В.Н. Страхова, которым и поручить составить предварительный проект текста адреса.
—578—
VII. Предложение Преосвященного Ректора Академии:
«Согласно § 121 устава духовных академий – «Совет назначает ежегодно день торжественного собрания, в котором читается годовой отчёт и произносятся преподавателями речи, предварительно одобренные ректором». – В виду сего считаю благовременным предложить Совету озаботиться избранием из числа наставников Академии лица, на которое возложено будет составление речи к 1-му октября будущего 1914 года – традиционному дню торжественного академического праздника, совпадающему ныне с празднованием столетнего юбилея Академии».
Определили: Составление речи ко дню торжественного юбилея собрания Академии 1-го октября 1914 года и произнесение оной, по предварительном одобрении Преосвященным Ректором Академии, поручит ординарному профессору по кафедре русской гражданской истории М.М. Богословскому.
VIII. Предложение бывшего воспитанника Московской Духовной Академии и Императорского Училища Православия, потомственного дворянина и кандидата богословия Евстафия Николаевича Воронца:
«Весьма многие бывшие воспитанники Московской Духовной Академии приобрели своими литературными трудами заслуженную известность в литературе Богословской и в прочих отраслях знания, Академии принадлежит в одних из её питомцах пробуждение, развитие и укрепление дарований, – в других из них правильное направление их талантов. Но хотя Московская Академия заканчивает ныне столетие своего существования, а между тем в ней неизвестны как большинство литературных трудов, так и благотворная деятельность очень многих бывших её воспитанников.
Этот пробел ведёт к тому, что даже такой почтенный и компетентный историк Академии, как протоиерей Сергей Константинович Смирнов, весьма слабо и мало смог выразить тот высокий и могучий импульс, какой даёт Московская Духовная Академия своим воспитанникам для приложения в жизни Церкви и православного отечества тех
—579—
духовных свойств и талантов, кои выработаны были в них Академией. В упомянутой Истории Академии за 56 лет её бытия не упомянуто, например, о многосторонних литературных трудах и благотворной деятельности такого просвещеннейшего её воспитанника седьмого курса (1830 года), как Гордий Семёнович Саблуков1694, бывший ординарный профессор в Казанской Духовной Академии. А ведь этот выдающийся учёный и глубоковерующий церковно-государственный деятель, высоко ценимый русскими Святителями и профессорами, и ориенталистами, и историками, – образовал своими литературными трудами и деятельностью в просвещении поволжских инородцев светом Христовым целую школу и целые группы теоретических и практических полезных деятелей Церкви и отечества1695. Приснопамятный этот товарищ и наставник наш Гордий Семёнович Саблуков даже среди врагов Христовых называется и слывёт патриархом и могучим борцом за веру истинную против неверных1696… А в истории Московской Духовной Академии о столь славных трудах и деятельности такого выдающегося её воспитанника не сказано ничего, он ей как будто чужд и неизвестен…
От каждого студента Академия требует, чтобы он собрал и имел под руками литературу предмета своей задачи; а в самой Академии не собрана и она не имеет достаточной литературы проявления существенной стороны её задачи – духовного её влияния и значения в печатных трудах и в жизненной деятельности её питомцев…
Вследствие высказанного весьма благопотребно учредить при библиотеке Московской Духовной Академии особый отдел, составленный из собрания литературных трудов бывших её воспитанников и из материалов, для её истории. В этот специальный отдел следует собрать как многое напечатанное об Академии, так, по возможности, все труды бывших её воспитанников, напечатанные не
—580—
только отдельными изданиями, а и в журналах, в сборниках, и печатные отзывы об этих трудах и ещё биографии и некрологи1697 почивших воспитанников Московской Духовной Академии. Для успешного осуществления этого собрания следует, – между прочим чрез напечатание об этом в газетах и журналах, – просить содействия этому всех бывших воспитанников Московской Духовной Академии, а за почивших их родственников.
По всему здесь упомянутому имею честь почтительнейше просить Совет Московской Духовной Академии, хотя только принципиально, обсудить настоящее моё предложение. И как надеюсь, когда оно будет одобрено, испросить у Высокопреосвященнейшего владыки Святителя Макария, митрополита Московского, разрешение на принятие соответствующих мер к учреждению при Академической библиотеке особого отдела по истории Академии и собранию возможно больших трудов бывших воспитанников Академии.
Определили: Выражая, в принципе, полное сочувствие предложению кандидату богословия Е. Н. Воронца, – вопрос об учреждении при фундаментальной академической библиотеке особого отдела, составленного из собрания учёно-литературных трудов бывших воспитанников Академии и из материалов по её истории, и об изыскании средств на этот предмет – передать для предварительной разработки в юбилейную комиссию.
IX. Отношения Учебного Комитета при Святейшем Синоде, от 13 ноября и 2 декабря за №№ 4566 и 5092, с препровождением циркуляров по духовно-учебному ведомству за №№ 29 и 30 (по два экземпляра каждого).
Определили: Принять к сведению.
Х. Доклад экстраординарного профессора академии С.И.
—581—
Смирнова и и. д. доцента Ф.М. Россейкина, производивших ревизию академической библиотеки:
«Честь имеем доложить Совету Академии о результатах произведённой нами, по поручению Совета, ревизии академической библиотеки:
1) Все расходы, произведённые библиотекой в 1912 году в сумме 2860 р. 35 к., имеют за себя оправдательные документы и вполне соответствуют записям приобретённых книг в инвентарном каталоге библиотеки.
2) Отчёт г. библиотекаря Академии за 1911–1912 академический год стоит в точном соответствии с фактическим составом библиотеки и наличным состоянием библиотечного хозяйства.
3) При опытах проверки книжного состава библиотеки оказалось, что все затребованные книги или стоят на местах, или значатся по карточкам выданными тому или иному лицу, имеющему право на пользование библиотекой. На всех книгах имеются №№ полок и печать библиотеки Академии.
4) Выдача и обратный приём книг производится библиотекой в точном соответствии с установленными правилами. В частности, г. библиотекарем принимаются своевременные меры к проверке книг, находящихся на руках г.г. профессоров».
Определили: Принять к сведению.
XI. Отношения:
а) Императорской Публичной Библиотеки, от 22 ноября за №№ 2709 и 2721, с уведомлением о получении книг, возвращённых Советом Академии при отношениях от 9 и 15 ноября с./г. за №№ 611 и 629.
б) Императорского Московского и Румянцевского Музея, от 29 ноября за № 1539, с уведомлением о получении возвращённого Советом Академии рукописного сборника архимандрита Вассиана под № 1257.
в) Совет Императорской С.-Петербургской Духовной Академии, от 11 ноября за №№ 1809 и 19 ноября за №№ 1844, с препровождением на трёхмесячный срок:
1) журнала Jewisch Quartery Review за 1890 г. №№ 2, 3, 4
—582—
и 9 (для занятий профессорского стипендиата Н. Кочанова); 2) рукописей Софийской библиотеки под №№ 1385, 1365 и 1359 (для занятий доцента Н.Л. Туницкого); 3) рукопись под заглавием: «Записка о чевствовании Св. Анны Кашинской (для занятия студента IV курса Н. Синева).
д) Императорской Публичной Библиотеки, от 16 и 30 ноября за №№ 2665 и 2848, с препровождением на трёхмесячный срок: 1) книг – G. Parthey. Plutarch ȕber Jsis und Osiris Abhandlungen der Kgl, Preussischen и Akademie der Wissenschaften. 1914 (для занятий экстраординарного профессора Д. И. Введенского) и 2) рукописи 1286 г. из собрания Гильфердинга № 32 (для занятий и. д. доцента В. П. Виноградова).
е) Императорского Московского и Румянцевского Музея, от 11 ноября за № 1468, с препровождением на месячный срок книг: 1) Журнал Министерства Народного просвещения за 1835 г., вып. 2 (для занятий студента IV курса А. Лебедева).
ж) Духовного Собора Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, от 12 и 22 ноября за №№ 1896 и 2005, с препровождением на трёхмесячный срок рукописей Лаврской библиотеки под №№ 103–4 (для занятий и. д. доцента В. П. Виноградова), 746, 760, 762, 764 и копия «Описи Троице-Сергиевой Лавры 1642 года» (для занятий студента IV курса М. Струменского).
Справка: Означенные в п.п. в-ж книги и рукописи, немедленно по получении, сданы были для хранения и пользования ими, в фундаментальную академическую библиотеку.
Определили: Принять к сведению.
XII. Представление Библиотечной Комиссии, от 7 декабря за № 1165:
«На основании § 215 Академического Устава Библиотечная Комиссия имеет честь просить Совет Академии о разрешении выписать для академической библиотеки издания, значащиеся в прилагаемых при сём заявлениях академических преподавателей за №№ 942, 943 и 915 (Инспектора Академии Архимандр. Иллариона), 571, 572, 573 и 574 (Проф. А.П. Шостьина), 1208 и 1209 (Проф. С.И. Соболевского), 954 (Проф. С.С. Глаголева), 1461 и 1462 (Проф. А. А. Спас-
—583—
ского), 1207 (Проф. П.И. Соколова), 944, 949 и 950 (Проф. С.И. Смирнова), 955 (Проф. Д.И. Введенского), 941 и 956 (Проф. А.П. Орлова), 845 и 846 (Проф. свящ. Д.В. Рождественского), 947 (Проф. свящ. В.Н. Страхова), 844 и 971 (Доц. Н.В. Лысогорского), 948 (Доцента Н.Л. Туницкого), 798 и 953 (И. д. доцента Ф.М. Россейкина), 164 и 952 (И. д. доцента свящ. П.А. Флоренского), 1014, 1015, 1017 и 1019 (И. д. доцента А.М. Туберовского), 1421 и 1430 (И. д. доцента В.П. Виноградова), 958 и 959 (И. д. доцента свящ. И.М. Смирнова), 728 (И. д. доцента Н.Д. Протасова), 940 и 960 (Лектора А.К. Мишина), 946 (Лектора свящ. Н.А. Преображенского) и 847 (Библиотечной Комиссии)».
Определили: Поручить библиотекарю Академии К.М. Попову выписать для академической библиотеки означенные в заявлениях г.г. профессоров и преподавателей Академии издания и о последующем предоставить правлению Академии.
XIII. Представление Библиотечной Комиссии от 7 декабря за № 1168:
«На основании своего постановления от 3 декабря 1913 года Библиотечная Комиссия имеет честь представить в Совет Академии: 1) Представление в Комиссию библиотекаря Академии К. Попова от 1 декабря 1913 года со списком периодических изданий, получавшихся в академическую библиотеку в 1913 году, и 2) Копию с протокола заседания Библиотечной Комиссии 3 декабря 1913 года.
Утверждённый Советом Академии список периодических изданий на 1914 год Комиссия просит передать библиотекарю Академии К. Попову для снятия копии и заказа».
Определили: Поручить библиотекарю Академии К.М. Попову выписать для академической библиотеки на 1914-й год следующие издания:
А. Русские:
1. Русский Архив.
Русский Врач.
Византийский Временник.
Церковные ведомости.
5. Вестник Воспитания.
Вестник Европы.
—584—
Вестник Опытной Физики и Элементарной Математики.
Исторический Вестник.
Русский Филологический Вестник.
10. Журнал Министерства Народного Просвещения.
Книжная Летопись главного Управления по делам печати.
Нива.
Русская Старина.
14. Русская Школа.
Б. Иностранные:
15. Archiv fȕr katholisches Kirchenrecht.
Archiv fȕr slavische Philologie.
Archiv fȕr Philosophie. I. Archiv fȕr Geschichte der Philosophie.
Archiv fȕr Philosophie. II. Archiv fȕr systematische Philosophie.
Archiv fȕr gesamte Psychologie.
20. Archives de Psychologie.
Beitrȁge zur Fȍrderung christlicher Theologie.
Nuovo Bullettino di archeologia Cristiana.
Ciel et Terre.
Dienet einander.
25. Expositor.
Forschungen zur christlichen Literatur – und Dogmengeschichte.
Geisteskampf.
Jahrbuch des Vereins fȕr wissenschaftliche Pȁdagogik.
Journal de Psychologie.
30. Journal of theological studies.
American Journal of religious phychogy and education.
International Journal of ethics.
Kantstudien (mit Ergȁnzungsheften).
Theologische Literaturblstt.
35. Theologische Literaturzeitung.
Mathesis.
Mind.
Monatschrift fȕr Gottesdienst und kirchliche Kunst.
Monastschrift fȕr innere Mission.
40. Monastschrift fȕr Pastoraltheologie.
Oriens Christianus.
—585—
Hermes.
Rȍmische Quartalschrift.
Der alte Orient.
45. Pionier.
Theologische Quartalschrift.
Theologisch – praktische Quartalsxhrift.
Revue biblique.
Revue de L’ art chrėtien.
50. Revue de L’ histoire des religions.
Revue de L’ orient chrėtien.
Revue de histoire ecclėsiastique.
Revue de metaphysique et de morale.
Revue de synthėse historique.
55. Revue de thėolodie et de philosophie.
Revue des deux mondes.
Revue des etudes juives.
Revue des question scientifiques.
Revue du clerge Francais.
60. Revue philosophique.
Revue pratique d’ apologėtique.
Revue scientifique.
Theologische Revue.
Phylogische Studien.
65. Theologische Studien und Kritiken.
Theologie der Gegenwart.
Expository Times.
Umschau, Wissenschaftliche.
Viertaljahrsschrift fȕr wissenschaftliche Philosophie.
70. Zeitschrift fȕr Kirchengeschichte.
Zeitschrift fȕr Psychologie.
Zeitschrift fȕr Religionspsychologie.
Zeitschrift fȕr katholische Theologie.
Zeitschrift fȕr wissenschaftiche Theologie.
75. Zeitschrift fȕr alttestsmentliche Wissenschaft (mit Beiheften).
Zeitschrift fȕr neutestamentliche Wissenschaft.
Byzantinische Zeitschrift.
Deutsche Zeitschrift fȕr Kirchenrecht.
79. Zodiakus.
XIV. Представление Библиотечной Комиссии от 7 декабря за № 1167:
—586—
«Библиотечная Комиссия, представляя при сём вырезку из печатных журналов Совета Академии за 1913 год, в которой на страницах 637–638 напечатана расходная смета по фундаментальной библиотеке 1913-го года, на основании своего постановления от 3 декабря 1913 года, сим имеет честь просить Совет Академии об утверждении на 1914-й год сметы в таком виде: а) пункты 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 сметы оставить без изменения; б) ассигновать на выписку книг заслуженному ординарному профессору Академии М.Д. Муретову 30 рублей в год; в) по пункту 3-му сметы на кафедры немецкого, французского и английского языков ассигновать по 10 рублей в год на каждую».
Определили: Соглашаясь с представлением Библиотечной Комиссии, расходную смету по фундаментальной академической библиотеке на 1914-й г. утвердить в следующем виде:
1) На кафедры: основного богословия, догматического богословия, нравственного богословия, пастырского богословия и гомилетики, истории древней церкви, церковного права, систематической философии и логики, психологии, истории философии, педагогики, еврейского языка с библейской археологией, библейской истории, истории греко-восточной и славянских церквей, истории и обличения западных исповеданий и греческого языка – по 60 рублей на каждую; 2) на кафедры: Священного Писания Ветхого Завета – 1-ю и 2-ю, Священного Писания Нового Завета – 1-ю и 2-ю, патрологии 1-ю и 2-ю, истории русской церкви, русской гражданской истории, истории и обличения русского раскола, истории и обличения русского сектантства, церковно-славянского и русского языка, истории русской литературы, литургики, церковной археологии – по 50 рублей на каждую, с добавлением на кафедры священного Писания Нового Завета 30 рублей для выписки книг по представлениям сверхштатного заслуженного ординарного профессора Академии М.Д. Муретова; 3) на кафедры немецкого, французского и английского языка – по 10 рублей на каждую; 4) на выписку периодических изданий – 500 рублей; 5) на выписку ценных изданий – 300 р., 6) на переплёт книг – 300 р., 7) на пересылку книг – 70 р. и 8) на канцелярские расходы – 19 руб.; всего – 2849 рублей.
XV. Представление Библиотечной Комиссии от 7 декабря за № 1166:
—587—
«Библиотечная Комиссия, в заседании своём 3 декабря 1913 года, рассмотрев заявление библиотекаря Академии К. Попова об имеющемся по смете 1913 года остатке, вследствие не израсходования сумм, ассигнованных на кафедры церковного права, систематической философии, патрологии 2-й и истории русского сектантства, всего 220 рублей, на основании § 5 правил о порядке приобретения в библиотеку книг, сим имеет честь представить Совету Академии свои соображения об употреблении этого остатка. Комиссия находит возможным на эти деньги: 1) приобрести для библиотеки пишущую машину системы Гаммонд, модель № 15 б, с двумя шрифтами, ценой в 315 рублей, в рассрочку, на каковую имеется согласие товарищества Т.И. Гаген, и уплатить за неё в текущем году 115 рублей; уплата 200 рублей отсрочивается на годы 1914-й и 1915-й, и следующий взнос – 100 рублей – не будет требоваться ранее конца ноября 1914-го года; 2) выписать вышедшие в 1913-м году новые тому сирской серии издания Corpus scriptorium christianorum orienyalium на сумму 31 рубля; 3) выписать из издания Monumenta Germaniae historica, серия – Auctores antiquissimi, недостающие в библиотеке тома на сумму 50 руб., и 4) выдать библиотечному служителю Сергею Терешину за единоличную работу в библиотеке в летнюю пору (единственный служитель, остающийся в библиотеке летом, когда так дороги рабочие руки), и за обучение им двух новых служителей вознаграждение в сумме 10 рублей».
Определили: Признавая изложенные в представлении Библиотечной Комиссии соображения относительно употребления образовавшегося к концу 1913-го года остатка библиотечных сумм, в количестве 220-ти рублей, заслуживающими уважения, – поручить библиотекарю Академии К.М. Попову привести оные в исполнение.
XVI. а) Представление библиотекаря академии К.М. Попова:
«На основании § 209 Академического Устава имею честь представить в Совет Академии отчёт по библиотеке за 1912–1913 академический год.
I. В 1912–1913 академическом году библиотека пополнилась 3602 названиями книг и журналов в 8853 томах
—588—
и тетрадях. Из них 604 названия в 1472 томах и тетрадях приобретены покупкой, а 2998 названий в 7381 томе поступили частью в дар от разных учреждений и лиц, частью в обмен на академический журнал, частью как присланные в редакцию академического журнала для отзыва и частью как академические издания и диссертации на учёные степени: в числе 2998 названий, поступивших даровым путём, считаются поступившие в академическую библиотеку по завещаниям книги покойных профессоров Академии Е.Е. Голубинского (1077 названий в 1312 томах) и А.И. Введенского (979 названий в 1441 томе). – В библиотеку практических занятий, организуемую на особо отпущенную сумму, приобретено книг 35 названий в 113 томах, и 2 названия в 2 томах поступили в дар. – В отчётном году приобретены следующие ценные издания: Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, reimpression Welter. tom. 36 и 47, Parisiis, 1913 – в двух экземплярах – 256 Марок; три еврейские рукописи – 130 Марок; Великая Реформа, юбилейное издание Т-ва Сытина, томы 1–6. Москва, 1911 – 26 р.; Московская Церковная Старина, том 4, Москва 1911 – 40 р.; Еврейская Энциклопедия Словарь, томы 1 – 13 – 52 р. Из пожертвований нужно отметить библиотеку покойного профессора А.И. Введенского, книги которой, преимущественно философского содержания, хотя в большинстве представляют дублеты по отношению к академической библиотеке, являются ходовыми в Академии; на средства вдовы покойного М.И. Введенского сделан шкаф для этих книг, и как только книги будут размещены в нём, приступлено будет к каталогизации их. Каталог книг библиотеки покойного профессора Е.Е. Голубинского составлен библиотекарем в течение прошлого лета; библиотека эта представляет случайное собрание исключительно иностранных книг, треть коих является дублетом по отношению к академической библиотеке, и как таковая имеет менее значительную ценность. – Книги для академической библиотеки приобретались по требовательным запискам наставников Академии, каковые, после рассмотрения в Библиотечной Комиссии, выносились на утверждение Совета Академии.
—589—
II. Профессорам, преподавателям и должностным лицам Академии в отчётном году выдано было 10114 названий книг и периодических изданий; в это число не входят книги, о которых наводились справки, как о взятых. – Кроме того, в аудитории, для практических занятий, было выдано в течение года 879 книг, ценных изданий и рукописей. – Требовательных листков, по которым студенты получают книги из библиотеки, в отчётном году израсходовано 77817, и на каждого студента за год приходилось более 300 отдельных требований.
III. Учреждённая по § 210 академического устава Библиотечная Комиссия, состоявшая под председательством профессора А.А. Спасского из проф. М.М. Тареева, и. д. доцента свящ. П.А. Флоренского и библиотекаря К.М. Попова, в отчётном году имела 3 заседания. Кроме рассмотрения заявлений наставников Академии о выписке новых книг, предметами занятий Комиссии были: а) составление списка периодических изданий на 1913 год; б) составление проекта сметы по фундаментальной библиотеке на 1913 г.; в) обсуждение вопроса о передаче Духовным Собором Свято-Троицкой Сергиевской Лавры Лаврских рукописей в академическую библиотеку и др. – В виду значительного увеличения работ по академической библиотеке, Советом Академии возбуждено было пред Святейшим Синодом ходатайство об отпуске из синодальных сумм 600 рублей в год на содержание вольнонаёмного лица в качестве второго помощника библиотекаря, каковое ходатайство уважено, и указом от 21 декабря 1912 года за № 19620 в распоряжение Правления академии назначена была просимая сумма; в помощь библиотекарю Правлением Академии определён диакон Сергеевопассадской бесприходной кладбищенской Всехсвятской церкви В.А. Виноградов.
IV. В отчётном году из разных книгохранилищ и учреждений для профессоров и студентов в академическую библиотеку было выписано Советом Академии несколько рукописей и книг, именно: «Из Императорской Публичной Библиотеки 7 рукописей и 27 книг; из Императорской Археографической Комиссии 1 рукопись; из Московского Публичного и Румянцевского Музея 1 рукопись и 5 книг; из Императорского Московского Археологиче-
—590—
ского Общества 2 рукописи; из Московской Синодальной Библиотеки 7 рукописей; из библиотеки Императорской С.-Петербургской Духовной Академии 4 рукописи и 1 книга; из библиотеки Императорской Казанской Духовной Академии 1 рукопись; из Московской Синодальной Типографии 1 книга; из Библиотеки Свято – Троицкого Сергиевской Лавры 22 рукописи; из Библиотеки Московского Никольского Единоверческого Монастыря 1 рукопись; из библиотеки Волоколамского Иосифова монастыря 1 рукопись; из библиотеки Нижегородской духовной семинарии 1 рукопись; из Окружных Судов Воронежского, Калужского, Оренбургского, Орловского, Самарского, Симбирского, Тамбовского и Херсонского 15 дел. Из академической библиотеки в отчётном году было выслано: в Императорскую академию Наук 1 рукопись; в Императорскую Археографическую Комиссию 2 рукописи; в Императорское Общество Истории и Древностей Российских 2 рукописи; в императорский имени Императора Николая II Археологический Институт 2 рукописи; в Общество Любителей Древней Письменности 1 рукопись; в Архив Святейшего Синода 1 рукопись; в Московскую синодальную типографию 4 рукописи; в Вифанскую Духовную Семинарию 1 книга и в Тамбовскую Духовную Семинарию 1 книга.
В разное время, частью занимались в академической библиотеке, частью осматривали её: Профессор Императорской С.-Петербургской Духовной Академии Б.В. Титлинов, И. д. доцента Казанской Духовной Академии Иеромонах Афанасий, Протоиерей А.А. Беляев, Библиотекарь В.А. Андреев, Справщик Московской Синодальной Типографии Н.И. Серебрянский, Преподаватель Астраханской Духовной Семинарии Д.К. Вышеславов, Профессорский стипендиат Университета Св. Владимира Л. Белецкий. Законоучитель Владимирского Учительского Института свящ. И.Н. Смирнов, Слушатель Московского Археологического Института диакон В.П. Тростин, Студент Киевской Духовной Академии свящ. Державин, Офицеры 39 Томского пехотного полка, врач Помеловский, Капитан Зайленко и поручик Толмачев; экскурсия слушальниц учительских курсов земских школ Александровского уезда, Владимирской губернии, во
—591—
главе с Инспектором народных училищ Почётным Блюстителем академии по хозяйственной части В.Д. Поповым и священником А.И. Рождественским».
б) Список пожертвований, поступивших в фундаментальную академическую библиотеку в 1912–1913 учебном году:
1) От Алексея, Архиепископа Саратовского – его брошюра: Христианство без догмата. Саратов, 1913.
2) От Евдокима, епископа Каширского – его журналы: а) христианин 1912 г. №№ 8–12, и 1913 г. №№ 1–7, с приложениями и б) Маленький Христианин 1912 г. №№ 8–12, и 1913 г. №№ 1–7.
3) От Николая, Архиепископа Варшавского – его Варшавские беседы и речи, вып. V (1912 г.). Спб. 1913.
4) Из Государственной Думы – а) Стенографический отчёт Государственной Думы. 4-й созыв. Сессия I, часть I, засед. 1–30; часть II, засед. 31–54; часть III, засед. 55–81. Спб., 1912–1913; б) Указатель к стенографическому отчёту Государственной Думы 3-го созыва 5-й сессии. Спб., 1912; в) Приложение к стенографическому отчёту Государственной Думы 3-го созыва 5-й сессии. Томы 1–5. Спб., 1911–1912; г) Предметный указатель к Приложениям. Спб., 1912; д) Доклады Бюджетной Комиссии 3-го созыва 5-й сессии Думы. Томы 1–2. Спб., 1912; е) обзор деятельности Государственной Думы 3-го созыва 5-й сессии Думы. Спб., 1912; ж) Обзор деятельности Государственной Думы 3-го созыва (1907–1912 г.). Части 1–3 Спб., 1912; з) особое приложение №2 к Стенографическому отчёту Государственной Думы 153-го заседания 5-й сессии. Спб., 1912.
5) Из Архива Государственного Совета – Опись дел Архива, томы 6, 7 и 9. Спб., 1911–1912.
6) Из Архива Правительствующего Сената – его издание Сенатский Архив, т. XV. Спб., 1913.
7) Из Департамента Общих Дел Министерства Народного Просвещения – книги: а) Tolstoy, Catholicisme Romain en Russie, tome 2-me. Paris, 1864; б) The Russian ministry of public education at the World’s Columbian Exposition. St-Petersburg, 1893, два экз.
8) Из Хозяйственного управления при Св. Синоде – а) Сборник Императорского Русского Исторического Общества: томы 138–142. Юрьев, 1912. – Спб., 1912–1913, и Москва
—592—
1913; б) Полное Собрание Законов 3-е, том 29; 1–2. Спб., 1912; в) Свод Законов, том Х, часть 3 (Положение о землеустройстве), изд. 1912 г., два экз.; г) Циркуляр по духовному ведомству. № 28 (1911–1912 г.г.). Спб., 1912; д) Martini, Textgeschichte der Bibliotheke des Patriarchen Photios. 1. Teil. Leipzig, 1911.
9) Из Императорской Академии Наук – её издания: а) Записки по историко-филологическому отделению. 8-ая серия, том XI, №№ 2, 3, 4, 5. Спб., 1912; б) Известия (Bulletin) Академии Наук, 6-ая серия, 1912 г., том VI, №№ 12–18, и 1913 г. том VII, №№ 1–11. Спб., 1912–1913; в) Известия Отделения русского языка и словесности, том XVII, кн. 2–4 и XVIII, кн. 1–2. Спб., 1912–1913; г) Сборник Отделения русского языка и словесности. том 89. Спб., 1912; д) Христианский Восток. Год 1-й. Том I, вып. II–III; том II, вып. I. Спб., 1912–1913; е) Письма и бумаги императора Петра Великого, том 6. Спб., 1912; ж) Сборник отчётов о премиях и наградах, III и IV. Спб., 1912.
10) Из Императорской Археологической Комиссии – а) Известия Комиссии, вып. 44; 1–2; 45; 46; 1–2. Спб., 1912; и б) Отчёт Комиссии за 1908 год. Спб., 1912.
11) Из Императорского Русского Археологического Общества – а) Записки Отделения, том XXI, вып. 1–3. Спб., 1912; и б) Записки Отделения русской и славянской археологии, том IX. Спб., 1913.
12) Из Императорского Российского исторического Музея – а) Каталог книг библиотеки А.П. Бахрушина, вып. III. Москва, 1912; б) Каталог книг библиотеки А. П. Бахрушина. Книги на иностранных языках. Москва, 1912; в) Отчёт Музея за 1908, 1909, 1910 и 1911 г.г. Москва, 1909–1912.
13) Из Императорского Общества Истории и Древностей Российских – Чтения в Обществе 1912 г., кн. 3–4, и 1913., кн. 1–2. Москва, 1912–1913.
14) Из Императорского Православного Палестинского Общества – Сообщения Общества 1912 г., вып. 3–4, и 1913г., вып. 1–2. Спб., 1912–1913.
15) Из Императорского Варшавского Университета – а) Обозрение преподавания в Университете в 1912–1913 г. Варшава, 1912; б) Записки Общества Истории, Филологии и Права, вып. 6. Варшава, 1912; в) Варшавские Университетские Изве-
—593—
стия 1912г.; вып. VI–IX. Варшава, 1912–1913; г) Бируков, Наблюдения над изменением окраски у животных. Саратов, 1912; д) Замотин, Ф. М. Достоевский в русской критике, 1. Варшава, 1913, два экз.; е) Козловский, Первые почты, 1–2. Варшава, 1913; ж) Мейер, О световых явлениях. Рига, 1913; з) Назаревский, Очерки по истории и теории коллективно-капиталистического хозяйства. т. 1, ч. 1. Москва, 1912.
16) Из Университета Св. Владимира – а) Билимович. Уравнения движения для консервативных систем. Киев, 1912; б) Бельговский, Материалы к учению о сычужном пищеварении у жвачных. Киев, 1912; в) Жилин, Теория союзного государства. Киев, 1912; г) Клингер, Животное в античном и современном суеверии. Киев, 1911; д) Лучицкий, Рапакиви Киевской губернии. Варшава, 1912.
17) Из Императорского Казанского Университета – а) Загряцков, Земельная политика в Германии, 1. Москва, 1913; б) Смирнов, Очерки по аграрной статистике, 1. Спб., 1912; в) Обозрения преподавания в 1912–1913 учебном году. Казань, 1912; г) Годичный Отчёт Университета за 1911 год. Казань, 1912.
18) Из Императорского Московского Университета – Отчёт Университета за 1912 год. Москва, 1913.
19) Из Императорского Николаевского Университета – а) День 21 Февраля в Императорском Николаевском Университете. Саратов, 1913; б) Годичный акт 6 декабря 1912 г. Саратов, 1913; в) Известия Университета, том III, вып. 3–4, и том IV, вып. 1–2. Саратов, 1912–1913.
20) Из Императорского Новороссийского Университета – Шпаков, Государство и церковь в Московском государстве, в 3-х кн. Одесса, 1912.
21) Из Императорского Томского Университета – Известия Университета, кн. 47–48. Томск, 1912–1910.
22) Из Императорского Юрьевского Университета – Учёные Записки Университета 1912 г., №№ 7–12, и 1913 г., №№ 1–6. Юрьев, 1912–1913.
23) Из Императорской Казанской Духовной Академии – а) Годичный акт 8 Ноября 1912 г. Казань, 1912, два экз.; б) Памятная книжка на 1912–1913 г. Казань, 1912, два экз.; в) Протоколы Совета за 1910–1912 годы. Казань, 1912–1913,
—594—
с Указателем к 1910 г. Казань, 1912, два экз.; г) Мотрохин, Творении Амвросия Медиоланского “De officiis ministrorum”. Казань, 1912, два экз.; д) Письма Антония, Архиепископа Казанского (1866–1879 гг.). Казань, 1912, два экз.
24) Из Императорской Киевской Духовной Академии – а) Отчёт 1910–1911 г. Киев, 1911; б) Речь и Отчёт 1911–1912 г. Киев, 1913; в) Извлечение из журналов Совета 1910–1911 г. Киев, 1911 (1912); г) Анатолий, Исторический очерк сирийского монашества. Киев, 1911; д) Барвинок, Никифор Влеммид. Киев, 1911; е) Иваницкий, Филон Александрийский. Киев, 1911; ж) Капралов, Религиозно-нравственное учение Амоса и Осии. Киев, 1911; з) Лисицын, Первоначальный славяно-русский типникон, с приложением. Спб., 1911; и) Преображенский, Славяно-русский скитский Патерик. Киев, 1909; й) Прилуцкий, Частное богослужение в русской церкви в XVI–XVII в. Киев, 1912; к) Скабалланович, Толковый Типикон, 1. Киев, 1910; л) Систематический каталог. вып. 10–11. Киев, 1912; м) Киево-Могилянский Сборник. Киев, 1913, два экз.; н) Из академической жизни Киев, 1913, два экз.
25) Из Императорской С.-Петербургской Духовной Академии – а) Годичный акт 17 Февраля 1913 г. Спб., 1913; б) Журналы Совета 1911–1912 г. Спб., 1912 (1913) и в) Памятная книжка 1912–1913 г. Спб., 1913.
26) Из Афинского Университета – его издания: а) Ξενια. Αϑηναι, 1912; б) La celebration du 75-me anniversaire de la foundation de l’Universitė Nationale de Grėce. Athėnes, 1912.
27) Из Упсальского Университета – Uppsala Universitets Arsskrift 1911, B-de 1–2. Uppsala. 1911.
28) Из Черниговского Университета – а) Verzeichnis d. őffentl. Vorlesungen im Winter-Semester 1912–1913 и Sommersemester 1913. Gzernowitz, 1912–1913; б) Personalstand im Lahre 1912–1913. Gzernowitz, 1912; в) Feierliche Inauguration 1912–1913. Gzernowitz, 1912.
29) Из Восточного Института во Владивостоке – Известия Института, год 13-й (1911–1912), том XLII–XLIII, и том XLV, 1. Владивосток, 1912.
30) Из Императорского Московского Археологического Института – Известия Археологического Съезда членов Института, тетради 1–5. Москва, 1913.
—595—
31) Из Демидовского Юридического Лицея – Временник Лицея, кн. 106–107. Ярославль, 1912.
32) Из Педагогического Института имени Н. Г. Шелапутина в г. Москве – Известия Института. Книга I. Москва, 1912–1913.
33) Из Московского Городского Народного Университета имени А. Л. Шанявского – Отчёт Университета за 1911–1912 акад. год. Москва, 1912.
34) Из Московского Архива Министерства Юстиции – Описание документов и бумаг Архива, кн. 17-я. Москва, 1912.
35) Из Архангельского Епархиального Церковно-Археологического Комитета – его издание: Акты Сийского монастыря, вып. 1-й. Архангельск, 1913.
36) Из Калужского Церковного Историко-Археологического Общества – его издание: Юбилейный сборник в память Отечественной войны, 1–2. Калуга, 1912.
37) Из Псковского Церковно-Археологического Комитета – его издание: Панов, Летопись Троицкого Собора г. Острова. Псков, 1912.
38) Из Общества Изучения Олонецкой губернии – Известия Общества, год 1-й (1913), №№ 1–4. Петрозаводск, 1913.
39) Из Новгородского Общества Любителей Древности – Сборник Общества, вып. VI. Новгород, 1912.
40) Из Ярославской Учёной Архивной Комиссии – а) Труды Комиссии, кн. 3:3 и 4; 2. Ярославль, 1912; б) 300 лет тому назад в г. Ярославле. Ярославль, 1912.
41) Из Подольского Епархиального Училищного Совета – Отчёт о состоянии церковных школ за 1910–1911 уч. год. Каменец-Подольск, 1911.
42) Из Ярославского Епархиального Училища Совета – Отчёт Ярославского Епархиального Наблюдателя о состоянии церковных школ за 1910–1911 и 1911–1912 уч. год. Ярославль, 1912–1912.
43) Из Клуба Националистов в Киеве – его издания: а) Пра-ос, Что такое ритуальные убийства? Киев, 1913, два экз.; б) Фрич, Справочная книга по еврейскому вопросу. Киев, 1912 (1913).
44) От Академического корпорационного товарищества по выписке журналов: аа) журналы: а) Вестник Иностранной Литературы 1911 г., №№ 1–12; №№ 1–5 и 7–12;
—596—
б) Современный Мир 1913 г., №№ 3–6; в) Современник 1912 г. №№ 7–12, и 1913 г., №№ 1–3; бб) Сборники: а) Альманах «Шиповник», кн. 15, 17 и 18. Спб., 1911–1912; б) Земля, кн. 8, 10 и 12. Москва, 1912–1913; в) Мирбо, Собрание сочинений, кн. 1–2, 4–6. Спб., 1912; г) Сборник Товарищества «Знание», 38 и 40. Спб., 1912–1913.
45) От Инспектора Академии Архимандрита Анатолия – его книга: Исторический очерк Сирийского монашества. Киев, 1911.
46) От п. д. доцента Академии И. Г. Айвазова – его книга и брошюры: а) Новая вероисповедная система Русского Государства. К-во «Верность». Москва, 1908; б) Кто такое Л. Толстой. К-во «Верность». Москва, 1908; в) Обновленцы и староцерковники. К-во «Верность». Москва, 1909; г) К диссертации Д. Г. Коновалова: «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве». К-во «Верность». Москва, 1909; д) Беседа с сектантами о субботе и воскресном дне. Издание 4-е. К-во «Верность». Москва, 1910; е) Великий штурм церкви. Москва, 1912; ж) Религиозная правда Русского Самодержавия. Москва, 1912; з) Христианская Церковь и современный социализм. Издание 4. Москва, 1912; и) Власть Русского Царя. Москва, 1912; й) Православная Церковь и высшие государственные учреждения в России. Москва, 1912; к) Программа для преподавания в духовных семинариях сведений по обличению социализма. Издание 3-е. Москва, 1912; л) Власть и положение римского епископа в Церкви по св. Василию Великому. 2-е издание. Москва, 1912; м) Критический обзор материалистических теорий против субстанциальности души. Москва, 1912; н) Высокопреосвященный Владимир, Митрополит С.-Петербургский и Ладожский. Москва, 1912; о) Прощание Владимира, Митрополита С.-Петербургского, с Московской Церковью. Москва, 1912; п) Граф Лев Толстой. Москва, 1913; р) Религиозные скитания русской интеллигенции нашего времени. Москва, 1913.
47) От профессора Академии М. М. Богословского – его книга: Земское самоуправление на русском севере в XVII веке, 2. Москва, 1912.
48) От доцента Академии В.П. Виноградова – его брошюра: Платон и Филарет, Митрополиты Московские. Сергиев Посад, 1913.
—597—
49) От профессора С.-Петербургской Духовной Академии Н.Н. Голубовского – аа) его труды: а) Отзывы о сочинении В.И. Герье, Блаж. Августин. Москва, 1910; б) Из переписки Архиепископа Рязанского Смарагда Крыжановского. Москва, 1913; в) Дело священника И. Семова с Орловским Епархиальным Начальством (1844–1858 г.). Спб., 1913; и бб) брошюра проф. А.Н. Лебедева, Константин Великий, первый великий христианский император. Спб., 1912.
50) От доцента Академии С.С. Глаголева – его книга: Пособие к изучению основного Богословия. Москва, 1912.
51) От доцента Академии свящ. И.В. Гумилевского – его книга: Семя веры, 1. Сергиев Посад, 1913.
52) От профессора Академии Н.А. Заозерского – его брошюра: Государство и церковь в деле законодательства о поводах к разводу. Спб., 1911, два экз.
53) От помощника библиотекаря Академии иеромонаха Игнатия – его труды: а) В поисках живого Бога. Москва, 1913, два экз.; и б) «Во Христе сапер». Сергиев Посад, 1913, два экз.
54) От бывшего профессора Академии И.И. Казанского – его труды: а) Житие и чудеса преподобного Сергия Радонежского. Сергиев Посад, 1912, и б) О совести. Сергиев Посад, 1913, три экз.
55) От бывшего профессора Академии И.Ф. Каптерева – его книга: Патриарх Никон и его противники. Издание 2-е. Сергиев Посад, 1913.
56) От профессора новороссийского Университета Протоиерея А.М. Клитина – его брошюра: Критические приёмы в богословской науке. Одесса, 1913.
57) от почётного члена Академии В.А. Кожевникова – книга: Н.Ф. Федоров, Философия общего дела, том II. Москва, 1913.
58) От Статс-Секретаря Государственного Совета Н. Корево – а) Общее Уложение Финляндии 1784 г., т. 1–3. Спб., 1912; б) Сеймовый устав Великого Княжества Финляндского. Спб., 1913; в) Церковное Уложение Евангелического-Лютеранской Церкви. Спб., 1912; г) Сравнительный перечень предметов, разреш. в порядке общегосудар. законодательства. Спб., 1911.
59) От профессора Казанской Духовной Академии В.А.
—598—
Набекова – его брошюра: Новгородско-Псковские церковные древности на XV Археологическом Съезде. Казань, 1912.
60) От доцента Киевской Духовной Академии Н.Н. Пальмова – его брошюра: Св. Иосиф Убиенный. Киев, 1913.
61) От бывшего профессора Академии А.И. Покровского – аа) его брошюры: а) Академик Е.Е. Голубинский. Москва, 1912, и б) В.О. Ключевский. Москва, 1912; и бб) изданные под его редакцией: Протоколы Комиссии по церковному праву при Московском Юридическом Обществе за 1911–1912 г. Москва, 1913.
62) От профессора Академии И.В. Попова – в его переводе книга: Штекль, История средневековой философии. Москва, 1912.
63) От библиотекаря Академии К.М. Попова – составленный им: Список трудов академика Е.Е. Голубовского. Спб., 1913, два экз.
64) От доцента Академии Н.Д. Протасова – его брошюра: Новшества в Московском храмовом зодчестве конца XVII века. Сергиев Посад, 1912.
65) От профессора Академии С.И. Смирнова – его труды: а) Исповедь земле. Сергиев Посад, 1912, и б) Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины. Москва, 1912.
66) От Академика А.И. Соболевского – его брошюра Южно-славянское влияние на русскую письменность в XIV–XV в. Спб., 1804.
67) От профессора академии С.И. Соболевского – книги и брошюры: а) Евгений, Моё бытие. Спб., 1914; б) Глинка, К вопросу о преобразовании церковного прихода. Казань, 1912; в) Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским Институтом Восточных Языков, выпуск 5, № 2. Москва, 1910; г) Де-Ламартиньер, Путешествие в Северные страны. Москва, 1911.
68) От профессора Академии А.А. Спасского – книги: а) Harnack, Beiträge zur Einleitung in das Neue Testament, 1–3. Leipzig, 1906–1908; б) Neue Kirchliche Zeitschrift 1908, №№ 7–12; в) Eusebius Pamphilus, Historia ecclesiastica, rec. H. Laemmer. Scaphusiae, 1862; г) Harnack, Mission und Ausbreitung des Christentums. Leipzig, 1902.
69) От Управляющего Московским Архивом Министер-
—599—
ства Юстиции профессора Д.В. Цветаева – его книга: Избрание Михаила Фёдоровича Романова на царство. Москва, 1913.
70) От преподавателя Вологодской Духовной Семинарии И. С. Бачалдина – его брошюра: Старый и новый взгляд на Гончарова. Вологда, 1912.
71) От инспектора Казанской Духовной Семинарии М.И. Бенеманского – аа) его брошюра: Из прошлого Казанской Духовной Семинарии. Казань, 1913, два экз.; бб) Известия Общества Археологии, Истории и Этнографии, т. 28, в. 4–5. Казань, 1912–1913; вв) Хроника Общества Археологии, Истории и Этнографии. Казань, 1913, два экз.
72) От специалиста Департамента Земледелия по селекции сельско-хозяйственных растений В.М. Бензина – его брошюры: а) Культура кукурузы. Спб., 1912; б) Организация сельскохозяйственного образования и опытного дела в Северо-Американских Соединённых Штатах. Тамбов, 1913; в) Изучение засухоустойчивых рас сельскохозяйственных растений. Спб., 1913; г) Сухое земледелие. Спб., 1913.
73) От Протоиерея Гавриловского Посада А.А. Боброва – его книга: Мудрые советы ищущим спасения, по письмам Преосв. Феофана. 2-е издание. Сергиев Посад, 1913.
74) От Настоятеля Русской Посольской Церкви в Риме Архимандрита Дионисия – его труды: а) Святыня Барграда. Холм, 1912; б) Спутник русского православного богомольца в Риме. Холм, 1912.
75) от Инспектора Мариинского Епархиального Женского Училища священника Г. Добронравова – его брошюра: История катапетасмы. Москва, 1912.
76) От преподавателя Вифанской Духовной Семинарии М.И. Изюмова – его брошюры: а) Учение гр. Л.Н. толстого о непротивлении злу. Витебск, 1901, и б) Н.И. Казанский (Некролог). Сергиев Посад, 1913, два экз.
77) От преподавателя частной женской гимназии в Москве С. П. Казанского – книга: Kuhlberg. Geschichte der Deutschen Literatur, 1 и 3. Москва, 1911–1912.
78) От священника гор. Можайска Д.А. Лебедева – его труды: а) Средники. Спб., 1911; б) Антиохийский собор 324 г. Спб., 1911; в) Евсевий Никомидийский и Лукиан. Сергиев Посад, 1912, и г) К вопросу о коптских актах 3-го вселенского собора. Спб., 1912.
—600—
79) От М.В. Лодыженского – его книги: а) Сверхсознание и пути к его достижению. Спб., 1911, и б) Свет незримый. Спб., 1912.
80) От преподавателя Владимирской Духовной Семинарии Н.В. Малицкого – его книга: История Переславской епархии, вып. 1. Владимир, 1912.
81) От Московского священника Н.Н. Модестова – его книги: а) Влад. Ив. Даль в Оренбурге. Оренбург, 1913, и б) Исторические сведения о Саввинской, на Саввинской улице, церкви в г. Москве. Москва, 1905.
82) От преподавателя С.-Петербургского Морского Корпуса С.П. Розанова – его брошюра: Отрывки жития Авраамия Чухломскаг. Варшава, 1912.
83) От Председателя Холмской Земской Управы А. А. Сапожникова – его брошюры: а) Научные доказательства истинности христианства. Холм, 1911, и б) Христианство и наука, 2-е издание. Холм, 1912.
84) От С.П. Сахарова – его брошюра: О Предсоборном Присутствии. Витебск, 1912.
85) От справщика Московской Синодальной Типографии Н. И. Серебрянского – его брошюра: О препод. Иоасафе Снетогорском. Псков, 1912.
86) От доктора Н.Н. Шипова – его брошюра: Алкоголизм и революция. Спб., 1908.
87) От студента LXIX курса Академии М. Струменского – книга: Menegoz, Das Gebetsproblem. Leipzig, 1911.
88) От студента Киевской Духовной Академии Ф. Х. Хиониса – его книга: Το εϑνιχον φρονημα εν τῳ Χριστιανισμῳ. Εν Οδησσῳ, 1912.
89) От вольнослушателя Академии А. Шишкина – книга: Описание рукописей тифлисского Церковного Музея, кн. 1–3. Тифлис, 1902–1903.
90) С почты, от разных учреждений и лиц, получены следующие издания: а) Православный Русско-Американский календарь на 1913 год. Нью-Йорк, 1912; б) И.Н. Монасеин, Электрическое освещение в церквах. Спб., 1912, два экз.; в) Игумен Арсений, выписи тяжких ересей, от которых погибает церковь и государство наше. Издание 2-е. Одесса, 1907; г) Игумен Арсений, Оправдание Господа Нашего Иисуса Христа, оклеветанного современной наукой. Москва, 1909;
—601—
д) Игумен Арсений, Объединение великой тайны воплощения. Спб., 1905; е) Игумен Арсений, Вопросы и ответы о святых иконах, 1–3. Спб., 1905; ж) Γ.Π. Βεγλερης, Codex Purpureus Petropolitanus (N). Εν Σμυρνη. 1912; з) Отчёт о праздновании 300-летнего юбилея царствования Дома Романовых в средних учебных заведениях Московского Учебного Округа. Москва, 1913; и) О молитве Иисусовой. Спб., 1912; к) истина о истине к предотвращению имеборства. S. a. et l.: л) Письмо Антония Булотовича (исполнено на пишущей машине): м) La Vie Internationale, tome 1-er, fasc. 1–5. Bruxelles, 1912; н) L’Union des associations internationales. Bruxelles, 1912; o) Garnegie Endowment for international Peace, year book for 1912. Washington, 1913.
91) От Библиотеки Студентов Академии – а) журнал: Православная Урмия 1912–1913 г. и б) 40 названий Епархиальных Ведомостей 1912 и 1913 г.г.
92) Получались в дар следующие периодические издания: а) Bibliographie; б) Allgemeine Bibliographie; в) Gurrent Literature of the month; г) Mitteilungen von F. F. Brockhaus in Leipzig; д) Mitteilungen B. G. Teubner der Nenigkeiten des Deutschen Buchhandels; е) Wőchentlichos Verzeichniss; ж) The Church Union Gazette; з) Вестник «Народного Дома»; и) Американский Православный Вестник; й) Гость; к) Аль-Неемат (на арабском языке); л) Отклики; м) Свет Печерский; н) Нижегородский Церковно-Общественный Вестник; и Епархиальные ведомости; о) Архангельские; п) Екатеринбургские; р) Оренбургские; с) Орловские; т) Ставропольские; у) Тверские; ф) Уфимские; х) Якутские и ц) Ярославские.
93) В Библиотеку практических занятий от проф. С. И. Смирнова поступила его книга: Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины. Москва, 1912.
Справка: 1) Устава духовных академий § 213: «Состояние библиотеки и наличность библиотечного имущества ревизируются ежегодно ревизионной комиссией, особо назначаемой Советом Академии». – 2) По § 109 лит. б. п. 13 того же устава – «назначение ревизионной комиссии для проверки библиотеки» значится в числе дел Совета Академии, представляемых на утверждение местного Епархиального Архиерея.
—602—
Определили: Поручить произвести следующую ревизию академической библиотеки и. д. ординарного, заслуженному профессору Академии А. П. Шостьину и экстраординарному профессору священнику В. Н. Страхову.
XVII. Прошение преподавателя Владимирского епархиального женского училища, кандидата богословия, Михаила Виноградова:
«Вступив в число студентов Московской Духовной академии в 1897 году, я в течение 1897–98 учебного года слушал лекции по немецкому языку и на бывшем в конце года экзамене по этому предмету мои познания оценены были баллом 5. В следующем 1898–99 учебном году, желая научить английский язык, я стал слушать лекции по этому предмету, а слушание лекций по немецкому языку, так как они совпадали с лекциями по английскому, я должен был оставить и экзамена по немецкому языку на втором курсе не держал. Вследствие этого в дипломе на степень кандидата богословия я не имею балла по немецкому языку. Между тем, в целях поступления на должность преподавателя немецкого языка в духовной семинарии, для меня было очень желательно иметь балл за полный курс немецкого языка в Духовной Академии и потому я осмеливаюсь обратиться к Совету императорской Московской Духовной Академии с покорнейшей просьбой, не найдёт ли он возможным подвергнуть меня испытанию за второй год обучения немецкому языку в Академии».
Определили: Просьбу г. преподавателя Владимирского епархиального женского училища М. Виноградова, – за отсутствием в академическом уставе оснований к её удовлетворению, – отклонить.
XVIII. Имели суждение: О назначении окончившим в минувшем учебном году курс воспитанникам Академии премий:
а-в) Митрополита Литовского Иосифа в 165 рублей, протоиерея А. И. Невоструева в 157 рублей и XXIX курса в 60 рублей – за лучшие кандидатские сочинения; г) протоиерея А. М. Иванцова-Платонова в 80 рублей – за лучшие кандидатские сочинения по церковной истории; д) Архиепископа Дмитрия (Самбикина) в 76 рублей – за лучшие кандидат-
—603—
ские сочинения, посвящённые преимущественно описанию жизни и деятельности в Бозе почивших иерархов отечественной церкви; е) профессора И. Н. Корсунского в 55 рублей – за лучшие кандидатские сочинения по Священному Писанию Ветхого и Нового Завета, греческому языку и его словесности, русской церковной истории или русской библиографии; ж-з) двух премий Митрополита Московского Макария, по 96 р. 50 к. каждая, – за лучшие семестровые сочинения студентов Академии, представленные ими в течение первых трёх курсов, и и) протоиерея И.С. Орлова в 32 рубля – за лучшие успехи в сочинении проповедей; а также о присуждении одному из студентов II курса премии имени профессора А.П. Введенского в 23 р. 75 к. – за лучшее третное сочинение по философским предметам.
Справка: 1) Относительно присуждения премии Митрополита Литовского Иосифа указом Святейшего Синода от 28 декабря 1873 года за № 3778 предписано: «Премии назначать, не раздробляя их в каждой Академии за кандидатское сочинение по какому бы то ни было отделению, признанное лучшим из представленных студентами при переходе из III курса в IV, с тем, чтобы, согласно воле завещателя, выдача премий производилась не прежде, как по окончании воспитанниками полного академического курса». 2) Премия протоиерея А.И. Невоструева, согласно п. 1-му правил относительно употребления процентов с пожертвованного им капитала, присуждается за то из кандидатских сочинений, которое в этом году признано будет Советом за лучшее. – 3) Положения о премии «имени XXIX курса» § 4: «Премия присуждается по усмотрению Совета Академии за одно из лучших кандидатских сочинений». – 4) Положения о стипендии и премии имени протоиерея А.М. Иванцова-Платонова п. 10: «Остатки от процентов со всего стипендиального капитала (сверх 220, а ныне сверх 300 руб.) выдаются в одно из заседаний сентябрьской трети за одно из лучших кандидатских сочинений по предмету церковной истории по постановлению Совета Академии». – 5) Положения о премии Высокопреосвященного Архиепископа Димитрия (Самбикина) § 2: «Премия выдаётся через два года, по усмотрению Совета Академии, одному из студентов за луч-
—604—
шее кандидатское сочинение преимущественно по описанию жизни и деятельности в Бозе почивших иерархов отечественной церкви». – 6) Положения о премии имени профессора И.Н. Корсунского § 3: «Премия присуждается Советом Академии ежегодно окончившему полный академический курс воспитаннику Академии, представившему отличное по своим достоинствам кандидатское сочинение по одному из следующих предметов, к области которых относится оставленные профессором И.Н. Корсунским научные труды: Священному Писанию Ветхого и Нового Завета, греческому языку и его словесности, русской церковной истории или русской библиографии». – 7) Правил о присуждении премий из процентов с капитала, пожертвованного Митрополитом Московским Макарием, утверждённых указом Святейшего Синода от 21 января 1885 года за № 251, а) п. 7-й (в новой редакции, утверждённой указом Святейшего Синода от 12 июня 1898 г. за № 2946): «Третья и четвёртая премии назначаются по окончании студентами академического курса в одно из заседаний сентябрьской трети тем из них, которыми поданы были все семестровые сочинения, назначенные им в течение трёх первых курсов, и из них более половины означено баллом 5, и нет ни одного, имеющего балл ниже 4»; б) п. 8-й: «В случае, если окажется более двух студентов одного курса, которых сочинения удовлетворяют изложенным в предыдущем § условиям, преимущество отдаётся тем, у кого сумма баллов на сочинениях больше; в случае же равенства преимущество отдаётся за сочинения позднейших курсов предпочтительно пред предшествующими». – 8) Из окончивших в минувшем 1912–1913 учебном году курс воспитанников Академии – а) лучшие семестровые сочинения за первые три курса представили: Андреев Фёдор (5, 5, 5-; 5-, 5+, 5; 5+, 5, 5+), Архангельский Алексей (5, 5-, 5; 4½, 5, 5+; 5, 5:5), иеромонах Иероним (Чернов) (5-, 5-, 4½, 5, 5-, 5; 5-; 5-, 5:5), Никольский Николай (5, 5-, 4+; 4+, 5, 5+; 5-, 5-, 5+), Кряжемский Александр, (4+, 5-, 5; 5, 5-, 5; 5, 4:5), Иванов Пётр, (5-, 5-, 5-; 4, 5-, 5; 5, 5, 412

), Ремезов Александр, (5, 5-, 4½, 4½, 4+, 5-; 5, 4½, 5), а б) высшие отметки на проповедях имеют: Ремезов Александр (5, 5, 5, 5+), Архангельский Алексей (5, 5+, 5:5),
—605—
Иванов Пётр, (5, 5, 5:5) и Андреев Фёдор (5-, 5, 5, 5+), – 9) Положения о премии имени заслуженного ординарного профессора Академии А. И. Введенского §§ 2–3: «Премия, в размере годичной суммы процентов с неприкосновенного капитала, т.е. 19 рублей, ежегодно начинается Советом Академии, с утверждением Его Высокопреосвященства, в декабрьском заседании одному из студентов II курса за третное сочинение, написанное им на I курсе по систематической философии и логике. – Если в предшествующем учебном году не было сочинения по указанному предмету, то премия может быть назначена за третное сочинение по истории философии». – 10) При настоящем первом присуждении премии имени проф. А.И. Введенского за лучшее третное сочинение по истории философии (третного сочинения по систематической философии и логике студентом I курса в минувшем 1912–1913 учебном году Советом назначено не было), к сумме годичных процентов с премиального капитала (19 р.) присоединён ещё остаток процентов с того же капитала за последнюю четверть 1912 года (4 р. 75 к.). – 11) По § 109 лит. б. п. 10 устава духовных академий «присуждение студентам премий за сочинения и других наград» значится в числе дел Совета Академии, представляемых на утверждение местного Епархиального Архиерея.
Определили: 1) Премию Митрополита Литовского Иосифа в 165 рублей присудил кандидату Академии (выпуска 1913 года) Андрееву Фёдору за его кандидатское сочинение на тему: «Юрий Фёдорович Самарин, как богослов и философ»; премию протоиерея А. И. Невоструева в 157 рублей – кандидату Никольскому Николаю за сочинение на тему: «Русская церковь в Смутное время»; премию XXIX курса в 60 рублей – кандидату иеромонаху Иерониму (Чернову) за сочинение на тему: «Пророк Исаия и его время»; премию профессора И. Н. Корсунского в 55 рублей – кандидату Кочанову Николаю за сочинение на тему: «Книга Притчей Соломона, как памятник древнееврейского языка и ветхозаветной священной письменности»; две премии Митрополита Московского Макария за лучшие семестровые сочинения, по 96 р. 50 к. каждая, – кандидатам Андрееву Фёдору и Архангельскому Алексею; премию протоиерея И.С. Орлова в 32 рубля за лучшие
—606—
успехи в сочинении проповедей – кандидату Ремезову Александру и премию профессора А.И. Введенского в 23 р. 75 к. – студенту II курса Академии священнику Серафиму Ляде за представленное им на I курсе третное сочинение по истории философии на тему: «Философия Откровения по Шеллингу», о чём и представить на Архипастырское утверждение Его Высокопреосвященства. – 2) Присуждение премий за кандидатские сочинения имени Архиепископа Димитрия (Самбикина) в 76 рублей и протоиерея А. М. Иванцова-Платонова в 80 рублей – отложить до следующего года.
XIX. – О выдаче одному из наставников Академии награды в количестве 550 рублей, из процентов за 1913-й год с капитала, пожертвованного на сей предмет покойным Высокопреосвященным Московским Филаретом по случаю исполнившегося в 1864 году пятидесятилетия со времени учреждения Московской Духовной Академии.
Справка: 1) Правил для присуждения награды из процентов с капитала Митрополита Московского Филарета, выработанных Конференцией Академии и утверждённых резолюцией Высокопреосвященного Митрополита Московского Иннокентия, от 20 декабря 1868 года, а) п. 1: «Присуждение награды наставнику совершается в собрании членов Конференции Академии»; б) п. 2: «Преимущественное право на награду даёт старшинство по полезной и усердной службе»; в) п. 3: «Наставники, не прослужившие 6 лет при Академии, не имеют права на получение награды»; г) п. 4: «Наставник, получивший однажды награду, может быть удостоен оной в другой раз не ранее как через 6 лет после получения первой награды»; д) п. 5: «Вторичная награда наставнику может быть предлагаема не менее как 4-мя членами Конференции и окончательно присуждается большинством голосов»; е) п. 6: «Старшинство между наставниками, поступившими в одно время на училищную службу, отдаётся тому, кто из них будет признан большинством членов Конференции в старшинстве»; ж) п. 7: «В тех случаях, когда кто-либо из наставников Академии может иметь особую нужду в денежном пособии, Конференция, по предложению не менее четырёх членов,
—607—
большинством двух третей голосов может присудить награду наставнику и не в порядке старшинства службы, но послужившему не менее шести лет». – 2) Из наставников Академии, ни разу не получавших означенной награды, не менее шести лет прослужил при Академии лишь один – экстраординарный профессор по первой кафедре Священного Писания Ветхого Завета священник Д.В. Рождественский, состоящий на преподавательской должности в Академии с 10 февраля 1907 года. – 3) По § 109 лит. б. п. 11 академического устава – «присуждение в подлежащих случаях денежных наград и пособий преподавателям из пожертвованных сумм» значится в числе дел Совета Академии, представляемых на утверждение местного Епархиального Архиерея.
Определили: Награду из процентов за 1913-й год с капитала Митрополита Филарета, в количестве 550 рублей, назначить экстраординарному профессору Академии по первой кафедре Священного Писания Ветхого Завета священнику Д. В. Рождественскому, – о чём и представить на Архипастырское утверждение Его Высокопреосвященства.
ХХ. – О выдаче из процентов за 1913 год с капитала, поступившего в Академию по духовному завещанию дочери Действительного Тайного Советника Прасковьи Алексеевны Мухановой, пособий членам академической корпорации.
Справка: 1) Правил при распределении пособий из процентов с капитала, завещанного П.А. Мухановой, составленных Советом Академии и допущенных к руководству резолюцией покойного Митрополита Московского Сергея от 30 июня 1895 года, – а) п. 1: «Проценты с капитала (50.000 р. 5% облигациями Московского Городского Кредитного Общества) (ныне 52.500 руб. свидетельствами Государственной 4% ренты), завещанного Московской Духовной Академии И.А. Мухановой, каждодневно разделяются на две равные части, из коих одна Советом Академии распределяется на пособия студентам Академии, другая выдаётся в виде пособий к жалованью членам академической корпорации, т.е. преподавателям штатным и сверхштатным,
—608—
лекторам новых языков, а также чиновникам, получившим высшее богословское образование»; б) п. 4: «Проценты с другой части Мухановского капитала, в количестве 1.187 руб. 50 коп. (ныне 1.000 руб.), назначенные на дополнительные к жалованью пособия членам академической корпорации, ежегодно распределяются в декабрьском заседании Совета на пять равных частей, из коих ежегодно не менее трёх выдаётся семейным и не менее одной бессемейным лицам»; в) п. 5: «Право на пособие получают те лица академической корпорации, которые прослужили не менее пяти лет, а при академии не менее двух лет, при чём включается сюда и год профессорского стипендиатства»; г) п. 6: «В случае каких-либо особенных обстоятельств или крайней нужды пособие может быть назначено или в усиленном размере (чрез соединение двух частей в одну), или вторично, хотя бы лицо нуждающееся уже получило пособие в один из ближайших годов, а равно прослужившим и менее 5 лет». – 2) Устава духовных академий § 109 лит. б. п. 11.
Определили: Из процентов за 1913 год с капитала, завещанного П.А. Мухановой, назначить пособия следующим членам академической корпорации: ординарному профессору С.С. Глаголеву, экстраординарному профессору П.П. Соколову, исправляющим должность доцента Академии – О.М. Россейкину, А.М. Туберовскому и священнику П.А. Флоренскому, – по равной сумме – 200 рублей – каждому, – о чём и представить на Архипастырское утверждение Его Высокопреосвященства.
На сём журнал резолюция Его Высокопреосвященства: «4 янв. 1914 г. Исполнить».
11 декабря 1913 года. № 25
Присутствовали, под председательством Ректора Академии Фёдора, Епископа Волоколамского, Инспектор Академии архимандрит Иларион, ординарные профессоры – С.И. Соболевский, С.С. Глаголев, А.А. Спасский и М.М. Тарьев;
—609—
экстраординарные профессоры – И.В. Попов, С.И. Смирнов, священник Е.А. Воронцов, Д.И. Введенский, А.П. Орлов, священник Д.В. Рождественский и священник В.Н. Страхов.
Отсутствовали: Сверхштатный заслуженный ординарный профессор М.Д. Муретов, и. д. ординарного, заслуженный профессор А.П. Шостьин, ординарный профессор М.М. Богословский и экстраординарный профессор П.П. Соколов.
Слушали: Отзывы о сочинении о. ректора Володарского духовной семинарии, протоиерея Николая Малиновского: «Православное Догматическое Богословие», т.т. III и IV, представленном на соискание степени доктора богословия.
а) Ординарного профессора Академии М.М. Тареева:
«Система Догматического богословия может построятся по одному из следующих путей.
Первый может быть назван научно-критическим построением догматики. Задача такой догматической системы 1) в том, чтобы с наивозможной точностью определить границы догматического, т.е. церковно-обязательного, в вероучении, именно а) перечислить все церковно-обязательное (в вероучении) и б) отметить грань, до которой простирается каждый догмат и вся догматическая область, – и 2) в том, чтобы наивозможно ясно установить смысл догматических формул. Конкретнее, научная догматика должна определить источники церковных догматов и восстановить историко-филологический генезис догматических терминов. Воздержание от всякого истолкования догматов, от внесения в систему всего субъективного и спорного, всего рассчитанного на удовлетворение любознательности, гностического зуда – подразумевается в качестве достоинства такой догматической системы. Наиболее приближается к этому типу догматическая система еп. Сильвестра. Бойкие критики, обычно страдающие графоманией, ставят этой системе в упрёк недостаток «положительного изъяснения» догматов, так – догмату об искуплении здесь посвящено «всего лишь одиннадцать строк», и нигде не проглядывает «собственный взгляд» автора по вопросу об искуплении. Упрёк обязан своим происхождением дурному вкусу графома-
—610—
нов, препятствующему надлежаще оценить высокую мудрость епископа – догматиста.
В Православном Догматическом Богословии протоиерея Малиновского мы не находим ни малейших следов научно-критической обработки подлежащего материала и не встречаем ни одного намёка на то, чтобы он ставил себе такие цели. Параграфы 6 (Источники христианского вероучения: св. писание и св. предание) и 7 (Вероизложения древней церкви вселенской и символические книги восточной греко-российской церкви) Догматического Богословия (т. I) составлены без малейшего применения критического метода, без малейшего критического обсуждения догматического достоинства, напр., «Православного Исповедания кафолической и апостольской церкви восточной», «Послания патриархов православно-кафолической церкви о православной вере», Пространного Катехизиса м. Филарета, хотя в наличной литературе предмета вопрос об источниках догматического содержания уже нередко обсуждается критически. И в последующих отделах, при раскрытии содержания догматов, автор забывает о задачах научного изложения догматики. У него излагается «история догмата о лице И. Христа» (§ 74), но эта внешняя история: исследование терминов ὑπόστασις, πρόσωπον, ϑέλησις, ἐνέργεια – отсутствует. О терминах благодать (χάρις), церковь (ἐκκλησία), кафолическая (καϑολιχὴ ἐκκλησία) делаются лишь незначительные подстрочные примечания (III, 357, 468:513). Нигде автор не пытается провести границу между тем, что прямо требуется от христианской веры догматическим определением, и тем содержанием, которое так или иначе, в виде ли предпосылок или правдоподобных выводов, связано с догматом, но предоставляется свободному пониманию и обсуждению верующих, – говоря иначе, устранить из догматики суждения и гадания, порождённые разумением. Вместо критического отношения к делу, у нашего догматиста повсюду проглядывается отношение сентиментальное: допустить в число источников догматических истин как можно больше документов и увеличить состав догматики невозможно обильным содержанием, т.е. покрыть понятием догматической обязательности всю практику поместной церкви и все теории современной церковной школы – такова неустан-
—611—
ная забота автора. Ему и в голову не приходит поставить вопрос, входят ли в содержание догматически-обязательного теория тройственного служения Христа, седмеричное число таинств, учение о «пресуществлении» (transsubstantiatio) Св. Даров в евхаристии, о почитании святых и ангелов, мощей и икон (ср. Догматическое Богословие архиеп. Филарета), – поставить эти вопросы, уже настойчиво поднимаемые в новейшей богословской литературе. Кратко сказать, по отсутствию критического отношения к содержанию догматики и историко-филологических приёмов исследования его, Православное Догматическое Богословие прот. Н. Малиновского не имеет никакого научного значения: труд о. Малиновского не принадлежит к этому типу богословских работ.
Ко второму типу обработки догматического материала относится созерцательное богословие и христианская философия. Такого рода системы опираются на результаты богословской и церковно-исторической науки, однако они черпают и из собственного источника, что и придаёт им незаменимое и не приходящее значение. Каждая такая система произносит новое слово, высказывает своё понимание, истекающее из творческих родников религиозной личности, – и каждая такая система, какую бы ни имела видимость, формулу изложения, есть философское построение, Значение этих трудов громадно уже по одному тому, что религиозно-философские идеи входят в обиход всех отраслей богословской науки, экзегетики, церковного права и т.д. Лучшие опыты в этом роде у нас даны Влад. Соловьевым и проф. Несмеловым. Высоко ценя религиозную философию, я со своей стороны уже давно заявляю, что истинная область христианской философии есть не спекулятивная мысль, а религиозный опыт. Но как бы то ни было, должна ли построятся религиозная философия спекулятивным путём или на основании религиозного опыта, всё равно – работа прот. Малиновского не принадлежит и к этому типу богословствования. В ней, на протяжении четырёх обширных томов, не высказано ни одной мысли, ни одного своего слова; в ней нет ни малейшего следа философского прозрения, философского творчества.
Третий тип богословской системы есть учебный курс, – такова и есть догматическая система прот. Малиновского. Его
—612—
системе свойствен характер хрестоматический, и она имеет своей целью свод всех результатов богословских наук и богословских монографий по вопросам системы в интересах школы и самообразования. Отсюда для учебной системы богословия неизбежны, во-первых, полная зависимость от наличной литературы предмета и, во-вторых, всецело схоластические методы, именно – стремление удовлетворить не что иное, как запросы схоластической мысли, ученической любознательности, и старание дать на каждый вопрос решительный и однозначный ответ. Это обстоятельство делает необходимо многие стороны догматической системы крайне слабыми. Прежде всего, оно заставляет наполнять догматическую систему спорным содержанием. У самого прот. Малиновского приводится (III, 510) превосходная цитата из хорошей книги проф. Чельцова – Древние формы символа. «Говоря, что учение церкви непогрешимо, мы – пишет проф. Чельцов – не утверждаем ни чего более, как именно то, что оно неизменно, – то же самое, какое было предано ей изначала. Посему, всё, что не имеет основания ни в св. писании, ни в св. предании, как, напр. исследования археологические, филологические, исторические, экзегетические, юридические, соображения философские, или данные естествоведения, – всё это, как плоды самодеятельности человеческого разума, не составляет предмета непогрешимости церкви, так что, когда какой-либо церковный писатель или собор для вразумления неверующих не ограничивается только положительным изложением содержимого церковью учения веры, но вступает на путь рассуждений, доказательств, исследований или соображений, то в этой последней части своего вероизложения он подлежит оценке одинаково с каждым другим мыслителем… Положительное изложение догмата в том или другом православном вероизложении должно быть рассматриваемо, как выражение непогрешимого учения церкви, а объяснения или доказательства, которыми оно иногда может сопровождаться, сами по себе должны быть принимаемы с большим или меньшим уважением, только как памятник современного вероизложению развития богословской науки». Прот. Малиновский, как мы уже видели, не даёт научного изложения догматов; находясь в полной зависимости от той богословской литературы, которая отвечает
—613—
запросам школьнической мысли, он наполняет свою системы рассуждениями, исследованиями, соображениями, объяснениями и доказательствами догмата – таким содержанием, которая не выражает непогрешимого учения церкви, а лишь свидетельствует о современном развитии русской богословской науки. Слишком многие абзацы в труде о. Малиновского начинаются словами: «спрашивают, каким образом»… «невозможно, говорят, допустить» и т.д. и т.д. Мы уже упоминали о спорных понятиях тройственного служения Христа и др. Также спорны, можно сказать, все страницы обширного Православного Догматического Богословия. Непогрешимое зерно догматической истины всегда подавляется схоластической массой доказательств и разъяснений догмата, с которыми всегда можно не соглашаться, а в большинстве случаев нельзя согласиться. Суждения автора об оскорблении Бога грехом человеческим, об удовлетворении божественному правосудию смертью Христа, выступая из круга догматически определённого, по необходимости оказываются шаткими, неустойчивыми. Без научно-догматической нужды вдаётся он в спорные суждения о том, что Христос усвоял Себе имя царя, и развивает упрощённый взгляд на чудеса Христа, как неоспоримое доказательство Его мессианского достоинства. Будто решающее значение имели (III, 306) многочисленность чудес, спокойствие и уверенность при их совершении, совершение их единым словом, нередко одним прикосновением, или даже одним движением Его воли, без всякого слова, во всяком месте – вдали и вблизи, открыто и всенародно, без каких-либо приготовлений, тогда как, известно, евангельские чудеса имели свою историю, в зависимости от колебаний народной веры, и указанные признаки изменялись по периодам этой истории. Спорны доказательства бессмертия души. В земной жизни не осуществляются цели бытия человека и главное из них счастье, след. должна быть загробная жизнь. В этой жизни нет праведного воздаяния: люди добродетельные часто не заслуженно страдают, а порочные пользуются внешним благополучием, поэтому должна быть другая жизнь, где праведный получит награду (счастье и блаженство), а нечестивый наказание (несчастье и страдание). Но откуда автор знает, что главная цель человеческой жизни
—614—
есть счастье и что христианская праведность должна быть награждена счастьем? Сам же он в § 88 считает недостатком ветхозаветного закона то, что он в качестве побуждений выставляет награды и наказания. По мотивам страха и расчёта свойственно действовать рабам, а не свободным. Напротив, евангельский закон возбуждает человека к добру преимущественно любовью к Богу и самому добру и наградами чисто духовными: он не производит насилия или принуждения над человеком, а располагает уверовавшими во Христа, как сынов Божиих, а не рабов, к свободному выполнению обязанностей своего христианского звания, почему и называется у апостола законом свободы. – Отдел о благости, как силе освящающей, в пространных разъяснениях и аргументах автора уяснён мыслями недоуменными. Мы читаем III, 463: «люди никогда не замечают в своей жизни непреоборимого благодатного действования». Это положение трудно доказать. «В самой горячей, воодушевлённой любви к добру человек чувствует себя свободным, а не нудимым посторонней силой. Мы очень хорошо различаем в себе действия свободные и действия более или менее вынужденные и принудительные; но никто никогда не замечал в своей душе, чтобы благодать стесняла нашу свободу и необходимо, насильно влекла нас к добру». Это значит лишь то, что благодать влечёт нас изнутри, а не арканом, её действие обнаруживается в самом хотении нашем, но разве это говорит что-нибудь против неодолимости благодатного действования? Или суждения автора о призвании народов III, 452: «призвание народов в царство Христово условливается восприемлемостью их естественных сил» и т.д. В этом тезисе догматического лишь то, что оно изрекается бездоказательно. – Отдел о церкви также богат спорными рассуждениями, потому что автор от бесспорного догматического зерна постоянно уклоняется в сторону наивного совопросничества. Таковы особенно параграфы об устройстве земной церкви, о почитании святых, мощей, икон. Так, на стр. 667 т. III-го автор рассуждает: «Не все иконы являются имеющими чудотворную силу потому, конечно, что такова воля Божия. Если бы от всех икон совершались явные чудеса, то можно было бы подумать, что они совершаются сами собой и самими иконами. Господь тво-
—615—
рит чудеса там, где хочет и где находит это полезным. Говорят, если иконы священны, то почему они подвергаются порче и даже уничтожению, не исключая и чудотворных? Но закон разрушения на всём пространстве земном действует одинаково и его может изменить только Тот, Кто его установил» и т.д. – Размышления о действительности, действенности и спасительности таинств вызывают у читателя целый ряд недоумений. Таинство действительно, «хотя бы совершитель таинства по личным своим качествам не был достойным служителем тайн Божиих, а приступающий к таинству не имел должных расположений». «Действительное таинство есть вместе с тем и действенное таинство. Благодать в таинстве так соединена с внешним знаком, что заключается в самом знаке, а не даётся непосредственно Богом при принятии или по принятии этого знака. Посему благодать таинства сообщается приемлющему таинство независимо от его религиозно-нравственного состояния. Действительность и действенность таинств в этом смысле (но не спасительность, – это другое дело) таким образом, совпадают». «Также учит и церковь римско-католическая, признавая, что таинства сообщают благодать ex opere operato, или в силу сделанного дела». «Недостойно причащающиеся, по мысли апостола, вкушают истинное тело Христово, и притом действующее на них, но только в суд или осуждение, а не во спасение, так что их не достоинство не препятствует таинству быть действительным и действенным. На этом основании церковь издревле преподаёт крещение, миропомазание и причащение младенцам, в полном убеждении, что эти таинства действуют на младенцев (спасительно), хотя они ещё не имеют собственной веры. По той же причине крещённые в ереси принимаются в общение с церковью по отречении от ереси без перекрещивания: церковь признаёт, что они получили крещение совершенное, хотя имели веру недостаточную». «То или иное действие благодати, преподаваемой в таинствах, спасительно или во осуждение, зависит уже от внутренних расположений принимающих таинство. Православию чуждо р.-католическое учение о действии таинств ex opere operato, в той мере, конечно, в какой в этом учении заключается мысль о спасительности действия таинств на недостойно приемлю-
—616—
щих их, о пассивном их действии во спасение»… Здесь, на двух-трёх страницах (IV, 46–48), целый ряд несообразностей. Что такое действительность таинств, если она совпадает с действенностью, отличной от спасительности? Если действенность отлична от спасительности своей независимостью от веры, то каким образом действенность таинств на приемлющих их без веры – во осуждение себе может служить основанием признания спасительности таинств для младенцев, хотя они ещё не имеют собственной веры, и признания крещения в обществе еретиков, хотя они имеют веру недостаточную? Чем же отличается действенность таинств, совершённых над младенцами и, отчасти, еретиками, от их спасительности? Признаётся или нет opus operatum? Разумеется ли у апостола не достоинство в смысле отсутствия веры, так что остаётся возможность думать, что, при полном отсутствии веры в приемлющих таинство, оно ни сколько не будет действенно, а в таком случае действенность не придётся отличать от действительности? И этим ещё не кончается ряд недоумений… Особенно же много гадательного в отделе о последних судьбах мира и человека. Напр., суждения автора о пространственности загробного пребывания бессмертной души…
Соответствующее задачам труда стремление автора дать всем вопросам решение рациональное (здраво-мысленное) и притом окончательное приводит его к схоластическим и даже софистическим приёмам во всех тех случаях, в которых проблема требует философско-систематического построения и не поддаётся поверхностному мышлению, не решается в пределах здравого смысла. В труде о. Малиновского такие приёмы применяются не редко. Идёт речь об евангельском законе, как законе новом, заменившем собой закон Моисеев (§ 88). Необходимо отметить высоту и новизну евангельского закона. «Христос есть новый религиозный законодатель, а отнюдь не толкователь только закона, переданного через Моисея, каковыми являлись обыкновенные пророки… Данный Спасителем евангельский закон, как высший и совершеннейший закона Моисеева, естественно, заменил его собой… (Можно говорить о) решительном отменении закона». Но,
—617—
с другой стороны, опасно говорить об отмене ветхозаветного закона, нужно и ему воздать должное. И вот, «отменение закона Моисеева не так нужно понимать, чтобы евангелие, заступая место закона, уничтожало или разрушало весь закон, подобно, напр., тому, как на месте разрушенного здания воздвигается новое… Христос – раскрыл глубокий смысл собственно нравственных предписаний ветхозаветных, так что в Его учении нравственный закон достиг полноты своей по содержанию и по духу». Короче так: «Исполнив закон и пророки, Христос тем самым упразднил ветхий завет, или сделал его излишним. Таким образом, по мысли Спасителя, евангелие должно было заступить место закона, но заступить не уничтожая, а исполняя закон… Религиозно-нравственная сторона закона во всём его объёме имеет вечное значение, хотя она и нуждалась в восполнении». И в обрядовом и в гражданском законе ветхозаветном нечто «имеет вечное значение». – В том же духе решает автор проблемы об отношении между верой и добрыми делами, свободой и благодатью.
Осуществляя задачу не изложения догмата, а его доказательств и изъяснений, следуя методу не дедуктивному, а индуктивному, прот. Малиновский каждый отдел начинает исследованием св. писания и св. предания, – комментариями текстов. Эти комментарии у него обычно поверхностны и шаблонны. В словах Иоан. II, 18: кое знамение являеши нам, яко сие твориши – он видит требование знамения (III, 326); в Мф.19:11, 12, 21 предъявляются, будто, условные заповеди, которые обязательны для некоторых (III, 420). И т.д. Индуктивный метод догматического построения при таких слабых исходных пунктах внедряет в читателях впечатление, будто вся догматика опирается лишь на дурные комментарии.
Все эти недостатки роковым образом свойственны тому типу догматического построения, которым определяется работа о. Малиновского: они невозможно вытекают из стремления удовлетворить запросы схоластической мысли, так чтобы вопрос каждого параграфа получал самодовлеющий ответ, и из безусловной зависимости от наличной богословской литературы, от официальных взглядов и при-
—618—
нятых мнений. Но на своём пути автор достигает и многих ценных результатов. Его труд оказывается энциклопедическим итогом все русской богословской литературы, её современного состояния. Наблюдается, что система догматического богословия более, чем курс какой-либо другой богословской науки, удобна для объединения всего объёма русского богословия. В рассматриваемой системе очень удачно привлекаются к делу работы и экзегетические, и канонические, и литургические, и опыты обличительного богословия. Получается вывод, что ни одна богословская работа не пропадает для общего итога, что каждый вносит свою долю в общую сокровищницу. Пред нами демонстрируется всё богатство русской богословской мысли, – богатство, которого нельзя не признать значительным. Для такого энциклопедического труда автор оказывается в достаточной степени способным и подготовленным. Он обнаруживает почтенное трудолюбие, не ослабевающее в течение многих лет. Использованная им литература громадна. Он внимателен к каждой работе. На многих страницах его внушительных томов не встречается, кажется, ни одного грубого или пренебрежительного отзыва о каком-либо сочинении. Нас не будут уважать внешние, пока мы сами не будем уважать друг друга, пока не будет явно, что все мы сотрудники на одной ниве, все работаем для одного итога. При иных задачах автор, конечно, был бы обязан к критическому обсуждению литературы вопроса, но преследуя задачу – подвести итог всему выработанному русским православным богословием для уяснения догматических вопросов, – он имел право ограничить положительным использованием русских авторов, усвоением принятых и распространённых мнений. По книгам прот. Малиновского мы почти можем судить о современном состоянии русского богословия в пределах той или другой догматической проблемы. Объективность составляет крупное достоинство его труда. В той же особенности лежит объяснение интереса его книг. Труд о. Малиновского не представляет интереса оригинальной системы, но он и не так сух, как большинство наших догматических систем. На его страницах отражается любо-
—619—
знательность всех размышлявших по вопросам догматики. Чтение томов Православного Догматического Богословия не может не быть полезным и интересным для таких читателей, как воспитанники семинарий или любители богословия из светских.
Наше окончательное суждение о труде прот. Малиновского складывается в зависимости от решения вопроса, нужны ли такого рода труды. Мне думается, что на этот вопрос следует ответить положительно. И труд прот. Малиновского в качестве учебного пособия по догматическому богословию уже получил весьма широкое распространение. В среде указанных читателей он не заменим. Его вполне можно рекомендовать, как догматическое чтение: он надёжен во всём своём объёме. Запросам православия, а равно и запросам здравого смысла он вполне удовлетворяет.
Можно и с отмеченной ранее специальной точки зрения всё же указать не мало недочётов в рецензируемом сочинении. Компилятивность предполагается, но и компилятивное изложение могло бы иметь лучший вид. Можно было бы пожелать более тщательного выбора из наличной литературы, более внимательного изучения избранных руководств, более добросовестной цитации как самих пособий, так и заимствованных из них указаний на первоисточники. Небрежностей много. Но, в общем, изложение удовлетворительно. Страница за страницей эти тома прочитываются легко.
Указываемые достоинства в рецензируемой работе ослабляются ещё одним недостатком. Я отметил те задачи, которые достигаются в ней, но я не знаю, как сам автор смотрит на свой труд, не питает ли он более широких претензий: сам он нигде не высказывается о характере и задачах своего труда. Мне хочется, однако думать, что почтенному о. протоиерею не чужда скромность и что я верно истолковал его богословско-литературные намерения. Думается, что он не утратит своей скромности и в том случае, если Совет Академии поощрит его полезный в определённых границах труд присуждением ему степени доктора богословия».
—620—
б) Инспектора Академии архимандрита Илариона:
«Приступив к рассмотрению сочинения о. прот. Малиновского, представленного им на соискание высшей учёной степени, я очень скоро убедился в том, что предо мной лежит вовсе не какой-нибудь самостоятельный учёный труд. «Православное Догматическое Богословие» прот. Малиновского не представляет даже и сколько0нибудь новой догматической системы. Покойный проф. А. И. Введенский справедливо назвал за первые два тома того же труда о. прот. Малиновского догматистом старой, Макарьевской формации. Очень часто заглавия отдельных параграфов догматики Малиновского до тожества совпадают с заглавиями параграфов догматики Макария. Почти полное отсутствие в рассматриваемой догматике чего-нибудь нового в методологическом отношении заставляет характеризовать её как старую систему догматики, лишь заново написанную при помощи некоторых новых пособий. Автор вовсе не выступает творцом чего-нибудь нового: он лишь собирает и повторяет старое. Вот почему я и счёл за лучшее уклониться от оценки принципиального содержания догматики прот. Малиновского: в этом содержании нет прот. Малиновского. Он весь, весь его научный облик в приёмах пользования пособиями, в приёмах собирания и изложения. Проникнуть в эти приёмы человека, претендующего на высшую учёную степень, я и старался, по возможности, при чтении труда о. Малиновского. Со стороны пользования пособиями, со стороны писательских приёмов автора я и подверг более или менее тщательному исследованию значительную часть труда о. Малиновского. Литературно-учёные приёмы докторанта обрисовались предо мной, думаю, в достаточной мере и обрисовались, нужно сказать, в не совсем привлекательном свете. Во всяком случае, эти приёмы едва ли обычны в сочинениях, представляемых на соискание не только высших, но и средних учёных степеней. Вот почему на характеристике учёно-литературных приёмов автора рецензируемого «Православного Догматического Богословия» я и считаю нужным остановиться с некоторой подробностью. Свои наблюдения и замечания я буду излагать в порядке параграфов рассмотренного труда, при
—621—
том остановлюсь, главным образом, на тех параграфах, которые дали мне возможность сделать наиболее интересные наблюдения по их количеству и качеству. Я не смущаюсь даже и тем, что свои замечания я должен начать лишь с дополнения ко второму в 3-м томе параграфу, 72-му в общей системе.
III том
§ 72. Наименование И. Христа Сыном Человеческим (стр. 20–24).
Весь этот труд заимствован из статьи И.М. Громогласова на ту же тему напечатанной в Чтениях в Обществе Любителей Духовного Просвещения за 1894 год. Эта статья в значительном, конечно, сокращении и помещена прот. Малиновским в его догматику. Иногда автор сокращает, пересказывая своими словами, но имея под глазами текст статьи, иногда же лишь списывает со страницы одну или две фразы буквально. Стр. 20 Малиновского – 107, 108, 109–110, 132, 133, 134, 136 сл., 114 статьи Громогласова. Стр. 21 – стр. 114, 115, 116, 117–118, 123, 124, 125–126, 136 той же статьи, при чём со стр. 114, 115, 116, 123, 125 сделаны буквальные заимствования.
Стр. 22 – стр. 136, 140, 141, 150–151, 152–153, 219, 220, 222; со стр. 136, 140, 222 заимствования буквальные.
Стр. 23 – стр. 222–225, 227, 248, 249; с последних двух страниц заимствования буквальные. Заметно, что статья компилировалась спешно: отсюда ошибки. Наименование «Сын Человеческий» по счёту автора в Новом Завете употреблено 77 раз в речах Господа, вообще в евангелиях – до 84, и 4 раза в других новозаветных книгах (стр. 20). На самом деле это наименование, кроме речи Господа, в евангелиях употреблено ещё 3 раза, а всего 80 раз. Итог же 84 относится ко всему Новому Завету. На 22 стр. Schoettgenius обратился в Schoetgen и точная цитата Громогласова обратилась в слишком общую – Horae hebr. II.
Даёт ли о. Малиновский понять, что отдел он заимствует? И даёт, и скрывает. Он только называет при перечислении литературы (стр. 20 прим. 1) и статью Громогласова, указывая впрочем 1884 год её появления, но ни-
—622—
где её не цитирует. Мало того. Почти в начале отдела есть примечание: «Разбор этих мнений (о значении наименования) можно читать у проф. Соллертинского. С.А. Пастырство Христа Спасителя. СПб. 1896 г. гл. «О Сыне Человеческом» (стр. 20). Так как дальше у автора и следует разбор различных мнений, то и можно подумать, что он пользуется книгой проф. Соллертинского. На самом же деле я сомневаюсь, видел ли о. Малиновский книгу Соллертинского. По крайней мере, главы о «Сыне Человеческом» в ней нет. О «Сыне Человеческом» идёт речь во гл. II этой книги – «Происхождение христианского пастырства из недр богочеловеческого сознания Христа Спасителя» (стр. 60–117), но в этой главе совсем нет того, что есть у прот. Малиновского.
§ 74. История догмата о лице И. Христа (стр. 26–60).
В этом параграфе страница (27–28), посвящённая учению еретиков иудействующих, составлена довольно близко к тексту кн. В. А. Снегирева. Учение о лице И. Христа в I-III в. христианства. Казань 1871. стр. 22–27, 63, 64. Отсюда же взято и 2 прим. на 27 стр. Следующие две страницы посвящены гностикам и составлены по той же книге. стр. 99, 80, 100, 101, 95, 96, 98, 91, 101, 104, 115, 132. Здесь у автора мозаика: с каждой страницы взято по фразе, по строчке, чаще с буквальной точностью. Кроме того, на стр. 29 гностик Валентин обратился в Валентиниана. Говоря о патрипассианах (стр. 31–32), о. Малиновский берёт несколько фраз у того же Снегирева со стр. 192 и 194, и почти дословно повторяет то, что сам же писал в первом томе своей догматики. Заключение к речи о монархианах на стр. 33 буквально списано с 197 стр. Снегирева, а затем автор тотчас переходит к книге Д.Ф. Гусева – Ересь антитринитариев III в. Казань 1872, и пересказывает из неё стр. 250 и 251 на стр. 33 и 34, причём крайне неудачно поправляет одно слово: «учение монархиан, пишет о. Малиновский, требовало раскрытия следующих сторон догмата о лице И. Христа» (стр. 33) и дальше у него же среди этих «сторон догмата» указывается – «ипостасное различие трёх лиц Божественной Троицы». Неужели и это сторона догмата о лице И. Христа? У Гусева (стр. 250) речь о догма-
—623—
тах, а не о сторонах догмата, что, конечно, несравненно точнее. Говоря об Аполлинарии (стр. 36–39), о. Малиновский более страницы (на стр. 36 и 37) буквально списывает со статьи А. С. Лебедева. Лжеучение Аполлинария и его значение в истории христианской догматики, Христианское Чтение, 1878, т. 2, стр. 266, 267, 269. Две фразы из статьи Лебедева (стр. 580 и 581) попали и на 38 стр. Малиновского. Но только списав из этой статьи примечание на стр. 39, автор сделал глухое указание на использованную статью.
О несторианстве (на стр. 40–42) за исключение немногих строк всё буквально списано у А. П. Лебедева. Вселенские соборы IV и V веков. Изд. 2. Сергиев посад 1896. стр. 158, 159, 158, 159, 161,159, 160–161.
Важнейшие анафематизмы св. Кирилла (на стр. 42–43) наверное, списаны из догматики еп. Сильвестра, § 90, т. 4. стр. 83, так как греческие слова в русском тексте приведены те же, что и у Сильвестра.
Слова Евтихия на 44 стр. по-русски и по-гречески взяты у Лебедева. Вселенские соборы, стр. 199. От себя о. Малиновский привносит лишь несколько опечаток в греческих словах. У Лебедева же на стр. 266–267 взято (на стр. 45–46) вероопределение четвёртого вселенского собора с несколькими словами, в которые опять о. Малиновский не преминул внести достаточное количество опечаток.
О монофелитстве целая 47 стр. буквально списана с Лебедева. Вселенские соборы VI, VII и VIII веков. Изд. 2. Москва 1897, стр. 73 и 74. Отсюда же (стр. 84 прим. 1) взято и указание на сочинение Галина во 2 прим. на стр. 47–48.
Книги, из которых сделаны буквальные заимствования, лишь перечислены в качестве «литературы» в начале параграфа (стр. 27 прим. 1), но цитат на них не делается, так что скрывается степень зависимости от пособий. На стр. же 52 есть выписка и из неуказанной вначале этого же параграфа книги свящ. М. Златоверховникова. Учение Господа Иисуса Христа о Себе, как Мессии и Сыне Божием. Чернигов 1876, стр. 5.
Конец параграфа наполнен краткими речами о школах тюбингенской и ричлианской. Здесь автор преимущественно основывается на труде проф. прот. Н. Я. Светлова – Хри-
—624—
стианское вероучение в апологетическом изложении, т. 2-й. (У меня новейшее издание, у автора же прежнее). Речь прот. Малиновского иногда близка к речи прот. Светлова, а иногда и тождественна с ней. Срвн. стр. Малиновского 53 с II, 580 и 589 Светлова, 54 и примеч. 2 с II, 579 и 591 прим., 55 с II, 580, 56 с II, 581 и 600, 58 с II, 737 и 738, 59 с II, 739. Но особенно замечательно вот что: на стр. 54–59 о. Малиновский очень щедр на разные указания «литературы», книг и статей. Эти указания в изобилии даются на каждой странице, кроме 56, но хоть какого-нибудь указания на сочинение прот. Светлова мне так и не удалось открыть.
§ 75. Господь И. Христос есть истинный Бог по естеству, как Сын Божий (стр. 60–78).
Предыдущий параграф заканчивается, а этот начинается буквальной выпиской из старинной статьи архим. Алексия – О лице Господа и Спасителя нашего И. Христа, напечатанной в 1847 году в 5-й части Прибавлений к изданию творений свв. отцов (стр. 399:400). Затем следует на семи стр. набор текстов Священного Писания, иногда близкий к догматике Макария (сн. к стр. 65 Макария т. 3, стр. 65), а со стр. 68 о. Малиновского начинает списывать статью архим. Алексия. На стр. 68 более половины списано буквально с этой статьи – Прибавления – V, 435–436, 466–467. Между двумя выдержками средний абзац состоит из цифровых цитат на Свящ. Писание. Цитаты списаны со стр. 440–452 5 ч. Прибавлений, где приведены полностью слова Писания, при том списаны наскоро, почему и получилась невозможная цитата «Кол. 15, 1». Оказывается на стр. 446 Прибавлений, вопреки обыкновению, стих поставлен впереди главы: «в 15 ст. 1 гл. Апостол» и т.д. Выбирал цитаты и наскоро перелистывая старый журнал, о. Малиновский и открыл в послании к колоссянам 15-ую главу.
Стр. 69 начинается также выборкой заглавий и цитат со стр. 468–471 Прибавлений, а затем следует размером в полстраницы буквальная выписка со стр. 474 и 477. Сюда же добавлено небольшое примечание, списанное у Сильвестра, т. 4, стр. 58.
—625—
С 70 стр. начинаются свидетельства древне-церковных писателей. Переход сделан словами статьи архим. Алексия (Прибавления, V, 477) и сами свидетельства заимствуются многие целиком из той же статьи. Так на 70 стр. с документальной точностью воспроизведены цитаты из Игнатия Богоносца, при чём удерживаются даже и курсивы (Прибавления, V, стр. 481–482), а на 71 стр. выдержка с вводными словами из Поликарпа Смирнского (Прибавления, V, 490–491). В примечании 2 буквально же сделаны выдержки из послания о мученичестве Поликарпа (Прибавления, V, 491) и из 2 посл. Климента (V, 479). Здесь же дважды сохранён цитат на Hefele. Что это за Hefele, – не объясняется. Это старинное издание – Patrum apostolicorum opera (Tubingae 1847), которое цитируется архим. Алексий, писавший в том же 1847 году, когда это издание лишь появилось. Цитировать же это издание в 1909 году, это – mauvais ton, не терпимый не только в докторской диссертации, но и в студенческом сочинении.
На стр. 72 у архим. Алексия же списаны отчасти выдержки из Иустина Философа и св. Иринея Лионского , а на стр. 73 по Алексию же воспроизведены слова св. Дионисия Александрийского, к которым, впрочем, в прим. 2 подыскан цитат по новому русскому переводу (Казань 1900).
На 74 стр. краткая заметка об антиохийских соборах против Павла Самосатского буквально взята у Сильвестра, т. 4, стр. 72; прим. 3 списано из книги Снегирева, стр. 18, хотя из поставленного цитата списывания усмотреть нельзя.
На стр. 75–76 даётся ответ на вопрос: почему для спасения воплотился Сын Божий? Обе эти страницы представляют буквальную выписку из статьи проф. Лепорского – «Воплощение» – в Православной Богословской Энциклопедии т. 2, стлб. 820–822: только вместо «Логос» стоит «Слово», вместо «акт» – «дело», хотя вторая замена не совсем удачна.
Столь основательно использованная в этом параграфе статья архим. Алексия ни разу не поцитирована; она лишь названа в числе многих других в перечне «литературы». О статье же проф. Лепорского о. Малиновский упоминать счёл за лишнее, хотя перепечатал из неё две страницы
—626—
§ 76. И. Христос есть истинный человек (стр. 78–84).
Этот параграф списан почти весь.
Половина 79 стр. взята из продолжения всё той же статьи архим. Алексия, напечатанного в 6-й части Прибавлений, в 1848 году (См. стр. 52:53).
Стр. 80 вся списана со стр. 54, 55, 56–57 той же статьи: только делается сокращение: у архим. Алексия, напр., приводятся тексты Священного Писания, а прот. Малиновский выбирает только цитаты. Примечание на этой странице, за исключением 4–5 строк, списано с 55 стр. той же статьи; притом, кажется, совсем не к делу вставлено греческое слово σώμα.
Большая часть стр. 81 списана у Макария (§ 134. т. III. стр. 76, прим. 115) и из Прибавлений (VI, 57, 62:63). Цитаты в примечания взяты у Макария и у Алексия (VI, 62 прим.).
Вся стр. 82 и первый отдел 83-ьей списаны со ст. архим. Алексия (Прибавления, VI, 63, 66, 67, 68:69) и списаны буквально, за исключение 6 стр. 82 стр., где пересказ. Цитаты в примечаниях на обеих страницах собраны у Макария (§§ 134 и 137, т. III, стр. 73 прим., 114 и стр. 79 прим 117) – Заключительный отдел в 1½ страницы составлен по Макарию: ½

стр. выписано буквально (§ 134, т. III, стр. 78–79), а потом приводятся общие с Макарием святоотеческие изречения, только в ином несколько объёме.
Никаких цитат на «литературу» во всём параграфе нет.
§ 78. Безгрешность Иисуса Христа (стр. 93–109).
Прим. 1 на 94 стр. составлено из цитат Макария (§ 136, т. III, стр. 97–98).
Половина 96 стр. и прим. 2 на этой же стр. буквально взяты из ст. проф. Лепорского – Воплощение (Правосл. Богосл. Энциклопедия, т. 2, стлб. 830–831). Цитаты никакой нет.
На стр. 96 несколько фраз взято у проф. Светлова – Христианское вероучение, т. 2, стр. 681 и 682, а конец этой страницы списан с книги свящ. А. Светлакова – Нравственный образ Иисуса Христа. Н.-Новгород 1880, стр. 63.
Стр. 99 и 100 представляют лишь тексты Св. Писания, но и приводя тексты, о. Малиновский держал пред глазами книгу Светлова и книгу Светлакова, почему у него порядок текстов и соединительные между ними слова или
—627—
буквально, или довольно близко совпадают с книгами указанных авторов. См. Светлова, II, стр. 680 и 679 и Светлакова, стр. 64–65, 67–68, 69.
В конце прим. на стр. 101 читаем: «Сн. Янышева И.Л. Прав.-христ. уч. о нравственности § 50». На самом деле примечание представляет буквальную выписку из Ягышева (по изд. СПб. 1906, стр. 311), причём одна выписка или опечатка о. Малиновского искажает текст (вм. «быть» – «был»).
Большое примечание на стр. 102 начинается выпиской из статьи проф. Ленорского (Правосл. Богосл. Энциклопедия, т. 2. стлб. 828); затем следует выписка из Янышева, на этот раз снабженная цитатой; только совершенно напрасно цитата поставлена преждевременно: ведь и следующие за этой цитатой слова Григория Нисского заимствованы из 2 прим. к стр. 313 стр. книги Янышева. О. Малиновский цитует русский перевод творений св. отца, но ведь греческого слова в этом переводе нет; а между тем это слово воспроизведено с той же опечаткой, какая есть и у Янышева: напечатано – ἀμαρτικὴν, т.е. поставлено тонкое придыхание.
Стр. 103 более чем на половину состоит из буквальных заимствований у прот. Светлова – Христ. вероучение т. 2, стр. 665–666, 675–676.
Стр. 104 целиком представляет или выписки, или пересказ из той же книги Светлова, стр. 684, 669, 670–671. Сделав это заимствование, наш докторант делает примечание: «Подобные разъяснения по сему вопросу можно находить в труде проф. Тареева».
На стр. 107 заимствование из кн. Янышева снабжено цитатой, но не отмечено, что в данном случае у Янышева не свои слова, а слова Пальмера.
На стр. 108 в 1 прим. прот. Малиновского ставит много цитат и даже пишет латинскую строчку, только забывает отметить, что цитаты эти взяты у Макария – § 136, т. III, стр. 100–101 прим.
Как можно видеть, в этом параграфе наш автор не мало пользуется книгой Светлова, но, давая перечень «литературы» (стр. 93–94 прим.), эту книгу он и забыл упомянуть.
§ 79. И. Христос – Богочеловек есть единое лице (стр. 109–119).
—628—
Около страницы на стр. 110–111 буквально выписано из статьи архим. Алексия (Прибавления, VI, 205:207). Заменяя в этой выписке «человеческое естество» «человечеством» и опуская слово «православие», наш автор точной речи предпочитает неточную.
Стр. 112 вся списана у Алексия (прибавления, VI, 208, 212–213); примечание с 213 стр. этой статьи вставлено в текст и заключено в скобки. 1-е прим. на этой стр. взято у Макария т. III, стр. 105, а дальнейшие примечания на стр. 112–113 взяты, между прочим, из толкования на посл. к филиппийцам еп. Феофана. Цитата стоит глухой и буквальные заимствования не отмечены. Здесь же в 5 прим. на 113 стр. местом издания книги М.М. Тареева – Уничижение Господа нашего И. Христа – назван Сергиев посад; эта книга издана в Москве.
Примечание, занимающее 117 и 118 стр. посвящено протестантскому богословию и представляет наполовину выписку из только что названной книги М.М. Тареева, снабжённую, впрочем, цитатой, а наполовину из книги Светлова – Христианское вероучение, т. 2, стр. 720–721. Эта выписка снабжена не цитатой, а примечанием: «см. ещё Светлова П. и т.д.». При списывании из книги Тареева допущены две ошибки на стр. 117: unio personalis переводится – «единство личности» и Лютеру приписываются латинские слова Бренца (см. у Тареева, стр. 146).
§ 80. Образ соединения двух естеств в едином лице Богочеловека (стр. 119–123).
Этот параграф, за исключением первых полутора страниц, представляет пересказ и даже буквальное воспроизведение § 138 догматики Макария – т. III, стр. 117–120. Тожество цитат Св. Писания и святоотеческих и буквальные совпадения некоторых рассуждений не оставляют места сомнению.
§ 81. Следствия ипостасного соединения естеств в И. Христе по отношению к Нему Самому (стр. 123–131).
Небольшой отдел на стр. 123–124 взят из Макария (§ 139, т. III, стр. 129–132) наполовину буквально. Здесь между прочим две строки цифровых цитат из Нового Завета. Цитаты списываются у Макария, но почему-то сделана перестановка: впереди поставлен Марк, а за ним
—629—
Матфей. На этой же 124 стр. следует, хотя и небольшой, заимствование буквальное из статьи архим. Алексия – Прибавления, VI, стр. 284.
Стр. 126 составлена по Макарию (§ 139, III, 137–138); у которого взята в примечании 2 и латинская цитата.
Стр. 127 занята речью о communication idiomatum. Половина стр. – пересказ стр. 237 из VI ч. Прибавлений, из статьи архим. Алексия. Из этой же статьи выписаны и слова Иоанна Дамаскина: многоточие, сокращающее выдержку, стоит как раз там же, где и у Алексия (Добавлена, впрочем, ещё опечатка). Вторая половина – очень близкий к тексту пересказ стр. 704–705 из кн. Светлова – Христианское вероучение, т. 2, стр. 704–705.
Стр. 128 наполовину пересказ из Алексия (стр. 238), наполовину из Макария (§ 139, т. III, стр. 123). У Алексия почти одни цитаты; о. Малиновский подыскивает сами тексты и сохраняет соединительную строчку.
На стр. 129 большая, в ½ стр., выписка из Светлова, т. II, стр. 706. Стоит и цитата. Выписаны три периода, но только два в кавычках и сопровождены цитатой; третий же оставлен на свободе, хотя и стоит рядом. Прим. 2-ое на этой же стр. выписано у Алексия (Прибавления, VI, стр. 236) вместе с выдержкой из Иоанна Дамаскина, в которой вставлен греческий термин. Впрочем, этот термин у о. Малиновского, потерпел искажение: напечатано – περιχώρισις, а нужно περιχώρησις.
На стр. 130 не помечено небольшое буквальное заимствование у Светлова, т. 2, стр. 708.
Заканчивается параграф страницей, составленной по Макарию (Срвн. т. III, стр. 125, 130:129).
Ни списка «литературы», ни цитат на неё в этом параграфе не имеется.
На стр. 132–137 у о. Малиновского идут довольно пространные рассуждения о «Латинском культе сердца Иисусова». Я недоумеваю, какое отношение имеет этот культ к «православному Догматическому Богословию», к § о «следствиях ипостасного соединения естеств в И. Христе». Культ этот скорее относится к области литургики, нежели догматики, как это признаёт и прот. А. А. Лебедев, писавший специально об этом культе. У прот. Малинов-
—630—
ского весь этот отдел, – конечно, списан. Стр. 132 базируется на статье Тычинина в VI т. Правосл. Богосл. Энциклопедии. Стр. 133 дословно вся списана с книги Лебедева – О латинском культе сердца Иисусова. Спб. 1903 – и с кн. Вл. Гетте – Еретичество папства. Харьков 1895. Это и отмечено цитатами, но не совсем так, как было бы желательно. Из книги Лебедева взяты слова иезуита Ричмана. Поставленная, при том неверная (вм. «4–5 стр.», «3–4 стр.»), цитата относится только к этим словам, но не показано, что предыдущие три периода буквально взяты с 23 стр. той же книги.
Стр. 134 списана также, но заимствования обозначены хоть кое-какими цитатами.
На стр. 135 не отмеченный пересказать и буквальная выписка из Гетте, стр. 80.
Последние две страницы составлены из буквальных заимствований у Лебедева, в таком порядке страниц: 7–8, 7, 8, 11, 12, 8–9, 13, 39, 40. Примечание 1-ое на стр. 136 взято с 3 стр. книги Лебедева; 2-ое написано по указанию на 11 стр. у Лебедева.
§ 82. Догмат о воплощении Сына Божия с точки зрения разума (стр. 137–150).
Начинается параграф буквальной выпиской, при том без всякого намёка на цитату, из «Христианской апологетики» проф. Н. П. Рождественского (Изд. 2. Т. 2, Спб. 1893. стр. 418–419). Пересказ 420 стр. этой же апологетики встречается на стр. 138.
Цитаты из Афанасия Великого и Григория Нисского, приводимые на стр. 139–140, почему то оказываются те же, что и у прот. Светлова (т. 2, стр. 757:759), причём совпадают даже по объёму сами выписки. На этой же 140 стр. встречаем не удостоенную цитаты выписку из Апологии Геттингера (ч. 2, стр. 316).
Половина 141 стр. опять выписана из Апологетики Рождественского (т. 2, стр. 421), которая в примечаниях этого параграфа так и осталась позабытой.
На стр. 141–142 приведена большая, в ½ страницы, выписка из блаж. Августина, но с цитатой получился нелестный для нашего докторанта курьёз. Цитата состоит такая: «Август. Tract. XXXVII In Ioan». Увы! Приведённых
—631—
слов Августина в цитируемом трактате на евангелие Иоанна не обретается; в этом трактате есть место, лишь отчасти похоже по мысли (См. Sancti Aurelii Augustini opera omnia… opera et studio monachorum ordinis sancti Benedicti; t. III, pars II. Parisiis MDCCOXXXVII, col. 2063). А ведь о. Малиновский проводит подлинные слова, заключая из в кавычки. Как же это у него получилось? А вот как. Латинских сочинений блаж. Августина о. протоиерей, разумеется, и в руках не держал: приведённую же выписку он заимствовал у Геттингера (Апология христианства, ч. 2. СПб. 1872, стр. 320–321). В этой Апологии на стр. 320 в 5 прим. стоит цитат такой: «L. c. cf. Tract. XXXVII in Ioan». След., Геттингер отсылает к предыдущему примечанию, где стоит цитат: «Augustin. Serm. CLX in Ioan». Приведённая о. Малиновским выдержка и находится у Августина не в 37 трактате на Иоанна, а в 109 слове на Иоанна. Возможно, что эта курьёзная ошибка причиной имеет постыдное для докторанта неуменье прочитать постоянно употребляющееся в латинских цитатах сокращения: «L. c. cf».
Вслед за неудачной выдержкой из Августина до конца 142 стр. имеется значительное, при том почти всё буквальное, заимствование из книги прот. Светлова – Христианское вероучение – т. 2, стр. 754–755, уже не сопровождаемое никакой цитатой.
Без всякой цитаты есть буквальное заимствование из Светлова (т. 2, стр. 761) ещё и на 145 стр. и в 1 прим. на 146 стр. Имя прот. Светлова вообще в этом параграфе ни разу не упоминается.
О формах воплощения Вишну (на стр. 147) о. Малиновский говорит отчасти подлинными словами проф. С. С. Глаголева и † А. И. Введенского. На докторскую диссертацию А. И. Введенского сделана точная ссылка, но процитировать 85 стр. книги С. С. Глаголева – Из чтений о религиях Сергеев посад 1905 – автор по неизвестной причине счёл излишним.
Примечание на стр. 149–150 составляют выписки из апологетики Эбрарда. Две последних выписки сопровождаются цитатами, но первые, стоящие вначале, оставлены без цитат (Нужно т. I, стр. 312–313), а с первого взгляда заимствования не ясны, так как делается ссылка на Оригена, приводятся ряды новозаветных цитат.
—632—
§ 83. Преблагословенная Дева-Матерь Господа И. Христа (стр. 150–164).
В этом параграфе особенно много о. Малиновский пользуется статьёй архим. Алексия – О преблагословенной Деве, Матери Господа нашего И. Христа, – напечатанной в Прибавлениях к твор. свв. оо. за 1848 год. У меня эта статья в отдельном издании.
На стр. 150 у о. Малиновского пересказ стр. 44–47 книжки архим. Алексия. 52 стр. этой книжки о. Малиновский держал пред глазами при написании следующей 151 стр. своей догматики. Сюда же добавил слова Ефрема Сирина, приведённые у Макария (§ 136, т. III, стр. 90), к которым подыскал лишь цитату по новому изданию творений.
Первая половина стр. 152 занята выпиской из Иоанна Дамаскина, найденной по указанию архим. Алексия на стр. 51; вторая же половина прямо списана с той же стр. книжки архим. Алексия, откуда взята в прим. 4 цитата из «Камня веры» Стефана Яровского, но цитата искажена: «О призн. свят. II ч. 2 гл.» – нужно: «О призыв. свят., II ч. 2 гл. стр. 545».
Далее целых 1½

стр. списано с Алексия, стр. 53, 54–55, вместе с цитатами не на латинские только творения свв. оо., но даже и на митр. Филарета.
За этим на стр. 154 следует непосредственно пересказ из Макария (§ 136, т. III, стр. 95), после чего наш автор опять возвращается к архим. Алексию и пишет целую страницу (154–155) почти сплошь его словами (см. стр. 56–59). Здесь, впрочем, о. Малиновский удостаивает архим. Алексия глухого упоминания по формуле: «см. о сём в ст. архим. Алексия». Конец стр. 155 написан по Макарию (т. III, стр. 93).
На стр. 156 с кн. Алексия списаны все три примечания со всеми цитатами: 1-ое со стр. 68–69, 2-ое со стр. 6–7 и 3-ье со стр. 60. Но цитаты на архим. Алексия не имеется.
На 157 стр. любопытно 2-ое примечание. «Проф. Н.Н. Глубоковский высказывает мнение, что слово: τὸν πρωτοτόκον – первородного (первенца) вероятно не подлинно», т.е. его не находилось в оригинале у св. Матфея (см. Обзор «Послания ап. Павла к Галатам», СПб. 1903 г. 67 стр.), – однако основания такого мнения не указаны». По поводу этого приме-
—633—
чания можно сделать целый ряд примечаний: 1) Сочинения «Обзор послания ап. Павла к Галатам» у проф. Глубоковского нет, а есть – «Благовестие христианской свободы в послании св. ап. Павла в послании к Галатам». 2) Это сочинение издано в 1902, а не в 1903 году. 3) Проф. Глубоковский писал для людей научно грамотных, а таким не нужно указывать оснований возможной неподлинности слова: τὸν πρωτοτόκον в Мф.1:25, потому что они сами знают, что этого слова нет в кодексах א B Z 1. 33. a b c g. в переводах sah cop syr и т.д., почему его и не печатают в критических изданиях, кончая новейшим изданием Soden’a (Tȕbingen 1913). 4) Примечание это прот. Малиновский списал с 1 прим. на 22 стр. книги проф. А.П. Лебедева – Братья Господни (Москва 1905). 5) Год издания сочинения проф. Глубоковского он переделал уже сам, в чём и выразилась его самостоятельность.
На 158 стр. без цитаты сделано заимствование буквальное у архим. Алексия (стр. 66:67), а прим. 1-ое почти всё взято также без цитаты у А.П. Лебедева (стр. 21–22). У Лебедева же взяты со всеми цитатами буквально примечания 2-е и 3-ье на стр. 159. (См. у Лебедева стр. 55. Здесь к словам блаж. Иеронима из его сочинения «О знаменитых мужах» взята у Лебедева точная цитата по русскому переводу, но рядом слова из его трактата на 108 псалом оставлены без всякой цитаты. Почему? Потому что у Лебедева стоит неудобная и непонятная нашему автору цитата: «Zahn. Op. cit. S. 322. Anmerk.», т.е. сделана ссылка на 6-ой том Цановых Forschungen zur Geschichte des neutestament. Kanons.
Последние три (160–162) стр. этого параграфа составлены по § 140 Макария (т. III, стр. 141–143), причём делаются и буквальные заимствования. Святоотеческие цитаты в прим. 2–4 стр. 162 все взяты буквально у Макария (т. III, стр. 141–143). Автор подыскал несколько цитат по русским переводам, но, конечно, не из этих же переводов взял он отдельные греческие слова, вставляемые в русский текст. Кроме того, с цитатой (в прим. 3) из блаж. Феодорита произошло недоразумение. К одной краткой выписке стоит цитата: Н. Е. I, 4. Следует другая выдержка и при
—634—
ней в качестве цитаты только: XII с. Что это за 12 глава? Какого сочинения? Нужно: Haeret. tab. IV, 12.
В 3-ем прим. на 163 стр. попало несколько строк из статьи архим. Алексия (Прибавления, VI, 43).
§ 84. Догмат римской церкви о непорочном зачатии Божией Матери (стр. 164–191).
Спрашивается: какое дело «Православному Догматическому Богословию» до догмата римской церкви? А этому «догмату» посвящён параграф почти в 30 стр. Но ещё более интересно составление этого обширного параграфа.
Первые 5 стр. (165–169), за исключением очень немногих строк, списаны притом почти всегда буквально, с книги прот. А.А. Лебедева – Разности церквей восточной и западной в учении о пресвятой Деве Марии Богородице. Варшава 1881. Списано по фразе, по две с разных страниц, в таком порядке.
165 стр. Малиновского стр. 136, 220–201, 221, 223 Лебедева.
165 стр. 1 прим. стр. 145, 140 Лебедева.
166 стр. Малиновского стр. 240, 264, 263, 255, 256, 117 Лебедева.
168 стр. стр. 217, 232.
169 стр. стр. 265, 275, 285–286 Лебедева.
При всех этих заимствованиях никаких цитат не имеется; цитатами отмечены лишь, мною неупомянутые, выдержки в примечаниях.
Стр. 170 наполовину представляет пересказ статьи – Взгляд православного на новый догмат римской церкви о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии – Христианское Чтение, 1867. т. 2, стр. 7–8, а наполовину пересказ и буквальное воспроизведение из книги Лебедева стр. 181, 185, 186, 187. Маленькое примечание на этой странице взято из Христианского Чтения. 1867, 2. стр. 7.
Начало и конец стр. 171 заимствованы из кн. Лебедева, стр. 188, 255–256, а середина – пересказ из Христианского Чтения. 1867, ч. 2. стр. 8.
Стр. 172 более чем наполовину буквально заимствована
—635—
у Лебедева, стр. 249, 256, 224, 228, 19, а стр. 173 пересказ стр. 19 и 22 из той же книги. Примечание 1-ое взято у Лебедева, стр. 19, а 2-ое из Христианского Чтения. 1867, ч. 2. стр. 3 и у Лебедева, стр. 198–199, 147.
174 стр. состоит из пересказа и буквальных заимствований со стр. 33, 46, 52–53, 55, 59 кн. Лебедева. Списывая со стр. 55, автор пропустил одно слово, почему получилась очень нескладная фраза.
Стр. 175 – пересказ стр. 63 и 71 Лебедева. Первое прим. со стр. 59 и 60. Здесь хоть какая-нибудь цитата, но во втором примечании цитаты нет, хотя это примечание списано со стр. 67–68 Лебедева. Большое 3-ье примечание буквально взято из Христианского Чтения. 1859, ч. 2. стр. 139, 139 прим. 394–395, 398. Цитата стоит в такой форме: «см. о сем в ст. Хр. Чт. 1859 г. II т.»
176 стр. почти вся выписана из Лебедева, стр. 76–79; из этой же книги взята и следующая стр. местами буквально, местами нарассказ. См. стр. 105, 292, 295, 375, 374–375.
На 178 стр. выдержка в тексте и примечание взяты из статьи – Зачатие Пресвятой Девы Марии без первородного греха пред судом Св. Писания и предания свв. отцов – Христианское Чтение. 1858, ч. 2, стр. 85–86. С той же статьи списаны и большие примечания на 180 стр. (См. стр. 120, 236:125), притом безграмотно, напр., – «пунктуация мазаретская».
Почти вся 181 стр. состоит из буквальных выписок из книги Лебедева, стр. 397, 382, 328, 77, 368.
Первая половина стр. 182 отчасти буквально, отчасти с изменениями взята из Христианского Чтения, 1858, ч. 2. стр. 185–186, а вторая половина почти буквально списана с 367 стр. Лебедева.
Половина 183 стр. выписана из Христианского Чтения, 1858, ч. 2. стр. 256–257, а дальше целых 1½ стр. почти без всяких изменений списаны с книги Лебедева, стр. 398–401.
На стр. 185 есть буквальные заимствования с 377 стр. Лебедева, а между ними вставлена выписка из Христианского Чтения, 1857, ч. 2. стр. 11–12. Примечание списано с цитатой, но ошибочно указана вм. 205 стр. 203.
На 186 стр. имеем в начале пересказ стр. 405–406 Лебедева, в конце буквальную выписку со стр. 342, а в
—636—
середине буквальную же выписку из Христианского Чтения, 1858, ч. 2. стр. 35.
Вверху 187 стр. приведены две кратких выдержки из блаж. Августина, но с цитатой получился курьёз уже прямо скандального характера. Цитата такова: «Август. De concept. Virg. c. 3». Слова действительно принадлежат Августину, но со сколько-нибудь похожим на эту цитату заглавием сочинения у Августина нет. Приведённые слова находятся в сочинении Августина – De peccatorum meritis et remissione et de baptismoparvulorum (Migne, PL. t. 41), lib. II. capp. 35, 38. О. прот. Малиновский под именем Августина процитировал сочинение Анзельма Кентерберийского – De conceptu virginali et de originali peccato (Migne, PL. t. 158. coll. 431 sqq.). Такое непонятное явление, однако, может быть вполне достаточно объяснено. О. Малиновский по своему обыкновению, конечно, списывает, – в данном случае из статьи Христианского Чтения, 1858, ч. 2. стр. 245–246. Здесь излагаются мысли Августина по его сочинению De peccatorum meritis. Это сочинение названо несколько раньше, а дальше цитаты ограничиваются только: «ibid». Но, как на грех, на 245–6 стр. автор статьи к примечанию с цитатой на Августина для сравнения привёл слова Анзельма и поставил цитату, так что примечание заканчивается цитатой на Анзельма – De conceptu virgin. Увидав в сноске после выписанных слов Августина «ibid», о. Малиновский посмотрел вверх, встретил латинскую цитату и с лёгким сердцем, не подозревая никакого коварства, взял её в свою книгу. А, между прочим, те же слова Августина с правильной цитатой он мог видеть и в книге Лебедева на стр. 143. Думаю, что в учёных сочинениях подобные случаи своего рода монстры.
После слов Августина до середины той же 187 стр. идут заимствования, отчасти буквальные, из книги Лебедева, стр. 344, 343, 344, а от середины донизу пересказываются стр. 36, 37, 39 из II ч. Христианского Чтения за 1857 год.
На стр. 188–189 длинная, в целую страницу, выдержка из Бернарда Клервосского: взята она у Лебедева, стр. 26–28, хотя об этом умолчано. Кроме того, искажена цитата: «посл. 164», а нужно «174».
—637—
Непосредственно за сим о. Малиновский (на стр. 189) начинает говорить «о телесном вознесении Богоматери на небо» преимущественно словами проф. А. И. Булгакова в Трудах Киевской Духовной Академии за 1903 г. окт. стр. 160–164. Вначале 190 стр. ставится цитата, добавляется из того же Булгакова даже немецкая цитата, не особенно впрочем, удачно. Беда только в том, что цитата поставлена преждевременно, так как и далее целых полстраницы буквально списано с той же статьи, стр. 164–165, что осталось вовсе не отмеченным.
Затем да конца 190 стр. и вначале 191 идут оставленные без всякой цитаты выписки из книги Лебедева, стр. 300–301, 167, 301.
Итак, во всём параграфе в 27 страниц только на одной 179 стр. мне не удалось найти буквальных выписок; остальные же 26 стр. все списаны за самыми ничтожными исключениями в несколько строк. Старые статьи и книги, с которых идёт списывание, правда, указаны в начале параграфа (стр. 164 прим. 2), но отсутствие цитат создаёт впечатление, будто параграф написан, а не списан о. Малиновским.
§ 85. Понятие о тройственном служении Иисуса Христа (стр. 192–194).
В этом маленьком параграфе замечательно то, что почти целая страницы (на стр. 193–194) здесь списана буквально со статьи архим. Евсевия – О трояком служении Иисуса Христа, напечатанной 70 лет назад в Прибавлениях к творениям свв. отцов за 1844 г. ч. 2 (см. стр. 115–116). Однако никакого упоминания об этом «источнике» нет.
Обширный и крайне скучный отдел догматики о. Малиновского, трактующий о «тройственном служении Иисуса Христа» (§§ 86–103; стр. 194–353) я не буду разбирать подробно, параграф за параграфом, хотя и здесь заимствований не мало. Принципиальное содержание этого отдела не только скудно, но местами и убого. Я и здесь отмечу лишь то, что характерно для писательских приёмов о. Малиновского и чего не хотелось бы пропускать.
На стр. 218–219 отдел в полторы печатных страницы под особым заглавием – «Пророчества Иисуса Христа».
—638—
Весь этот отдел списан без всякой оговорки с упомянутой архаической статьи архим. Евсевия в Прибавлениях к творениям свв. отцов за 1844 год, ч. 2. стр. 132–134. Мелкие изменения во фразе есть, но иногда далеко не в пользу. О. Малиновский, напр., пишет: Христос предсказывал, «что о добром деле Марии сказано буде всему миру (Мф.26:7; Мк.14:3; Ин.12:3)». Но если бы о. протоиерей посмотрел эти цитаты, то ни в одной из них он не нашёл бы никакого пророчества о Марии. У Евсевия цитата имеет такую форму – «(Мф.26:7 слд.; Мк.14:3 слд.; Ин.12:3 слд.)», т.е. указаны целые отделы об известном евангельском событии. О. Малиновский опустил трижды – «слд.» и у него вышла большая неточность. Изменение сделано к худшему. А вот где нужно изменить, там о. Малиновский воспроизводит свой источник с документальной точностью. На той же 219 стр. четырьмя строками ниже говорится, что Церковь до конца мира пребудет непобеждённой от врагов её. Поставлена цитата: Мф.16:28. Кто сколько-нибудь знаком с евангелием, тот даже без справки знает, что изречение Господа о вратах ада находится не в 28, а в 18 ст. 16 гл. Матфея. У архим. Евсевия (Прибавления, ч. 2, стр. 133) здесь вкралась опечатка, которую о. Малиновскому исправить было трудно, если бы он списывал не спеша. – Мелочи это, конечно, но, думается, довольно характерные.
На стр. 228–229 несколько заимствований из книги А. Д. Беляева – Любовь Божественная, изд. 2. Москва 1884, стр. 262, 272–274, но цитаты и вообще какого-нибудь упоминания этой книги нет.
На стр. 242 примечание филологического характера о предлоге ύπέρ взято у В. Н. Мышцына – Учение Св. Апостола Павла о законе дел и законе веры. Сергиев посад 1894. стр. 100 прим. 1, но цитаты опять нет никакой.
На стр. 245–246 приводится обширная выписка из послания к Диогену, но едва ли это послание лежало пред глазами о. Малиновского. В руках он держал раскрытую на 320–321 стр. книгу проф. В. И. Несмелова – Наука о человеке, изд. 2, т. 2, Казань 1907, где приводится та же выдержка Замечательно, что вводные слова, пропуски и даже курсив у о. Малиновского совпадают с проф. Несмело-
—639—
вым. На той же 245 стр. по Макарию приводится изречение мужей апостольских и у Макария же берутся цитаты в прим. 2 (См. § 151, т. III, стр. 184–185).
На 247 стр. у автора в восьми примечаниях собрано множество святоотеческих цитат, но эти цитаты собраны по книге П. Я. Светлова – Значение креста в деле Христовом. Киев 1893, стр. 153–154, 181, 193, 200, 206. К одной или двум цитатам о. Малиновский подыскал страницу по русскому изданию творений, но другие, напр. цитаты на блаж. Августина, Льва римского, Григория Великого, мог взять лишь в неприкосновенном виде.
Примечание на стр. 258 взято у Мышцына, стр. 102 прим., но цитаты нет.
На 260 стр. оба примечания взяты у того же Мышцына; первое примечание снабжено цитатой, а второе – нет.
§ 95 «О всеобщности искупи тельной жертвы Сына Божия» на стр. 264 начинается пересказом из статьи архим. Евсевия во 2 ч. Прибавлений к творениям свв. отцов за 1844 г., стр. 167, а следующая 265 стр. почти вся представляет документально точное воспроизведение 169 стр. той же статьи; сохранены даже курсивы, но одна цитата из Св. Писания искажена. Стоит (в середине страницы): Евр. 9, 29; нужно Евр. 9, 28; как у Евсевия; тем более, что в 9 гл. посл. к евреям всего 28 стихов. 266 стр. – свободный пересказ из Евсевия стр. 171–173.
Не особенно симпатичное явление можно наблюдать на 274 стр. Здесь излагаются воззрения социниан. Изложение ведётся словами свящ. И. Орфанитского (Историческое изложение догмата об искупительной жертве Господа нашего Иисуса Христа. Москва 1904, стр. 184). В конце этого отдела приведены в трёх строках слова Социна. Эти слова заключены в кавычки и поставлена цитата на Орфанитского, как будто у него взяты лишь эти три строчки.
Стр. 282–284 списаны, но здесь поставлены цитаты.
На стр. 285 слова св. Льва Великого и блаж. Августина приводятся по Макарию (§ 125); из Макария же взяты слова и цитаты во 2-м примеч. на этой же странице. В 3-м прим. слова Августина переведены с латинского текста Макария,
—640—
но цитата искажена, – поставлено: «с. П», а следует: «сар. 11».
В начале стр. 286 и в середине 287 делаются заимствования из сочинения Ф. А. Голубинского – Премудрость Божия в судьбах мира и человека, изд. 3. Москва 1885, стр. 396, 394–395, но книга эта нигде по близости не упомянута.
На стр. 291–292 сделана в размере целой страницы буквальная выписка из диссертации Орфанитского, стр. 184–185, но цитата сочтена излишней. За этой выпиской следует другая, тоже довольно значительная, со стр. 389–390 книги Ф.А. Голубовского и также без всякой цитаты. Из этой же книги, и опять без цитаты, со стр. 399–400 берётся выдержка в конце 295 стр. и в начале 296.
Стр. 299–300 в большей части взяты из статьи архим. Алексия – Прибавления к творениям свв. отцов за 1844 год, ч. 2. стр. 183–184, 188–190.
Половина 308 стр. буквально списана с книги прот. Петропавловского – В защиту христианской веры против неверия, ч. I, вып. 2, Москва 1898, стр. 392–393. Цитаты никакой.
На стр. 310–311 не менее страницы заимствовано из «Курса Богословия» прот. П.Я. Светлова (Киев 1899, стр. 42–43), глухая же ссылка на этот курс затерялась между другими указаниями «литературы» в примечании на 312 стр. Из того же курса (стр. 45–46) есть без всякой цитаты выписка на стр. 316.
Следует немного остановится на § 100.
Сошествие Христа во ад и победа над адом (стр. 316–325).
При написании этого параграфа о. Малиновский своё благосклонное внимание сосредоточил на статье Н. Орлина – Сошествие Господа нашего И. Христа во ад и его проповедь мертвым, – напечатанной в апрельской книжке Православного Обозрения за 1889 год (стр. 744–766). Собственно весь параграф со всеми рассуждениями, выдержками и цитатами представляет лишь сокращение статьи Орлина, при чём наш автор остаётся верен себе и предпочитает списывать буквально. Срвн.
318 стр. Малиновского и 749, 751 Орлина.
Феодор (Бухарев), архим. Исследования Апокалипсиса //Богословский вестник 1914. Т. 2. № 5. С. 241–272 (4-я пагин.). (Продолжение)
—241—
как, по их воплю, посылает грозу на враждебный мир Фимиам, приданный к молитвам Святых для благоприятного приношения их пред Бога, есть благоухание Св. Духа; ибо приношение веры становится совершенно благоприятным Богу не иначе, как быв освящено Духом Святым по вере во Христа (Рим.15:16). Ангелу дано множество такого фимиама для предложения его с молитвами всех Святых на жертвенник пред Самого Бога. Это значит, что некоторые из небесных чистых духов имеют своим служением споспешествовать молитвам Церкви благодатию, нарочито им для сего даруемой, – и именно восполнять ею недостаток в молитвах, очищать их от примеси всякой человеческой нечистоты и т.д. Одна из священных и библейских (хотя не канонических) книг нарицает и имя одного из таких небесных споспешников молитв, воссылаемых Святыми и верующими. Аз есмь Рафаил, един от седми святых Ангел, иже приносят молитвы святых и входят пред славу Святого (Тов.12:15).
Прочие принадлежности явления легко изъясняются из общего смысла. Златая кадильница в руках Ангела, приносящего молитвы Святых, есть духовное и таинственное вместилище, сосредоточивающее в себе молитвы всех верующих, – вместилище, конечно, самой мысли и любви этого бесплотного Служителя Божия. Огнь, на жертвенник спасающей верных Божией любви и есть огнь самой этой любви, – простёртой на верующих и отвращающейся противящихся. Дым фимиама, восходящий пред Бога с молитвами Святых, представляет молитвы верующих в том виде, как они, очищенные и возвышенные чрез св. Ангела, наконец удостаиваются совершенно благоволительного презрения Всесвятого и Всевышнего. Такова тайна явления сама по себе. По образу этого небесного явления устроен тот чин Церкви, что освященные служители Бога и Церкви, как Ангелы предстоящие жертвеннику Божию, возносят молитвы за всех верующих к Богу пред Его престолом и вместе жертвенником. – Какое же, по Апокалипсису частное приложение такой общей тайны духовного мира и Церкви? – Вси Святые, молитва которых с фимиамом благодати вознесены Ангелом на жертвенник, суть без сомнения те верующие, которые должны были терпеть
—242—
от вражды языческого мира или, как нам уже можно и следует точнее и прямее сказать, Греко-Римской Империи: ибо в отношении к судьбам и именно к наказанию этого враждебного мира, Тайнозритель видел Ангела с молитвами Святых. И притом это суть верующие, которые уже терпели озлобление от Греко-Римской Империи языческой в то время, как последовало настоящее откровение: ибо первое явление, по вскрытии печати с книги судеб Божиих по отношению к языческому миру, и было явление седми Ангелов с трубами и иного Ангела с молитвами Святых. А настоящее откровение, которым снималась печать с книги судеб относительно языческого мира, дано к концу царствования Нерона.
Итак под молитвами Святых, в рассматриваемом месте Апокалипсиса, разумеются молитвенные вопли Христовой Церкви того времени, когда на ней отяготел крест Неронова гонения. Отсюда можно угадывать и сам предмет этих молитв: среди ужасов гонения, когда убивали или заточали самых первых из святых Апостолов, когда сады тирана освещались ночью чрез зажжённые тела Святых и проч., свойственно Церкви было вопиять о защите от такой свирепости врага. И вот после сообщения настоящего откровения, спустя то получасовое время, о котором выше уже была речь, т.е. около последних дней жизни и царствования этого тирана, – такие молитвы Святых, при посредстве небесного Служителя, должны были достигнуть того, что Вседержитель принял их с совершенным благоволением и, следовательно, с готовностью ниспослать сам предмет молитвенных желаний – праведное отмщение свирепым врагам Церкви. Так взяте Ангел кадильницу и наполни ю от огня сущаго на алтари, т.е. как выше показано, от огня самой любви Божией, ревнующей за своих возлюбленных, – и поверже на земли: и Быша гласи и громи и блистания и трус.
Гласи и громи и блистания и трус, т.е. «гласы, и громы, и молнии, и землетрясение»: выше безмолвие, пред такой страшной грозой, значило не безмолвие природы пред грозой, а обманчивую тишину государства, при которой сосредоточивалась готовая разразиться гроза; следов. и эти гласы и громы и проч. значат грозу, потрясающую собственно
—243—
также не природу, а государство. Подобным образом выше под образом потрясения неба и земли, представляющего зрелище, по-видимому, наступающей кончины мира (VI, 12 и след.), – выражено собственно окончательное падение Иудейской Теократической национальности и разрушение священных её памятников и учреждений. История совершенно оправдывает такой смысл и настоящего видения относительно Греко-Римского мира. Вот краткий очерк событий последовавших затем, как Нерон среди увеселений Греции слышал о готовом открыться всеобщем неудовольствии. «Вместо того, говорит историк (Лоренц), чтобы осторожностью и кротостью устранить этот взрыв, он сам своими мерами ускорил его». Один из отличнейших военачальников того времени и правитель Испании (Гальба), узнав, что Нерон осудил его на смерть, отказал ему в повиновении: в то же время другой правитель провинции (Юлий Виндекс) поднял знамя бунта, а Галлии; к сему последнему присоединился и третий – правитель Лузитании (Отон). Открылась было междоусобная война. Между тем и преторианская гвардия в Риме, оставила тирана. Наконец, и сам Сенат возвысил свой голос против Нерона, объявив его врагом отечества. Нерон сам себя лишил жизни, а с ним прекратился царственный дом Цезарев. Потрясение коснулось и Востока, потому что по поводу сих событий – Веспасиан, средь успехов и побед Римского оружия, должен был остановить военные действия против мятежных Иудеев. – Так грозой сих событий поражена была не только глава Греко-Римского языческого мира, вооружившегося против христианской Церкви государственной властью, но и потрясён был весь состав сего мира – не только в средоточии – в Риме, но и в важнейших составных частях – Испании, Галлии и самого Востока. С прекращением царственного дома престол оставался в жертву новых смятений. Так над сим миром были «гласы, громы, молнии и землетрясение». История засвидетельствовала это; а Тайнозритель ещё прежде этих событий – видел и сами события, сверх того раскрыл и саму основную тайну их, не примечаемую мудростью мирской. Вся гроза произошла вследствие того, что Ангел, вознесший молитвы Святых с фимиамом на прене-
—244—
бесный мысленный жертвенник пред Бога; – огонь с сего же самого жертвенника поверг на землю. Вот от чего гонитель Церкви, который сам сознавал всю беспримерность своего самовластия и свирепого произвола, которому раболепствовал Сенат и рукоплескал народ, за которого были Римские легионы, – единственный в царственном роду, всеми признанном и своё имя Цезаря завещавшим и последующим за ним властителям, – вдруг поражается властями о повсюдном против себя мятеже, всеми оставляется и спешит предотвратить дальнейшую народную месть самоубийством…
Это праведное отмщение враждебным язычникам, по молитвам Святых, было только началом суда Божия над языческим миром, и, следовательно, открывало поприще и для служения седми Ангелов, уже получивших назначение действовать при совершении сего суда Божия. И седмь Ангелов, иже имеяху седмь труб, уготовашася, да вострубят (ст. 6). Итак, сама Церковь, за которую и для которой имел совершать суд Божий над (всемирно почти для того времени) Греко-Римской Империей язычества, – должна была своими молитвами дать повод к открытию сего суда. –
Рассмотрим теперь и сами явления, в которых представляется этот суд над язычеством, обличённым в беспримерное государственное могущество.
И первому Ангелу вострубившему, бысть град и огнь, смешены с кровью, и падоша на землю; и третья часть древа погоре, и всяка трава злачная погоре (7 ст.).
Нужно здесь, прежде всего, решить: в каком смысле, собственном или иносказательном, должно понимать явление такой казни над землёй, равно как и явление трёх последующих казней над морем, над реками и источниками водными и над небесными светилами? Сама физическая неудобоприложимость таких напр., явлений, каковы погорение всей земной травы, обращение третьей части моря в кровь, и совершенная неуместность в физическом мире такого явления, как падение горящей подобно светильнику звезды, именуемой полынь, на третью часть рек и источников, показывают уже, что такие явления здесь имеют значение не собственное, а иносказательное. Что касается
—245—
до светил небесных, – то солнце и по уязвлении или омрачении третьей своей части, ниже представляется напротив до чрезвычайности палящим человеков своим жаром (XVI, 8–9); а выше светила небесные уже были на таинственном зрелище – именно в смысле иносказательном (VI, 12–13). Наконец самое настоящее зрелище казней открылось тишиной, сменившейся потом громами и молниями и проч. не в природе, а в государственных событиях Греко-Римского язычества, какой смысл оправдывается и самими событиями. След. и продолжающиеся в том же роде явления, как град, огнь и проч. должны иметь также символическое значение по отношению к состоянию той же Греко-Римской языческой Империи. А что открываемые тайны облекаются в образы и символы, это во 1-х согласно с таинственностью настоящей книги: ибо, сколько доселе мы рассмотрели эту книгу – постоянно почти встречались с символами, будем постоянно встречаться и после; во 2-х, это не противоречит и духовному прямому откровению истины в Новом Завете; ибо существо благодати и истины в настоящем зрелище, и в предыдущих, открыто прямо и совершенно, как есть. В первом, напр., видении Христос явился не в образе кого-либо, но Сам в собственном лице (1 гл.); равно Трисвятый Вседержитель и Агнец зримы Тайнозрителем и в откровении его изображены так, что истина Триединого Божества или искупительной жертвы – открыта (4 и 5 гл.). В том и другом случае символические очертания употреблены к раскрытию только того, что иначе оставалось бы для нас, в нашем настоящем состоянии, непредставимо и неизобразимо. Тоже и в настоящем видении: духовные силы, действующие на мир по мановению Вседержителя, – это внутреннейшие пружины судеб мира, – явлены в собственном их существе и духовных личностях. При открытии существа дела, символы оказываются точно, как тропы или образы, употребляемые обыкновенно и в простой не загадочной речи: а в своей многосложности, они подобны новозаветным Христовым притчам, в которых существенное (именно Царство Божие, в котором Царём Христос) достаточно обозначается.
—246—
Итак, в явлениях мира физического, каковы суша с растениями, море, реки, светила небесные, – Тайнозритель созерцал собственно нравственный мир в Греко-Римской Империи. Раскроем теперь их значение, и для того вникнем в самое основание такого воззрения на видимую природу. Первоначальное основание к созерцанию в предметах мира физического тайн мира нравственного положено в самом тварном существе мира физического, по отношению к нравственным созданиям. В существе своём, мир физический есть осуществление творческих мыслей, произведённое Зиждительным Словом и запечатленное совершительным презрением благодати Животворящего Духа. Отсюда все предметы и явления мира физического, кроме внешней или наглядной своей стороны, для чистого созерцания нравственных существ открывают ещё внутреннейшую умозрительную сторону, которую оплотяневшее око нашего ума может опускать из виду, но которая открыта для чистого духовного ока, для ума и духа в нормальном состоянии.
Для убеждения в этом возьмём во внимание райскую нормальную жизнь первых людей, и посмотрим, что была для них видимая природа в тех своих частях, в которых она имела к ним ближайшее отношение. Они были поставлены на избранной части земли или в Едеме с тем, чтобы возделывать и хранить его. Но возделывая и храня Едемский сад, в котором каждое явление являлось благодатно-понятным для них выражением осуществлённой в нём Творческой мысли, прародители наши в то же время и чрез это самое внешнее делание, возделывали и блюли внутренний рай своей Богоподобной жизни: в особенности же древа познания и жизни выражали в себе для людей; первое: Божественный закон, другое – Богодарованные права или благодатные преимущества духовно-нравственной жизни. Итак, эта избранная часть земли, назначенная для обитания первых людей, со своей райской зеленью и деревами указывали людям, определённое поприще и твёрдый порядок свободно-разумной их жизни. Также пользуясь водами Едемского источника, разделившимся в своём течении на четыре реки и, притом духовно-раумевая и ощущая тайну устроения этих
—247—
вод Зиждительным Словом и совершения их благодатным призрением Св. Духа, – чрез такое употребление вод Едемских первые люди освежались и ободрялись, очевидно, не физической только или телесной жизни, но и в жизни своего духа, жившего дыханием Божиим. Следов. воды Едемского источника и его рек были для первых людей благопотребной и благотворной стихией самой духовной их жизни, – символом и даже как бы средой живой воды или благодатных влияний Духа истины, утешения, святыни. Столько же несомненно и то, что в первобытном состоянии люди, взирая на солнце и другие светила небесные чувственными очами, в тоже время прозирали и ощущали в них осуществление Божественной мысли Зиждительным Словом и запечатление их призрением благодати Божией. Посему озаряясь отвне чувственным светом небесных светил, они, чрез само внимание к этому, уже духовно просвещались мысленным светом Зиждительного Слова и благодати Духа. Воздухообразное движение над землёй хаотического вещества, по созерцанию Бытописателя, так проникнуто было дуновением дыхания уст Божиих, что мысль об этом дуновении выражена общим названием Дух Божий (Быт. I, 2): в движущемся, или покоящемся воздухе первобытным чистым людям духовно-ощутительно было и веяние или успокоение на всём сущем самого Духа Божия, Которым эти люди живились и духовно дышали в сопутствии физического своего дыхания1698. Так в начале просто и естественно было созерцать и ощущать в предметах и явлениях видимой природы разные стороны и принадлежности человеческой свободно-разумной жизни.
Из открытого основания, по которому видима природа для чистого взора духовного, должна быть столько же чистым зеркалом духовной человеческой жизни, уже почти уяснилось значение главных символов Апокалипсического видения, с изъяснением которых удобно определить значение и остальных символических предметов в этом
—248—
видении. Так выше раскрыто значение земли с травой и деревьями, воды в источниках и реках, солнца и других небесных светил. Но духовное значение этих предметов природы показано в отношении к Едемской жизни первых людей1699; а Тайнозритель созерцал в явлениях природы тайны состояний и судеб человечества и мира, уже возле лежащего. Здесь духовно благодатное, знаменуемое природой для жителей Едема, по необходимости заменяется естественно-мирским, в котором содержатся разве только остатки и следы или начатки духовно-благодатного. Так. обр. небесные светила, которые своим светом внушали прародителям мысль о духовно-благодатном просвещении, о свете разумения истины, по отношению к миру и людям в настоящем состоянии знаменуют не более, как только вообще светочи просвещения, просвещённый или просвещаемый образ мыслей и сами начала просвещения1700. Воздух означает само направление и стремление общественного духа, движущее людей и целые народы1701. Вода источниковая и речная, которая некогда в раю составляла благодатно-обновительную стихию для самого человеческого духа, теперь знаменует не иное что, как ту стихию нынешней человеческой жизни, которая служит к освежению и оживлению общественного и вообще человеческого духа, к одобрению и освежению нашей частной и общественной жизни. Сюда относится всё, к чему направлены общественный вкус и так называемые эстетические наклонности наши, – все, в чём обыкновенно полагается и большей частью людей ищется освежительное и ободрительное услаждение жизни: всё это есть своего рода вода для утоления
—249—
неотступной жажды человеческой в земном быте1702. Земля с зеленью и деревами, которая в избранной своей части, в Едеме, открывала определённое от Бога поприще и порядок духовно-нравственной человеческой жизни, – по отношении к жизни людей, в настоящем их состоянии, означает всё земное многосложное устройство этой жизни, как то: общественные порядки и должности, гражданские законы и права и т.п.1703. Из соображения с этими изъяснёнными символами удобно понять значение и прочих, взятых из видимой природы, символов; ибо последние находятся во внутренней связи с первыми. Итак, будем следить Апокалипсическое явление казней, какие назначались языческому миру, и именно, как из событий уже нам известно, Греко-Римскому языческому миру, и заранее были прозираемы Тайнозрителем в образе явлений видимой природы1704.
И первому Ангелу вострубившему бысть град и огнь, смешен с кровью, и падоша на землю; и третья часть древа погорит, и всякая трава злачная погоре. Земля, как выше показано, должна означать вообще земные порядки или вообще благоустройство и в настоящем месте благоустройство именно Греко-Римского мира. Посему древа на такой земле суть наиболее важные и плодотворные отрасли этого устройства; а трава злачная или зелёная знаменует не столь важные, зато более общие или облегчительные для обитате-
—250—
лей земли обычаи, учреждения и постановления. Град и огнь суть явления по отношению к земле опустошительные и истребительные: след. по отношению к благоустройству Греко-Римской Империи указывают на общественные и частные бедствия, имевшие производить вообще расстройство в общественном организме. Град в особенности, состоя из отвердевших чрез замерзание дождевых капель, которые сами по себе назначаются для растительного царства, даёт применить в своём образе указание на твёрдые меры в Империи, имевшие, однако послужить не к развитию государственного устройства, но в тягость и вред государству; а огнь, стихия поядающая всякое сгораемое вещество, есть символ ярости, ищущей только пищи для себя. Смешение града и огня с кровью есть само по себе понятное знамение того, что означенные бедствия имели быть соединены с кровопролитием. По изъяснению частных понятий, общий смысл всего явления этой казни оказывается ясным. За выше провидённым и нами уже разъяснённым (VIII, 5) государственным потрясением, соединённым со смертью первого неистового гонителя христиан (Нерона), первый небесный Служитель суда Божия над язычниками в таинственной для нас области духовного мира имел подать действенный знак: и в силу этого должны были открыться в Римской Империи действия весьма вредные и опасные для всего её благоустройства. Таковы бедствия: отчасти твёрдые и строгие правительственные меры, которые должны были бы служить к развитию и утверждению порядка, но которые в действительности обратятся в тягость и вред Империи, отчасти же произведут огненно-разрушительные движения: всё это имело сопровождаться кровопролитиями. От сих бедствий наиболее плодоносные и важные отрасли благоустройства в Греко-Римском мире уменьшатся или ослабятся целой третью против прежнего; наиболее же общие и облегчительные учреждения и обычаи совсем утратят свою силу.
В таком точно состоянии и была Империя в первое время по смерти Нерона. После него в императорское достоинство избран был войском и утверждён Сенатом Гальба, один из военачальников. Он отказал войску в унизительной для власти денежной награде за своё избрание, прекратил разрушительные для государства обществен-
—251—
ные игры и увеселения, усиливавшиеся особенно при Нероне, приготовил себе и достойного приемника, «человека незапятнанного поведения и происходившего из древней фамилии»1705. – Такие меры сами по себе, казалось, должны были благоприятствовать утверждению и сохранению порядка в государстве. Но случилось, что по поводу этих самых правительственных мер, народ и войско возненавидели Императора и его наследника: пользуясь этим, военачальник Отон возмутился и был провозглашён Императором от войска. Гальба, поцарствовав не более полугода, первый подвергся ярости мятежников, за ним нашли свою смерть и избранный его наследник, и приверженцы последнего. Но прежде, нежели Отон провозглашён был Императором в Риме, Германские легионы уже избрали в Императора своего главнокомандующего Вителлия, и выступили в поход против Италии. Открылось кровопролитное междоусобие: Отон был разбит и погиб. Между тем и Вителлию, войсками провозглашённому Императором, противопоставлен был от других войск новый Император Веспасиан. Благоразумное и, по-видимому, благопотребное к умирению государства отречение Вителлия от императорского достоинства дало только повод к кровопролитной битве в самом Риме. Приверженцы Вителлия в своей ярости доходили до исступления: но и сами после произведённых ими кровопролитий и пожара, были побиты приверженцами Веспасиана. – Сам Вителлий был умерщвлён. – Утвердясь на престоле, Веспасиан, правда, умел восстановить и поддержать достоинство Верховной власти против своеволия и насилий войска, грозивших коренным расстройством государству; но опасная тайна, что Император мог быть избран вне Рима и что выбор его зависит от армии, была уже открыта и следов. главнейшие опоры государственного благоустройства были уже поколеблены и ослаблены. Кроме того Веспасиан для пополнения государственных сокровищниц, которые он нашёл пустыми, отнимал у целых областей дарованные им прежде права
—252—
свободы; также частью возвышал старые налоги, частью установил новые к великому отягощению народа. «Он возобновил, пишет о Веспасиане Светоний (Vesp. Cap. 16), пошлины, оставленные в правление Гальбы, присовокупил к ним новые и тяжёлые налоги, умножил подати с провинций и даже вдвое более требовал с некоторых из провинций… старался продавать отличия даже недостойным, или решения дел подсудимым как правым, так и виноватым». К таким то результатам привели в государстве гибельные общественные бедствия, от которых погибли три Императора со своими приверженцами, и притом в продолжение не более одного года с половиной (от Нерона до Веспасиана). Так действительно вдруг пали на землю государства град и огнь смешен с кровью: важнейшие отрасли и опоры государственного устройства значительно ослабились, а трава злачная – разумеем облегчительные и общественные учреждения и права – вся погорела. Вот первое явление Христова суда над восставшим против христианства языческим миром, какое последовало после смерти гонителя Нерона, и которое ещё при жизни Нерона прозирал, восхищённый в области видений, возлюбленный ученик Христа Иоанн.
И вторый Ангел воструби, и яко гора велика огнем жегома ввержена бысть в море; и бысть третья часть моря кровь; и умре третья часть созданий сущих в море, имущих души, и третья часть кораблей погибе (ст. 8). Гора, которая есть возвышенность собственно земли, по известному уже значению этой последней, знаменует некоторую особенно высокую или гордостью превозносимую область или власть государственную; гора велика последней своей чертой, т.е. величием усиливает мысль о государственной возвышенности, о горделивом превозношении; гора огнем жегома или «пылающая» этой новой символической чертой указывает на открывшиеся в самой горе действия и порывы губительной или карательной силы, ищущей только жертв. Слово гора в смысле мирского величия и горделивого превозношения употребляется в книгах пророческих (напр. Ис.2:12–14). Море будучи с одной стороны независимо от твёрдой земли и движимо случайными ветрами, но с другой не выступая в своих движениях и волнениях из пре-
—253—
делов, полагаемых для него твёрдой землёй; – есть, посему, в отношении к земному благоустройству или порядкам в государстве выразительный образ самой общественной жизни, постоянно движущейся, – хотя в пределах государственного порядка, – но собственно от духа времени, от случайных обстоятельств, от произвола вождей народных и самого народа и тому подобного. По такому внутреннему соответствию и связи явлений природы с нравственными явлениями, Ангелы получившие под своё хранение и расположение воду или воздух, с тем вместе управляют и знаменуемыми той или другой стихией областями мира нравственного или общества. Так и пророк Даниил, тайнозритель Церкви Ветхозаветной, видел море государственной жизни, из которого выходили разные гражданские преобладания язычников над избранным народом (Дан. VII, 2–3 сл. 17 и д.). Житейские блага и выгоды, составляющие внешнее общественное довольство, находятся в необходимой связи с движениями и видоизменениями общественной жизни, то умножаясь и разносясь всюду при тишине и благосостоянии этого моря, то терпя крушения от его волнений и бурь; в этом и состоит значение символа кораблей. Создания сущие в море, имущие души, или морские животные означают по отношению к морю общественной жизни всё, что в недрах этой подвижной стихии является или делается с одушевлением, с силой, с могущественным влиянием. Так в вышеуказанном видении Даниила преобладающие в мире царства явились в образе морских чудовищ (7 гл.). Кровь, какой оказалась третья часть моря, сама собой даёт мысль о кровавых последствиях низвержения горы в море. Наконец, само это низвержение пылающей горы в море, по известному уже значению той и другой, выражает то, что общественная жизнь имела быть возмущена вторгшимися в её недра губительными явлениями над особенно важной политической областью, или губительными действиями чрезвычайно горделивой правительственной силы или власти. Итак, общее значение второй казни над языческим враждебным христианству миром таково! По действительному, хотя и неприметному для земнородных, знаку второго небесного Служителя суда Христова над язычеством, обще-
—254—
ственной жизни в Римской Империи имела быть кровавым образом возмущена губительными явлениями в особенно важной государственной области, или карательными действиями горделивой власти; – от чего значительно, и именно на целую треть, должна была ослабиться одушевлённая бодрость (энергия) и уменьшиться довольство в общественной жизни.
Как точно исполнилось и это видение Тайнозрителя, для очевидного удостоверения в этом довольно прочитать только историю следующих за Веспасиановым правлением двух царствований его детей – Тита и Домициана. При всей личной доблести первого, кратковременное его правление поразительно ознаменовалось многими губительными действиями, постигшими именно Рим – главу и средоточие всей Империи, и вообще Италию – коренную и господственную область государства. К числу этих общественных бедствий, принадлежит извержение Везувия, засыпавшее Геркулан и Помпею (буквальное осуществление страшного явления пылающей горы!), язва и большой пожар в Риме. Понятное дело, что такими бедствиями и общественное довольство уменьшалось, и народный дух ослаблялся в бодрости. Человеколюбивая энергия и сама жизнь Тита скоро истощились: он умер, царствовав не более двух лет (79–81). Преемник его Домициан, по свидетельству Истории, соединил в себе все пороки развратнейших из прежних Императоров; расточительность побуждала его к жестокости против богатых, жестокость вела к страху подвергнуться мщению оскорблённых и страх – беспрестанно к новым казням. Но отличительной чертой его характера была безмерная гордость, которая выражалась в его лице, походке и голосе, он выказал её, приняв первый из Императоров титул Dominus et Deus («Господь и Бог»). По гордости своей он был врагом всех отличавшихся талантами и славными делами. Так он вызвал из Британии и отравил славного победителя Бриттов (Юлия Агриколу). По смерти его, жестокость тирана не находила более пределов… Супруге его Димиции случайно попался в руки список лиц, назначенных к смерти. Она сама находилась в числе жертв, вместе со многими другими пользовавшимися его доверенностью… Всё это говорим сло-
—255—
вами Истории (Лоренца см. стр. 43–46). Столь кровавым образом была возмущена общественная жизнь чрез эту пылающую гору, вторгшуюся в её недра, чрез губительные извержения этого нравственного Везувия, подобные опустошительным только что бывшим пред этим физическим извержениям этой огнедышащей горы. Можно судить об упадке народного духа и довольство в такое царствование, тем более, что сами варвары, оставив своё оборонительное положение, при Домициане в первый раз начали действовать наступательно и столь горделивый властитель вынужден был покупать у них мир, обещаясь платить ежегодную дань (именно Дакийцам). Вот и второе явление суда Христова над язычеством, приведённое Тайнозрителем во всех характеристических чертах своих!
Изъяснив значение моря и земли с её произрастениями, прежде, нежели простремся вперёд к рассмотрению следующих действий суда над язычниками, – мы можем и должны теперь дополнить изъяснение некоторых расположений милости Божией собственно к христианам, выше-изображённых Тайнозрителем. Рассматривая предшествующую главу, мы видели, что Ангел, имеющий печать Бога Живаго, удерживал четыре других Ангелов от вредоносных действий на море и землю с её произрастениями, пока не будут запечатлены избранные: не вредите ни земли, ни моря, ни древес, Дóндеже запечатлеем рабы Бога нашего на челех их (VII, 3). Мы указали тогда общий смысл этого воззвания: само наказание язычников останавливается настолько, насколько это нужно для запечатления рабов Божиих или для благодатного утверждения и ограждения распространяющейся Христовой Церкви. Но притом, мы заметили, что не иначе как по изъяснении казней в отношении к морю, земле и деревам (т.е. по изъяснении ст. 7–9 к 8 г.) вполне раскроется значение и этой милости Божией к христианам – замедления или умерения ради них казней и над самими язычниками. Теперь, действительно, уже само собой объясняется эта милость Божия к христианству, чтобы не вредить ни земли, ни морю, ни деревам, Дóндеже запечатлеются рабы Божии. Это значит, что для благодатного утверждения и ограждения распространявшейся
—256—
Христовой Церкви имело быть задержано или остановлено в Римской Империи, во-первых, расстройство государственного организма и особенно важнейших отраслей гражданского порядка (ибо таковое раскрытое уже нами значение как земли и древес, так и вреда для них); – во-вторых, остановлены сильные возмущения общественной жизни, чрез беспорядочных правителей, или губительные общественные бедствия (ибо таково известное уже нам значение моря и вредных влияний на это море). Из видений Тайнозрителя можно в достаточном свете усмотреть и то, к какому именно времени надобно относить такую милость к христианам. Св. Тайнозритель – Ап. Иоанн, начав (в 7 гл.) изображение виденной им светлой области благоволения Божия к христианам, поставляет открытие этой области в такой связи с вышеизображённым у него судом Божиим над Иудейством: и по сем видех четыре Ангелы и проч. Отсюда видно, что изображённое им в VII гл. благоволение и покровительство Божие к христианской Церкви долженствовало открываться в событиях, следующих уже после разрушения Иерусалима. Впрочем, Ангельское воззвание: ни вредите ни земли, ни моря и проч. слышал Иоанн не тотчас вслед за казнями Иудеев, но уже после того, как четырём Ангелам дано было вредить земле и морю и как затем ещё иной Ангел начал шествие от Востока с печатью Бога Живаго (VII, 2). Итак, эта милость Божия, чтобы не вредить ни земле, ни морю, по показанию 7-й главы, относится ко времени, следующему спустя несколько после разрушения Иерусалима. В видении суда Божия над язычниками, нами теперь следимом (8 г.), определённое обозначается время для открытия этой Божественной милости, простёртой для блага христиан и на языческий мир. Первые два явления суда Божия, нами рассмотренные, поражают именно землю и море, которые щадятся от вреда, объявленного от Ангела, имеющего печать Бога Живаго, щедродаровитостью Божией к избранным Его рабам. Очевидно, что такая щедродаровитость в отношении к морю и земле с её произрастениями, не могла иметь ни какого места во время самих этих явлений наказательного суда Божия над землёй и морем, по прямой противоположности своей последним. Следующие же два яв-
—257—
ления суда Божия над язычниками ни мало не касаются своими карательными действиями ни моря, ни земли с её растениями (см. VIII, 10–12); между тем как дальнейшие три своим тройственным горем угрожают живущим на земли (13 ст.). Ясно, что, в такой судьбе языческого мира, пощадение земли и моря нельзя относить и к сим последним, карательным для живущих на земли, трём явлениям суда Божия над языческим миром. И таким образом эта милость Божия относится не к иному времени, как к продолжению следующих за первыми и нами уже рассмотренными двумя явлениями суда Божия над язычниками, – также двух явлений этого суда, которые нам надлежит рассматривать, – в которых земли и море, действительно, оставлены в неприкосновенном покое (см. VIII, 10–12).
События в Римской Империи, следовавшие за царствованиями разрушившего Иерусалим Тита и брата его Домициана, оправдывают сделанное соображение о времени осуществления показанной милости Божией и окончательно изъясняют пророчественное видение этой милости чрез само исполнение пророчества; равно как и сами получают из откровения Иоаннова потребный к собственному их уяснению свет. «Убийцы Домициана, как читаем в Истории (Лоренца стр. 36 и 37) – провозгласили Императором М. Кокцея Нерву. С него начинается для Римского государства время, которое многие считают счастливой эпохой во Всемирной Истории… Прекраснейшие добродетели являются одна за другой на троне Империи: сердечная доброта с Нервой, величие души с Траяном, любовь к наукам и искусствам с Адрианом, кротость с Антонином Пием и, наконец, философия с Марком Аврелием». Этим, конечно, не совершенно исключались общественные бедствия и неудачи, случавшиеся и в сём периоде, но, тем не менее, как земля государственного устройства, так и море общественной жизни представляют увлекательный вид: «Во втором веке христианской эры, говорит Гиббон, Рим владычествовал над лучшими странами мира и образованнейшие народы сделались его подданными. Длинный ряд побед, мужество и дисциплина войска охраняли границы огромной Империи; влияние Римских законов и нравов
—258—
скрепляли провинции, а в самом мире сохранились предания старых учреждений. Более осьмидесяти лет управляли Римом ум и добродетели Траяна, Адриана, двух Антонинов». Впрочем, и при всём увлечении таким блеском государственного благоустройства и счастьем общественной жизни в это время, История видит, что это есть только остановка и замедление расстройства и истощения жизненных сил в государстве, как то показано и в откровении Иоанновом. «Всё, относящееся к внешней жизни, теперь не более развито, как было тогда, и то, что называют цивилизацией, достигло в те дни высшей степени совершенства; но, не смотря на то и лучшие правители не в силах были отвратить судьбу государства; они могли поддержать в нём порядок и спокойствие, но не возродить его к новой жизни… Врачебное искусство и строгая диета могут ещё продлить болезненное существование старца, но не в состоянии возвратить телу потерянные соки и нервам их мужественную силу и гибкость». Вникая в значение этой необыкновенной эпохи историк, правда, не останавливается только на этих одних блестящих сторонах государства, т.е. на этой земле – государственного благоустройства и море – общественной спокойной жизни, но примечает и другие, вовсе не отрадные стороны Империи. «Хотя, говорит он всё о том же времени, хотя главами государства являлись превосходнейшие Императоры, хотя при них находились первые в свете юристы, отменнейшие генералы и искуснейшие политики, хотя в их расположении находились армии, которых в дисциплине, мужестве и военном духе не превосходило никакое другое войско; однако, несмотря на то, всё видимо клонилось к падению и лучи древнего блеска один за другим угасали… Эгоизм и низкий образ мыслей заступили место прежнего патриотизма». Но при такой проницательности тот же историк сам проговаривается, что эта счастливая эпоха не вяжется ни с предыдущим, ни с последующим в судьбах Империи, как будто излишняя в ряду сих судеб. «Хорошие Императоры могли обезопасить счастье своего времени, но будущее оставляли на произвол судьбы, и этим объясняется, почему время от Нервы до Коммода прошло без всякого сильного действия на государство. Коммод мог начать там, где ос-
—259—
тановился Домициан, как будто почти не существовал столетний промежуток благодетельных и славных правлений». – Какой же, в самом деле, смысл и назначение этого загадочного или отступающего из естественного порядка вещей, столь продолжительного, однако же, щадения или охранения государственного устройства и общественной жизни! Где скрывается начало и причина для такого счастливого сочетания личных достоинств целого ряда Императоров, высоких талантов государственных людей, благоприятных обстоятельств на целое столетие, в столь глубоко уже повреждённом государстве? – Эту тайну, которой не усматривают историки в совершившихся уже судьбах Римской Империи, Тайнозритель узнал и открыл ещё прежде самих событий. Он слышал, что небесный Служитель благодатного утверждения и ограждения распространявшейся Христовой Церкви возвестил другим небесным Служителям суда Божия над устройством и общественной жизнью язычествующей Римской Империи такое Божественное определение: не вредите ни земли, ни моря, ни древес; Дóндеже запечатлеем рабы Бога нашего. Дело ограждения, и утверждения Церкви подобающим чином благодати требовало для своего выполнения и упрочения не иначе, как общественного мира и благоустройства Империи, в которой распространялась Церковь. Ибо гонения против самой Церкви со стороны Империи открывали только доблесть верных чад первой и внутреннюю несостоятельность язычества в последней, но волнения и беспорядки общественной жизни, расстройство и распадение организма Империи не давали бы церковному порядку облагоустроиться и церковной жизни воспрять правильное течение – при повсюдном распространении в Империи юной христианской Церкви. Это, тем более что св. Апостолы, хотя преподали благодатные начала и основные правила слова Божия, по которым должно было образоваться церковное благоустройство и могла воспрять подобающий чин вся церковная жизнь; но раскрывать эти Божественные начала, применять эти правила слова Божия ко всем разнообразным потребностям церковным представлено самой Церкви, Апостолы же к тому времени уже все имели разрешиться от уз тела и настоящей жизни. Могли бы в единстве и с прочностью развиваться и
—260—
образовываться организм вселенской Церкви, как Новый Израиль, стройно разделённый по своему благодатному порядку на свои духовные колена, или на свои отделы, – мог ли так устраиваться во всех местах и у разных племен – среди распадения и нестроений самой вселенной, среди волнений и бурь общественной жизни в Империи. И вот Господь Бог Вседержитель и Глава Церкви определяет быть общественному спокойствию и благоустройству вселенной в глубоко уже повреждённой и потрясённой Империи – на всё продолжение времени, пока совершится благодатное дело утверждения и ограждения церковного тела подобающим чином во всех частях и потребностях церковной жизни. И действительно, вселенская Церковь уже в этом втором веке представляет прекрасное зрелище стройного организма, – со своими Иерархами, взаимно и иногда соборно сносящимися в устроении дел церковных, с согласным повсюду употреблением и хранением таинственных способов благодатной жизни, с едиными у всех священными книгами – источниками Божественной истины; а некоторые из честных церквей, и именно Александрийская и Римская являются уже с утвердившимися духовно-благодатным авторитетом наиболее важных церковных отделов, как открытые следы Ангела шествовавшего с утверждающей во Христе печатью Бога Живаго, от Востока к Западу, из Азии в Европу и Африку1706. – Итак, вот смысл, основание и назначение славных царствований Императоров от Нервы до Марка Аврелия; они потребны были собственно для спасительных целей Царства Христова, последовали по нарочитому распоряжению небесных сил, составляли или прославляли милость Божию собственно к христианам, покровительство именно христианской Церкви. И в самом деле, в тех сторонах языческой жизни, которых охранение не было нужно и благодетельно для Церкви, суд Божий над языческой Империей продолжал совершаться без остановки, как видел Тайнозритель, – какие видения и продолжим мы следить испытующим вниманием.
Так вслед за вторым Ангелом и третий Ангел воструби, паде с небес звезда велика, яко свеща, и
—261—
паде на третию часть рек и на источники водныя. И имя звезды глаголется апсинвось (полынь); и бысть третия часть вод яко полынь; и мнози от человек умроша от вод, яко горьки Быша (10–11). Здесь частные понятия или изъяснены уже, или сами по себе удобопонятны. Звезда велика, горящи яко свеща, по известному уже нам значению светил небесных, как выразительного по своему существу символа просвещения или образованности мира в настоящем случае мира особенно языческого, указывает на некоторый частный (специальный) хотя и значительный отдел этого просвещения, и именно такой, которого задача есть служить к изысканию и уяснению скрытного, к обличению тёмного, подобно возжённому светильнику. Падение такой звезды с неба, по известному также знаменованию сим последним благодатного Царства Христова или Церкви христианской, выражает, что в означенном отделе языческого просвещения светлые начала занесены или ниспали в языческий мир из области христианства. Именование звезды полынь указывает на открытие или уяснение её светом истин горьких, предметов или обстоятельств печальных, действительности скорбной. Вода источниковая и речная, как было показано нами в своём месте, знаменует ту стихию общественной жизни, которая служит к освежению и оживлению общественного и вообще человеческого духа. К составу этой стихии относятся, как и о том уже была речь, выражаемые в общественном мнении и нравах понятия о добре и счастье, об истине, обо всём таком, да и сами выражения всего такого, чего дух человеческий жаждет как живой воды. Обращение третьей части воды в горечь полыни, по влиянию падшей на неё означенной звезды, могло произойти двояким образом: как сами служители указанного выше отдела просвещения, обличительным светом последнего озарив превратные нравственные понятия и испорченные нравы, должны были от этого преисполняться горечью, так, по обличении низости и мерзости испорченных нравов и понятий, держащиеся оных должны были пить горечь вод, по символическому значению последних, надобно понимать также не в собственном смысле, а по отношению к жи-
—262—
вым стремлениям и потребностям духа человеческого и общественного. Когда человек от показанной выше горечи предаётся безнадёжью или ожесточается против людей, – то вот и смерть его от горечи вод. – По раскрытии частных понятий, общий смысл всего явления выходит такой: по действию третьего небесного Служителя суда Божия над язычеством, тот отдел современного языческого просвещения, которого задача уяснить скрытое и обличить тёмное и в который потребный для сего свет ниспал из области христианства, – стал провозвестником горьких истин, обличителем плачевных сторон действительности. И влияние такой полынной горечи этой яркой звезды, горящей подобно светильнику, пало на ту стихию общественной жизни, которой утолял свою нравственную жажду общественный или вообще человеческий дух. И что же вышло от сюда? Как сами служители этого рода просвещения исполнились горечью, подавляющей сладость и самых чистых понятий и нравов; так и увлекавшиеся сими превратными понятиями и нравами должны были пить горечь неотразимого сознания своей низости, возмущающую их беспечность среди самих удовольствий. Почему многие или предались убийственному унынию, или ожесточению против существующего порядка вещей. Обращаясь к общественному состоянию в период, начинающейся Нервой или Траяном, находим в самой действительности показанное явление Христова суда над язычеством. Оно выразилось яснее всего в литературе того времени, именно в том её отделе, который или светом истории уясняет предметы или с поэтическим огнём входит в современное состояние общества, и который имел сильное влияние на общественный дух своего времени. Главное направление этого отдела литературы, который имеем в виду, – это есть внимание к духовным потребностям и нравственным обязанностям человека, возбуждаемое с силой именно христианством, – обнажение глубокой духовной порчи в мире современном, приведённой в ясное сознание опять христианством, и вследствие того и другого внутреннее недовольство, горькие противоречия внутренних требований с действительностью. – Сюда относятся исторические сочине-
—263—
ния Тацита. Вот его характеристика (из Лоренца 61 стр. и след.): «Он с горечью видел раболепную покорность Римлян, и чем более чувствовал себя в противоречии с настоящим порядком вещей, тем более должен был изливать в своих сочинениях негодование на всеобщий разврат. По отношению к изображаемым в его летописи Императорам справедливо сравнивают Тацита с карой, следующей за преступлением. В таком же духе писал он даже и о варварском народе, находившегося ещё в естественном состоянии, он хотел поставить как бы зеркало пред испорченной жизнью Римлян. И жизнеописание, бывшего жертвой Домициановой гордости, Римского полководца (Агриколы) представляет противоположность всеобщей испорченности нравов, показывая Римлянина, среди разврата современников сохранившего древний народный характер. Но надобно заметить, что этот знаменитый писатель века Траянова такое своё направление получил главным образом от философии Сенеки, на мысли которой влияние христианского нравоучения, несомненно. – Написанное в правление также Траяново другим учёным (Флором), обозрение Римской Империи противопоставляет современному состоянию Империи славу и благосостояние древней Римской республики. – Из поэтов Анний Лукан избрал предметом своего творения междоусобную войну между Цезарем и Помпеем с той именно целью (скажем словами опять Лоренца), чтобы в стихах высказать истины, которых не смел говорить в прозе. Его римский дух, благородное презрение ко всему низкому и смелые нравоучения часто возвышают его поэму больше, нежели самая живая фантазия. Такое направление тем резче высказывается в сатириках. Персий со строгой важностью открывает первые причины разврата и без пощады порицает ложное направление поэзии, философии, религии и нравственности. Ювенал изображает в подробностях и раскрывает до наготы порки общества. Даже и принимающие участие в развратной вольности современников, осмеивают оную, как Петроний. По самой всеобщей испорченности нравов, тогда подлинно горькое удовольствие в собирании всего, что было говорено худого о значительных и должностных
—264—
лицах, составляли ежедневные записки о подобных толках и во множестве списков рассылали по провинциям. – Видно, что это горькое сознание нравственной глубокой порчи мира языческого было в духе времени; ибо литература обыкновенно служит выражениям духа своего времени. Притом и она, со своей стороны, естественно с силой действует на общественное направление; это тем более, что и в Риме и в провинциях Империи охота и способы к лёгкому чтению были хотя отчасти иного рода, но не меньшие, нежели ныне, – как открывается из свидетельств того времени1707. Император Адриан утверждал публичные библиотеки почти в каждом из больших городов Империи. Литературные же произведения показанного направления написаны точно будто по влиянию высшей духовной силы, большей частью с большим достоинством и силой, нежели другие современные произведения прозы и поэзии. О распространении страдальческого и убийственного духа уныния и недовольства свидетельствуют сами императорские учреждения и повеления (Траяна), клонившиеся явно к тому, как замечает история, чтобы облегчить страдания подданных, разделяемые с ними и самим Императором1708. Также недаром получила тогда новую силу и жизнь, и, притом под сильным влиянием христианства, стоическая философия (Епиктета), поставляющая целью мудрости холодное терпение и перенесение земных зол; недаром она нашла в тогдашнее время во всех состояниях сочувствие и многочисленных последователей1709. Император Марк Аврелий искал опоры для своего духа в той же философии, как видно из его записок1710. Так. обр. когда дарованы были Империи нужные для христианства общественный мир и благоустройство под правлением достойных Императоров, – в это самое время продолжал совершаться Божий суд над языческим миром, поражая внутреннюю жизнь язычника томлением, происходящим от влияния самого просвещения, утоляя жажду общественного духа отчасти горечью убийствен-
—265—
ного уныния и ожесточающего недовольства. – Политическая тишина и благосостояние давали тем более места и удобства такому болезненному самоуглублению. – К этой духовной казни язычников служили именно строгие и чистые духовно-нравственные понятия, которые ниспадали в языческий мир с горней области распространявшегося всюду христианства.
И четвертый Ангел воструби, и уязвлена бысть третия часть солнца, и третия часть луны, и третия часть звезд, да затмится третия часть их, и дня третия часть да не светит, и нощь такоже (ст. 12). Общая мысль этого явления ясна: потому что известно нам общее значение светил, как символа просвещения; а дело идёт именно в Греко-Римском языческом мире. Уменьшение света в светилах показанного значения, есть значительный упадок просвещения в Греко-Римском мире. В частности солнце может означать круг высших умозрений и коренных для всех знаний идей или философию; луна указывает на отображающую идеальный свет область искусств, ремёсел и разных житейских знаний; звезды суть многоразличные частные знания и науки. День – среда просвещения и образованности; ночь – это среда невежества и непросвещённого простонародья, озаряемая впрочем, влиянием житейских и научных знаний, как звёздами и луной. – И всё это по действенному знаку небесного совершителя предназначенных язычеству казней, должно было лишиться целой трети свойственного себе света. Как во свете Божием видел Тайнозритель, так в последствии и на деле оказалось. Философия, оживившаяся было в возрождённом стоицизме, затем взяла направление отчасти к эклектизму или к бессвязному смешению идей из разных систем и верований, а наиболее к суеверному мистицизму, мечтавшему о вдохновении от богов, о власти над природой и духами, о глубоких истинах в языческих мифах1711. Искусства, уже давно утратившие здравый вкус, более и более заменялись ремёслами для материальных наслаждений; цирк воспламенял страсти враждебных партий. Красноречие становилось пустой и надутой декламацией. Квинтилиан и Младший Плиний не успели отстоять естественности в сло-
—266—
весном искусстве. Поэзия языческая уже была более риторической задачей, – делом искусного набора образцов и внешнего украшения речи, вместо воодушевления; уже и сатира изменила свой благородный нравственный характер на холодную насмешку над всем (Лукиан). И в области Истории уже не видим достойного преемника Тациту. Область точных наук после Старшего Плиния, составившего естественную историю, и Клавдия Птоломея, основателя астрономических наук, остановилась в своём развитии. Латинская литература язычества уступила первенство по-прежнему, греческой: а греческая не могла возвратиться к прежней свежести и жизни, хотя и имела некоторых достойных писателей, как Плутарха. Так. обр. как высший свет идей истины и добра, составляющий естественный для человеческого духа день, ощутительно для самих язычников склоняется к сумраку (хотя сам по себе и всегда помрачён в падшем человеческом естестве); так и искусственное просвещение мира и природы науками и искусствами – стало видимо бледнеть и оскудевать. Сколь тяжко чувствительна была для Греко-Римского мира эта казнь, т.е. упадок их просвещения, можно понять из того, что Греки и Римляне смотрели на прочие племена и народы, как на варваров, глубоко униженных пред ними, и особенно на христиан, как на людей жалких и презренных1712. Но Господь, от века знающий все Свои дела и суды, заранее обстоятельно предуказал такой суд над их гордостью, чтобы открыто пред всем миром упразднить их самомнительную мудрость – к торжеству презираемого и преследуемого ими христианства. И видно, что дело просвещения, как и других частей общественной жизни, идёт под наблюдением и распоряжением высших светов или св. Ангелов; ибо суд над языческим просвещением имел совершиться по гласу трубы Ангельской.
Но наиболее тяжкие и трудные казни язычеству остаются ещё впереди, и по откровению Иоаннову предваряются таким поразительным видением и возглашением бесплотного Небожителя: и видех, и слышах единаго Ангела паряща посреде небесе, глаголюща гласом великим: горе, горе, горе живущим
—267—
на земле от прочих гласов трубных трех Ангел, хотящих трубити (ст. 13). Имя Ангела надобно разуметь в смысле прямом: ибо все черты здесь свойственны духовно-крылатым силам. Явление Ангела с громогласным словом, летящего посреди небесе, – изъясняется из известного нам значения неба, как области Христовой Церкви: парение Ангела следить и слово его слушать должно, по указанию Иоаннова видения, – именно в области Церкви, в её устройстве и внутреннем состоянии. Под живущими на земле и по указанию последней на земные порядки, и в настоящем случае именно на устройство Греко-Римского языческого мира разумеются язычествующие члены политического тела Римской Империи, т.е. и Императоры, и подданные их язычники. Троякое горе, предвозвещаемое им от Ангела, состоит, как показывают дальнейшие видения Тайнозрителя (гл. 9, 11, 15 и след), – из трёх следующих одна за другой карательных для языческого гражданства эпох. Такие бедствия, по-видимому, должны касаться и членов гражданства небесного, т.е. христиан; так как и они принадлежат к составу Империи. Но для истинных христиан, терпение внешних бедствий составляет не горе убийственное, а дверь к блаженному спасению, по Христову слову: претерпевый до конца, тот спасется. Посему троякое горе, угрожавшее и предвозвещаемое живущим на земле, относится к казням собственно языческого мира, в ряду которых эти три горя и поставлены. Эти последние три казни над язычеством имели открыться так же по распоряжению св. Ангелов, как и первые четыре рассматриваемые нами: горе, горе, горе… от прочих гласов трубных трех Ангел, хотящих трубити. Итак, громогласное слово Ангела и само парение его с таким словом посреди небес понятно по своему общему знаменованию: в области Церкви Христовой, в её устройстве и состоянии один из бесплотных её блюстителей и поборщиков даёт приметить свой возвышенный полёт и слышать громогласное слово своё об угрожающих язычеству особенно страшных последних ударах.
Чтобы видеть это пророческое видение в самом исполнении, надобно, во-первых, вникнуть во внутреннюю область Церкви, в её устройство и состояние, когда они пребывали
—268—
в недрах гнавшей её Римской Империи, при известных уже нам обстоятельствах последней. Когда земля государственного порядка вещей в языческой Империи опустошалась огнём и градом, и море общественной жизни кровавым образом возмущалось; в то время и особенно впоследствии церковное благоустройство более и более развивалось и упрочивалось, как рай; церковная жизнь по внутренней своей области не теряла свободы среди самих гонений; частные церкви возвышались яко кедры при водах благодати; христиане процветали и благоухали святостью и чистотой, и приносили плоды мученичества. – Между тем как дух недовольства и уныния овладевал язычниками среди самого наружного довольства и блеска, и просвещение приметно упадало и мельчало, христиане среди страданий были бодры и даже радовались, укрепляясь и ободряясь Самим Св. Духом Утешителем. Духом исповедуемой ими истины, и начинали новое, озарённое Христовым светом и потому животворное просвещение. Св. Иустин Философ, св. Ириней, Климент Александрийский, Ориген и др., и по внешнему образованию не уступали язычникам. При сём Церковь непрерывно распространялась во все части Империи, во всех состояниях и званиях. Кратко сказать: тогда как враждебное язычество, как иссыхающая скорлупа, распадалось; христианство – как скрытое в недрах Империи живое ядро – росло и созревало для скорого и решительного освобождения от внешнего стеснения язычеством. И так. обр. последние решительные удары языческому Греко-Римскому миру, по покаянному внутреннему состоянию Церкви и отношения её к этому враждебному миру, оказались неизбежными и близкими. Но при сём, во-вторых, надобно помнить, что спасительные судьбы Церкви и торжество веры совершаются не иначе, как при служении св. Ангелов, как сказано: не вси ли суть служебни дуси, в служение посылаеми за хотящих наследовати спасение? (Евр. I, 14). И тем паче, особенно важны и решительные судьбы Церкви или победы её над врагами совершаются под наблюдением высших и могущественнейших из горних сил. И так. обр., в-третьих, если проникнуть в самые главные и внутренние пружины приготовляемых язычеству поражений, какие оказывались, по
—269—
внутреннему состоянию Церкви и отношению её к языческому миру, неизбежными и близкими: то в показанном состоянии Церкви, грозящем сими последними ударами язычеству, – и открывается, в самой силе и действии, виденное Тайнозрителем зрелище Ангела, парящего посреди небеси и возвещающего гласом великим: горе, горе, горе живущим на земли. Подобным образом направление в распространении христианства давалось шествием Ангела же от Востока к Западу по видению Тайнозрителя (VII, 2).
Действительное слово бесплотного поборника Церкви о предстоящих язычеству последних казнях выразилось для языческого мира и в самих его обстоятельствах последнего времени. Нашествие варваров, от которых едва успевал на время обороняться Марк Аврелий, – крайне безумное жестокое правление сына и преемника Коммода, однако раболепно славимое Сенатом и народом, насильственная смерть от близких людей и произвол в выборе ему преемника служили предвестием для язычников как внутренних, так и внешних великих зол в будущем.
Явление затем первого горя для языческого мира, или Римской Империи довольно многосложно: и пятый Ангел воструби и видех звезду и проч. (IX, 1–4). По многосложности этого явления, будем следить его по частям. Потом представим общий смысл всех его частей. А сам смысл, наконец, оправдаем и вместе окончательно раскроем – самими событиями или исполнением пророчественного видения.
В видении этого первого горя указывается, во-первых, первоначальный источник (1–2), далее само его явление (3–6), наконец и орудия к произведению этой казни (7–77). И, во-вторых, св. Апостол видит, как открывается источник сего горя (ст. 1 и 2). И пятый Ангел воструби, и видех звезду с небесе спадшу на землю. И дан бысть ей ключ от студенца бездны: и отверзе студенец бездны. И взыде дым от студенца яко дым пещи великия, и омерче солнце и воздух от дыма студеничнаго. Символический характер этого явления виден сам собой: ибо такие черты явления, – каковы – дарование звезде ключа от бездны, открытие бездны звездой, – суть очевидно символические, и не
—270—
принадлежат к собственным явлениям природы. Значение символов звезды, неба и земли нам уже известно; выше было уже и само явление падения звезды с неба (10 ст.). Небо область Церкви; земля область земных порядков; звезда, насколько она берётся не в отношении к самому небу, а по действию на землю языческого государства, есть символ какого-либо частного отдела или начала просвещения, или вообще светоносной для мыслей и жизни истины. Посему звезда, падшая с неба на землю, знаменует такое просвещённое начало, в образе мыслей и жизни, которое в политическую область язычества ниспало с неба – Христовой Церкви. Бездна есть область сатанинская, жилище духовного зла и смерти с их князем и служителями, – как видно из упоминания в той же главе (ст. 11), об ангеле бездны – губителе. Эта бездна отверзлась для нашего мира ещё грехом прародителей. Но так как от её же тёмных сил зависит и возбуждается и управляется всякое духовное зло в нашем мире, а это губительное зло бесчисленным образом разнообразится в разные времена и в разных обстоятельствах; то появление или усиление в мире какого-либо особого рода этого зла в известное время составляет открытие некоторого студенца или источника бездны. И что из нашего мира послужило бы видимой причиной или подвигом к появлению и усилению такого или другого рода зла или, что то же, к тому или другому, сатанинскому обольщению людей, – это и составляет ключ от этого источника бездны. Таким то ключом к открытию некоторого особого истока бездны и определено быть тому светлому началу, которое в политическую область язычества попало с неба Церкви: и дан бысть ей (падшей с неба на землю звезде) ключ студенца бездны. Какое же вышло зло из открытой сатанинской бездны? Зло без сомнения духовное, или разумно-свободное; ибо из самих глубин сатанинской бездны свойственно приходить злу в собственном и строгом смысле, каково и есть нравственное зло. Оно, изникая из сатанинской области, принимает внешний вид, без сомнения соответственный собственному его существу и роду. Так иногда оно является «зверем багряным, преисполненным именами богохульными» (17 гл. 3:8); видно, что это есть заблуждение или направление
—271—
зверское, кровожадное, нагло ругающееся всему Божественному и священному. В настоящем видении губительное зло является только дымом; видно, что это есть заблуждение или беспорядочное направление – сколько омрачающее и одуревающее, столько и лёгкое, суетное, рассеянное, вообще легкомысленное. Этот дым, в отношении к образу своего проявления, Тайнозрителем уподобляется дыму пещи великия; в нравственном мире и именно в греховной его области дымящаяся великая пещь есть ничто иное, как пещь разгорающихся страстей и прихотей, возбуждаемых и раздуваемых духами бездны. Как густой дым помрачает для земли само солнце и на земле воздух: так при разгаре страстей и прихотей в какой-либо области нравственного мира, – суета и легкомыслие, омрачение умов и брожение беспорядочных желаний не позволяют примечать даже светлых, как солнце, истин долга и благоразумия, – простирают свою осязаемую тьму на всю среду предметов и обстоятельств, окружающих человека подобно атмосфере. Это само или сему подобное, и наименовано тем явлением, что «дым бездны помрачил солнце и воздух» омерче солнце и воздух от дыма студеничнаго. Итак, по частям объяснено, каким образом, по видению св. Апостола, имел открыться сам источник первого, особенно тяжкого, горя для мира языческого: чрез применение к политической области язычества некоторой светоносной идеи ниспадшей сюда из области христианства, дан будет повод и случай силам тьмы возбудить и воспламенить страсти, отчего и поднимется дым легкомысленного и омрачённого брожения умов.
Далее изображается само появление и действие сего горя, как видел то Богослов Тайнозритель: и от дыма издоша прузи на землю, и дана бысть им область, якоже имуть область скорпии земнии; и речено бысть им, да не вредят травы земные, ни всякого злака, ни всякого древа, не человеки точию, иже не имуть печати Божия на челах своих; да и дано бысть им, да не убиют их, но да муку приимут пять месяцей; и мучение их, яко мучение скорпиево, егда усекнет человека. И в тыя дни взыщут человецы смерти, и не обрящут ея; и вожделеют умрети и убежит от них смерть. Символический характер и этого явления ясно виден не только из связи с предыдущей частью видения, но и в
—272—
сём самом видении из того, что прузи или саранча, в собственном смысле понимаемая, обыкновенно естественно опустошает поля, дерева, вообще растительное царство, а по видению Иоаннову, саранче не дано вредить растений, а только людей, и притом дано вредить им подобно скорпионам, а не как свойственно саранче. Впрочем, под саранчой нельзя здесь разуметь чисто только злые силы бездны; ибо она представляется происшедшей не из самой бездны, а ведь саранча должна пасть на живущих на земле, т.е. должен открыться в самом народном составе. Будем следить символические предметы по порядку самого их явления.
И от дыма изыдоша прузи на землю. Эти прузи или саранча и составляют причину всего настоящего горя или орудия настоящей казни языческой Римской Империи, как видно из последующего. Под дымом, из которого выходит саранча, разумеется, как выше показано, легкомысленное и омрачённое движение умов, которое имело произойти от разгара страстей, возбуждаемых тёмными силами адской бездны. Под землею, на которой появляется саранча, разумеется, как также известное уже нам – само земное устройство и в настоящем случае, именно в Римской Империи. Что же надобно разуметь под самой саранчой? Это уясняется из следующих соображений. Во 1-х, так как она, по указанному значению дыма и земли, вышла из беспорядочного движения нравственного, и явилась губительной силой в самом составе государства: то надобно искать этой саранчи не иначе как в людях, и именно таких, которые сделались карой государства единственно по причине беспорядочного движения умов, и оказались такими в недрах самого государства. Во 2-х, пророк Иоиль, изображая бедствия земли Израильской от саранчи и притом описывая саму саранчу отчасти такими же чертами, в каких она является и в видении Тайнозрителя1713, –
(Продолжение следует).
* * *
Поучение написано рукой Еп. Игнатия, чернилами. В конце рукописи приписано карандашом и другим почерком «Владыки Нашего Игнатия Брянчанинова».
Добротолюбие, ч. 1. О Законе духовном, гл. 2.
Добротолюбие, ч. 1. О Законе духовном, гл. 2.
По объяснению Пр. Пимена Великого.
В смысле – даровитый.
См. Б. В., апрель.
В частном письме, А.Н. Купреянова делает такое пояснение к этому месту: «Горы, на которых о. Игнатий катал детей летом, были из дерева устроены, т.е. горы настоящие, а каток сам из досок деревянный и такие колясочки на колёсиках». Ред.
ibid. II, 75.
ibid. II, 189.
Rinnovamento, p. 184.
Introd. II, 192.
Rinnovamento, p. 213.
ibid.
Rinnovamento, p. 208.
ibid.
ibid.
Introd. II, 196.
ibid. II, 203.
ibid. II, 198.
ibid. II, 204.
ibid. II, 199.
Nuovo Saggio III.
Introd. II, 199, 200, 202.
ibid. II, 199.
ibid. II, 197.
ibid. II, 205.
ibid. II, 206.
ibid. II, 206.
ibid. II, 207.
Lettere d’un rosminiano a V. Gioberti. Torino 1841–42.
Рукописи Solmi, pref. p. XVIII.
Lettera sulle dottrine filosofiche di V. Gioberti. Torino, 1843.
Rosmini e Rosminiani, p. 112.
Berti Di V. Gioberti, rifirmatoro, politico e ministro con sue lettere. Firenze, 1881, p. 80.
Degli errori filosofiei di A. Rosmini. Brussele 1843. v. II, p. 50. На это сочинение я буду ссылаться далее без обозначения, отмечая том римской цифрой, а страницы – простыми.
Discorso preliminare della Teorica del Sovranaturale, Napoli 1860 v. I, p. 19.
В третьем томе Errori и в Rosmini e Rosminiani.
I, 21.
I, 28.
I, 125, 126.
I, 131.
I, XVIII.
I, 43, 44.
I, XVIII.
I, 156, II, 19.
Lettere, II, p. 59.
I, 171; 57; 54–55.
I, 172.
I, 83.
I, 172, 50.
I, 123.
I, 56.
I, 29.
I, 30.
I, 8.
I, 36.
I, 36; Introd. II, 76.
I, 40.
I, 29.
I, 75.
I, 70.
I, 72.
I, 75.
I, 76.
I, 77.
I, 160.
I, 159.
I, 160.
I, 161.
I, 162.
I, 25, 49.
I, 25, 29.
I, 26.
I, 25–26.
I, 27, 40, 7, 29.
I, XI, 45. 165. II. 50.
II. 57.
II. 50.
II. 57.
II. 58.
II. 64.
II. 64.
I. 26.
I. 27.
I. 157.
I. 142.
II. 67.
II. 68.
II. 69.
I, XVI.
I, XVII.
II. 61.
II. 62–63.
I. 143.
II. 62.
I. 69.
II. 86.
II. 86.
II. 88.
II. 89. Джоберти видимо не знал великого спора о свете Фаворском. Не только сущность этого спора, но даже сама терминология очень близки его собственному спору с Розмини. Джоберти мог бы многое заимствовать из аргументации св. Паламы и его последователей паламистов, а в Варлааме, выходце из Италии и последователе Фомы Аквинского, он должен был бы признать все основные пункты розминианства.
Gioberti il panteismo. Lugano, 1853.
Discorso preliminare p. 19.
Della liberta cattolica p. 284.
Ibid. p. p. 295.
La Teorica della mente umana p. p. 31, 33.
Философия общего дела. Статьи, мысли и письма Николая Фёдоровича Федорова, изданные под редакцией В.А. Кожевникова и К.Н. Петерсона. Т. I. Верный 1907 г. т. II Москва 1913 г.
Философия общего дела (т. 1) 108. 111. 113. 159. 161. 287. (т. 2) 10.
Ibid. (т. 1) 93.
Ibid. (т. 1) 67, 69, 70–78, 81, 82, 86, 122.
Ibid. (т. 1) 173, 398, 441, 471, (т. 2) 249, 310, 74, 80.
Ibid. (т. 1) 56.
Ibid. (т. 1) 76.
Ibid. (т. 1) 358.
Ibid. (т. 1) 96.
Ibid. (т. 2) 3.
Ibid. (т. 2) 3.
Ibid. (т. 1) 474.
Ibid. (т. 2) 92.
Ibid. (т. 1) 86.
Ibid. (т. 1) 76, 451.
Ibid. (т. 1) 78.
Ibid. (т. 1) 76.
Ibid. (т. 1) 76.
Ibid. (т. 1) 309.
Ibid. (т. 1) 173.
Ibid. (т. 1) 167, 170, 173, 491.
Ibid. (т. 1) 167.
Ibid. (т. 1) 69, 477.
Ibid. (т. 1) 702, 703; (т. 2) 19.
Ibid. (т. 2) 5.
Ibid. (т. 1) 476, 477, 712; (т. 2) 151, 152, 251.
Ibid. (т. 1) 702.
Ibid. (т. 2) 5.
Ibid. (т. 2) 250; (т. 1) 142, 270, 539, 694.
Ibid. (т. 1) 166.
Ibid. (т. 1) 717.
Ibid. (т. 1) 166, 142.
Ibid. (т. 1) 34, 142, 610.
Ibid. (т. 1) 615.
Ibid. (т. 1) 427.
Ibid. (т. 1) 112, 342; (т. 2) 180.
Ibid. (т. 1) 176.
Ibid. (т. 1) 299.
Ibid. (т. 1) 299, 173, 110.
Ibid. (т. 1) 427.
Ibid. (т. 1) 296.
Ibid. (т. 1) 610.
Ibid. (т. 1) 56.
Ibid. (т. 1) 75, 46.
Ibid. (т. 1) 78, 84, 321, 343; (т. 2) 158–65, 147, 209.
Ibid. (т. 1) 93, 94.
Ibid. (т. 1) 290.
Ibid. (т. 1) 160.
Ibid. (т. 1) 22, 27, 94, 99, 131, 255, 284, 398, 400, 441, 473; (т. 2) 130, 288, 315, 316, 331–47.
Ibid. (т. 1) 26, 85, 93, 102, 107, 285, 315, 318, 363, 418, 447, 575; (т. 2) 81, 167, 249, 294.
Ibid. (т. 1) 262.
Ibid. (т. 1) 13, 86, 139, 284, 304, 309, 400, 414, 442, 471; (т. 2) 71, 142, 187, 310.
Ibid. (т. 1) 155, 303, 447; (т. 2) 80, 130, 272.
Ibid. (т. 1) 167, 294, 303, 313, 613; (т. 2) 244, 272.
Ibid. (т. 1) 3, 5, 111, 112, 392, 420, 657; (т. 2) 252, 272.
Ibid. (т. 1) 112.
Ibid. (т. 1) 48, 214, 283, 314, 392, 406, 424, 726; (т. 2) 18, 80, 123, 307, 406.
Ibid. (т. 1) 114, 304, 442; (т. 2) 243, 273.
Ibid. (т. 2) 252, 274, 241.
Ibid. (т. 1) 424; (т. 2) 244, 472.
Ibid. (т. 1) 78, 111, 442; (т. 2) 145–52.
Ibid. (т. 2) 473.
Ibid. (т. 1) 214, 277, 283, 303, 315, 317, 328, 337, 421, 423, 614; (т. 2) 48, 56, 153, 200, 218, 255, 315, 469.
Ibid. (т. 1) 92, 292, 412, 414, 420; (т. 2) 62, 347, 469.
Ibid. (т. 1) 57, 252, 417; (т. 2) 68, 242.
Ibid. (т. 1) 283, 343, 345, 703; (т. 2) 52, 62.
Ibid. (т. 2) 380.
Ibid. (т. 1) 17, 30, 32, 60, 116, 424; (т. 2) 62, 130, 376, 380.
Ibid. (т. 1) 579.
Ibid. (т. 1) 159, 167, 563, 579, 686.
Ibid. (т. 1) 522.
Ibid. (т. 1) 158, 521, 561, 563, 570, 575, 625; (т. 2) 384, 418.
Ibid. (т. 1) 575.
Ibid. (т. 1) 521, 524, 576.
Ibid. (т. 1) 523.
Ibid. (т. 1) 523, 579.
Ibid. (т. 1) 50, 363, 535, 557; (т. 2) 399, 414, 416, 427, 433.
Ibid. (т. 1) 526, 259, 583, 594; (т. 2) 401, 407, 448.
Ibid. (т. 1) 11, 258, 401, 422, 513; (т. 2) 315, 473.
Ibid. (т. 1) 12, 44, 81, 505, 510, 513, 643; (т. 2) 170, 286, 416, 424, 433, 439.
Ibid. (т. 1) 276, 364, 370, 401, 419, 426; (т. 2) 85, 190.
Ibid. (т. 1) 373, 376.
Ibid. (т. 1) 365, 377, 390, 392, 394, 395, 398, 482; (т. 2) 300, 309.
Ibid. (т. 1) 396.
Ibid. (т. 1) 162, 185, 167, 452, 472, 491, 591.
Ibid. (т. 1) 359, 376, 477, 598.
Ibid. (т. 1) 479, 377, 422, 474, 476, 569, 570.
Ibid. (т. 1) 19, 74, 84, 261, 400, 402, 410, 492, 550; (т. 2) 94, 97, 241, 264, 399, 331.
Ibid. (т. 1) 83, 408, 429, 440, 482, 507–8, 553, 625; (т. 2) 322, 420.
Ibid. (т. 1) 43, 55, 80, 255, 688, 691, 709, 702, 729.
Ibid. (т. 1) 6–10, 22, 82, 315, 326, 415, 422, 604, 608, 690, 701.
Ibid. (т. 2) 97, 174, 272, 315, 317.
Ibid. (т. 1) 569.
Ibid. (т. 1) 418, 471, 725.
См. «Б. в.», март.
Lotsy. Vorlesungen. Bd. I, стр. 54. Iensen, Organische Zweckmässigkeit. 1907, стр. 22.
K. von-Baer. Auswal aus seinen Schriften, von prof. Stölzle. стр. 20.
K. von-Baer. Ibid., стр. 21.
Kűnig. Über Naturzwecke. ‘’Philosophische Studien”. Bd. 19. 1902; 437 примеч.
Eisler. Kritische Einfűhrung in der Philosophie. 1905 г. стр. 241.
Kűnig. Über Naturzwecke. ‘’Philosophische Studien”. Bd. 19. стр. 421–4.
Бючли, “Mechanismus und Vitalismus”. русск. пер. В сборнике «Сушность жизни», 1903 г. стр. 201.
Ibid., стр. 200; Iensen, op. cit., стр. 127–8.
Iensen. Die organische Zweckmessigkeit., стр. 152.
Бючли, op. cit., стр. 206.
Wind. Grundzüge der physiologischen Psychologie, Bd. III, 1903, стр. 686.
W. Wungt. Logik. Dritte Auflage. 1907; Bd. II, стр. 563–5.
Вундт. Система философии. р. пер. 1903 г. стр. 191.
Ibid., стр. 196.
Wungt. Logik., стр. 567.
Wagner. Geschichte, стр. 271.
Prof. Edm. Künig. Kant und Naturwissenschaft. 1907. стр. 171.
Ed von Hartmann. System der Philosopie im Grundriss. Bd. II. Grundriss der Naturphilosophie. стр. 55.
Кант. Критика способности суждения. пер. Соколова, 1898 г. стр. 258, 261.
Ibid., стр. 261, 264.
A. Pauly. Das urteilende Prinzip und die mechanische Kausalität be; Kant und im Lamarckismus. “Kosmos”. Stuttg., 1906 г. стр. 269.
Кант, ibid., стр. 242.
ibid., стр. 268–271.
Кант, ib, стр. 289. Определяющая способность суждения только подводит объекты под данные законы или понятия, как принципы рефлектирующая – должна подводить под закон, который ещё не дан; она должна сама создать субъективный принцип, служащий для: целесообразного применения познавательной способности. Кант, ibid., стр. 271.
König, op. cit., стр. 172–3.
König, op. cit., стр. 312.
Кант, стр. 290.
Куно-Фишер. Кант, полут. II. стр. 507–9.
Ed. von Hartmann. Grundriss der Naturphilosophie. стр. 53–56.
Ed. von Hartmann. Ibid. стр. 65–67.
Ed. von Hartmann. Die Finalität in ihrem Verhältniss zur Causalität Philosoph. Studien, Bd. 18, 1903 г. стр. 512.
König, Kant und naturwissenschaft. стр. 174.
König, Uber Naturzwecke, стр. 433. примеч. Reinke; Weit als That. 1899 г. стр. 255.
Wagner. Geschichte…, стр. 159.
A. Pauly. Das urteilende Prinzip und die mechanische Rfusalität. стр. 271–2.
О. Новицкий «Духоборцы. Их история и вероучение». Изд. 2-ое, 1882 г.
См. начало судебного показания крестьянина Ив. Гаврилова в «Материалах для истории хлыстовской и скопческой ереси, собранных П. Мельниковым», изданных в «Чтениях в обществе истории и древностей Российских» 1872 г. кн. III, стр. 46.
«О великоросских беспоповских расколах в Закавказье», напечатано в «Чтениях в обществе истории и древностей Российских» 1764 г. кн. IV-я. Это издание значительно отличается от издания Надеждина и по полноте, и по расстановке частей. Редакция, изданная Толстым, начинается с «Послания», которое на 73 стр. прямо переходит в «Страды», но не к началу их, по Надеждину, а к 8-ой странице (у Надеждина), а потом на 80 стр. обращается к той части, с которой начинается редакция Надеждина: «На крест меня отдали»…
«Чтения» 1872 г. кн. III, стр. 141.
На одной, напр. 120 стр. на протяжении 9 греч. слов вмещается 4 ошибки в пропуске или изменении букв.
Прекрасно это несчастное положение изображается в начале брошюры Владимира Троицкого «Христианство или Церковь?».
«Основы христианства», том 4, стр. 401.
Ряд подобных указаний в исследовании Д.Г. Коновалова: «Религиозный экстаз…» – 72 стр. прим.
Печать уже «подхватила» эту высокую оценку хлыстов – «Заветы» № 4, 81 стр. Но почему этих «девственников» и «девственниц» тянет как раз к тем органам, каковые у истинных девственников должны бы остаться по кр. мере вне сферы внимания (118)?
«Чтения» 1872 г. кн. III, стр. 70.
История Московской Духовной Академии С. Смирнова, издан. 1879 г., стр. 540.
Православный собеседник 1880 г. Март. Некролог Г.С. Саблукова. стр. 288–333, особен. 317–329.
Там же стр. 306 и проч.
Описания предсмертных минут в некрологах очень назидательны, как характерные проявления внутреннего мира умирающего почти загробного, как проявили это многие святители, напр. Макарий (Михаил Дарский – 26 курса), епископ Благовещенский, в последние часы своей земной жизни (Церк. Вест. 1897 г. № 49, стр. 1795 и проч.).
Сказано в кн. Быт.: «Иегова… вдунул в ноздри его (человека) дыхание жизни (II, 7)». Очевидно, что Божие творческое вдуновение, обосновало и проникло само это движение человеческой жизни – дыхание ноздрями.
Смотри об этом книгу о Миротворении стр. 87–96.
Сам св. Иоанн Богослов принимает свет за синоним разума, знания: дал есть нам свет и разум, да познаем и проч. (1Ин.5:20). Из такого духовного воззрения на свет сами собой объясняются в показанном нами духовном смысле, эти мировые органы света – светила.
Так в кн. Даниила, сильные и потрясающие мир движения стремления народных, сменяющие целые великие царства одни другими представляются, как сильные движения воздуха или ветры: «ее четыре небесные ветра волнуют великое море и четыре больших зверя (царств) выходят из моря» (VII, 2–3).
Из такого духовного значения воды объясняется, что «безводные места», как соответственные духовно-безжизненной безотрадности, привлекают к себе мятущихся духов зла по Евангелию (Мф.12:43).
Так у Исайи (XIV, 6–7) ниспровержение Вавилоном царств и народов, во всех отраслях их благоустройства, равнозначущи и соответственны – тревожное опустошение земли и посечение елей и кедров ливанских.
Само собой разумеется, что одни и те же образы из природы и в других местах Апокалипсиса изъясняются у нас тождественно или одинаково. Исключение допускается только на такие случаи, исключительность которых прямо указывается, иногда притом с нарочным истолкованием их в самом откровении. Так, напр., семь звезд находясь в исключительном положении – в деснице Господа, изъясняются в своём исключительном смысле, как Ангелы седми церквей (1 гл. 20 сличи 16), или ещё: воды многие, составляя область восседания великой блудницы Вавилона, в этом исключительном своём назначении и значении протолкованы прямо как люди, и народы, и племена, и языки (XVII, 1 сл. 15).
Так Лоренц выражается о Низоне Лициниане, избранном Гальбой в наследники. Стр. 34.
Смотри Истор. Иннокентия, 1 часть стр. 43–45 изд. 1834 г.
Свидетельства сии собраны и соображены в статье Московит: «Обращение книг в древнем мире, преимущественно при Императорах».
См. Ист. Лорена стр. 49.
Лоренц, стр. 55–56.
Εις ἐαυτὸν – «самонаблюдения».
Последнее образовало Неоплатоническую школу.
Так писал о христианах Младший Плиний Траяну.
Зубы его якоже зубове львов, говорит пророк о полчаще саранчи (Иоиль 1:4); зубы их, яко львова деша, говорит о саранче Тайнозритель (IX, 8); якоже вид коней вид их, сказано у пророка и далее, якоже глас колесниц и проч. (Иоиль II, 4–5), уподобления плугов, сказано в апокалипсисе, подобно конем глас крыла их, яко глас колесниц и проч. (Апок. IX, 7–9).
