Из сборника «Назначение многообразия» (1920)
О чудищах
Однажды я увидел в газете заметку и выписал ее:
ПОЙМАЛИ ГНОМА
На западе Ирландии, в Маллингаре, вызвало большой переполох сообщение о том, что обнаружено существо, которое дети, по их словам, уже месяца три видели неподалеку от Делвина. Два полисмена нашли какого–то карлика в пригородном лесу и препроводили его в Маллингарский работный дом, где он теперь и находится. Он жадно ест, но попытки завести с ним беседу не увенчались успехом. В ответ на вопросы он не то рычит, не то ворчит. Обитатели работного дома относятся к нему с любопытством, но не без страха.
Быть может, началась новая эра в науке; быть может, мир опытов соприкоснулся наконец с миром действительности? Так и кажется, что читаешь: «В западной части Лондона, неподалеку от Роттен–Роу вызвало большой переполох сообщение о том, что пойман на бегу крупный кентавр, которого видели до сей поры лишь полковники и молодые девицы». Или немного иначе: «В западной части Маргэта вызвало толки сообщение о том, что поймана ундина». Или, наконец: «Смелый горец, вскарабкавшийся на вершину, где он думал найти орлиное гнездо, обнаружил, что это — гнездо ангелов». Поистине поразительно увидеть в газете простую заметку об одном из промежуточных звеньев между человеком и миром других существ. Небезынтересно и то, что гнома отправили в работный дом. Это решает — и решает здраво — вполне законное сомнение. Если мы и впрямь изловим кентавра, куда его помещать, в конюшню или в приют? Если мы выудим ундину — отправить ее в приют или в аквариум? А что делать с ангелом, где ему место — в голубятне или в работном доме?
Мысль о «недостающем звене» существовала и до Дарвина, и до загадочных, но вдохновенных поэтов второго разряда, которым мы обязаны большей частью представлений об эволюции. Люди всегда развлекались мыслью о том, что между животными и человеком есть какое–то звено; само существование или, если хотите, само отсутствие кентавров и ундин доказывает это. В кентавре и ундине плохо лишь то, что их нет. Все остальное в них прекрасно. То же самое можно сказать и о «недостающем звене»: все в нем хорошо, одно плохо — его никак не найти. Против «недостающего звена» можно возразить только то, что оно сказочно, как кентавр и ундина и все образы, воплотившие нашу мечту о перемычке между нами и животными. Словом, «недостающее звено» плохо лишь тем, что оно — недостающее.
Однако есть и еще одно простое отличие. Древние люди выдумывали чудищ, но они и видели в них чудищ — исключение, а не правило. Они не выводили законов из таких беззаконных созданий, как кентавр или ундина, грифон или гиппогриф[180]. Современные же люди пытаются вывести закон из «недостающего звена», ставшего для них законодателем, хотя они и гоняются за ним, как за преступником. Общество держится на неведомом чудище, сочетающем черты обезьяны и человека, как на законном прародителе человечества. Древним казалось, что. существует помесь коня и человека, человека и рыбы. Но помеси эти не плодились, никто от них того не ждал. Глядя на кентавров, никто не создавал систем, поучающих, как заботиться о руках, как — о копытах. Девицам не напоминали, что, хотя волосы их дивно золотисты, ноги на самом деле срослись в рыбий хвост. Современные же люди говорят с человеком так, словно сам он — «недостающее звено», непрестанно указуя, как много в нем обезьяньей дурости и звериной наглости. Они напоминают женщине, что при всей своей красоте она — полуживотное; если не верите, загляните в Шопенгауэра и в других модных пророков[181]. Вот в чем истинная разница между старыми чудищами и новыми.
На свете нет «недостающего звена», нет и ундины. Зато нашелся гном, живое чудище, попавшее под надзор полиции. Множество ученых людей доказывали, что его быть не может, но стоит ли об этом говорить? Не стоит говорить и о том, что в то же время множество людей неученых — детей, матерей, рабочих, селян и рыбаков — его видели. Почти каждый подвид простого, обычного человека его видел. Рыбак видел гнома. Фермер видел гнома. Должно быть, гнома видел почтальон. Только одну разновидность простых сынов человеческих миновало такое чудо — гнома не видел полицейский. Оставалось гадать, унесет ли гном полисмена в сказочное царство (где служитель порядка получит в награду роковую любовь царицы фей) или полицейский препроводит гнома в участок. Победили силы мира сего. Полисмен забрал эльфа, а не эльф полисмена. Отправив мифическое существо в работный дом, констебль открыл новую эру в науке о сказках и сказаниях.
Что сделает нынешний мир, нежданно обнаружив, что самые дикие мифы основаны на фактах, что перемычки есть, что старые законы еще не все, что существуют такие странности, которые можно назвать сверхъестественными? Не знаю, что он сделает; знаю только, чего бы я хотел. Я хотел бы, чтобы у него оказалось не меньше здравомыслия, чем у мира средневекового. Из того, что у чудища две головы, не следует, что я должен терять единственную. Средневековый человек верил в людей с песьими головами, но не считал, что по этой причине должен заиметь ослиную голову. В какую бы чушь он ни верил, он не лишался ни разума, ни силы. Он не лишался способности судить здраво; просто он судил о том, чего нет. У него были предрассудки, но рассудок оставался при нем. Да, он неправильно представлял себе Африку, но, к чести своей, не настаивал на своих представлениях. Он обладал тем, что теперь зовут «тягой к истине», то есть просто умел принимать свои ошибки всерьез. Обычный человек был для него важным делом; так оно и есть. Необычный человек был сказкой, и он резонно полагал, что чем эта сказка истинней, тем она удивительней. Люди с песьими головами не влияли на его представления о человечестве; они были для него шуткой, забавой. Теперь же, как ни жаль, не исключено, что странности, которые может преподнести нам наука о душе, будут истолкованы как поверка или разгадка судьбы человеческой. Скажем, психологическое явление, именуемое «раздвоением личности», столь странно, что любой старомодный рационалист или агностик счел бы его чудом и отказался в него верить. Сейчас в него верят и чудом его не считают, то есть не считают исключением. Из него делают выводы, на нем строят домыслы о границах «я», переселении душ и так далее. Если и впрямь в одном теле бывают две души — это шутка, как два носа на одном лице, и не ей нарушать реальную человеческую радость. Пусть Джонс устроен так, что на слова «Он вытер нос» можно спросить: «Какой именно?» Из этого не следует, что у людей вообще по два носа. Вот она, одна из главных опасностей, стоящих перед цивилизацией, недавно обнаружившей гнома. Скоро мы найдем все чудища, все божества, все шутки вечности. Но в отличие от язычников мы отыщем их не в той веселой, молодой атмосфере, где можно шутить с божеством и хлопать великана по спине. Мы стары, мы мрачны и слишком готовы принять исключение за правило. Если мы откроем полулюдей, мы позволим себе стать полулюдьми. Я не очень бы сокрушался, если бы гнома побили каменьями, как злую фею, или угостили молоком, как фею добрую. Но в том, чтобы изучать чудище, есть что–то страшное. Страшно и дико сажать гнома в работный дом. Одно утешение: что–что, а работать он не станет.
Псевдонаучные книги
В современной литературе существует один жанр, который следовало бы уничтожить. Его надо было бы взорвать динамитом какого–нибудь великого сатирика вроде Свифта или Диккенса. Даже мне, человеку куда более неприметному, следовало бы аккуратно разрубить его на мелкие кусочки. Что я и сделаю, как говорил Джордж Вашингтон, своим маленьким топориком, хотя бы на это ушла уйма времени[182]. Речь идет о псевдонаучных книгах. При этом я вовсе не хочу сказать, что всякий, кто сочиняет такие книги, — злостный шарлатан и что он ничего не знает. Я хочу сказать только, что своими книгами он ничего не доказывает; он попросту выкладывает вам свои бредовые теории, сдабривает их общепринятыми понятиями, довольно, впрочем, сомнительного свойства, и выдает все это за науку. В результате в книгах с «солидными» научными постулатами напрочь отсутствует всякая научная аргументация. Их авторы лишь подтверждают «научную» достоверность досужих мнений, модных на сегодняшний день среди завсегдатаев так называемых «интеллектуальных» клубов, выдавая их за последнее слово в научных изысканиях. Впрочем, мимолетные увлечения твердолобых резонеров стоят мимолетных увлечений высоколобых снобов. Снобы уверяют, что только на их головах настоящие шляпы; резонеры уверяют, что только под их шляпами настоящие головы. К сожалению, и те и другие любят щеголять собственными теориями, но не любят приводить доказательства. Предположим, я написал бы о современной моде примерно следующее: «Наши невежественные и суеверные предки носили шляпы с прямыми полями, однако с развитием просвещения и демократии мы приучились носить шляпы с изогнутыми полями; варвары носили широкие брюки, однако просвещенным и гуманным народам пристало носить узкие брюки», и так далее в том же роде. Очень сомневаюсь, чтобы вас устроила подобная аргументация. Вы бы, естественно, возразили: «Да будет вам! Приведите лучше факты. Докажите, что современная мода более гуманна. Докажите, что в новых шляпах люди лучше соображают, а в новых брюках — быстрей бегают».
Я только что прочел получившую у нас широкое признание книгу с предисловием доктора Сейлби, написанную, насколько я мог понять, неким крупным швейцарским учёным, профессором Форелем. Называется она «Сексуальная этика». Открыл я ее с должным уважением. Закрыл — признаюсь — в некотором оцепенении. Большой специалист (насколько я знаю) по части насекомых, швейцарский профессор — человек, безусловно, честный. Однако когда дело доходит до доказательств, в которых неизбежно нуждается всякая «новая» теория о человеческих отношениях — поскольку без них невозможно свергнуть старые, испытанные институты, — то выясняется, что их–то у почтенного профессора и нет. Наука считает, что у человека нет совести. Наука считает, что стерильные союзы безнравственны и бесправны. Наука считает, что нехорошо пить спиртные напитки. И все это говорится с полнейшим пренебрежением к двум обстоятельствам: что, во–первых, наука ничего подобного не считает, ибо многие великие ученые придерживаются на этот счет ровно противоположного мнения, и что, во–вторых, если все–таки наука так считает, то читатель, открывший книгу, вправе задать вопрос — а почему? Впрочем, очень может быть, что профессор Форель собрал горы доказательств, которые он не приводит лишь за отсутствием места. Предположим, что так оно и есть, и перейдем к собственно теориям профессора, предоставив судить о них всякому здравомыслящему читателю.
Личность ученого–мыслителя раскрывается во всем блеске, когда он принимается абстрактно рассуждать о природе нравственности. Здесь он великолепен; он одновременно и прост и страшен — словно кит. В своих туманных рассуждениях он постоянно руководствуется загадочной целью доказать, что в человеческой морали нет ничего выдающегося, ничего священного. Свое дремучее суеверие профессор искусно скрывает за приличествующим тоном и благопристойными выражениями. В его научном арсенале имеется всего три аргумента, на которых он торжественно выезжает, словно на трех престарелых слонах с перебитыми ногами. Все три незамысловатых аргумента сводятся, собственно, к тому, чтобы доказать: в мире не существует такого понятия, как совесть. Но ведь с тем же успехом он мог бы пытаться доказать, что в мире не существует такого понятия, как крылья или крысы, как зубы или зубры, как сапоги и сапфиры — и как швейцарский профессор.
Первый аргумент состоит в том, что у человека нет совести, потому что среди нормальных людей встречаются сумасшедшие, которые не слишком совестливы. Второй аргумент состоит в том, что у человека нет совести, потому что одни люди более совестливы, чем другие. А третий аргумент состоит в том, что у человека нет совести, потому что совестливые люди в разных странах и в разных обстоятельствах ведут себя совершенно по–разному Аргументы, которые профессор Форель столь красноречиво приводит для доказательства того, что у человека нет совести, могут с тем же успехом быть приведены для доказательства того, что у человека нет носа. В самом деле, у человека нет носа, потому что одни носы длиннее других или обладают лучшим обонянием, чем другие. У человека нет носа, потому что носы бывают не только самой разной формы, но и (какая злая ирония!) разного свойства: одни, вдыхая фимиам, блаженствуют, другие — морщатся. Таким образом, можно считать научно доказанным, что у нормального человека нос, как правило, отсутствует, а потому все без исключения носы, известные в истории человечества, следует рассматривать как плод затейливых фантазий легковерных эпох.
Я так подробно останавливаюсь на этих нелепых взглядах вовсе не оттого, что они оригинальны, а оттого, что они совершенно неоригинальны. В книге профессора Фореля они звучат столь устрашающе именно потому, что их можно отыскать в тысяче подобных книг нашего времени. Наш ученый муж торжественно заявляет, что категорический императив Канта[183] — бред, поскольку магометане считают непристойным пить вино, а английские офицеры считают непристойным пить воду. Он мог бы с тем же успехом заявить, что в природе не существует инстинкта самосохранения, потому что одни не пьют бренди, чтобы долго жить, а другие пьют бренди, чтобы спасти себе жизнь. Неужели профессор Форель полагает, что Кант или любой другой философ считал, будто совесть дается человеку, чтобы он мог придерживаться той или иной диеты или соблюдать ту или иную форму общественного поведения? Неужели Кант полагал, что во время обеда некий голос свыше шепнет нам на ухо: «Спаржа» — или что союз миндаля с изюмом совершается на небесах? Совершенно очевидно, что бытовые навыки выводятся из нравственных устоев, причем выводятся не всегда верно. Совесть безразлична к рыбе или шерри, зато совесть чтит всякий невинный ритуал, роднящий людей между собой. Совесть — это не «спаржа», это благожелательность, именно поэтому иные сочтут за благо отведать спаржи, когда ею угощают. Совесть не запрещает вам пить рейнвейн после портвейна, зато совесть велит вам не совершать самоубийства — инстинкт подскажет вам, что второй поступок может явиться непосредственным следствием первого.
Христиане прославляют вино как напиток, оказывающий на человека благотворное воздействие. Трезвенники поносят вино как напиток, оказывающий на человека губительное воздействие. Однако одни отличаются от других только выводами — нравственность у них одна. Трезвенники говорят, что вино — это зло, потому что убеждены в этом и считают нравственным говорить то, что думают. Христиане не скажут, что вино — это зло, потому что считают безнравственным говорить то, что не думают. А треугольник — это геометрическая фигура с тремя углами. А собака — это животное с четырьмя ногами. А королева Анна — мертва. Итак, мы вновь вернулись к азбучным истинам. Однако профессору Форелю до них еще далеко. Он неустанно повторяет, что морали, единой для всех, быть не может, так как одни пьют вино, а другие — нет. Поразительно, как он забыл упомянуть, что у французов и англичан не может быть единой морали хотя бы потому, что у французов принято правостороннее движение, а у англичан — левостороннее.
О комнатных свиньях
Сбылась мечта моего детства — я прочитал в газете следующее:
«Муниципальный совет графства послал предупреждение пожилой незамужней жительнице Эппинга, которая держит в доме свинью. Виновница непорядка ответила: «Я получила ваше письмо и очень расстроилась, потому что я лежу больная у свиньи в комнате. Как встану, перетащу ее в другую комнату, а из дому не выгоню, никому она не мешает. Мы с ней вместе живем вот уже три года. Я ее люблю и не выгоню. Пускай живет тут, с нами. А в другую комнату переселю, когда, бог даст, встану»».
Автор заметки предполагает, что ей будет нелегко тащить свою любимицу, так как та весит четверть тонны.
Мне кажется, он должен бы из рыцарства помочь ей — какой джентльмен разрешит расстроенной даме тащить четверть тонны упирающейся живой свинины? Вообще ситуация сложная. Обычно мужчина подает руку даме, а не свинье; но свинья тоже очень расстроена. Да, ситуация редкая во всех отношениях. Дама говорит, что свинья никому не мешает; однако правильней было бы спрашивать, не мешает ли хозяйка свинье — ведь она лежит у свиньи, а не свинья у нее. Но я ничуть не считаю, что прихоть бедной жительницы Эппинга хоть на йоту хуже прихотей ее богатых и почитаемых сестер; более того, я сам с детства мечтал о том же. Я никогда не мог понять, почему свиней не держат в комнатах, как собак и кошек. Начнем с того, что свиньи очень красивы. Те, кто с этим не согласен, смотрят на мир сквозь чужие очки. Очертания жирной, хорошей свиньи поистине прекрасны; изгиб ее бедра смел и груб, как поверхность водопада или контур тучи. По сравнению со свиньей лошадь нескладна и костлява. Как–то, споря о том, что все относительно (предмет, над которым уснули даже греки), Уэллс сказал, что лошадь красива сбоку, но очень уродлива сверху: тощая, длинная шея и толстые бока, наподобие скрипки. А на хорошую свинью можно смотреть откуда угодно — с омнибуса, с памятника, с самолета; она останется прекрасной, пока будет видна. Она наделена той высшей, лучшей, поистине универсальной формой, которую глупые люди (глядя на свиней и некоторых журналистов[184]) принимают за бесформенность. Толщина — добро, а не зло. Зрителям она дарует радость, обладателю — скромность. Только в одном не схожусь я с великими аскетами: они шли к смирению, худея. Быть может, худые монахи и святы, но смиренны монахи толстые. Фальстаф говорил, что толстяка невозможно ненавидеть[185] зато над ним можно смеяться, а это очень полезно для его души.
Конечно, я не говорю о душе свиньи, свинья не считается с общественным мнением. И вообще, свинья хороша не только толщиной. Красота свиней — в сонном совершенстве формы, роднящем их с мягкой силой Южной Англии, где они и живут. Этим даром наделены еще два представителя тех мест: тихие, округлые меловые холмы, огромные — и все же простодушные, и сильные сучья старых буков, которые в тех местах так неправдоподобно толсты. Три священных символа — бук, свинья и меловой холм — выражают великую суть Англии: добродушную силу. Стыдно вспомнить, что наш герб пересекают чужеземной поступью три льва или, может, леопарда. Почему не три свиньи на червленом поле поднимают переднюю лапу и смотрят на нас? Страшно подумать, что четыре каких–то льва лежат у подножья Нельсоновой колонны; столь английскую святыню должны охранять четыре борова. Быть может, наших скульпторов привлечет эта мысль; быть может, любимая сорокапудовая свинья обитательницы Эппинга станет натурщицей и разрешит наконец эти проблемы.
Кроме того, мы не знаем, какие дивные превращения претерпела бы ручная, комнатная свинья. Собаку приручили — то есть рассобачили. Ни один человек в Лондоне не знает, какова на вид собака. Вы узнаете дога, узнаете сенбернара, но, встретив на улице Собаку, убежите, громко вопя. Сотни, если не тысячи лет никто не глядел на это мохнатое чудище. Почему же нам не поверить в возможности кровного свиноводства? Можно вывести много пород, самых завлекательных. Свинья величиной с пони шествовала бы по улице, как сенбернар, не привлекая внимания. Элегантные, поджарые свиньи мчались бы по полю, как гончие. Мы встречали бы свинок коренастых и бодрых, как скочтерьеры, трогательных, как спаниели. Искусники свиноводы могли бы восстановить грозу лесов, клыкастого борова, который таинственней, огромней и кровожадней самого гигантского пса. Нежные хозяева, любители декоративных пород, могли бы выстригать и укладывать щетину, как локоны пуделя… Немного системы — и у нас были бы свиньи–овчарки и свиньи–мопсы.
Почему вы колеблетесь? Почему вам кажется, что вы в чем–то выше бедной дамы, не желающей расстаться со своей любимицей? Почему вас не тянет прижать свинью к сердцу? Разум говорит, что она красива. Эволюция сулит, что она станет еще лучше. Может быть, вам мешает инстинкт, предрассудок, традиция? Что ж, примените все это к женщинам, детям, животным — и поспорим снова.
Ирландец
На днях я посмотрел ирландские пьесы с участием настоящих ирландцев — крестьян и бедноты, — созданные вдохновением леди Грегори и мистера У. Б. Йитса. Помимо игры актеров и качества самих пьес (и то и другое отличалось достаточно высоким уровнем), постановка обращает на себя внимание уже тем, что в ней проявляется живой и скептический интерес ирландцев к англичанам, интерес, ставший источником стольких радостей и бед. Коль скоро нам принадлежит сомнительная честь создания образа Ирландского Простофили[186], ничуть не удивительно, что и ирландцы вознамерились ответить тем же. Всем нам приходилось видеть, как чистокровный англичанин исполнял на сцене роль Пэдди[187]. Не удивительно, что теперь чистокровный ирландец в свою очередь создает комический образ английского джентльмена. Познакомившись и с тем и с другим, я могу, положив руку на сердце (хотя мои скромные познания в физиологии не позволяют с точностью определить его местонахождение), во всеуслышание заявить, что английский джентльмен в исполнении ирландца являет собой еще более жалкое и удручающее зрелище, чем ирландский слуга в исполнении английского джентльмена. Комический англичанин в ирландских пьесах выведен не просто дураком, но слабонервным дураком; этот постоянно взвинченный, суетливый чудак не в состоянии вызвать к себе снисхождение ни силой, ни слабостью. Все это лишний раз подтверждает тот общеизвестный факт, что представления обоих народов о национальном характере своих соседей совершенно не соответствуют действительности; то, что почитается неоспоримой реальностью, является на деле откровенной фикцией. Миф о Беззаботном Ирландце сродни мифу о Педанте Англичанине, поскольку и тот и другой порождены полным отсутствием взаимопонимания между англичанами и ирландцами. Если на то пошло, было бы, пожалуй, вернее называть англичанина беззаботным, а ирландца — педантичным. Впрочем, и эта гипотеза также не вполне достоверна.
Если люди не близки по духу, им лучше не жить поблизости. Возможно, Библия учит нас любить своих ближних, а также любить своих врагов отчасти потому, что ближние и враги — примерно одно и то же. В этом парадоксе есть своя чисто человеческая логика. В самом деле, неизвестного вам человека вы воспринимаете попросту как человека, то есть без привычных предрассудков. Предположим, я обращаюсь к вам с несколько неожиданной просьбой: «Не откажите в любезности поразмыслить о душе человека, живущего по адресу: Хай–стрит, 351, Излингтон». Как знать, может, вы и есть тот самый человек, который проживает в доме номер 351 по Хай–стрит, Излингтон. Если так, замените этот адрес на любой другой, вам неизвестный, и продолжим нашу интеллектуальную игру. Так вот, вы вряд ли сильно ошибетесь, раздумывая о судьбе человека, которого вы никогда в жизни не видели, потому что вы отнесетесь к нему прежде всего как к человеку. Человек в Излингтоне — по крайней мере человек. Человек со своей, пусть И неизвестной вам судьбой. В молодости он, как и вы, радовался и страдал, как и вы, мучился и пьянел, влюбляясь; смерть для него, как и для вас, — непостижимая загадка. Вы можете беспристрастно размышлять о судьбе этого безымянного человека из дома номер 351 по Хай–стрит, Излингтон. Но вы никогда не сможете беспристрастно размышлять о душе вашего соседа по дому. Для вас он — не человек; он — ваше окружение. Для вас он — лай собаки, звуки рояля; для вас он — особа за стеной, та самая, у которой водосток работает хуже, чем у вас, зато розы растут лучше. Но вся эта совокупность сведений — еще не человек; у человека, как и у всякого живого существа, множество незначительных свойств и только одно — значительное. Судить о нем по звукам рояля или по шуму за стеной — все равно что ловить кошку за хвост, особенно если у нее их несколько. У человека, как и у волшебной кошки, множество хвостов, но только одна голова, только одна судьба. А голову человека отыскать еще трудней, чем голову черепахи. Познать сущность человека не легче, чем ухватить ежа за нужную иглу, птицу — за нужное перо, чем отыскать в лесу нужный куст. Если нам никогда прежде не доводилось бывать в лесу, мы знаем по крайней мере, что лес — это много деревьев, растущих из земли; мы можем представить себе, как переплетаются между собой ветви, как проступают в сумерках стволы деревьев.
Но приблизиться к лесу — значит увидеть только его опушку. Подойти к нему извне не значит войти: вы увидите лишь силуэты деревьев на фоне неба. А потому неведомый вам человек олицетворяет собой всех людей разом, олицетворяет собой славу человеческого рождения и таинство человеческой смерти. Напротив, очень нелегко представить себе, что живущий по соседству с вами мистер Браун (с которым вы только что повздорили из–за сорняков) может быть воспринят как олицетворение человеческого рода. Вы не оцените истинной славы его рождения; более того, вы наверняка будете с жаром намекать на бесславные подробности, с его рождением связанные. Вы не станете погожим летним вечером, провожая взглядом последние лучи заходящего солнца, размышлять о таинстве его смерти — в лучшем случае его смерть запомнится вам как досадное происшествие. То же касается и исторической близости. Я рассчитываю умереть смертью китайца, хотя некоторые китайские пытки мне не слишком по душе. Я жалею, что мое детство отличалось от младенческих утех древнего финикиянина, хотя знаю, что самых нерадивых из них приносили в жертву кровожадному Молоху[188]. Теперь эти канувшие в прошлое ужасы выглядят экзотически заманчивыми — они не воспринимаются больше фактами реальной жизни. Вавилонские матери (при всей их приверженности этикету), очевидно, любили своих детей, а китайцы, вне всякого сомнения, высоко чтили своих покойников. Совсем другое дело, когда два народа живут в непосредственной исторической и географической близости, а потому превратно судят о поведении друг друга. Одно дело, когда булочник–баптист из Излингтона размышляет об ирландских детях, которые якобы проводят свой досуг в компании невиданных фей и католических попов. Совсем другое дело, когда бродяга из Типперэри[189] размышляет о смерти ирландца, которая настигает его в брошенных деревнях, далеких колониях, в английских тюрьмах и на английских виселицах. В этом случае детство и смерть не только не объединяют разные народы, но, напротив, еще больше разъединяют их. В результате Англия и Ирландия пристально следят друг за другом, совершенно не вдаваясь в суть увиденного. Известно, например, что ирландская домохозяйка нерадива. Однако из этого мы неожиданно заключаем, будто она нерадива, потому что рассеянна, тогда как она, напротив, весьма сосредоточена — на религии, на сплетнях, на чае. Ее можно обвинить в неумелости, но никак не в слабости. Точно так же ирландцу известно, будто англичане необщительны. Однако им никогда не придет в голову, что необщителен англичанин оттого, что он романтик. В этом, с моей точки зрения, и заключается истинное значение тех поразительных национальных зарисовок леди Грегори и мистера Синга, которые мне довелось увидеть на прошлой неделе[190]. Это как раз тот редкий случай, когда неприхотливая зарисовка, набросок с натуры, «жизненный срез» может принести известную пользу. Мы почти наверняка превратно воспримем все те вести и воззвания, которые поступают к нам из Ирландии. Иными словами, если ирландец заговорит с нами, мы, безусловно, не поймем его. Но если мы услышим, как ирландец говорит сам с собой, нам может прийти в голову шальная мысль, что и он такой же человек, как и мы.
Серебряные кубки
В газетах появилось сообщение, что в помпезной постановке «Генриха VIII» в театре Ее Величества[191] были использованы кубки и бокалы, отделанные настоящим старинным серебром в стиле шестнадцатого века. В современных спектаклях этот напыщенный буквализм входит в моду. Так, мистер Винсент Краммлс, ставивший «Отелло», решил для пущей достоверности выкрасить актера, исполнявшего главную роль, в черный цвет с ног до головы. Впрочем, находка мистера Краммлса[192] не идет ни в какое сравнение с невиданной доселе «теоретической оснащенностью» покойного сэра Герберта Три, для которого вымазаться в черный цвет с ног до головы было бы величайшим подлогом, унизительной фикцией, самообманом. Если бы сэру Герберту Три случилось ставить «Отелло», он разыскал бы настоящего негра; ставь он «Венецианского купца», роль Шейлока исполнял бы настоящий еврей, — второе, учитывая состояние современной английской сцены, звучит более правдоподобно. Идею с серебряными кубками, задумай главный режиссер театра Ее Величества ставить «Аладдина» из «Арабских сказок», было бы несколько сложнее осуществить: ему бы пришлось отыскивать не одного, а целую сотню настоящих негров; не пару оправленных старинным серебром кубков, но горы огромных, подлинных бриллиантов. Подобная перспектива могла бы заставить самого сэра Герберта изменить свои взгляды на искусство драмы. Ведь стремление к сценической подлинности беспредельно. Если допустить, что подлинное серебро смотрится со сцены лучше бутафорского, можно зайти слишком далеко. Тогда имеет смысл священников из «Генриха VIII» наскоро посвящать в духовный сан в театральной уборной перед началом спектакля. Если на то пошло, то почему бы не рубить прямо на сцене голову Бекингему, вспомнив старое доброе время, оплакиваемое Суинберном[193], когда изнеженный мистицизм еще не лишил зрителей удовольствия лицезреть настоящую смерть на арене? Нам ничего не стоит возродить кровавое великолепие римских зрелищ. Раз есть настоящие кубки, почему не быть настоящему вину? А раз есть вино, почему не быть крови?
Подобные фантазии не столь беспочвенны и невразумительны, как кажется. Можно вообразить себе все, что угодно, коль скоро мы воспримем основополагающий принцип сценической подлинности: зритель должен наслаждаться не столько красотой серебра, сколько ценностью серебра. Знаменитое высказывание Шекспира о том, что искусство должно держать зеркало перед природой[194], большей частью воспринимается слишком буквально; в действительности это высказывание чисто аллегорическое, по крайней мере в сравнении с натурализмом театра Ее Величества. Искусство — это зеркало, но волшебное: природа не отражается в нем, как она есть. Зеркало так же избирательно, как и искусство: оно дает нам свет пламени, но не его тепло; краски цветка, но не его аромат; лица женщин, но не их голоса; внушительные размеры биржевых маклеров, но не их внушительные сбережения. Зеркало — это внешний образ вещей, а не их рабочая модель. А серебро, которое мы видим в зеркале, — не продается.
Впрочем, практические результаты сторонников сценической достоверности значительно опережают самые худшие теоретические прогнозы. Арабская расточительность режиссера в выборе обстановки и реквизита имеет один практический недостаток: она сужает круг театральных экспериментов, сводит их к выбору дорогих и никчемных безделушек, в блеске которых теряются оригинальные и свежие находки. По одному–двум помпезным театральным представлениям нельзя судить об истинном положении искусства в стране. Для сравнения обратимся к одному состязанию вполне в духе римских зрелищ (пусть и не столь представительному, как постановка сэра Герберта Три), которое состоялось недавно в Америке и для которого организаторы раздобыли настоящего негра — к состязанию боксеров. Стоило негру одержать победу над белым, как все разом заговорили о «победителе белого человека» и о «представителе черной расы». Предполагалось, что все черное население страны будет праздновать символическую победу над белым населением только потому, что один профессионал расквасил нос другому профессионалу[195].
На самом же деле этих двух боксеров так тщательно выбирали и так искусно тренировали (поиски таких людей сопряжены с бесконечными трудностями и затратами), что результат их боя ни в коей мере не отражает истинного положения белых и черных в стране. Если вы задались целью отыскать героев или монстров, вы обнаружите, что они есть повсюду. Если один из двух самых высоких людей на земле живет в Камберуэлле, это вовсе не значит, что Камберуэлл — страна великанов, в жилах которых течет кровь Анака[196]. Если вы отыскали двух самых худых людей на свете, один из них может оказаться парижанином, а другой — индейцем. Если же вы отыскали двух самых искусных боксеров, то не удивительно, что один из них оказался белым, а другой — черным. Подобные человеческие экспонаты сродни чудовищам — они встречаются так же часто, как черные тюльпаны или синие розы. На их нетипичном примере было бы абсурдно делать заключения о различных человеческих типах и мотивах их поведения. С тем же успехом можно было бы сказать, что Бородатая Женщина на ярмарке олицетворяет собой мужеподобность современных женщин или что сиамские близнецы символизируют нерушимый союз азиатских стран, от которого трепещет Европа.
В результате плутократический дух таких спектаклей, как «Генрих VIII», не только не способствует, но препятствует эволюции сценической образности. Если непомерные расходы на театральные постановки станут привычным делом, число конкурирующих между собой спектаклей неизбежно уменьшится, а те, что останутся, будут однообразны и невыразительны. Преподнесенные зрителю на дорогом серебряном блюде английская история и литература покажутся дешевой подделкой. Вместо того чтобы струиться безбрежным золотым потоком, национальная культура застынет в нескольких тяжелых золотых слитках, которые прикарманят немногие избранные. В современном мире найдется немало вещей, которые теоретически выглядят общедоступными и достоверными, а на практике оказываются совершенно недоступными и даже искаженными. В теории всякий лудильщик имеет право быть избранным в палату общин, где будет выступать от имени своих сограждан. На практике ему придется для начала выложить тысячу фунтов на расходы по выборам — сумму, которой располагает, прямо скажем, не всякий лудильщик. В теории любой мало–мальски преуспевающий актер может предложить на сцене свою концепцию кардинала Уолси[197], если эта концепция остроумна и глубока. На практике ему следует сначала обзавестись не только незаурядным умом, но и несметным богатством кардинала. Ему следует хорошенько задуматься, и не над тем, способен ли он перевоплотиться в Уолси, а над тем, способен ли он содержать слуг Уолси, приобрести столовое серебро Уолси, владеть дворцами Уолси.
Впрочем, люди с деньгами Уолси, равно как и люди с умом Уолси, встречаются нечасто (а ума у кардинала было еще больше, чем денег). Шанс совместить такой ум с таким богатством во второй раз крайне незначителен. В результате театр потратит тысячи и миллионы на заведомо неудачную постановку, на слабое и неубедительное сценическое воплощение образа. При этом может найтись какой–нибудь совершенно неприметный человек, которому достаточно только накинуть на себя красный халат — и мы увидим перед собой самого страшного из государственных деятелей эпохи Тюдоров. Современная театральная практика — это ли не продажа Шекспира за тридцать сребреников?
Об исторических романах
Разумеется, ничего не стоит высмеять рассчитанные на школьников романы мистера Хенти, в которых один и тот же юный англичанин многократно перевоплощается в Юного грека, Юного карфагенянина, Юного скандинава, Юного галла, Юного вестгота, Юного бритта — во всех, за исключением разве что Юного негра. Но в неуемной плодовитости и предприимчивости мистера Хенти есть свои достоинства; одно из них в том, что юный читатель вместе с главным героем, пусть даже ходульным и невыразительным, попадает в самые отдаленные и неведомые уголки человеческой истории. Из «Юного карфагенянина» английский школьник не узнает, конечно, о духе Карфагена столько, сколько узнает ценитель изящной словесности из «Саламбо». Однако он будет хотя бы знать, что Карфаген пал, — а это (по ряду причин) англичанам знать полезно[198]. Со времен Хенти авторы исторических романов с удивительным постоянством движутся по двум–трем проторенным направлениям. Если пишется такой исторический роман, то он пишется, как правило, только о четырех различных исторических эпохах с участием пяти–шести различных исторических персонажей; но и об этих эпохах и этих людях не принято писать ничего такого, что бы уже не было написано в других романах на ту же тему. Если же учесть, что за три тысячи лет нашей лучезарной европейской истории произошло великое множество необычайно увлекательных, на редкость забавных, исключительно колоритных событий, то незадачливых авторов исторических романов уместно сравнить с живописцем, который никогда не писал ничего, кроме лиственницы, или со скульптором, который умеет лепить только левую ногу.
Вы можете — нет, вы должны — написать роман о времени Генриха Наваррского (если взялись за исторические романы, выбирать не приходится: напишете то, что захочет издатель или рассыльный). В таком романе гугеноты должны быть галантными, хотя и довольно простодушными господами; католики тоже должны быть галантными, но довольно хитрыми господами. Все важные политические вопросы должны решаться на постоялых дворах в честных поединках на шпагах. Вы, конечно же, должны решить, кому из дуэлянтов отдать предпочтение, но вы не имеете права обвинять героев в том, в чем их обвиняли в действительности. Например, при дворе устраивается заговор с целью убить простодушного гугенота, однако вы должны воздерживаться от сравнений гугенотов с пуританами: борьба гугенотов с королевской властью не должна вызывать никаких ассоциаций. Вы должны категорически избегать описания неблагопристойных подробностей и ни в коем случае не смаковать утехи, которым предавались в историях королевы Наваррской[199]. Поменьше любви и побольше убийств. Запрещается также изображать простых парижан — их не существует (хотя именно простые парижане, на счастье или на беду, изменили весь ход истории). Не возбраняется выводить людей типа Сюлли, но весь их талант должен сводиться к тому, чтобы быть доверенным лицом своего монарха в его любовных похождениях и дуэлях на постоялых дворах. Самое главное, в романах про религиозные войны никто из персонажей не должен знать, каких именно религиозных убеждений он придерживается.
Вы можете написать роман о времени Ришелье. Однако основной принцип остается тем же. Ришелье должен быть зловещим и вместе великодушным противником главного героя. Он должен пытаться убить героя, но всякий раз терпеть неудачу. Когда пишешь подобные исторические романы, важно научиться подражать Дюма. Существуют критики, которые считают, что большую часть сочинений написали за Дюма его эпигоны. Если так, то его эпигоны умели писать. В трилогии о мушкетерах есть главы, про которые могу сказать только, что если их написал не сам Дюма, то, значит, он знал секрет, как заставить работать на себя не только руки, но головы и сердца. Начинающего автора совершенно бессмысленных исторических романов я хочу предупредить вот о чем: ни под каким видом нельзя выводить сюжет за пределы Франции, к которой автор должен относиться как к неведомой стране сказочных эльфов. Категорически запрещается также вывозить из Англии в сундуке генералов Монков[200]. Подумайте сами, какое бы вышло недоразумение (с точки зрения английского пуританина), если бы д’Артаньян выкрал вместо Монка генерала Кромвеля! Впрочем, все это происходило во времена Мазарини, а не Ришелье, но дела это не меняет. Главное — ни Ришелье, ни любой другой дальновидный политик не должны проявлять решительно никакого интереса к будущему Франции.
Вы также имеете право написать роман о Французской революции, хотя писать его лучше всего стоя на голове. Вот основные принципы такого романа. 1) С 1790 по 1794 год парижане ничего не ели и даже не заходили в кафе. Круглые сутки они толклись на улицах, наслаждаясь видом Крови, особенно Голубой Крови. 2) Вся власть была сосредоточена в руках общественного палача и Робеспьера; и тому и другому были свойственны резкие перепады настроения, в результате чего, вместо того чтобы убить человека безо всякой видимой причины, они зачастую в последний момент освобождали его, также безо всякой видимой причины. 3) Аристократы делятся на две группы: глубоко порочные и совершенно невинные, но и те и другие обязательно хороши собой; и те и другие, судя по всему, предпочитают кончить жизнь на гильотине. 4) Завоевание Франции, идея Республики, влияние Руссо, угроза национального краха, деятельность Карно по созданию революционных армий, политика Питта, политика Австрии, неискоренимая привычка защищать свою собственность от иностранцев, участие вооруженных людей в битве при Вальми[201] — все это не имеет ровным счетом никакого отношения к Французской революции, а потому должно быть опущено.
Так вот, учитывая баснословное богатство мировой истории, этим темам давно пора дать отдохнуть. Почти ничего не написано о других, не менее важных событиях: о войнах, которыми сопровождалось формирование католической Европы. Практически ничего не пишут про восстания, за исключением парижских; ничего нет про эдинбургские мятежи, про те несколько дней, когда быть врачом было почти так же опасно, как быть бешеной собакой[202]. Тот автор, который берется за роман на новые, еще не затронутые темы, не только пишет исторические книги, но и — что немаловажно — читает их.
Еще несколько мыслей о Рождестве
Умные люди говорят, что мы, взрослые, не можем радоваться рождеству, как дети. Во всяком случае, так говорит Дж. С. Стрит — один из самых умных людей, пишущих теперь по–английски. Но я не уверен, что умные всегда правы; потому я и решил быть глупым, а теперь уж ничего не поделаешь. Вероятно, по глупости я радуюсь сейчас рождеству больше, чем в детстве. Конечно, дети рады рождеству — они радуются всему, кроме порки, хотя она и способствует усовершенствованию. Дети рады и не–рождеству, я же гневно и яростно презираю это гнусное установление. Ребенок рад новому мячику, который дядя Уильям, похожий на Санта Клауса всем, кроме сияния, сунул ему в чулок. Но если мячика нет, он слепит себе сто мячиков; их подарит ему не рождество, а зима. Говорят, снежки теперь запретили, как все добрые обычаи, и серьезный, преуспевающий делец не удостоится нежданно–негаданно Большой Серебряной Звезды — снежного следа на жилете. В определенном смысле мы вправе сказать, что дети радуются не одному времени года, а всем. Я больше люблю холод, чем жару; мне легче представить рай в снегах, чем в джунглях. Трудно объяснить, в чем тут дело, попробую сказать так: весь год я сам не слишком аккуратен, летом неаккуратно вокруг. Но хотя (по мнению нынешних биологов) мое сформированное наследственностью тело принадлежало в детстве к тому же физическому типу, что и теперь, в немощи, я отчетливо помню, что тогда я кипел свободой и силой в невыносимую жару. По прекрасному обычаю, нас отпускали погулять, когда жара мешала учиться, и я помню, как бывал счастлив, когда, отшвырнув Вергилия, пускался вскачь по лугу. Теперь мои вкусы изменились. Если сейчас каким–нибудь непостижимым способом меня загонят на луг в жаркий день, я охотно возьму Вергилия, но бегать не стану и надеюсь, что не прослыву педантом.
Вот почему пожилые люди могут радоваться рождеству больше, чем дети. Больше радуются они и Вергилию. Что ни говори о холоде классиков, человек, сказавший, что в сельском доме не боишься ни царя, ни черни[203], понял бы Диккенса. Именно такие чувства понятнее взрослым, чем детям. Взрослые больше любят дом.
Я всегда считал, что Питер Пен[204] ошибся. Он был хороший мальчик, по–детски смелый, но и по–детски трусливый. Ему казалось, что умереть — великолепное приключение; он не понял, что еще смелее остаться жить. Если бы он согласился разделить участь собратьев, он бы открыл, сколько нужного и важного обретаешь, взрослея. Не сломив свою относительную детскую правоту, не узнаешь многих прекрасных вещей. Это единственный довод в пользу родительского авторитета. Мы вправе приказывать детям; начни мы убеждать их, мы бы лишили их детства.
Новая мораль повторяет ошибку Питера Пена. Теперь всякий скажет вам, что пускать корни — бессмысленно, нелепо. Спросите ближайшее дерево, и оно вам ответит, что это не так. Польза от корней есть, имя ей — плод. Неверно, что кочевник свободней крестьянина. Бедуин может нестись на верблюде, взметая пыль, но пыль совсем не свободна. Точно так же не свободен и странник, даже если и он — летит. На верблюде, как и в тюремной камере, не вырастишь капусты. Кстати, верблюды не так уж часто бегают. Большая часть кочующих существ передвигается медленно — нелегко тащить на себе дом. Цыгане и улитки тащат свой дом и едва тащатся сами. Я живу в совсем маленьком доме, но не смог бы таскать его на себе. Говорят, теперь многие живут в автомобилях. Однако, к моей радости, они в них и умирают. Готовя им страшную гибель, судьба карает их за то, что они не вняли опыту собратьев своих, цыган, и сестер улиток. Но чаще всего дом неподвижен. А все, что неподвижно, пускает корни. Корни пускает рождество; корни пускает зрелость. Брак — основа домашней жизни, но представим себе даже холостяка, у которого нет ни жены, ни ребенка. но есть хороший слуга, или садик, или домик, или пес. Сам того не зная, он пустил корни и смутно чувствует, что в его саду есть то, чего нет ни в раю, ни в городском парке. Он узнает то, чего не узнал Питер Пен: простой человеческий дом так же романтичен, как призрачный приют на вершине дерева или таинственно–укромная нора под корнями. А все потому, что он изучил свой дом, тогда как Питер и другие непокорные дети редко это делают. Ребенку положено мечтать о небывалой стране, которая «там, за стеной». Нам, взрослым, приходится думать о мире, который здесь и здесь останется. Вот почему, как мы ни плохи, мы знаем больше, чем дети, о радости рождества.
[180] Кентавры — в греческой мифологии полулюди — полулошади. Ундины — в индоевропейской мифологии девушки с рыбьими хвостами, русалки. Грифоны — в греческой мифологии птицы с орлиным клювом и львиным телом, гиппогрифы — полулошади–полуптицы.
[181] Работа А. Шопенгауэра «О женщинах» (1851) была посвящена доказательству их неполноценности.
[182] Обвиненный в детстве в том, что изрубил дерево в мелкие кусочки, Дж. Вашингтон ответил, что «сделал это своим маленьким топориком».
[183] Категорический императив — основной принцип этики Канта — всеобщее правило, которому должны следовать все люди вне зависимости от положения, происхождения и др.
[184] Намек на необычайную тучность самого Г.К.Ч. (см. Послесловие).
[185] «Если тучность заслуживает ненависти, то, значит, тощие фараоновы коровы достойны любви». («Генрих IV», ч. I, акт II, сц. 4, пер. Е. Бируковой.)
[186] Сентиментальный и глуповатый ирландец — традиционный персонаж английского фарса.
[187] Пэдди— шутливое прозвище ирландцев.
[188] Молох — по представлениям времен Г.К.Ч., карфагенское божество, которому приносились в жертву люди, и прежде всего дети.
[189] Типперэри — городок в Ирландии.
[190] Очерк «Ирландец» был опубликован 2 июля 1910 г.
[191] Премьера «Генриха VIII», поставленного Г. Три, исполнявшим также роль кардинала Уолси, состоялась в театре Ее Величества 1 февраля 1910 г. В том же году появилась настоящая статья Г.К.Ч. Перепечатывая ее через десять лет в книге, он внес в текст некоторые исправления, так как Г. Три умер в 1917 г.
[192] Винсент Краммлз — режиссер бродячего театра из романа Диккенса «Николас Никльби» (1839).
[193] Речь идет о стихотворении А. Суинберна «Долорес» (1866). См. гл. XLVIII.
[194] Слова Гамлета из разговора с актерами. «Гамлет», акт III, сц. II.
[195] В 1910 г. победа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира негра Джека Джонсона над белым Джеймсом Джефри привела к расовым погромам.
[196] Анак — прародитель библейского племени великанов (Кн. Ис. Нав., XXI—XXII).
[197] Уолси — персонаж «Генриха VIII». Исторический кардинал Уолси был известен сказочным богатством.
[198] «Юный карфагенянин» (1887) — роман А. Хенти. «Саламбо» (1862) — исторический роман Флобера, действие которого происходит в Карфагене. Могущество древнего Карфагена было основано на морской торговле и эксплуатации колоний. Город управлялся олигархией. После ряда войн разрушен римлянами во II веке до н. э. Г.К.Ч. проводит параллель между Карфагеном и Англией.
[199] Речь идет о романе Маргариты Наваррской «Гептамерон» (опубл. 1558).
[200] Генерала Монка вывозит из Англии в Голландию д'Артаньян в томе I романа А. Дюма «Десять лет спустя» (1848).
[201] В битве при Вальми в 1792 г. французские революционные войска нанесли первое поражение австро–прусским интервентам.
[202] Речь, вероятно, идет о первой половине 1594 г., когда придворный врач королевы Елизаветы Родриго Лопец был обвинен в намерении отравить ее.
[203] Речь идет о I оде III книги «Од» Горация.
[204] Питер Пен — герой одноименной пьесы Дж. Барри (1904), мальчик, который не становится взрослым и путешествует в «страну Никогда».
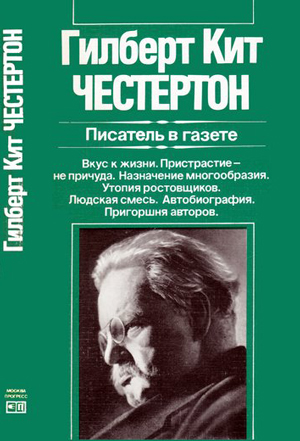
Комментировать