Ощущаем ли мы себя сегодня наследниками древнерусской культуры?
Не растут ли наши дети, будто это не их предки создали «Троицу» Рублева, Новгородскую «Софию» и сокровища знаменного распева?
Что мы потеряли, и что приобрели, предав на столетия забвению церковно-певческую и иконописную традиции, в которых жизненно воплотились идеалы Св. Руси?
Отрыв нашей певческой традиции от исконных корней начался более трехсот лет назад. Появилась нотная пятилинейная система и прельстила своим удобством – вечным соблазном Запада. Действительно, пятилинейная нотация, по сравнению с крюковой, легка и «комфортна» в освоении, доступна всякому, любого духа человеку. Но эти пять линеечек, такие удобные для записи музыки инструментальной, оказались не в состоянии вместить многогранное богатство древнерусского богослужебного нения, и с неизбежностью привели к его обеднению. постепенному перерождению и вытеснению музыкой светской.
В знаменной крюковой нотации даже простейшие знаки содержат несколько смысловых уровней. Каждый знак имеет значения длительности и высоты, подобно тому как имеет их и каждая нота. Но, если значение ноты этим исчерпывается, знак знаменной системы содержит в себе еще несколько уровней, очень существенных именно для задач богослужебного пения.
Третий уровень значений проявляет характер исполнения знака. Одна и та же итальянская целая нотка «соль», если ее записать разными знаменами, будет звучать каждый раз по-разному. Если это Стрела – то нужно «потянути». Если Статия – «постояти», если Параклит с оттяжкой – «возгласити светло и сановито». Какое изобилие исполнительских оттенков: «выгнути», «голкнути», «дрогнути», «подробити по строке»... И выбор знака никогда не будет случайным, он всегда обусловлен рядом причин, главная из которых – смысл богослужебного текста. Благодаря этому, исполняя то или иное песнопение по крюкам, мы не можем делать это своевольно – знамена в точности подскажут нам, как нужно спеть, чтобы, увлекшись собственным чувством, не впасть в погрешность по отношению к словесному тексту. Все акценты уже расставлены монахом – распевщиком. Знамена говорят нам: “Толковать так, а не иначе”. Таким образом, они выполняют по отношению к богослужебному слову функцию предания (поскольку толкование писания есть область предания), определяя некий, подобный иконописному, канон.
И, наконец, о четвертом уровне значений, напоминающем церковному певчему о его главном делании. Это – смысловая вершина знака, его нравственное богословие:
 |
крюкъ простой – крепкое ума блюдение от золъ |
 |
крюкъ мрачный – крепкое целомудрие намъ и надежда |
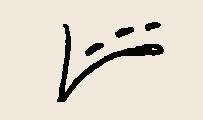 |
крюкъ светлый – крепкое всегдашнее бдение в молитве |
 |
голубчикъ борзый – гордости всякия преломление |
|
|
осока – отгребание от всякого зла всем сердцем и мыслию |
|
|
статия мрачная – за чистоту душевную и телесную крепкое страдание |
 |
Статия простая – срамословия и суесловия отбегание |
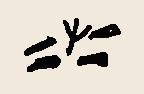 |
статия светлая с сорочьей ножкой – сребролюбия истинная ненависть |
 |
стопица – смиренномудрие в премудрости |
Практический опыт пения по крюкам наводит на мысль, что генетическая память действительно существует. То, что многие века наши предки пели этим распевом – несомненно помогает и сегодня чутко воспринимать его красоту.
Человек, согласно святоотеческому учению, трехсоставен: дух, душа, тело. Музыка – поскольку это язык – обращается преимущественно либо к духовной, либо к душевной, либо к телесной сущности человека. Условно говоря, каноническое богослужебное пение обращено к духу, почти вся классическая музыка сродни душевному и, начиная с джаза, музыкальный язык популярного направления все более активно направлен на резонанс (диктат) телесного. (Не будем касаться здесь вопроса о способности музыки быть носителем начала демонического).
Музыкальный язык канонического богослужебного пения, благодатно зарождавшийся в недрах православного богослужения, всегда действенно способствует собранности ума, побуждая его тесным нерассеянным путем следовать слову. Но эта связь со словом осуществляется не через эксплуатацию эмоций (католическая экзальтация), а духовно. Каждой своей интонацией, отбиравшейся веками в соборном молитвенном делании, он служит пробуждению и взращиванию духовного человека, приводя в подчинение ему человека душевного и телесного.
Когда мы оставили свое древнее богослужебное пение, и, вместе с пятилинейной нотацией в наши храмы проникли мелодии внебогослужебного происхождения – чисто душевные, сентиментальные, и даже оперные – в триединство слова, распева и образа вкрался разлад. Богослужебное слово церковно-славянского языка сохранилось в своей духовной чистоте, а музыкальное и, одновременно, изобразительное искусство захватила душевно-эмоциональная стихия, не знающая никаких канонов. Слово, музыка и образ заговорили на разных языках. Потеря внутреннего единства расстроила воздействие целого. Музыка вышла из подчинения слову, все больше отвлекая от него внимание и переводя на себя.
Растущий разлад между языками музыки и слова – небезобиден. Воспринимаемый подсознательно, он способен оборачиваться смешением и подменой понятий во внутренней жизни человека.
Противоречие этих двух языков мы не всегда ощущаем. Увы, оно становится очевидным для многих только в своих крайних проявлениях: не кощунствует ли музыка над словом, когда рок-ансамбли надрывно распевают «Аллилуйя»? Таковым оказался уже за стенами православного храма конечный результат все того же расцерковления музыкального языка, все того же распада. Но на подступах к этому конечному результату мы обретаем песнопения с гармонией романтического, и иногда даже почти джазового стиля – увы, звучащее в храме! (Далеко ли до гитары?) Слово можно раскрасить музыкой в любой цвет, заземлив и исказив смысл до неузнаваемости.
Привлечение современного музыкального языка с целью сделать смысл слова более доступным всегда чревато этой подменой. Поэтому использование богослужебных текстов во внецерковном творчестве – например в эстрадном (бардовском) жанре (если только это может быть оправдано целью проповеди) не приносит ли больше вреда, чем пользы?
Но будем помнить, что начало этого пути в отступлении от канонического знаменного (столпового) распева, в котором музыкальное начало подчинялось и вторило слову, усиливая его, – и принятии в Церковь инородной музыки, о которой святой патриарх Ермоген говорил: “Терпеть не могу латинского пения на Руси”.
Расцерковление языков музыкального и иконописного искусства возникло как проявление болезни расцерковления духовного.
Каноническое искусство – это сила центростремительная, по отношению к Истине. В нем сокрыта всякому ищущему великая помощь.
Народу стремящемуся укорениться в Истине – зачем использовать средства заведомо центробежно от нее уводяще?
Иеродиакон Герман, регент Валаамского монастыря:
– В чем особенность исполнения церковных песнопений?
– В храме богослужебное пение создает особый молитвенный настрой у молящихся, способствует их внутренней молитве. В Валаамском монастыре с непростой тысячелетней историей традиционно пели древнерусским знаменным (столповым) распевом. В Уставе монастыря записано: «Пение же да будет столповое беспременно».
Очень многие люди не воспринимают церковное пение из-за некачественных записей, где практически невозможно разобрать слова, в результате непонятен смысл. Поэтому мы стали записывать песнопения в студийных условиях, с соблюдением всех требований высококачественной профессиональной записи. Для любого человека, в особенности для монаха, исполнение церковных песнопений – прежде всего молитва. Нам было важно донести текст, в котором заложен дух церковной молитвы, и сделать это в такой форме, которая максимально подчеркивала бы слово.
– В чем суть знаменного пения?
– Знаменное пение духовно поддерживает текст. В этом и заключается глубина древнего знаменного распева. Поздние распевы, которые пришли с Запада, слишком примитивны в этом плане.
Каждый знак (знамя) знаменной нотации – это символ, в котором заложен глубочайший смысл. Этот знак говорит нам, как нужно петь данное слово или звук интонационно и как нас при этом должно быть духовное настроение, что мы при этом должны помышлять, какое состояние духа должно у нас быть. Скажем, знак «стрела» – это полет к небесам, а «статия» требует от нас войти в состояние достигнутого покоя. Есть некие акценты или остановки мысли на каких-то ключевых словах, дабы молящийся имел возможность более глубоко вникнуть в значимость того, что поется. В таких случаях слово распевается продолжительной музыкальной фразой, украшенной множественными узорами.
Очень хорошо о древнем знаменном распеве еще в середине девятнадцатого века сказал Игнатий Брянчанинов: «Тоны этого напева величественны, протяжны, заунывны, изображают стоны души кающейся, воздыхающей в стране своего изгнания о блаженной, желанной стране радования вечного, наслаждения чистого, святого... Эти тоны то тянутся плачевно, тоскливо, как ветер пустынный, то постепенно исчезают, как эхо среди скал и ущелий, то гремят внезапно…»
Сейчас в Церкви, к сожалению, устоявшаяся традиция – это многоголосное гармоническое пение, которое родилось на Западе и пришло из католического Рима. Эта новая музыка наполовину немецкая, наполовину итальянская. В Русской Православной Церкви, да и в древней западной, никогда не было никакого многоголосия. Скажем, древневизантийский распев был либо одноголосным либо с исоном, т.е. с низким подголоском. Это когда целая группа певчих «тянет» один какой-то устоявшийся звук, а над ним более искусные певцы поют мелодию. В Риме существовал до разделения церквей Григорианский хорал. В исконном своем виде он тоже одноголосный.
В древней Церкви никогда не было музыкального услаждения. Сама структура гармонических песнопений уже предполагает некое услаждение, отвлечение от молитвы. Другими словами, человек приходит в церковь послушать музыку. Этого не должно быть. Конечно, пение должно быть красивым, но оно не должно отвлекать на себя внимание приходящего в церковь, наоборот, должно поддерживать в человеке его молитвенное состояние, помогать ему молиться. Молитва – это моление, это просьба, здесь не может быть никакого пафоса.