Январь
Максим Исповедник, св. [О нем.] Жизнь, дела и мученичество преподобного отца нашего и исповедника Максима / Пер., изд. и примеч. М.Д. Муретова // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 1–16 (1-я пагин.). (Начало.)
—1—
Перевод жития св. Максима сделан по следующим текстам, помечаемым у нас буквами:
А. Пергам. рукопись Моск. Синод. (Патр.) Библиотеки, по описанию архим. Владимира № 380, писанная в 1022-м году (на л. 370 почти стершаяся припись), листы 231 об.–252. По сравнению с печатными изданиями жития у Combefis'a и Mignéя, рукопись имеет следующие особенности: 1) нет I–VII глав, излагающих жизнь св. Максима до монофелитского движения и участия в нем Ираклия, – 2) главы VIII–XVIII изложены сходственно, но не тожественно, причем в рукописи прибавлено сообщение о сочинениях св. Максима, – 3) вместо сокращенного изложения изданных Combefis'ом Актов в XIX–XXXIV главах «Жизни», рукопись дословно выписывает самые эти Акты (Comb. I. XXIX–LXVI, Migne 90. 110–172), хотя и с значительными опущениями, именно: в Acta I: гл. IV, нач. V, VIII, IX, первая половина X, вторая половина XI, почти вся XIV и XV. – в Acta II: I и нач. II изложено иначе, опущено: кон. V, VI, VIII, VIII, почти вся XII, вся ХIII, XIV, XV, XVI, нач. XVII, почти вся XIX, XX, XXI, конец ХХIII и XXXII, – 4) приведено все целиком письмо св. Максима к Анастасию монаху (Comb. XLI–ХIII Migne 131–134, – 5) в конце жизнеописания помещено письмо Анастасия пресвитера и апокрисиария, – ученика и сподвижника св. Максима, – к Феодосию пресвитеру Гангрскому, – напечатанное у Combefis'a (LXVII–LXX) и Mignéя (171–178) только в латинском переводе Анастасия Библиотекаря, – в рукописи приведены главы II–V, – 6) наконец, нет сообщения о чудесном восстановлении дара слова и способности письма десницами у святых Максима и Анастасия, по отсечении у них языков и правых рук, – и др. нек. Частные особенности этой редакции жития св. Максима отмечаются в разночтениях, а большие отделы печатаются целиком – в греческом тексте с русским пе-
—2—
реводом, – на правых – нечетных страницах, в соответственных местах. Рукопись несомненно представляет древнейшую редакцию жития: почти все оно состоит из Актов, из письма самого св. Максима и из письма ученика его Анастасия пресвитера и апокрисиария и совпадений, большею частью буквальных, с хронографией Феофана (см. ниже под Th).
Б: Рукопись той же библиотеки № 391, состоящая из пергам. (1–32. 91. 94) и бумажных листов: житие помещено на 89–152 листах, из коих 91 и 94 пергам. XII–ХIII в., а прочие бумажные XV в. – откуда видно, что бумажная рукопись представляет точную копию с пергам. 12–13 в., даже в строках и страницах. При переплете листы перепутаны, порядок их должен быть такой: 89–99. 124–125. 100–118. 128. 119–123. 126–127. 129–152. Рукопись сходствует с текстом Combefis'a в главах I–XVIII и XXXIV–ХLI, – главы XLII нет, как и в № 380 Как и в № 380, излагаются Акты, но в целом почти виде и в обратном № 380-му и Combefis'y порядке, т. е. сначала Acta II, а потом I. Как и в № 380-м, есть сообщение о сочинениях св. Максима. И это житие древнее, полнее и исправнее, чем помещенное у Combefis'a, которое мы дополняем и исправляем по А и В.
С: Изданные Combefis`ом тексты: Vita ас certamen (I–XXVIII, Migne 67–110), в которой между 16 и 17 гл. имеется значительный пропуск, восполняемый нами по Б, с коим совпадают здесь Р и S, – Acta I, (XXIX–XLI, Migne 110–136), письмо св. Максима к Анастасию монаху (XLI–XLII, М. 131–134), приписка Анастасия и его письмо к Каларийским монахам в латинском переводе Анастасия Библиотекаря (LXII–XLIV, М. 133–136), Acta II (XLIV–LXVI, М. 135–172), письмо Анастасия пресвитера и апокрисиария к пресвитеру Феодосию в латин. переводе Анастасия Библиотекаря LXVII–LXX, M. 171–180) и Hypomnesticum (LXXX–LXXXIV, М 193–202). Кроме того цитуются:
AA. SS: Acta Sanctorum, August, t. III под 13-м числом
Р: Помещенный в A A. SS. латинский перевод греческого рукописного жития, сделанный Понтаном (Pontanus)
S: Цитуемый в A A. SS. греч. cod. Sabaudicus.
—3—
M: латинский перевод Актов по трем Ватик, рукописям, принадлежащий Морину (Morinus) и помещенный в Annales Baronii, t. XI ed. 1887, pag. 466 sq,
Д: Славянская обработка жития в Минеях Четьих св. Димитрия Ростовского, под 21 м января, – и русская их переработка в издании Моск. Синод, типографии, книга 5-я, 1904 г.
Г: Грузинское житие, изд. прот. Кекелидзе, в трудах Киев. Дух. Акад. за 1912 г. Ноябрь (текст) и Сентябрь (исследование).
Содержание: предисловие, соотв. I гл. на короче (стр. 451), о родителях и воспитании, соотв. II–III гл. по короче, с дополнением, что родители Максима назывались Иоанном и Анною (451–452), об Ираклие в службе Максима при его дворе, соотв. IV гл. 452), – отсутствующая в др. редакциях историческая заметка о ересях, осужденных на IV в V вселенских соборах (452–453), встреча Ираклия с Афанасием в Иерополе, соот. VIII гл. (453–454), о воспитании петр. Сергия отсут. в др. (454), участие Ираклия в догмат, движении и пр. соотв. VIII гл. (454–455), удаление св. Максима в Хрисоп. обитель и описание его монашеской жизни соот. V–VI гл. но короче (456–457), обличения М. против царя и патриарха отс. в др. (457–458), удаление М. в Рим соотв. VII гл. (458), описание пустынножительства М, и его встречи с двумя Анастасиями, написанные здесь его послания, видение ему – отсутствуют в др. (459–460), прибытие в Рим, встреча с Иоанном папою и, по смерти его, удаление в Африку (460), встреча с Пирром, обращение Пирра в православие и его прибытие в Рим, возвращение Пирра к ереси, его соборное проклятие папою Мартином, прибытие Максима в Рим и написание обличительных посланий и разных сочинений (460–462), о чудесах М. отс. в др. (462), арест Мартина и Максима по повелению Космы (Константа) внука Ираклия, ссылка Мартина в Херсон, доставление Максима и его учеников на суд в Константинополь соотв. XVII гл. (463), суд соотв. Ralatio С и житиям А и В с нек. отступлениями (463–466), письмо Максима к Анастасию соотв. А (466–467), затем tomus alter соотв. В (и А) с некоторыми отступлениями (467–470), обширная вставка о допросе М. отс. в др. (470–477) с извлечением из Disputatio cum Pyrro (475–476), письмо Анастасии соотв. А (477–479), о папе Агафоне и смерти Константа соотв. А и Th (479–481), наконец длинная приписка о Константине и VI вселен. соборе и заключ. похвала св. Максиму, не имеющиеся в других житиях (481–484).
Th: Theophanís Chranographia ed. С. de Boor, I. Есть буквальные совпадения или сходствующие с житием места: стр. 329 стр. 21–332. 5,–341. 12–19,–347. 7–14, 21–24,–351. 14–31. Ср. русск. перевод Оболенского и Терновского: «Летопись византийца Феофана», стр. 243–245. 250–251. 255. 258–259. Родился ок. 758 Г. ум. 817 г.
—4—
Жизнь дела и мученичество преподобного отца нашего и исповедника Максима1
I. Жизнь и всех, подвизавшихся по Богу, плодотворна и полезна тем, что побуждает к добродетели и поощряет к подражанию в добре. Но жизнь исповедника и божественного Максима2 тем успешнее может подготовить к мужеству и тем большую пользу принести3 душе, чем она выше и всецело славнее. Муж этот отличался не только необычайною жизнью, но и увлекательным словом, как и благородным и несравненным мужеством, о коем даже одно воспоминание может доставлять большое удовольствие и внедрять в боголюбивые души великую4 любовь к добродетели. Посему и в настоящем слове, намереваясь говорить о нем, мы желаем и главною задачею своею ставим изложение и описание каждого из его деяний5, так чтобы от воспоминания их и само слово делалось более приятным и доставляло слушателям великое удовольствие. Однако ж невозможно дать полное и цельное изложение всех его деяний, а те, кои мо-
—5—
гут быть изложены6, трудно восхвалить7 должным образом, ибо даже наименьшая из дел сего досточудного мужа оказываются превышающими силу слова. Итак, по трудности и даже невозможности изложить все подробно, я сам нахожу себя вынужденным делать опущения, нисколько не опасаясь обвинения за эти пробелы, потому что и никто другой8 из наших предшественников, сколько мы знаем, (доселе) не пускался в изложение всех деяний сего мужа, очевидно считая такое предприятие нелегким и трудно достижимым. Впрочем, чтобы нам не пройти9 полным молчанием столь важный предмет и, по невозможности коснуться всего, и не опустить всего, – что почитаю и10 неполезным и11 даже не свободным от, вины, – оказывается необходимость для меня представить настоящее слово, хотя и вижу, что оно весьма незначительно и много ниже излагаемых предметов. Таким образом мы и нашу исполним обязанность и должное посвятим вам, неотступно требующим от нас именно слова о нем. Если же среди речи мне придется напоминать и о некоторых других тогдашних делах, то это конечно не без основания12, так как те времена, как знаете, воздвигли великое нападение на истину. Но сначала следует, конечно, сколько можно, сообщить пока13 о самом преподобном14,
—6—
ради коего мы теперь и предприняли слово15.
II. Отечеством божественного и исповедника Максима был первый и величайший из городов Константинополь, обычно называемый также Новым Римом. Его родители принадлежали к старинной благородной фамилии и в мирской знатности уступали не многим, – отличались благочестием, склонностью к добродетели и исполнением ее, так что этим они могли бы славиться более, чем родом16. Произведши на свет сего блаженного, они еще в самом раннем возрасте привели его к божественной купели (крещению), чтобы с младенчества он получил очищение, – не позволяли ему предаваться юношеским удовольствиям, ни расслаблять душу разными детскими ребячествами, чтобы еще не сложившаяся и слабая природа не была увлечена к расслаблению и изнеженности нравов. Напротив, воспитывая благородное дитя в суровой строгости, они внедряли ему и17 сильное влечение к прекрасному и заставляли его18 всецело устремляться к добродетели. Да и сам он, обладая прекрасною природою и получив такое воспитание, еще будучи юношею, уже имел в себе предначертания добродетели, как бы некие тени и письмена, довольно ясно изображавшие будущее. А с дальнейшим увеличением возраста и приобретением устойчивой твердости души,
—7—
он начал обладать и более точными образами и чертами ее (добродетели), когда и разум и мысль и все вообще19 устремлялось у него к лучшему и совершеннейшему20.
III. А так как он и к21 учителям ходил, старательно изучая, как следует, все науки, то нужно ли и говорить, сколько познаний приобрел он в течение непродолжительного времени: грамматику и весь круг прочих воспитательных наук он усвоил весьма тщательно, в риторике и искусстве речи достиг наивысшей ступени, а22 философию он изучил так прилежно, что никто не мог23 приблизиться к нему в этом хотя бы и немного. В равной мере24 обладая трудолюбием и природными способностями, он был необычайно способен ко всем наукам. И всеми ими в отдельности пользовался он, как немало содействовавшими25 ему иногда к усовершенствованию в добре. Но26 более всего он изучал и любил27 философию и связанные с нею науки, предпочитая ее всем другим. И так как он находил в ней знание и разумение вещей28, раскрытие как теории, так и практики, исследование природы и миpa и разъяснение всего вообще другого: то поэтому он с тем
—8—
большим рвением отдавался ей и его ум постоянно был занят ею. И это – не как пришлось и безрассудно. Но софистику ее и всякий обман и ложные умозаключения он совершенно отверг и отбросил29, а правила и принципы, равно и прочие логические методы и доказательства признал и усвоил. В самом деле, разве для него возможны были ложные вопросы, сплетения поддельных силлогизмов и таковых же умозаключений, как и вообще все, что пятнает30 истинную мудрость, – чего нет надобности и говорить о нем?31 Разве он заботился когда о чем-либо подобном? Разве мог допустить хотя бы сколько-нибудь склонить свой ум к недоброкачественным произведениям других? И был он для всех предметом удивления, как обладавшей таким знанием и такою добродетелью, а еще более смиренномудрием и скромностью. Никакой предмет никогда32 не вызывал в нем гордости и не заставлял его много о себе думать33: ни знатность рода, ни превосходство над всеми в науках34, ни высота добродетели, ни вообще все другое. Напротив, он так заботился о смирении, что в нем только одном полагал достоинство и похвалу жизни и считал выше, чем если бы кто стал предлагать ему сразу всю имеющуюся у людей славу35.
IV. Но, конечно, было невозможно этому досточудному человеку такой жизни остаться в неизвестно-
—9—
сти и не проявить себя пред другими на общую пользу, хотя он и ежедневно много старался о том, чтобы убегать от пустой славы и не уловляться разными случайностями жизни, с коими быть даже в соприкосновении36 он считал большим препятствием к добродетели. И несмотря на то, что сам он так думал и поступал, однакож против воли он берется во дворец37 тогдашнего императора, – это был Ираклий38, – пригласившего его со всем благоволением и сделавшего первым секретарем царской канцелярии39. Как обладавшим такими достоинствами и как принадлежавшим к такому роду, царь пользовался им в своих делах и имел в нем помощника и соучастника на все хорошее, так как он отличался большим благоразумием40 в понимании должного, был весьма способен давать хорошие советы и обладал даром быстро сказать и написать нужное. Поэтому его участием в делах весьма дорожили как сам царь, так и придворные41, – и этот человек всегда был для них предметом удивления42.
V. Но так как он признавал это ничтожным пред философией: и славу, и богатство, и честь, и все, что касается пустого честолюбия, – и кроме того видел повреждение веры тогдашними новшествами
—10—
и великое осквернение43 Церкви учением монофелитов44, то оставляет все, почитая соприкосновение с этим опасностью для души, – и, как давно уже возлюбивший тихую жизнь, скоро принимает монашество, поступив в монастырь, находившейся на противоположном берегу45, под названием Хрисопольского, где процветала тогда философия46, Там он остриг волосы, облачился во власяную одежду47 и с того времени постоянно стал изнурять свое тело, пользуясь не только постом и непреодолимым48 терпением других страданий, но и предаваясь всенощному стоянию и напряженной молитве, а чрез это очищая49 душу, отвлекая ум от земли50 и освобождая ее от уз прежде освобождения (смерти). И до строгой жизни (в монашестве) приучавший себя к подвигам и трудам и проводивший жизнь согласную с философией, он после того, как посвятил себя на подвиг51, уже ничего другого не желал и не делал. Имел он конечно многих сподвижников, но всех превзошел и пред всеми достиг удивительной высоты. И вот они так поражены были столь великою добродетелью его, что сообща послали к нему усерднейшую просьбу предстательствовать у них и принять начальство над ними, ибо незадолго пред тем они лишились сво-
—11—
его настоятеля52. Но он, отвергая начальство, как некую тяжелую ношу53, твердо и решительно отклонял их просьбу, не уступая их словам и не склоняясь на их мольбы. Когда же увидал, что они все более и более настаивают и пожалуй даже готовы употребить какое-либо насилие, то едва соглашается наконец и принимает настоятельство, думая более не о начальстве, а об ответственном служении.
VI. Отсюда тем больше забот было у него и попечения обо всем, так как он должен был наблюдать не за собою только одним и не за тем, как ему самому наилучшим образом проводить жизнь, но и за тем, чтобы жизнь подчиненных ему направить на плодотворный путь и ввести наилучшее благоустройство. Так рассуждал он в себе самом, что для тех54, кои сами по себе подвизаются в добродетели, есть конечно возможность по своему желанию55 избирать большие или меньшие подвиги, и им оказывается снисхождение, если они не совершают великих дел. Напротив тому, кому поручено устроение душ, даже и при незначительном ослаблении строгости будет предстоять не малая опасность, – как ему самому так и подвластным. Поэтому ему надлежит быть не только наилучшим по добродетели, но и постоянно увеличивать прежнюю добродетель, если он своим примером должен и своих подвластных вести к большей добродетели, взирающих на его жизнь, как на образец, и
—12—
чрез это направляемых или к добродетели или напротив – к пороку. Представляя это, божественный Максим сокрушался душою и истощал последние силы тела, погруженный в заботы о своих учениках. Ради сего он то всех вместе, то каждого по одиночке непрестанно56 побуждал их к добродетели, когда употребляя более нежное слово, а когда более суровое, – иногда давая научение тихо и нежно, а иногда выражая его строго и горько57, смотря по настроенно и природе каждого58. Так настроен был он по отношению к своим подчиненным и с таким расположением вел он настоятельство над ними59.
VII. Когда же он, как мы сказали выше, увидал, что тогдашняя ересь монофелитов60 стала все более и более61 усиливаться и с каждым днем ужасно распространяться представителями этого нечестия, то подвергся скорби и погрузился в тяжелую печаль, сожалея особенно и (самих) виновников этого беззакония. Но он не знал, что ему надо было сделать, при столь чрезмерном распространении зла, охватившего весь почти Восток и Запад62. И вот
—13—
в таких трудных обстоятельствах он находит один только выход, плодотворный и для него самого и для тогдашнего положения вещей. Так как он знал, что старейший Рим был чист от такой мерзости, равно как и Африка и другие места и соседние острова63, то, оставив здешнюю страну, отправляется туда, в намерении защищать истину и вращаться среди тамошних православных. Не без усилий, бед и несчастий совершил такой путь, но все преодолел своим высоким рвением, причем советниками этого путешествия он быть может имел и своих подначальных монахов: разлука с ними хотя и была для него тяжела и трудна, но он кроме задуманного не мог сделать ничего другого, так как время теснило его и требовало отшествия. Однако ж слово наше ушло вперед, пропусти в речь о том, что было в промежуток этого времени и откуда получило начало мерзкое это и отвратительное учение, так возмутившее Церковь и многих увлекшее в ту же погибель. Поэтому необходимо сказать немного и об этом лжеучении, а потом продолжить в связи с этим наше повествование.
—14—
VIII. Когда Ираклий получил царский скипетр64 и Сергий65 занял Константинопольский престол (епископский), то сначала сам Ираклий, все придворные, сановники66 и вельможи держались православной веры, исповедуя и проповедуя две природы, два действия и две воли в божестве и человечестве Христа моего67. Но когда он, к несчастию после многих побед над врагами и славной войны против персов, отступил от православного догмата, тогда вместе с ним начали отступать и церкви, и не малая часть народа перешла на противную (православию) сторону. А68 виновником перемены царя был известный Афанасий, так называемый патриарх Иаковитов, – человек лживый, более всех способный запутать истину. Явившись к Ираклию, пребывавшему в Иepaполе Сирийском, он коварно и злокозненно вошел в доверие к нему, прельстив69 его обещанием, что примет Халкидонский собор, который провозгласил две природы (во Христе), соединенные ипостасно70. А Ираклий имел сильное желание, как показали события, склонить к признанно того собора, как самого Афанасия, которому он обещался дать Антиохийский престол, – так и других всех, кого он видел не соглашавшимися с этим собором, – хотя, по своей простоватости и легкомысленности, он, никого не привлекши, только71 запятнал себя неправомыслием72. И вот
—15—
| A. л. 231 об. Βίος καὶ πολιτεία καὶ ἂθλησις τοῦ ἀοιδίμου καὶ μακαριωτάτου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Μαξίμου καὶ περὶ τῶν δύο μαδητῶν αὐτοῦ. | Жизнь, дела и подвиги преславного и блаженнейшего отца нашего и исповедника Максима, и о двух учениках его. |
| (VIII) Ἡρακλείου τῶν σκήπτρων τῆς ρωμαïκῆς ἀρχῆς ἐπείλημμένου καὶ Σεργίου τὰς ἀρχιερατικὰς φροντίδας τῆς βασιλιδος τῶν πόλεων ἀναδεξαμένου, αὖϑις τὰ τῶν ἐκκλησιῶν ἐν ταραχῇ ἦν καὶ ἡ τῶν μονοϑελητῶν αἵρεσις ὥσπερἂλλη τις αἰγυπτιακὴ πληγὴ τὰ τῶν ὀρϑοδόξων συστήματα κατενέμετο, τὴν ἀρχὴν ἐντεῦϑεν λαβοῦσα. | (VIII)73 Когда Ираклий получил скипетр римской власти и Сергей восприял архиерейское попечение над царственным городом дела Церкви снова пришли в смятение и ересь монофелитов, как бы другая какая египетская язва, стала разрушать строй православной церкви, получив свое начало из таких обстоятельств. |
| Ἡράκλειος γὰρ οὗτος μετὰ τὰ μεγάλα ἐκεῖνα καὶ παράδοξα κατὰ Περσῶν τρόπαια καὶ τὴν ϑαυμασίαν τῶν Ἱεροσολύμων ἐλευϑερίαν καὶ Ζαχαρίου τοῦ πατριάρχου καὶ των τιμίων καὶ ζωοποιῶν ξύλων τὴν εἰς τὸν ἴδιον τόπον ἀποκατάστασιν, τὴν καρδίαν ὡς ἔοικεν ὑψωϑεὶς κατὰ τὸν Ἐζεκίαν, μὴ μεταγνοὺς δὲ κατ’ αὐτὸν, ἀλλὰ τὸ μὲν πάϑος τὸ αὐτοῦ πεπονϑὼς, τὸ δὲ φάρμακον τὸ ἲσον μὴ ἐπιτιϑεὶς, ἀγνόημα ἠγνόησε μέγιστον καὶ πολὺ χεῖρον καὶ ὀλεϑριώτερον τῶν ὧν οἱ Πέρσαι κατὰ χριστιανῶν ἐνεδείκνυντο, ὅσον οἱ μὲν σώματος τὸ δὲ ψυχῆς ἐπῆγε τὸν ὂλεϑρον. Ἐν Ἱεραπόλει74 γὰρ τῆς Συρίας τὰς διατριβὰς αὐτοῦ ποιουμένου Ἀθανά- | Ираклий этот после известной, великой и славной победы над Персами. Чудесного освобождения Иерусалима и патриарха Захарии и восстановления на свое место честного и животворящего Древа (Креста), возгордившись, как кажется, в сердце своем, подобно Езекии, но не покаявшись, как он75, а напротив, подвергшись его недугу и не употребив его лекарства, – впал в величайшую ошибку, которая по сравнению с соделанным Персами про- |
—16—
Афанасий, как сказано, разными способами привлекши его к себе, привел в некое колебание относительно двояких действий и хотений двух природ. Этим склоняет его сообщить свое мнение и Сергею Константинопольскому, а известного Кира Фасидского вызвать даже к себе и спросить и его, как подобает мыслить об этом, – и что они решат, с этим и ему должно согласиться. Злодеи знал, что тот и другой следуют учению об одном действии и одной воле. Когда же Ираклий одного, то есть Кира, пригласил к себе, а патриарху (Серге) в письме изложил свое мнение, и обоих нашел в равной мере приемлющими монофелитское учение и без колебаний согласными думать одинаково с ним, – тогда и сам всецело оказывается на противной стороне и признает волю, вернее сказать безвольную, чем единовольную (ὰϑελήτου ἢ μονοϑελη του ϑελήματος).
IX. Вслед затем свои вероопределения посылает и Римскому76 предстоятелю, как бы считая несправедливым, если бы не наполнил всю землю своими дрожжами и не сообщил всем своей заразной ереси. Но сей божественный муж, признав послание его явным заблуждением и вознегодовав на это отвратительное неправомыслие, не только в противопосланиях и сильных опровержениях изобличает и разрушает все его предположения, но и подвергает анафеме тех, кто их содержит и им следует. Однакож это не принесло никакой пользы Ираклию, так как он не поверхностно, а глубоко воспринял это лжеучение: спустя немного он спешит наполнить этою мерзостью и Александрию, послав
(Продолжение следует).
Леонтий (Лебединский), митр. Мои заметки и воспоминания (Автобиографические записки Высокопреосвященнейшего Леонтия, Митрополита Московского) // Богословский вестник 1913. Т. 3, № 11, с. с. 610–623 (2-я пагин.). (Продолжение).
-—610—
Переход мой во Владимир и ректорство Семинарией Владимирской
В начале июля 1856 г. выехал я из Киева. Мне сопутствовал о. Филарет, мой земляк, ехавший на родину через Москву. В Москву прибыли мы, помнится, в пятницу вечером, и в субботу утром, часов в 11-ть явились на Троицкое Подворье, чтобы представиться митрополиту Филарету. В субботу митрополит не принимал посетителей; но для нас, как путников, сделано исключение. Вот мы являемся. Владыка, сидевший за столом с кипой бумаг, благословил нас и пригласил сесть. Он сразу узнал меня и даль вопрос: «Зачем Вас назначили во Владимирскую Семинарию?» – Я отвечаю – «Воля начальства». – Вас следовало держать в Академии, странно распоряжаются. Вот я когда-то был ревизором Владимирской Семинарии – она плоха; Вам много будет хлопот. – А Вы куда отправляетесь», обращается к моему спутнику. – «На родину, Ваше Высокопреосвященство». – «Не люблю я тех монахов, которые по родинам ездят» – заметил он своему соименнику. Разумеется, тот сконфузился. Этим и кончилась наша аудиенция. Взяв благословение, мы отретировались. В это время в Москве шли приготовления к коронации
—611—
покойного Государя Александра ІІ, – везде суета, постройки, переделки, приспособления. Я хотя и спешил к месту новой службы, но нашел время побывать в Симоновом монастыре у о. архимандрита Аполлон, старого знакомого. Приезжаю, и вижу тоже приготовления, переделки. «Это для чего?» спрашиваю я. «А от бачите, у меня назначена квартира для архиепископа Иннокентия Херсонского. (Аполлоний любил по-малороссийски говорить). А я вот и тяну переделки, и-таки не пущу его сюда». Так и вышло, комнаты не окончены, и Иннокентий должен был поместиться в Златоустовском монастыре – неудобно. Упоминаю о том, чтобы показать, каков был характер у Аполлония. Само собой разумеется, что мы помолились и в Сергиевой Лавре, где я познакомился с тогдашним ректором Академии Евгением, инспектором Сергием и профессором Амфитеатровым.
Ректорство во Владимирской Семинарии
Прибыл я во Владимир 20 июля (1856 г.), и конечно, прежде всего, представился преосвященному, тогда Иустину. Он обрадовался мне как приехавшему из Киева, где он сам учился в Академии, там бакалаврствовал и ректорствовал в Киевской Семинарии (первого курса Киевской Академии 1823 г.). Прием был ласковый. Так как продолжалось вакационное время, то я, с благословения Преосвященного, скоро отправился в Переславль Залесский, в Данилов монастырь, которого настоятелем был назначен. Монастырь этот издревле числился за ректорами Владимирскими. И мой предместник архимандрит Платон († архиепископ Костромской) изрядно исправил его при пожертвованиях благотворителей. Но братии в нем было мало, и бывшие похрамывали морально. При монастыре находилось и духовное училище, надо сказать, хорошее. Теперь оно устроено на месте разрушенного Горецкого в Переславле монастыря. В Даниловом монастыре открыто почитают св. мощи преподобного Даниила. Здесь жили на покое и скончались Черниговские архиепископы Лаврентий и Павел, уроженцы Владимирской Епархии. От Переславля близко (60 верст) Ростов, и я имел возможность побы-
—612—
вать в нем и поклониться мощам Святителя Леонтия, моего патрона.
После каникул началось в Семинарии обычное учение. Я изумился количеству учеников, – их было до 700. Каждый класс имел по три отделения. Все три отделения богословского класса собирались в большую залу, и нужно иметь сильный голос, чтобы преподавание уроков слышали все ученики. Я принялся усердно за дело, и встретил к своему удовольствию сочувствие и в воспитанниках и в наставниках, которых было много. Работа кипела, можно сказать. Ученики занимались с охотой, и вообще отличались живыми способностями и доброй восприимчивостью при даровитости очень многих. И я доволен оставался учебной частью. Нравственная часть требовала внимательного надзора; ибо немногие ученики жили в казенном общежитии за Лыбедью так называемой, а большинство – на квартирах. Исправлял должность инспектора до назначения нового профессор М.И. Флоринский. Дельный преподаватель по Св. Писанию, он своей бестактностью и жестокостью по части инспекции чуть не наделал себе беды. Он ныне несчастный архимандрит, потерпевший за нетрезвость. Не распространяюсь о нем. Прибывший из Московской Академии инспектор иеромонах Кирилл, не глупый человек по науке, оказался слабым и поблажливым. Приходилось самому вникать во все мелочи, и заправлять инспекцией, входя нередко в пререкания с Кириллом. К моему утешению, ученики старались быть внимательными к моим наставлениям, которые давал я им по классам in corpore. Вообще – Владимирская Семинария оставила во мне приятное воспоминание.
Преосвященный Иустин мало обращал внимания на Семинарию и бывал только на экзаменах некоторых. К сожалению (хотя это было раз только по моему краткому пребыванию во Владимире), преосвященный Иустин поставлял меня в недоумение своими выходками. Помню – на экзамене один ученик отвечал по Догматике о божественности Иисуса Христа, и приводил классический текст: «да о имени Его поклонится всякое колено небесных, земных и преисподних». Объяснение текста шло по урокам печатной догматики. «Ну вот пустяки», возражает преосвящен-
—613—
ный. «Зачем насиловать текст? Тут разумеются птицы, рыбы, гады». Это меня просто ошеломило; я вступился, – и скоро оба мы замолчали. Впечатление на учеников сделано нехорошее. Другой пример. Ученик говорит: «Дух Святой в виде голубя снизошел на Иисуса Христа при крещении его в Иордане». Преосвященный замечает: – «Ну, простой голубь летал, и только». Это меня возмущало. Какой соблазн для юных питомцев! Идет, например, экзамен по языкам, по математике, преосвященный выражается: «Ну, к чему такими пустяками забивать голову?». Вот и заставляйте учеников заниматься всеми предметами. Все это факты, бывшие на экзаменах перед P. X. в 1856 г. Очень жаль, что умный человек – преосвященный вольнодумствовал так явно. Я умалчиваю о его интимных беседах со мной о благодати, о церкви. Либеральность в убеждениях Иустина известны были митрополиту Филарету от ректоров, например, Сергия, бывшего инспектора и затем ректора Московской Академии, как сам он говорил мне. С болью сердца пишу это, ибо Иустин имел хорошее отношение ко мне. Но amicus Plato, amicus Socrates, sed magis arnica veritas. Образ мыслей преосвященного Иустина очень вредно отзывался и на его положении. Поставленный в необходимость оставить Епархию, он долго (за 80 л.) жил на покое в Боголюбовом монастыре, и я верую, что благодать Божия изменила его убеждения. Как администратор, – он был очень исправен, трудолюбив и формален, хотя вспыльчив – как сильно геморроидальный. Служил он очень скоро, так что нам совслужащим поспевать вычитыванием молитв в службах было трудно. – Не пасквиль пишу, а правду, и повторяю – с болью сердца. Сознавал ли весь вред своих нескрываемых убеждений сам Иустин, – трудно сказать, между тем жаловался, что его обходят, и особенно на Московского Филарета, и, конечно, несправедливо.
Из близких мне людей во Владимире упомяну о ректоре Владимирского духовного училища кафедральном протоиерее Ф.М. Надеждине, по Семинарии и Академии сотоварище и земляке известного И.В. Рождественского. В свое время, говорят, это был блестящий профессор философии Владимирской Семинарии. Ф.М. Надеждин имел, кроме ума
—614—
недюжинного, прекрасное сердце и практичность в жизни. Ректорствовал он с душой, и зато любили его и отцы, и дети. Приятно было с этим многознающим и умным человеком беседовать о предметах серьезных. Проповеди он писал отлично, и говорил внушительно. Жаль, что он скончался еще не старым. Он был и любимым другом блаженной памяти о. протоиерея и члена Синода – Рождественского.
Недолго пришлось мне ректорствовать во Владимирской Семинарии – всего 11 месяцев. В июне 1857 г. при самых радушных проводах и сожалении учеников, выразившихся в речах и слезах, я простился с Владимиром, и выехал в Новгород, куда сверх всякого ожидания назначен был ректором Семинарии и настоятелем. Антониева монастыря. Не могу здесь не упомянуть о замечательном сне, виденном мной за месяц до моего нового назначения. Представляется мне, что я еду по железной дороге в Петербург, и являюсь к митрополиту Григорию, которого вовсе не знал еще в лицо. Выходит он ко мне с распахнутой рясой, из-под которой видится подрясник, опоясанный простым красным кушаком, без камилавки, благословляет, и велит явиться в третьем часу к обеду, когда он приедет из Синода. Затем еду я, как будто, на пароходе по Волхову, вижу берега прекрасные и монастыри, любуюсь ими. Подъезжаю к третьему монастырю, и слышу чей-то голос: «Вот твой монастырь», и пароход остановился. Сон этот я помнил; но не придал ему значения. Скоро получаю формальную бумагу об этом перемещении, – и приказание явиться в Петербург к митрополиту. Вообразите же мое удивление, когда сбылось буквально все виданное мной во сне. Я пристал у Антониева монастыря, и при колокольном звоне, встречен был братией и воспитанниками Семинарии, издавна существующей в Антониевом монастыре. Таким образом, мое перемещение, видимо, было делом Промысла Божия, и верую, – по предстательству преподобного Антония Римлянина.
Прежде отправления своего из Петербурга в Новгород, я счел долгом повидаться со знакомыми и, в особенности, с моим товарищем, архимандритом Кириллом, быв-
—615—
шим инспектором Академии. Вхожу к нему с распростертыми объятиями, а он больной, какой-то изможденный вопит: «Представь себе, Фошка – ректором!». (Вместо Макария о. Феофан назначен был из ректоров Олонецких – ректором Академии). «Знаю», – отвечал я, – «так что ж? Ведь он был нашим наставником, что же тут обижаться? Конечно, тебе хотелось ректорства в Академии; а я скажу, брат, тебе, что тебя на мое место во Владимир назначают». Как ужаленный, он изменялся, и скоро стал хлопотать через посредство дяди – протоиерея Наумова у министра Горчакова, чтобы его послали в Иерусалим Епископом и начальником миссии, куда уже быль назначен преосвященный Поликарп, викарий Херсонский. Хлопоты увенчались успехом. Поликарп перемещен в Орел, a Кириллу досталась честь быть епископом Мелитопольским, начальником Иерусалимской миссии. Дело окончилось, когда я уже в Новгороде осваивался.
Новгородская Семинария
Что сказать о Новгородской Семинарии? Я занял место архимандрита Нектария, который недолго ректорствовал здесь и, зная предположение, что скоро его переведут в Петербург, мало занимался делом. Инспектором Семинарии застал я своего старого знакомого иеромонаха Германа (ныне Епископ – настоятель Донского московского монастыря, присутствующий в Св. Синоде). Он страдал тогда глазами, но исполнял должность аккуратно, хотя и хандрил. Посвященный в сан архимандрита, он скоро был назначен, по моей рекомендации преосвященному Кавказскому Игнатию (Брянчанинову), ректором Кавказской в Ставрополе Семинарии, и вместе с преподавателем иеромонахом Исаакием, тоже мной рекомендованным на инспекторство, уехал к месту назначения. На место Германа, по моей просьбе, назначен был инспектором профессор С.-Петербургской Семинарии иеромонах Феогност (ныне архиепископ Владимирский). Преподаватели, за немногими исключениями, на первых порах показались мне только посредственными, хотя и усердными.
Пребыл я в Новгородскую Семинарию во время экза-
—616—
менов перед летними вакациями, и продолжал их по данному прежде о. Германом расписанию. Испытания показали меру успехов учеников удовлетворительную, – и воспитанники отвечали на вопросы вообще достаточно. Припоминаю, что мое внимание обратил на себя ученик среднего отделения М.Владиславлев, которого и экзаменационное сочинение было выдающееся. В списке стоял он во 2-м разряде, чуть ли не во второй половине. Слушая ответы его, я обратился к инспектору с вопросом тихо: «Почему Владиславлев стоит так низко?», – и получил ответ, что он ведет себя нехорошо. В списке я его сразу потому повысил, и, позвав к себе, взял с него обещание – бросить свою дурь, и во время вакации заняться французским и немецким языками. Он исполнил свое слово. Приехавший с вакаций, он переменился, и на первую же треть занял 2-место в 1-м разряде. Посланный в Академию С.-Петербургскую по окончании Семинарии, он и там был 1-м. Но о Владиславлеве речь будет еще впереди. Кстати сказать, что Новгородские семинаристы вообще отличались твердостью характера и трудолюбием, и если кто из них замеченный например в пьянстве или грубости, лености, давал слово – исправиться, – сдерживал его точно, – чему я радовался. Много имело доброго влияния то, что Семинария находилась при монастыре. Являлись охотники и немало, которые до класса посещали раннюю обедню, читали и пели в церкви, не по наряду, a по чувству благочестия. В воскресные и праздничные дин хор певчих семинаристов привлекал много посторонних посетителей. Нельзя не порадоваться, что новгородская Семинария осталась доселе на прекрасном месте. Постановлено было в недавнее время вывести ее в город; куплено уже было и место; но видно не угодно прп. Антонию допустить перемену. Считаю себя счастливым, что и я (будучи присутствующим в Синоде) содействовал тому своими резонами, внушив ревизору Зинченко – отстаивать старое место. И вот, новое место продано, хотя с убытком для казны, а Семинария по значительным перестройкам осталась в Антониевом монастыре, сверх ожидания. В 1858 г. посетил Семинарию и монастырь митрополит Григорий, и велел мне избрать охотников из богословского класса –
—617—
поступить в миссионерскую академию, которую он задумал учредить в с. Грузине, в Аракчеевских зданиях, уже тогда и переданных в духовное ведомства. До десяти воспитанников изъявили желание быть миссионерами. Но, увы! Со смертью Григория идея миссионерской академии испарилась, и давно уже самое здание обратно передано гражданскому ведомству. Нельзя не пожалеть о том, когда знаешь, какая великая нужда имеется у нас в миссионерах.
Монастырь Антониев – древний. Архимандриту предоставлено в нем совершать богослужение с некими архиерейскими привилегиями. Ректоры Семинарии всегда прежде были и настоятелями его. С недавнего времени сделано разъединение, когда ректором состоит протоиерей. Нельзя не пожалеть о таком разъединении, тем более, что весьма легко совмещать здесь обе должности; а ведь протоиерей – женатый и не живет при Семинарии. Сказал я прежде, что в монастыре открыто почивают мощи преподобного Антония; но рака, в которой они почивают, была ветхая очень, как я нашел ее. Когда, по приезде митрополита Григория, явился я к нему в Юрьев монастырь, где он остановился, – как ректор и благочинный монастырей, – и он спросил, все ли у нас хорошо, я отвечал, что по монастырям не очень-то хорошо и, прежде всего, у меня в монастыре рака прп. Антония очень ветха и грозит развалиться. «Не думаешь ли новую строить?» – «Да, Владыко, есть мысль». – «А где возьмешь денег?» – «Буду собирать; а Вы книгу разрешите сборную на мое имя?». Книга дана, и я с ней же и поехал прямо в Консисторию, как член ее. Предложивши о.о. членам книгу сборную, я получил записей на 300 р. В каникулярное время, отправившись для обозрения монастырей, как благочинный, я собрал порядочную сумму, а затем в Петербурге с разрешения митрополита до 7000 р. Рака заказана была Верховцеву за 10000 р. и сделана превосходно. Радовался я, что Господь благословил мое дело успехом полным; но, к сожалению, при переложении св. мощей не мог быть, находясь уже в Петербурге викарием. Митрополит Григорий, назначавший 1-е июля днем торжества в Антониевом монастыре, и вместе с собой назначивший и мне быть там,
—618—
скончался 17 июня, и мне, как управлявшему Епархией, не разрешили отпуска. Совершить торжество досталось новгородскому епископу Евфимию и архимандриту Никандру, моему преемнику по ректорству и настоятельству в монастыре. В свое время это было описано подробно профессором Новгородской Семинарии Павлинским.
Викарий Новгородский Евфимий, епископ Старорусский, был до Нектария несколько лет ректором Новгородской Семинарии. Это тип формалиста самого строгого. Аккуратный сам, он требовал полной аккуратности от наставников и от учеников, а будучи викарием – от духовенства. Много он принес пользы Новгородской Семинарии своими трудами, и выработал хороших кандидатов священства. Тяжел он был для подчиненных, но и себя не щадил; страдая сильными припадками геморроя, – он не изменял своим привычкам никогда. Из-за излишней щепетильности у меня бывали с ним столкновения, но оканчивались мирно. Правление Семинарии Новгородской имело права, данные митрополитом, которые устраняли стеснительную требовательность викария. Викарий в Новгороде обыкновенно управляет и Хутынским монастырем. 6-го ноября в Хутыне бывает храмовый праздник в память преподобного Варлаама Хутынского, и совершается торжественное богослужение при многолюдном стечении. Служил с преосвященным – 1857 г. и я – и, легко одевшись, получил простуду, которая причинила мне сильную горячку. Болезнь усилилась до того, что отчаивались в моем выздоровлении. Я находился в третий уже раз в жизни при смерти. И верю, что выздоровел по предстательству прп. Антония. Не могу здесь не вспомнить с особой признательностью об уходе за мной блаженной памяти архимандрита, тогда Сковородского монастыря, Паисия и врача Семинарии Аренского. Много я обязан им. Архимандрит Паисий очень усердно потрудился для обители Сковородской и после – Старорусского Преображенского монастыря. Это был монах добрый и опытный. Жаль, что он рано скончался. Служа прежде в г. Задонске казначеем монастыря, он удостоился чести, в числе весьма немногих, участвовать в секретном перенесении мощей святого Тихона из усыпальницы его в Собор по поручению ар-
—619—
хиепископа Антония, пребывавшего на тот раз в Задонском монастыре (1846 г.).
Общее впечатление о Новгороде, Семинарии и монастыре осталось у меня очень приятное. Народ там религиозный, воспитанники вдали от города имеют возможность заниматься сосредоточеннее, братия монастырская, невеликая по количеству, в соприкосновении с учебной корпорацией имели случай восполнять свое образование, у кого была охота к тому. Семинарская корпорация держалась дружно. Сам я, враг всяких интриг, заботился о единении, и достигал его. Обилие монастырей мужских и женских в Новгороде и Новгородской Епархии имеет важное воспитательное значение для народа.
Перемещение в Петербург и ректорство в Семинарии
В Новгороде ректором и настоятелем монастыря я пробыл год и одиннадцать месяцев. Перемещённый ректором С.-Петербургской Семинарии, я прибыл в Петербург 4-го июня 1859 г. Итак, по судьбам Божиим мне пришлось оканчивать учебную службу там, где я начал ее. Не могу сказать, чтобы я с удовольствием переехал туда; ибо Новгородскую Семинарию я полюбил, да и жить в монастыре мне нравилось. Кроме того, я предвидел наперед, что в С.-Петербургской Семинарии придётся мне иметь более беспокойств и столкновений, – тем более что прежние там порядки ослабели, и ученикам давалась свобода излишняя, которая требовала ограничения. Сразу я это заметил, почувствовав на коридоре при вступлении в свою квартиру, сильный табачный запах, что, конечно, не относилось к чести инспекции. В ректорской квартире помещался еще и назначенный ректором Академии – архимандрит Нектарий и мы жили вместе до отъезда преосвященного Неофана из Академии в Тамбов на Епархию. Как старые знакомые, встретились мы с любовью. Я вступил в должность немедля по обычном представлении митрополиту Григорию. Накануне перехода о. Нектария в здание Академии в честь его Семинарская корпорация устроила обед. – Упоминаю об этом потому, что он имел последствия, со-
—620—
вершенно неожиданные. Несколько учеников сделали плохую шутку, – похитили порядочное количество бутылок вина, которое было до времени поставлено в углу коридора, и преспокойно себе распили в саду. Инспектор иеромонах Павел, узнавши об этом помимо меня, не донесли мне, самовольно распорядился высылкой виновных из Семинарского корпуса, намереваясь настоять об исключении их. Когда я узнал о том случайно от одного из священников, – приказал возвратить их немедленно в корпус, чтобы разобрать дело по всей справедливости. Инспектору сделано было мной строгое замечание, – и это послужило поводом нашей размолвки. На вопрос мой: «Почему Вы так поступили?», он отвечал, что стыдно было ему на первых же порах доложить мне о беспорядке экстраординарном. «Хороша же Ваша инспекция!», – сказал я. Расправа сделана была после экзаменов, – и только двое понесли заслуженную кару. Через два дня, когда я пришел к митрополиту с делами, он, посмеиваясь, спрашивает: «У тебя все благополучно?». Я сказал – «Не все, к сожалению», (а он уже узнал от кого-то о происшествии) и рассказал суть дела. Владыка рассмеялся и говорит: «Не клади плохо, не вводи вора в грех; посечь бы их, шалунов». В непродолжительном времени Павел переведен был инспектором в Академию по ходатайству Нектария. На место Павла по моему ходатайству назначен инспектором иеромонах Иосиф (Баженов) из преподавателей Семинарии, к сожалению, не оправдавший моих надежд. Своей благосклонностью и либеральным взглядом – он немало причинял мне беспокойств. Хороший наставник – он был плохой инспектор. Наставников я застал еще довольно из прежних моих сослуживцев, – но больше новых. Все они делом занимались исправно. Я преподавал догматическое богословие, и учениками был доволен. Многие из них ныне занимают должности священников с честью, а некоторые, как, например, Н.Барсов, профессорствуют в Академии и Семинариях.
Вместе с ректорством я принял и должность редактора журнала «Духовная Беседа», основанного при семинарии митрополитом Григорием. Помощниками моими были: протоиерей Яхонтов и профессор Шавров (уже покойный),
—621—
заведовавший зоотомической частью. Журнал шел очень хорошо и расходился до 7000 экземпляров, чему много содействовала введенная при мне уже «Церковная Летопись», в которой помещались и Синодальные распоряжения. Много помогали интересу дела и заграничная корреспонденция наших священников при посольствах, и статьи о.о. протоиереев Богословского († протопресвитером в Москве), бывшего тогда профессором в Училище Правоведения, Рождественского, известного Ивана Васильевича, и Яхонтова (письма к отступника от православия). Но преимущественно, журнал обязан своим успехом митрополиту Григорию. В каждом почти номере он помещал свои или проповеди, или же ряд статей под заглавием «Свечка во тьму и сумрак». Над последними посмеивались многие, – за изложение; но справедливость требует сказать, что они приносили большую пользу читателям, особенно из среднего сословия. Редакция доставляла мне много хлопот. Все статьи просматривал предварительно сам митрополит, и каждый номер до напечатания был представляем мной ему. Тяжело по временам становилось угодить старику, имевшему своеобразный взгляд. Часто Московский митрополит Филарет писал в своих письмах Григорию замечания разные, которые и предъявлял мне он. Раз как-то я не вытерпел, и сказал: «Владыко! Что ж это Московский все пишет замечания Вам, как будто доселе Вы ученик его? А в «Православном Обозрении» разве мало недостатков и мыслей, подлежащих оспариванию?». «И в самом деле, так», – сказал Григорий. Сам он имел склад речи особенный и употреблял нередко слова и обороты, казавшиеся странными. Я, бывало, прочитавши статью, бегу к нему, я говорю: «Владыко! Нельзя ли изменить вот это слово, или оборот?». – «Ну, вот что ты меня учишь? Печатай как есть!». А когда напечатаешь, и он получит письмо с замечанием, призывает меня и говорит: «Что ты мне не доложил?» – «Я докладывал об этом слове Вам. Вы не согласились изменить» – «Ну, я забыл». Припоминаю два случая по редакции очень неприятных для меня. Раз как-то митрополит Григорий дает мне статью, собственноручно написанную, под заглавием «Сиятельное Солнце», и велит напеча-
—622—
тать в ближайшем номере. Прочитавши, я прихожу к митрополиту и говорю; «Нельзя ли оставить эту статью? Она подает повод к столкновению, потому что ее поймут, как пасквиль на обер-прокурора». Разгневался Владыка и не согласился со мной. Я немедля исполнил его приказание. Дня через три вечером неожиданно является ко мне в квартиру чиновник особых поручений при обер-прокуроре Κ.К. Зедергольм (умерший иеромонахом в Оптиной пустыне с именем Климента) и спрашивает: «Печатается уже статья «Сиятельное Солнце»? – «Да». – «Приостановите печатание! Я говорю Вам приказание Александра Петровича» (Толстого – обер-прокурора Св. Синода). – «Я не могу, потому что митрополит приказал мне немедля ее напечатать, хотя и я просил его не печатать». Слово за слово – мы порядочно побранились. По уходе Зедергольма около 9-ти часов вечера (зимой), я тотчас иду к митрополиту. И прошу келейника доложить, что я пришел по нужному делу. Владыка уже собирался спать (он ложился рано – в 9 ч. и вставал рано – в 3 часа) и был в спальне. Выходит он с обеспокоенным видом. «Что такое?» – спрашивает. Я объяснил ему суть дела. Недовольный, назвавши мальчишкой Зедергольма, он приказывает мне поутру в 7 часов принести статью уже печатную (1000 экземпляров уже отпечатано было номер): «Вот я возьму ее в Синод с собой». Поутру являюсь я с номером, где была напечатана статья, в Лавру, и вижу экипаж. «Кто здесь?» – спрашиваю. – «Обер-прокурор». Как передавали мне, они крупно между собой поговорили. По отъезде гр. Толстого являюсь я. «Оставь мою статью. Есть у нас, чем заменить?». – «Есть-то, есть; да уже 1000 экземпляров напечатано номера». – «Ну, я заплачу убыток». – «В этом нет нужды, Владыко». Таким образом, я один и остался в накладе, не материальном, конечно, а в моральном. Статья уничтожена, и номер вышел с заменой ее другим сочинением – моим, готовым прежде.
Другой случай по редакции, мне памятный. В 1860 г. греко-болгарский церковный вопрос уже был в ходу, и немало толковали о нем, хотя и не так гласно, как гораздо после этого было. В «Духовную Беседу» по внушению графа Толстого доставлена статья кем-то, не помню,
—623—
в пользу греков. Она напечатана и читалась с интересом. Через месяц или более напечатана другая – в пользу болгар. Последняя не понравилась графу Толстому. На обеде у митрополита Григория в пятницу Пасхальную (1860 г.), когда я уже был епископом Ревельским, оставаясь ректором еще и редактором, граф Александр Петрович выразил митрополиту неудовольствие за сочинение не в пользу греков. Митрополит указал на меня – как редактора. Я говорю Толстому, что статья напечатана с одобрения Владыки. Он, посмеиваясь, говорит Толстому: «Молодой архиерей не слушает меня! Впрочем, поспорьте с ним».– «Audiatur et altera pars», – отвечал я обер-прокурору и стал защищать содержание статьи со всей скромностью. Толстой замолчал, но, видимо, не доволен мной остался. Это был человек верующий, набожный, но односторонний и мнительный. – Ближайшими, домашними его внушителями были два молодых чиновника, постоянно при нем находившиеся: Зедергольм, о котором я раньше сказал, и Т.И.Филиппов, так ныне известный. Последний остается доселе верен своему давнему направлению. К чести графа Толстого надобно сказать, что он глубоко уважал митрополита Григория, с которым сблизился еще в Твери, будучи там губернатором. Впрочем, сам Толстой А.П. не долго обер-прокурорствовал. Помимо его некоторых недостатков, это был глубокий христианин, чисто православный. И сколько можно по внешности судить – не искавший славы у людей. Время его молодости мне неизвестно, но, по слухам, он обязан переменой своей нравственного направления одному из священников Тверской епархии.
Катков М.Н. Классицизм и духовная школа77: (Письмо Каткова к митр. Иоанникию [Рудневу] Московскому) // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 6–9 (2-я пагин.)
—6—
Высокопреосвященнейший Владыко!
Я столько положил души, усилий и забот на установление правильных воззрений в учебных вопросах, столько поработал этому делу, что всякая ошибка в нём глубоко и больно потрясает меня. А потому простите меня за моё сердечное сетование по поводу нового учебного плана Духовных Академий.
Духовные Академии имеют своим назначением готовить учёных богословов. Но учёным в истинном значении этого слова может быть только тот, кто владеет ключом к источникам своего ведения. К источникам же богословского ведения не может быть прямого доступа без основательного знания языков эллинского, римского и еврейского. Преподаваемые курсы, как бы ни были хорошо усвоены слушателями, дадут только более или менее успешных учеников, но не учителей, которые могли бы стать в уровень с учёными Запада. Учёный богослов должен быть вместе и фило[логом], как по обоим классическим языкам, которые для филолога нераздельны, так в известной мере и по еврейскому. Только при этом условии на-
—7—
учное образование для богослова будет живой силой. Зачем же богословам нашей Церкви оставаться в ученическом отношении к учёным других исповеданий, и только через их труды пользоваться первоисточниками? Выучить книгу или прочтённый профессором курс – это ученическое дело; по обладать ключом к источникам, приобрести средства вникать в сами тексты священных и учительских писаний – вот сила учёного богослова. Заменяют ли эту живую силу профессорские компиляции? Можно и без науки быть благочестивым христианином и достойным служителем алтаря; по если речь идёт о богословской науке, то первой и главной заботой должно быть сообщение учащимся органов для более или менее глубокого проникновения в источники, а между тем в учебном плане, принятом для духовных академий не только не усилен, что крайне требовалось, филологический элемент, но, можно сказать, уничтожен. Греческий и латинский языки разрознены, между тем как они могут быть изучаемы в должной силе и с пользой только параллельно. Учащимся в Академии предоставляется выбирать для изучения лишь один из классических языков: так что может выйти, что учёный богослов Православной Церкви не будет должным образом освоен с языком Её учителей, как и самого Евангелия. Наконец духовные академии имеют своей задачей готовить не только богословов, но и преподавателей для Семинарий. Хороши же будут преподаватели древних языков, без филологической подготовки.
В новом уставе есть, впрочем, параграф, предоставляющий Святейшему Синоду право изменять по усмотрению учебный план; а потому можно надеяться, что в распределении академических занятий будут со временем внесены перемены, и что филологический элемент в них будет, восстановлен и усилен. Но меня глубоко возмущает слух, что и в самих семинариях будто бы предполагается ослабить изучение классических языков, именно греческого, и притом в пользу русской словесности. Это было бы роковой, быть может, непоправимой ошибкой. Оба древние языка и без того слишком слабо поставлены в наших семинариях, слабее чем в гимназиях: к тому
—8—
же в семинариях они преподаются учителями, не получившими высшего филологического образования. Требовалось бы усилить и усовершенствовать способы преподавания древних языков в семинариях; а вместо того эти основные предметы учебно-воспитательного курса в духовных семинариях лишаются всякого серьёзного значения и будут ненужной и суетной прикрасой в росписи преподаваемых предметов. Они не послужат ни к тому столь важному в педагогическом отношении сосредоточению учебных занятий, которое составляет главную силу учения, ведущего к академическим или университетским занятиям, ни к тому чтобы семинаристы могли должным образом освоиться с материалом и формами языков специально необходимых для богослова. Если для медика, юриста, математика признаётся необходимой классическая подготовительная школа; то не требуется ли она сугубо для будущего богослова, который не может быть самостоятельным учёным по своей части без пособия классических языков? Ослабить греческий язык для усиления русской словесности означало бы только усиление пустословия. Нет надобности заботиться об упражнении учащихся в писании сочинений. Надо возделывать и укреплять их ум серьёзными занятиями, а не приучать к болтовне бессмысленной и бесцельной. Когда у учащихся созреет мысль, она сама найдёт себе должное выражение. Но нет ничего хуже фразёрства, которое подделывается под мысль и передразнивает чувство. Русским же языком и всеми его средствами учащиеся овладеют всего лучше в борьбе с классическими языками. Нельзя не заменить при этом, что без должного знания греческого языка не может быть во всей силе понятен и сам славянский язык, который в своём синтаксисе весь снят с греческого.
Для приготовления к факультетским занятиям и в том числе к Богословию в Германии требуется пройти девятилетний курс гимназии, в котором число классных уроков в неделю по обоими классическим языкам доходит до шестнадцати (10 латинского, 6 – греческого.). Кроме, того для будущих богословов обязательно преподаётся в тамошних гимназиях и еврейский язык, без знания которого нельзя поступить на богословский факультет. Вот
—9—
какой силой вооружаются для науки будущие учёные богословы в инославной стране.
Мы обладаем благодатью Апостольской Церкви. Не обязаны ли мы отвечать на этот Божий дар нашему народу усиленным трудом, как во всём, так и в деле науки? Не обязаны ли мы готовить для нашей Церкви борцов и учителей сильных наукой, а не фельетонистов и нигилистов, каких в таком изобилии давали нам Протасовские, или вернее, Киселевские Семинарии. Великие Иерархи, богословы и учители Русской Церкви выходили из старой, крепкой, Греко-Латинской школы.
Вспомните, Владыко, что и всё уважаемое в нашем светском просвещении выходило из этой же школы. Духовное сословие было у нас главным рассадником просвещения. За что же мы будем ослаблять, уничтожать и губить учебные заведения, предназначенные главным образом для детей духовенства?
Умоляю Вас, сердечно и глубоко чтимый мной Владыко, лучше приостановиться решением этого вопроса, если в нём окажется что-либо пока неясным и сомнительным. Дидактические вопросы – особая специальность. Малейшее уклонение в них может сопровождаться пагубными последствиями.
Ещё раз простите меня, Высокопреосвященнейший Владыко, за этот вопль моей души, и верьте, что я не решился бы обращаться к Вам без совершенно зрелого убеждения.
Поступите, как Бог положит Вам на сердце; но убедительно прошу, глубокоуважаемый Архипастырь, в интересах дела оставить это письмо между нами, чтобы никому не стало известно о моём, как скажут, непрошеном вмешательстве, что расшевелило бы страсти и могло так или иначе повредить делу.
Поручая себя Вашим молитвам и испрашивая Вашего благословения
Пребываю Вашего Высокопреосвященства покорным слугой.
М. Катков
Марта 1884 г.
Сообщила С.Н. Фишер
Виноградов В.П. Платон [Левшин] и Филарет [Дроздов], митрополиты Московские: (Сравнительная характеристика их нравственного облика) 78. // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 10–34 (2-я пагин.). (Начало.)
—10—
Ваше Преосвященство,
Мм. Гг.
Когда родная семья вспоминает своего отца, его образ предносится ей таким, каким она привыкла видеть его под кровлей родного дома, среди забот и трудов о счастье родной семьи, в простоте и непосредственности общения домашнего быта.
Эта школа, в которой мы сейчас собрались почтить намять знаменитого русского иерарха, была, создана им на склоне лет своих, как духовная семья, которой он отдал себя и своё сердце, как отец родной семье. Это не метафора, не гипербола, что факт, несомненный исторический факт, засвидетельствованный всеиспытующим оком историка79.
Вот почему для этой школы и для всех, связанных с ней узами духовного родства, больше всего дорог образ митр. Платона не в величии иерархического служения, но в простоте того быта, который он вёл здесь, в своей любимой Вифании.
—11—
Здесь дорог его образ в изношенном китайчатом полукафтане, в соломенной шляпе на голове, в туфлях на босую ногу, здесь с наибольшей любовью помнится он на хорах созданного им храма, правящим клиросную должность, читающим часы и апостол, подающим кадило и теплоту; у ворот монастырских беседующим со старцами монастырскими и богаделенными, шествующим пешком по окрестным рощам в дружеско-отеческой беседе с наставниками и питомцами созданной им школы...
Здесь самые дорогие реликвии – бедная соломенная шляпа, оставленная в монастырских кельях незабвенного иерарха, краткие пометки на рукописях, автографах и книгах, завещанных дорогому детищу – семинарии: „всё то писано моей рукой... хранить в библиотеке Вифанской семинарии“..., и скромная гробница с составленной самим архипастырем надписью: „здесь погребён телом Преосвященный Платон, митрополит Московский, архимандрит Троицкия Лавры и сея Вифанские обители и при ней семинарии основатель“. На этих и подобных скромных реликвиях, которые хранит Вифания, ярче всего лежит печать особой близости сердца незабвенного архипастыря. Эти и подобные реликвии ярче всего свидетельствуют, что человек, который создал Вифанию, отдал ей не только свой труд, но и своё сердце. И оно-то, в своём сокровенном биении, есть самое дорогое для Вифании и этой школы, самое для неё дорогое из того, что история связывает с именем Платона.
На этом-то самом дорогом для всех, связанных с этой школой дорогими узами духовного родства – на священной тайне сердца митрополита Платона я и позволю себе остановить ваш благоговейный взор.
* * *
Тайна сердца – это тайна внутренних движений и порывов души, результатом которых являются человеческие дела, малые ли, великие ли; это – тайна того жизненного идеала, перед которым молится сердце в сокровенных тайниках своих, как перед самой дорогой святыней жизни, и в дар которому приносит все силы души и тела, которому оно, правда, по временам в бессилии изме-
—12—
няет, но после падении с тем большей силой снова влечётся и, пытаясь воплотить во вне, налагает печать индивидуальности на все дела жизни.
Дела жизни сто лет назад в этот самый день и почти вот в этот самый час почившего знаменитого русского иерарха настолько велики, что и сам он заслуживает имени великого иерарха русской церкви.
В истории русской церкви нового времени на протяжении двух столетий среди её деятелей есть только два имени, с которыми не может равняться по историческому значению ни одно другое: это Платон и Филарет, митрополиты московские. Платон и Филарет – учитель и ученик, это как бы два великих солнца, перед которыми все другие деятели русской церковной истории нового времени только лишь звёзды. Но между собой эти два солнца настолько близки по своей величине и силе блеска, что не, знаешь, и кажется невозможным определить: какое больше, какое сильнее светом, чем одно отличается от другого. Платон и Филарет – это две преемственно сменяющиеся эпохи в истории русской церкви – в истории русской церковной мысли и жизни. Эти две эпохи сменяют одна другую, сливаясь неприметно в одно непрерывное почти столетнее целое, преобразившее с корня весь строй церковной жизни. Время, прошедшее от смерти Филарета, конечно, наложило и свою печать на церковное наследие жизни и деятельности двух великих иерархов и даже очень глубокую, но всё же, куда бы вы не обратили свой взор в современном строе русской церковной жизни, всюду и везде вы встретитесь с делом жизни Платона или Филарета, или обоих вместе...
Особенно ярко это чувствуется в первопрестольной Москве, где каждый из них святительствовал столько, сколько ни один из московских архипастырей нового времени: Платон 37 лет (с 31 января 1775 г.), Филарет 46 лет (с 3-го июля 1821 г. по 19 ноября 1867 г.), оба вместе – 83 года.
Войдёте ли вы в Чудов монастырь в Кремле, чтобы преклониться перед ракой святителя Алексия, вы увидите там среди убранства церковного много такого, что носит явную печать дела рук после платоно-филаретовской эпохи, но у той же раки святителя Алексия вы увидите саккос и
—13—
другие святительские одежды митр. Алексия; попробуйте поинтересоваться: откуда они здесь, и вы узнаете, что их отыскала и положила сюда со многими заботами и препятствиями заботливая рука митр. Платона80; поинтересуйтесь дальше, чьей рукой воссоздан монастырь в своей основе, И вы услышите – рукой всё того же архипастыря. Подойдёте ли вы к покоям митрополитов московских на Троицком ли подворье, в Чудове ли монастыре, в загородном ли Черкизове, вы заметите признаки капитальных перестроек нового, нашего времени, но всё это – перестройки на основании, закреплённом трудами митр. Платона81. Не
—14—
говорю уже о Троицкой Лавре: здесь82 можно сказать, трудно указать, чтобы не было Платоново или Филаретово83.
И совершенно точно так же попробуйте разобрать по составным элементам нашу наличную богословскую науку, наличный строй духовной школы, наличный церковный строй, и вы откроете, что то идёт от Платона, а то от Филарета, Наследие Платона и Филарета здесь усложнено новыми элементами, то положительными, то отрицательными, конструировано по-новому, но и в этой новой, более сложной конструкции, дело Платона – Филарета лежит всюду краеугольными камнем.
Первоклассные умы, первоклассные исторические деятели с выдающимся историческим значением в истории русской церкви нового времени – таковы эти два иерарха Платон и Филарет – учитель и ученик – по величию дел жизни своей84. Здесь, можно сказать, они неразделимы. Это два одинаковых солнца, или лучите даже, одно и то же великое солнце.
Но есть солнце летнее, и есть солнце зимнее... Действие
—15—
их по существу одно и то же, и плоды неразделимы, но одно животворит и греет, а другое животворит, но не греет. Таковы Платон и Филарет в своей деятельности.
Почему? Отчего? В чём тайна итого индивидуального различии?
Это тайна их сердца, тайна жизненного идеала, которому молились их сердца.
I.
Святыню своего сердца, сущность своего жизненного идеала м. Платон начертал в одной из своих проповедей у свящ. гробницы преп. Сергия.
Останавливаясь на словах Евангелия: „приидите ко мне труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе, и обрящете покой душам вашим“, м. Платон говорит:
„Сей глас Евангельский всех праведных столь возжёг сердца, что они не давали сна очам своим, и ресницам своим дремания, доколе не обрели покоя сего. Но... сей покой не состоит в том, чтобы, оставить все мирские, должности и попечения, то есть, чтобы оставить дом, жену, детей, промыслы, и удалиться в уединённое место. Нет. Сии попечения нам от праведной судьбы назначены: в поте лица твоего снеси хлеб твой... Да они же не токмо не отводят от спасения, но и суть средством ко спасению: ибо исправлением должности своей пользуем мы общество, и воспитанием детей приуготовляем добрых граждан... Да и приметьте вы в Евангелии: оно, призывая нас к покою, тотчас придаёт: „возьмите иго Мое на себе“. Вот иго: и хотя сказано „иго Мое“, а не мирское; но всякий труд, всякое попечение, по учреждению, Божию отправляемое, с пользой своей и общей, есть иго Божие.
И не может извиниться таковой, что он вместо того будет упражняться в единой молитве и богомыслии. Ибо одно дело Божие другому подрывом служить не должно, и сии дела суть совместны: одно другому не только не противно, но и одно другому помогает85…
—16—
Правда, Евангелие заповедует отречение себя: иже хощет по Мне итти, да отвержется себе.
„Отрещись самого себя, рассуждает Платон в другой проповеди, по-видимому есть вещь невозможная; ибо кажется, что в сём заключается некоторое противоречие, чтобы быть мне самому, и отрещись мне же самого себя. А хотя бы и можно было, то опять, кажется, не должно. Ибо отрещись самого себя, видится, что надобно бы было отказаться от тех Создателевых законов, на которых движения нашего тела и души основаны. Такие Святого Писания недовольно ясные места, есть ли надлежаще истолкованы не будут, бывают для других случаем к соблазну.
Приведённое нами о отвержении себя Христово слово одни толкуют, что отрещись от себя есть: все склонности, не делая между ними справедливого различия, умерщвлять и иссушать, так сказать, источник человеческих действий“, что „должны мы пренебрегать жизнь сию, что, помышляя единственно о будущей жизни, куда ведёт нас евангелие, аки бы не должны мы какое-либо о жизни сей иметь попечение, и желать дабы она скорее прешла, аки для нас ненужная или вредная86. Другие думают, что нельзя отрещись самого себя, разве себя удалить от всякого с людьми сообщения и оградиться горами от опасности мирских соблазнов. Иные, толкуя оное ж слово, рассуждают, что для отвержения себя не довольно исполнять обязательства, какие мы на себя приняли, вступая в число благословенного христианства; но надобно ещё себя обременять другим, не знаю чем; и для того оное Христово слово, чтоб отрещись себя, относят не до всех обще-христиан, но токмо до некоторого известного людей состояния87.
Такие и подобные толкования, по мнению Платона, „ни с духом Евангелия, ни с намерением Господа нашего нимало не сходственны88; они дают случай остроумным, по-
—17—
длинно, но не довольно рассудительным людям, не свято думать о истине христианской, вместо того, чтобы так думать о несправедливых её толкователях...
„Такового учения в свете не было, чтоб о житейских нуждах никакого не иметь попечения: да и быть не может“89.
Человек есть животолюбив. Сия истина есть естественна, яко от Бога влиянна. Ибо если б человек не был животолюбив: он не радел бы о себе: он при всяком прискорбном случае лишить себя жизни приступил бы без затруднения: он подобен был бы дикому зверю всякого терзающему; ибо был бы подобен отчаянному. Мог ли бы таковой о другого пользе, или о сохранении другого жизни подумать; когда бы собственную свою презирал? Сия к жизни сей, любовь есть не только нужна для благоденствия человека, но и есть связь общества. Когда я люблю жизнь свою: буду беречь и другого; ибо по собственному животолюбию рассуждаю, сколь дорога она должна быть и другому. Когда люблю свою жизнь: ищу всего полезного для сохранения её целости; а тем самым обязываю себя и другого, пользу наблюдать, ведая, что нарушение оной в другом столь должно быть чувствительно, сколько-б то чувствительно было для меня самого. И потому для любви к ближнему положил правилом Спаситель любовь нашу к самим себе: возлюбиши ближняго твоего, яко сам себе (Мф.12:31). А сие означает, что не любящий самого себя, другого любить не может“90.
Боговложенная любовь к себе, обязывает человека трудиться над развитием своих сил и способностей.
„Человек рождается на труды. Сия истинна не токмо не сомнительна, но и естественна нам, и источник нашего щастия. Свойство и тела и духа нашего требует, чтоб мы во всегдашнем были движении. Все в теле нашем соки и кровь непрестанное течение и кружение имеют: и если они начали протекать слабо, соки в нас испортятся, и кровь повредится. А сие наполнит телесный наш состав тлением и болезнями. Если же бы совсем в нас те-
—18—
чение крови и соков остановилось, то воспоследует смерть. Почему и зело потребен труд, чтоб он воспомоществовал сему животворному течению, а через то бы укреплял здравие, и продолжал жизнь.
И как мы паче всего обвыкли желать здравия и жизни долговременной, и сие благо почитаем величайшим, то от нас самих зависит, даровать себе сие сокровище. Средство к приобретению и сохранению того всегда есть в руках наших. При том как труды сохраняют здравие: так взаимно здравый состав всякие труды подъемлет с удобностью и лёгкостью; труды, доставляющие нам всякие выгоды житейские. С помощью их снискиваем мы себе лучшую пищу и питие: украшаем бренное тело своё многоразличными и красными одеяниями, сооружаем огромные, не более к спокойствию, как и к увеселению служащие здания; и тем отвращаем всякие нужды, которые бы могли учинить жизнь нашу скучной и печальной.
Да не тело токмо в трудах находит своё подкрепление, но и сама душа. Силы её и способности так же всегда обращаются в своём роде движения, которое, чем есть больше, тем мысль становится понятнее, разум просвящённее, желание живее, воля скородвижнее, охота стремительнее. А как душа с телом соединена теснейшим союзом, то чем более труд укрепляет телесное здравие, тем более действуют силы душевные: чем более труд приводит тело в движение, тем более очищаются мысли, и способности свежее становятся. А из сего без сомнения заключить должно, что труды назначил нам Творец, яко наилучшее средство к сохранению сея жизни в покое, довольствии и благополучии“91.
Особенно важен труд в отношения разума.
„Кто не радит о снискании настоящего просвещения, тот расслабляет силы своего разума и понятия. Бог даровал каждому человеку способность и силу к понятию и рассуждению, и сим то особливо даром различил Он нас от прочих животных бессловесных. Сия драгоценная способность есть семя, посеянное в сердце нашем, которое чтоб возросло и принесло плоды, надобно употребить тщание и
—19—
труд... Если б кто о познании... но радил, не расслаблен ли он? Не связывает ли он душевные силы свои, и божественное семя не остаётся ли в нём не только бесплодно, но и расслабленно?“92.
Отвержение себя есть отвержение не задачи и благ развития жизни земной, а порока.
„Чтоб истинное об отвержении себя получить понятие, надобно наперёд уверенным быть (о чём, думая, никто и сумниться не может), что человек часто предпочитает худшее лучшему, что нередко последует чувственным склонностям в предосуждение здравому разуму, и что не всегда есть точным исполнителем закона совести; а через то, выходя из-под владычества добродетели, делает себя невольником порока. Приняв истину сию за несомнительную, не трудно узнать, в чём состоит отвержение самого себя. Ибо когда идёт кто против несправедливого усилия своих страстей; когда приятность чувств приносит в жертву пользе, утверждаемой разумом, и когда наружные выгоды порока почитает меньше тех трудов, которые ведут к добродетели: тогда он разрывает самый крепкий узел предрассуждения и пристрастия, тогда он принуждает себя оставить приятность и пользу для чувств весьма лестную; тогда он побеждает самого себя, и тогда то отвергается себя самого по слову Евангельскому... Отрещись себя, значит, просто сказать, не слушаться самого себя, когда б мы в самих себе чувствовали побуждения, противные истине, противные совести и разрушающие истинное блаженство наше“93.
Так в чём же состоит Евангельский покой? Состоит в спокойствии совести. А совести спокойствие тогда есть, когда она тебя ничем не зазирает: когда ты в неустанном труде над развитием и применением всех полученных от Бога сил и способностей „так располагаешь своим состоянием, что исправление дел мирских не отвлекает тебя от Бога“94; когда человек заповеданную от Бога „добродетель любит саму по себе“ и неленостно служит ей всеми силами души и тела, без всякой при-
—20—
меси „корыстолюбия и честолюбия“95. В этом покое совести есть самая высшая радость, самое высшее блаженство человека на земле.
Таков основной принцип жизненного идеала м. Платона – покой совести в сознании неленостно и неподкупно выполненного нравственного долга в отношении Божественного дара жизни. С этим идеалом предстоит Платон перед Богом и людьми. Но с этим же идеалом предстоит и Филарет. Оба они мужи нравственного долга96. И если по величию дел жизни своей оба они как бы два одинаковых солнца, то, оказывается, и горят они одной и той же по существу и силе напряжения энергией нравственного долга.
Но одно горит тёплым летним светом, а другое холодным зимним...
Наука знает, что солнце летнее и солнце зимнее – одно и то же солнце и лучи его одни те же, но солнце летнее греет потому, что лучи его преломляются и задерживаются в окружающей землю земной атмосфере облаков: так точно и энергия нравственного долга, в нравственной личности Платона приобретает согревающую силу потому, что лучи его преломляются в густой атмосфере земных человеческих чувств человеческого сердца.
В своей автобиографии м. Платон настойчиво подчёркивает как отличительное свойство своей души то, что он был „крайний уединения любитель“.
—21—
Но это уединение, которого Платон был любитель, не было однако уединением одиночества иноков-отшельников. в котором „удобнее подражать бесплотным и воспринимать тайные посещения Св. Духа“, уединением, которое любил Филарет97. Склонности к этому настоящему иноческому уединению Платон совершенно не имел. „Хотя, пишет сам о себе Платон, был (он) уединения любитель: но скучал быть один, и всегда один или два при нём находились, с коими он мог бы откровенно разговаривать“. Под любовью к уединению Платон разумел то своё свойство, что „множества людей, особливо ежели с ними надобно было обходиться церемониально и неоткровенно, всемерно убегал“98. Отсюда, вообще „нередко немало времени проходило у него в прохаживании, или в сидении, разговаривая с приятелями99. По поводу школьных лет своей жизни Платон пишет про себя: „Был он нрава весёлого и словоохотливого: любил свои разговоры прикрашивать шутливыми или забавными словами и в разговоре своём всем всегда правился и находили все удовольствие его слушать, или с ним разговаривать... Но при всём своём таковом свойстве был крайний уединения любитель, чтоб находиться только у себя дома, с малым числом верных приятелей и друзей обходиться, с коими не иначе бы мог разговаривать, как он сам с собой, без всякого принуждения, со всей откровенностью, и посему всё то, что называется церемонией, для него было несносно. И сию к уединению любовь сохранил он во всю жизнь100. Живя и при Дворе, не оставил своей любви к уединению, редко когда выезжал, и то более к духовным. Но вместо того, всегда, почти у него собрание было иностранных людей, яко то: греков, сербов, далматов, французов, немцев, итальянцев и других: ибо он с ними обращаться и разговаривать особенную всегда охоту имел. Собирались они всегда к нему или на обед, или во вечерам. И от такого обращения он много пользовался,
—22—
ибо из них многие были учёные и свет знающие101. Проживая в Вифании, Платон имел обыкновение каждый день в пятом часу пополудни приглашать к себе ректора, префекта и кого-либо из учителей и, или прогуливаясь с ними по двору, или, когда не позволяла погода, сидя в комнатах, вёл с ними разговор и никогда не отпускал от себя ранее десятого часа102. Несомненно, что только что описанная любовь к уединению, не есть любовь к тому одиночеству молитвенного созерцания Бога, которая свойственна инокам. Это просто любовь к уединению интимности дружеского общения.
Вот эту-то чисто человеческую земную любовь Платон нёс с собой всюду и везде, и в атмосфере этой то любви суровый и жёсткий103 в Филаретовском воплощении идеал неподкупного нравственного долга перед Богом получает у Платона своеобразное преломление, своеобразные, чарующие своей мягкостью, нежностью, конкретные формы жизненного воплощения.
Обычно люди с указанной склонностью к уединению и интимности дружеского общения избирают тот путь жизни, где моральная атмосфера дружбы, дружеского единения является естественной, – путь жизни семейной.
Платон находил, что то „утешение дружбы, какое даёт семья, слишком мало, так как отравляется теми „труд-
—23—
ностями, с какими соединено супружеское состояние“104. И он избирает противоположный путь – иноческий.
Однако иночество самим существом своим идёт против свойства Платона: „не любил быть один“, а чтоб всегда с ним двое или трое находились из друзей. Для инока самое вожделенное и обычное нормальное состояние – уединение кельи в уединённой молитве перед Богом. Но Платон был своеобразного взгляда на монашество, что оно ни к чему более человека не обязывает в сравнении с рядовым христианином, кроме безженства. „Он о монашестве рассуждал, – пишет Платон в автобиографии, – что оно не может возложить более обязательства на христианина, как сколько уже обязывало его Евангелие и обеты крещения; и по духу Евангельскому, всякий христианин должен быть всегда воздержен, смиренен, послушлив, трезв, богомолен, никакими излишними житейскими заботами себя не связывать; а при том, хотя может иметь жену, по слабости плоти, но жить с ней целомудренно, и более, по Апостолу, пребывать в посте и молитве, нежели предаваться сладострастию... При таковом рассуждении заключал Платон: что тот будет истинный монах, который будет истинный христианин. А хотя похитил он безженство нелёгким бременем для немощи плоти, и чувствовал её подстрекание: но напротив всегда со страхом воображал супружеское состояние; каким трудностям, заботам, скорбям, бедствиям подвержен женатый и мирской человек, содержа жену, дом, воспитывая детей, устрояя их к местам и всем им во всём сострадая: и ежели какое от того получают утешение и удовольствие, но сия чаша несравненно более горестью растворена... Всё сие живо воображая, Платон ублажал безженную жизнь и уединение, а мирскую оплакивал: а через то и борьбу плоти несколько облегчал“105.
—24—
Так для Платона иночество, это только „безженная жизнь и уединение безженной жизни“, нисколько не мешающие быть всегда в дружеском общении. Вместо дружеской человеческой любви, рождающейся на почве плотского родства, остаётся дружеская человеческая любовь, основанная на почве духовного родства. И её то ищет сердце м. Платона.
Но откуда, как созидаётся это духовное родство, дающее друзей и радость дружеского общения? Здесь идеал дружбы пересекает собой для сознания Платона идеал нравственного долга и преклоняет его к земле.
Как и плотское, духовное родство, по мысли Платона, созидается актом творчества на пользу, счастье других. Духовное родство созидается актами добротворения по требованию нравственного долга; и чем интенсивнее, шире эти акты, тем созидается более тёплая и атмосфера дружбы.
—25—
Для наибольшего же осуществления дела добротворения состояние безженное, по мысли Платона, есть самое удобное. На вопрос Екатерины: зачем он принял монашество? – Платон ответил: „по особой любви к просвещению“; и на возражение: „разве нельзя в мирской жизни умножить просвещение“? – пояснил: „можно, но не столь удобно, имея жену и детей, и разные мирские суеты“. Итак, возможность с большим удобством „умножать просвещение“, т. е. более широко трудиться на благо других, вот что привлекает Платона в безженном состоянии монашества, вот причина, ради которой он отказывается идти путём жизни семейной.
Но сам труд для других по закону нравственного долга привлекает Платона, как горнило созидающее и окружающее себя атмосферой дружеских отношений, поскольку правда нравственного долга естественно созидает вокруг себя тёплую атмосферу человеческой дружеской любви. Преломляясь в этой атмосфере, жизненный идеал Платона, идеал нравственного долга получает гуманитарный наклон и гуманитарное содержание.
Платон и Филарет оба предстоят перед Богом и людьми с одним и тем же по существу жизненным идеалом. Но взор Филарета обращён прямо к Богу. Филарет предстоит перед Богом с своей совестью в уединённой молитве с глазу на глаз; он испытует свою совесть только, непосредственным зрением правды лица Господня. Взор Платона обращён к человеку. Платон предстоит перед Богом на молитве с сердцами и совестями своих собратий и отражает в себе не только правду лица Господня, но и сердца и совести своих собратий, с которыми и для которых он трудится во имя Божие. Отсюда идеал спокойной, выполнившей нравственный долг совести различно сознаётся тем и другим. У сурового, необщительного Филарета совесть покойна, когда он сделал в отношении других то, что подсказывала ему совесть перед лицом Божиим: у мягкого, общительного Платона совесть спокойна лишь тогда, когда он сделал всё, что подсказывала ему совесть перед лицом Божиим и перед лицом совести и сердец тех, с кем и для кого он живёт и трудится.
—26—
Платон и Филарет одинаково исповедают принцип; ,,добродетель должна быть любима сама по себе“. И Филарет и Платон любят добродетель саму по себе. Но самозамкнутый, необщительный Филарет любит добродетель, как творческое дело любви к всесвятейшему Богу, Платон – как дело излияния любви к немощному человеку. Для Филарета каждый человек – это жертва, которую он приносит от себя и вместе с собой святыне Божией. Филарет, это древний Иеффай, закаляющий свою дочь, чтобы сделать её собственной жертвой от себя Богу. Для Платона каждый человек – это сама святыня, которой он себя самого приносит в жертву, как святыне образа Божия во имя Божие; потому что в этой самой жертве он чувствует источник своего собственного личного счастья: это древний Моисей и новозаветный Павел, умоляющие Бога быть отлучёнными от лица Божия за жизнь народа Божия.
Платон видит образ добротворения в деянии Высочайшего Добра, Бога в момент творения мира. Творение мира – это движение полноты Божества к обнаружению во вне, находящее удовлетворение в счастье тварей, являющихся плодом этого движения.
„Когда ...истинный Бог все возможные совершенства в себе заключает, и ни в чём недостатка ни нужды иметь не может: то какой же был бы резон, возбудивший Его к созданию мира? Представьте себе безмерное море, которое, не удержавшись в своих берегах, начало бы через оные проливаться: подобно некоторым образом безмерная бездна Божиих совершенств, как бы не удержавшись в своих пределах, благоволила излиться вне самой себя. Сие излияние есть ни что иное, как некоторое совершенство существа Божия сообщение и другим существам. Оно излилось: из сего излияния произошли небеса, светила, земля, древа, животные и другие твари неисчислимые. В сих через излияние Божие происшедших тварях открылись нам Его совершенства, которые прежде в Нём одном были сокровенны. Сии твари стали зерцалом, в коем мы начали усматривать благость Его, правосудие, премудрость, всемогущество и прочая; но сего не довольно. Мы ещё те же совершенства, хотя ограниченным образом вдруг, ощутили и в самих себе и в тварях других. Мы нашли и в
—27—
себе и в других созданиях и следы, и дела, доказывающие благоразумие, просвещение, стройность порядка, склонность к сожалению, к любви, к правосудию. Итак, внезапным образом и которого мы и сами никак ни предвидеть, ни узнать не могли, стали участны Его совершенств – вдруг воссиял образ Его. Творец, с высоты святой Своей воззрев, почувствовал, коли можно так сказать, сладчайшее в себе удовольствие, что от сияния Его лучей некоторое открылось того подобие, и что увидел со славой исполнено своё великое намерение, которое, как видите, не в ином чём состояло, как чтобы сообщить свои совершенства и другим, и тем учинить их счастливыми, сколько по своей ограниченности вместить могут, так как Он есть блажен бесконечным образом106.
Таково же, по Платону, движение всякого добра и в человеческой личности.
„Добро само по себе есть общительно. Положим, что ты счастлив, почтен и радостен. Тотчас желается тебе и счастье своё другим открыть, и честью своей других очи удивить, и радость свою, не вмещая в себе, тотчас пересказать другому. Если б ты был один, счастье твоё не столь бы тебя услаждало; честь какова бы не принесла тебе удовольствия, радость, во внутренности стеснённая, тем как бы погасла. Почему счастье, честь и радость не сами собою для нас усладительны, но когда имеем мы их кому сообщить. Но для того ли ты другим их оказываешь, чтобы перед ними токмо повеличаться, и оказав свою пышность, в других произвести только зависть, или негодование, или смущение. Когда несчастливые, увидев твоё в счастье величие больше узнают твоё несчастие, и видев твоё изобилие, больше узнают свои нужды и бедность, а через то возьмут случай больше оплакивать свой злополучный жребий, и может быть будут роптать на промысл; а тебя отяготят поношениями, что ты или того счастья не заслужил, или недостоин тем пользоваться... Ещё счастье
—28—
твоё в тебе одном заключено есть, когда ты оным по наружности только величаешься перед другими, а самой вещью они в том не участвуют. Следовательно, и тебе самому, коли поистине рассуждать, никакого оно не приносит удовольствия... Бог украсил тебя дарами счастья, яко древо плодоносное: наполнен ты способностью и могуществом помогать другим, яко глубокий источник воды живой. Будешь ли ты оные скрывать в самом себе? Но на что? Ты тем докажешь, что напрасно оные тебе и даны; да и самого себя лишишь проистекающего из них удовольствия. Ибо оно не может быть, когда дары счастья в тебе одном только закрыты и погребены... Чем более ты счастье своё сообщишь другим, тем более умножится собственное твоё удовольствие. На других, счастьем твоим учинившихся счастливыми, когда воззришь ты, что тебе представится: представится тебе, что сии, о счастье своём радующиеся люди, суть как бы райские древа, возросшие от семян, тобой посеянных; или паче представятся как чада, рождённые твоим человеколюбием, в коих начертан сияет образ твой отеческий и подобие. Может ли что сравняться с сим сладчайшим и небесным удовольствием? Сирота тобой воспитанный, бедный тобой снабденный, болезнующий тобой исцелённый, немощный тобой защищённый, унывающий тобой восставленный, невежа тобой просвещённый, не суть ли духовное и святое твоё порождение, коим без постыждения можешь со апостолом сказать: Благодетельством аз вы родих (1Кор.4:15)“107.
Для Платона, таким образом, творить добро значит радоваться счастью добровоспринимающих, быть соучастником этого счастья, как мать и отец чувствуют счастье, являясь созерцателями счастья детей, получивших от них жизнь свою, т. е. возможность и способность чувствовать счастье.
Отсюда для Платона каждый человек мыслится не иначе, как „о счастье своём радующийся“ или печалующийся, не иначе, как цельная личность в полноте своих радостей и скорбей, которую нужно осчастливить. Для него нет просто подчинённого, просто сотрудника, обязанных быть лишь
—29—
орудием исполнения того долга, который они несут, до личной скорби и радости которых нет никакого дела. Нет, для Платона каждый подчинённый и сослуживец, это свой для него человек, свой и дорогой не только со своими официальными обязанностями, но и со своей совестью, и со всеми своими радостями и скорбями, к которым он не может относиться иначе, как с любовью отца и уважением друга. Равно и каждое учреждение, входившее в сферу его творческого воздействия, становилось для него своим во всех отношениях.
Но закон плотского рождения таков, что порождающий, радуясь счастью порождаемых, естественно требует в ответ благодарной любви за дарованное благо жизни. В этой любви – самая высшая награда и вместе непременное условие радости рождающих. – Без неё радость о счастье детей перестаёт быть радостью и превращается в тем большую скорбь, чем велика эта самая радость. Таков и закон духовного рождения, духовного творчества. Само Высочайшее Добро – Бог даровал человеку благо жизни при непременном условии благодарной любви к Нему со стороны человека. Точно тому же закону следует и добро в человеческом сердце: и оно, давая счастье другому, требует от другого в ответ благодарной любви. И чем интенсивнее это добро в человеке отдаёт себя творчеству счастья других, тем более он чувствует нравственную обязательность, тем интенсивнее жаждет радости ответной благодарной любви. В энергично-деятельном Платоне эта жажда была тем интенсивнее, что она была и вместе запросом его от природы дружелюбивой души.
Удовлетворение этой жажды Платон считает самой высшей и единственной возможной на земле земной наградой добру.
„На земли... награда самая надёжная и превосходная... состоит в любви тех, коих ты по своему званию облагодетельствуешь. О, колика лестна и благословенна сия награда, да и сколь же мало неблагоразумный честолюбец оную или уважает, или понимает! Почитание, состоящее в одних наружных и низких поклонах, и в видах уважительных, есть един обман и лицемерие108. Изъявив
—30—
в глазах всякого рода унижения, не успеет он выйти за порог, как тем более восчувствует к нему презрения, чем более насиловал себя к наружному унижению. Таково ли должно быть истинное почитание, и может ли добродетельный человек за ним гоняться?!
Но не таково есть почитание, которое от сердца происходит, и которое в любви состоит. О, представьте себе с каковым пылающим любовью усердием смотрит тот бедный на оную судью, который его от руки сильной защитил. Как любезно и священно лицо начальника тому человеку, которому он доставил надёжное пропитание. С какой благодарностью вспоминает преступник об оном властелине, который всемерно тщился не столько его наказать, сколько исправить, да и имел счастье его развратного сделать добрым человеком. Вам самим на суд отдаю, ласкатели ли более почитают вызванного властелина, или сии облагодетельствованные добродетельного начальника.
Так ежели сладчайшее удовольствие есть, взирать нам на начальника добродетельного, так какое же сам он должен чувствовать услаждение в душе своей, когда видит столько возожжённых перед собой жертвенников, сколько сердец им обязанных?! Они его любят: а через сие то наилучшим образом его почитают; и не в лицо токмо, но и заочно, и везде, и всегда. Не довольна, ли сия для проходящего честно свою должность награда на земли? Чего более искать и желать? ищешь наружных отличительных знаков, но чем более они отличительны, тем более удаляют тебя от других. Ибо меньше приступным тебя делают. Отличай себя: кто воспрещает. Но благодетельством, правосудием, снисхождением, примером честности и благоразумия. Таковые отличения привлекут к тебе других сердца. Ибо через сие ты и их самих делаешь отличностей своих участниками109.
Так добро, давая счастье другому, получает в награду блаженство ответной любви. И эта ответная любовь состоит в том же добротворении, в том же радовании счастью другого и заботе о его горестях и радостях, как о своих.
—31—
Получается союз „любовное братство“110 – дружеское общение любви людей, нравственного долга, в котором они, в общем служении нравственному долгу, открывают и усвояют себе взаимно все горести и радости и заботы друг друга. Характерный признак и необходимое свойство этого дружеского союза в служении добра – искренность и откровенность. Искренность и откровенность в том, „когда у кого язык с сердцем согласен и у коего душу можно видеть на лице его... Чувствования Бог положил в сердце; а язык учредил, чтобы он был орудием к точному этих чувствований изъяснению. Склонности скрыл в душе под покрывалом тела: а лицо уставил быть зеркалом, дабы в нём были открыты те склонности. Почему Боголюбивый муж и рассуждает, что иное чувствовать в сердце, а иное изъяснять языком; иное содержать в душе; а другое на лице представлять, есть не иное что, как насиловать природу; и превращать порядок Богом установленный111… Человек с человеком и братством и взаимной пользой, и верой соединён. Сей великий союз требует искренности; ибо требует доброжелательства. Скрыть от другого сердце своё и показать иной вид, есть не иное что, как нарушить любовь братства, лишить другого, да и самого себя, должной пользы, и показать, что вера в сердце ничего не действует. Какое должно быть в сём превращение! Нет! Ведает добродетельный человек, что обязан он всякому по возможности делать добро, а никому не вредить; не только для того, чтоб чувствовать удовольствие и радость, доставляя другому пользу и благодетельство; но и для того, что и он взаимно в случаях нужды может ожидать себе от других помощи“112. Отсюда для Платона каждый добротворящий человек, усвояя себе все горести и радости других, имеет право требовать, чтобы они не скрывали от него своей души, в свою очередь имели желание усвоять себе и разделять его скорби и радости, усвоять себе доверчиво открываемую им душу друга.
Холодный Филарет, совершающий добро для человека,
—32—
как жертву небу, а не человеку, не чувствует потребности и не принимает нравственной обязательности сердечной. дружественной связи и общения между добротворящим и добровоспринимающим. Возлюбленный особой отеческой любовью м. Платона, который „особливое прилагал, в рассуждении его воспитания, отеческое старание“113, Филарет считал Платона для себя „более, чем наставником“114, но отцом. В Троицкой семинарии он писал в честь Платона стихи:
„Пой в песнях великих героев, Омир!
Дела же Платона ты петь не дерзай:
Поэты наклонны и правду превысить –
А как превозвысить деянья отца?!“115.
Но вызванный в Петербург, он не пожелал возвратиться снова в Лавру, под „кроткую тень“116 Платона, чтобы быть „утешением его старости“117, как хотел и просил от Синода Платон. На вопрос первенствующего члена Синода митрополита Амвросия, желает ли он исполнить желание м. Платона, – Филарет ответил сурово-холодно, что, приняв обет монашества, он отрёкся от своей воли и предал себя воле Божией и воле начальства118. Не так представлял себе свои отношения к людям, возращённым своей любовью, м. Платон. Его душа искала таких отношений, в какие стал к нему и стоял до смерти другой его любимый ученик – Евгений, после архиепископ
—33—
Ярославский. Вместе с Филаретом неволей вызванный в Петербург, он на вопрос Амвросия не только ответил полным согласием, но и усердно просил возвратить его к своему духовному отцу. Когда Евгений возвратился в Лавру, то был „принят не иначе как сын“ и затем „постоянно каждую неделю бывал три раза“ в Вифании: „во вторник, в четверг после полудня и там оставался до следующего утра; в субботу же приезжая после полудня был там и воскресенье до утра понедельника; сверх того, на каждый праздничный день, когда не было ученья, прижал накануне и уезжал на утро праздника, проводя там обе ночи“. И этот образ отношений был настолько по душе Платону, что однажды „благословив пришедшего Евгения, крепко сжал его руку и неоднократно поцеловал её, так что Евгений едва мог вырвать свою руку“119. Из писем к Евгению видно, что Платон был весьма огорчён образом действия Филарета и только заступничество Евгения успокоило дух Платона... „Неприятно мне, – пишет Платон Евгению в Петербург, – что отнимаете у меня всякую надежду, чтобы Филарет возвратился. Но он ещё ничего ко мне не пишет. Видно...120 „Верно, многое, как думаю, – пишет Платон в другом письме, – могло тебе препятствовать, чтобы писать ко мне: но ничто не могло преодолеть твоего стремления любви ко мне. Тем более быть тебе обязанным я себя и чувствую, и сознаю. То, чего казалось я должен бы ожидать от Ф..(иларета), то получил от тебя одного и потому в тебе одном обоих почитаю“.121 „Не перо и чернила, – пишет Платон от 2 мая 1809 года, – а кажется чистый дух твой писал письмо, тобой мне присланное... Твоё посредничество за Ф.(иларета) много имеет предо мной силы. Посему как его, так твоя любовь никогда не выйдет из моей памяти. Прощай, мой друг“.122 И действительно, память о Филарете никогда не изглаживалась в сердце Платона. В письмах к Евгению, пора-
—34—
жающих словами чисто отеческой любви... – „Я уверен, что где ты ни будешь, никогда и из моей, и из твоей памяти я не изглажусь. Молюсь душевно, да совершит счастливо путь твоей жизни и твоих занятий. Далеко ты от нас расстоянием места, но весьма близок ко мне твоей любовью“... – Платон непременно приписывает Филарету пожелание здоровья или „душевную благодарность“ за письма последнего123. Умирая, Платон высказал Евгению желание, чтобы Филарет, проповеднический талант которого он с любовью приветствовал и воспитал как „отличнейший“124, сказал над его останками надгробное слово дружеской любви, подобно Григорию Богослову над гробом своего друга – Василия Великого. Филарет в ответ на письмо Евгения, написав ему несколько слов в похвалу Платона, отклонил от себя этот завет публичного выражения своей несомненно глубокой целожизненной любви и благоговения к своему великому учителю: „подлинно он был Василий великий, но я не Григорий“ – ответил Филарет125. Говоря так, Филарет намекал не на свойства лишь своего проповеднического таланта. Действительно, вообще суровая душа Филарета не была нежной, всегда готовой излиться перед другими душой Григория, это – скорее душа Василия, но сердце самого Платона, с его идеалом нравственной правды, творимой в дружбе, и дружбы, творимой в правде и правдой было по истине сердцем Григория. С этим то сердцем он выступает на жизненном поприще и всюду и везде вносит чарующую атмосферу дружественной искренности, общительности, гуманности.
(Окончание следует).
В. Виноградов
Глаголев С.С. Вопрос о жизни на Марсе // Богословский вестник 1913. T. 1. № 1. С. 35–76 (2-я пагин.). (Начало.)
—35—
Два противоречивых положения утверждаются в настоящее время очень часто и очень многими. С одной стороны утверждают, что нет высшего мира – нет Бога, нет ангелов, нет святых; с другой стороны говорят, что напрасно человек считает себя венцом создания, напрасно он думает, что всё создано для него, для его услаждения, для удовлетворения его потребностей. Человек есть ничтожество, случайно он занял высшее положение на земле, но со временем обратится в ничто. Эти два положения, что нет мира выше человеческого и что человек – ничтожество, утверждаются одними и теми же лицами, хотя они и несовместимы. Если нет Бога, то человек не знает никого выше человека. Случайно или не случайно он занял высшее место в известном мире, он во всяком случае его занимает, он постепенно подчиняет себе мир, он заставляет цветы благоухать для него, он овладевает минералами, растениями, животными, он овладевает природой и даже постепенно пересоздаёт её. Культивированные растения и домашние животные – не только создание природы, они отчасти и создание человека. Когда человечество обратится в ничто, это никому неизвестно, но теперь мы видим, человечество не только овладевает бытием, оно постепенно овладевает тайнами бытия. Человек ещё не встретил во всей вселенной существа, которое подобно ему могло бы пользоваться огнём и обладало бы даром слова. Если человек и произошёл от животных пред-
—36—
ков, он во всяком случае теперь порвал связь с своими животными родичами. Между ними и им – непереходимая бездна.
Многим мыслителям настоящего представляется, что человек слишком переоценивал себя в прошедшем, и вот они стараются выяснить, что человек ни по своему происхождению, ни по своему положению в мире не может претендовать на то, что он есть нечто высшее, для которого всё существует. Человек, говорят, произошёл от животных и в конце концов в числе своих предков он должен признать и такие ничтожества, как амёбу и протамебу. Миров во вселенной бесчисленное множество и на многих из них несомненно живут существа, стоящие по своему развитию неизмеримо выше человека. Мыслители, рассуждая так, показывают, что они в сущности не понимают ни того, что утверждают, ни того, что отрицают. Они утверждают, что человек ничтожен, что в экономии природы он то же, что муха или дождевой червь, но в тоже время они признают, что не знают никого выше человека и что человек по своим духовными, качествам стоит бесконечно выше непосредственно за ним следующих существ – человекообразных обезьян. Они отрицают взгляд древних на человека, Но они не понимают этого взгляда. Они думают, что люди прошлых веков ставили человека безмерно высоко. Это – не так. Вот, что читаем мы в 143 псалме: „Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нём, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению; дни его – как уклоняющаяся тень“ (Пс.143:3–4). В этих словах утверждается, что человек есть ничтожество, но что, хотя он и ничтожество – он служит предметом божественного попечения. Если мы от Библии обратимся к языческим суждениям о человеке, то встретимся ещё с менее высокой оценкой венца создания. Вот – стихотворение, приписываемое Конфуцию –
Перед вселенной – ничто человек!
Он – песчинка на дне океана:
Перед вечностью – миг его век.
Это – дым перед лицом урагана…
—37—
…Исчезает всё в мире навек
Вместе с жизнью, и только порой
Холмик сорной покрытый травой
Нам напомнит, что жил человек.
Если мы от языческого мира и Ветхого Завета обратимся к завету новому, то там встретим такие слова; „что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты унизил его перед Ангелами; славой и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих. Всё покорил под ноги его“ (Евр.2:6–8). Слова взяты из Ветхого Завета, но им дано, так сказать, новозаветное освещение.
По религиозным представлениям человек двойственен – и ничтожен и велик: ничтожен сам по себе („прах ты и в прах возвратишься“. Быт.3:19) и велик при помощи Божией – обращающийся к Богу он поставляется над делами рук Божиих.
Трудно понять, что такое есть в знаниях современного человека, что должно поколебать такой взгляд на человека. Говорят о низком происхождении человека. Этот вопрос автор настоящего рассуждения трактовал в своей работе „О происхождении человека“ (Сергиев посад. 1912). Говорят о низком положении человека, утверждая, что на бесчисленных мирах вселенной обитают существа, стоящие в культурном отношении неизмеримо выше человека. Разбор и оценка этого утверждения будет предметом настоящего исследования. Прежде это утверждение основывалось на дедукции: из понятия о Боге выводили, что Он должен был не только создать бесчисленное множество миров, но и населить их. С конца семидесятых годов это утверждение основывают на наблюдении, так сказать, на факте. На Марсе, говорят, открыты сооружения свидетельствующие, что там обитают существа, стоящие в культурном отношении неизмеримо выше человека.
Возникают два вопроса: 1) совместимо ли это утверждение с христианскими представлениями о человеке и 2) действительно ли это утверждение основывается на факте? Я интересовался этими вопросами со времени их возникновения. Двенадцатилетним ребёнком я в первый раз
—38—
увидал изображения каналов на Марсе и в первый раз слушало, рассуждения взрослых о том – верить этому открытию или нет? Одиннадцать лет спустя, сидя на студенческой скамье, я написал маленькую статью „Каналы на планете Марс“ и ею дебютировал в печати (Русские Ведомости, № 323, 23 ноября 1888 г.). С тех пор много воды утекло. Многократно и многими производились наблюдения над Марсом. Много писалось о нём. Появились и романы, героями в которых выступают жители Марса – марсиане (Уэльс – борьба миров). В настоящем рассуждении я хотел бы изложить в хронологической преемственности то, что, по моему мнению, наиболее интересного писалось о Марсе с астрономической и богословской точек зрения и закончить изложением своих взглядов на этот предмет. Я начну с того, что я писал сам в 1888 году.
1.
В ряду планет солнечной системы Марс представляет наибольший интерес для обитателей земли. Из внешних планет он ближе всех к земле; по своему физическому строению он обнаруживает большое сходство с землёй и потому издавна подавал повод к догадкам о том, не существует ли на нём жизни, подобно той, которую мы наблюдаем на нашей планете. Его экватор наклонен к орбите под углом 27° 161 (немного более чем экватор земли – 23°), время обращения его около оси равно 24 час. 37 мин. 23 сек.) опять немного более, чем время обращения земли). Из величины угла наклонения его экватора следует, что его поверхность разделяется на 5 климатических поясов, как и поверхность земная. Далее наблюдения показали, что на Марсе существует атмосфера, подобная земной.
В 1877 г. Скиапарелли, миланский астроном, производя наблюдения над Марсом, открыл на нём чёрные полосы, которые по своей форме весьма напоминали каналы. Он и усвоил им это имя. В 1886 г. благодаря хорошему состоянию атмосферы и удобному положению Марса он изучил эти каналы весьма тщательно и издал карту Марса. Людям с богатым воображением виды гигантских каналов подсказывали самые фантастические картины. Им рисовалась высокая культура жителей Марса, в
—39—
сравнении с которой современная европейская культура являлась тем же, чем является в сравнении с последней культура жителей Огненной земли или Таити. Принимая во внимание, что по гипотезе Лапласа Марс старше земли, мысль о высшем развитии обитателей Марса, чем обитателей земли, находили весьма вероятной. Но вот наблюдения 1888 г., пролив много света на любопытный вопрос о физическом строении Марса, принесли вместе разочарование всем мечтавшим о высоком образовании туземцев на Марсе.
Сообщить об этих наблюдениях и их результатах мы и имеем своей задачей.
Директор Ниццкой обсерватории Перротен наблюдал в этом году часть каналов Марса: вид их вообще был тот же самый, какой они имеют на карте Скиапарелли 1886 г,: но некоторые из них сделались значительно меньше, другие отчасти исчезли.
Три важные изменения произошли на поверхности Марса, с 1886 г. Материк, названный Скиапарелли на его карте Libya, простиравшийся на значительное расстояние по обе стороны экватора, исчез (пространство, которое он занимал прежде, приблизительно равно 600,000 квадратных километров, что составляет немного более, чем поверхность Франции). Надвигаясь на материк, соседнее море покинуло на юге те области, которые оно занимало прежде и которые являются теперь с светло-голубой окраской – средней между бледно-розовой окраской материков и тёмно-голубой окраской морей Марса. „Это наводнение (или что иное), – говорит Перротен по поводу исчезновения Libya, – если довериться изображениям Марса в 1882 г, может быть представляет собой явление периодическое. Если это так, то наблюдения будущего времени дадут закон его“. Второе изменение представляет собой образование к северу от исчезнувшего материка, под 25° широты, канала, который не обозначен на карте Скиапарелли, хотя им были нанесены на неё и каналы гораздо меньшей величины. Этот канал Перротен увидел только в последнее наблюдение. Он занимает в длину около 20° и в ширину 1° – 1,5°, направляется параллельно экватору и является ветвью уже известного двойного канала, который приводится им в сообщение с морем.
—40—
Наконец, третье изменение состоит в присутствии на белой поверхности северного полюса чего-то подобного каналу. Этот канал соединяет, кажется, но прямой линии сквозь полярные льды два соседних полярных моря. Он обрисовывается весьма резко на севере Марса, перерезывая сферическую белую поверхность по хорде, соответствующей дуге около 30°.
О своих наблюдениях Перротен сделал сообщение в мае парижской академии наук. После этого он продолжал свои наблюдения и в июне сообщил о новых изменениях на Марсе – опять на Libya. Море, покрывавшее её, значительно отступило назад, и её вид сделался средним между тем, каким он был в 1886 г. и в мае 1888 г. Далее Перротен констатировал существование каналов (отчасти двойных), направляющихся из областей близких к экватору и достигающих северного полюса. Особенно странным оказалось то, что можно проследить направление этих каналов сквозь моря, окружающие полярную поверхность, до самой этой поверхности.
Из наблюдений Перротена таким образом открылось: 1) что поверхность моря подвержена частым и весьма значительным изменениям; 2) что каналы Марса – не искусственные водяные пути, а нечто другое. Но что же такое эти каналы? Ответ на этот вопрос попытался дать Физо. В Comptes rendus от 28-го июня он изложил весьма остроумные соображения относительно этого предмета. Каналы Марса, более тёмные, чем остальная часть поверхности планеты, тянущиеся по прямым линиям, часто параллельно, иногда пересекаясь под большими или меньшими углами между собой, появляющиеся, исчезающие и постоянно изменяющиеся, напомнили Физо параллельные трещины, расщелины, прямолинейные провалы, простирающиеся на значительную длину и перерезывающиеся под различными углами – одним словом, все столь изменчивые явления, которые происходят на нашей земле на поверхности ледников, каковы, например, Mer de glase (на Монблане), ледник Роны и особенно обширная ледяная область Гренландии. Это сближение привело к гипотезе существования на поверхности Марса громадных ледников, подобных тем, которые существуют у нас, по только занимающих.
—41—
гораздо большее пространство, и движения, разрывы и трещины в которых имеют несравненно более грандиозные размеры. Должно заметить, что продолжительность времён года на Марсе вдвое больше, чем продолжительность времён года на земле (686 дн. 23 час. 30 мин.), а это благоприятствует периодическому образованию ледников и быстрым и значительным изменениям их под влиянием перемены температуры.
Эта гипотеза весьма хорошо согласуется с тем, что известно о физическом строении Марса. На его поверхности замечают присутствие воды и допускают, что она играет важную роль в наблюдаемых на нём переменах, между прочим, в изменении полярных пятен, в снеговом цвете некоторых частей, который распространяется и уменьшается сообразно с изменением времён года.
Далее, если расстояние земли от солнца мы обозначим через 20,029, то расстояние Марса от солнца будет равно 30,53. Количество теплоты, получаемой им, следовательно, будет приблизительно равно 4/9. Уже из этого видно, что температура соответствующих мест Марса должна быть равна не более, чем 4/9 температуры таковых мест (на одинаковых шпротах) земли, но некоторые обстоятельства заставляют полагать её значительно ниже. Дело в том, что на Марсе атмосфера несомненно развита меньше, чем на земле; за это уже говорит её поразительная прозрачность. Таким образом, поверхность Марса менее предохранена он излучения теплоты, чем поверхность земли, и Марс теряет гораздо больше своей теплоты в пространстве. Вследствие своего малого объёма (почти в 10 раз меньше земли) он также должен охладевать скорее, чем земля. Температура на нём, следовательно, весьма низка. Он покрыт льдами. Всё это возбуждает сильное сомнение в возможности жизни на Марсе.
2.
Теория каналов на Марсе естественно должна была поднять вопрос о том, в каком отношении находится христианское учение о Боге, мире и человеке, об искуплении человека и о конечной судьбе мира к новым астрономическим данным. Католический богословский факультет в
—42—
Париже (теперь уже не существующий) назначил премию Гюйгенса за лучшее сочинение на эту тему. Премия была присуждена Ортолану за его книгу „Astronomie et Théologie. 1894“.
Астрономическая теория, рассуждает Ортолан, лишившая землю значения центрального светила и выяснившая, что размеры нашей планеты крайне ничтожны по сравнению с размерами других небесных тел, естественно должна была привести к мысли, что и обитатели земли не представляют собой высших и исключительных созданий во вселенной, что на других мирах могут жить иные разумные существа, может быть несравненно более культурные, чем люди. Это предположение стали развивать, и в настоящее время оно имеет многих горячих защитников. Особенно ревностно на многочисленности обитаемых миров настаивает Фламмарион. Поэты, говорит Фламмарион, одной силой своего воображения создали множество видов фантастических существ, не имеющих никакой реальности и живущих лишь в их душе, но, конечно, поэты менее могущественны, чем природа. Следовательно, звёзды обитаемы. Этот силлогизм является у Фламмариона главном аргументом, доказывающим обитаемость небесных миров. Исходя из него, он утверждает, что жизнь распространена во вселенной повсюду. Микроскоп открывает целый мир организмов в капле воды, тем более организмы должны существовать на громадных мирах. Но апеллируя к микроскопу, Фламмарион забывает о телескопе. Между тем телескоп даёт непоколебимые основания утверждать, что жизнь во вселенной распространена далеко не так широко, как это предполагает французский астроном. Для возникновения и поддержания жизни требуются условия, которые далеко не всегда оказываются налицо. Семена погибают, когда температура становится выше 60° (по Цельсию) или, когда она опускается немного ниже нуля. Температура большей части небесных тел несомненно находится далеко вне этих пределов. Говорят, что на других мирах могут быть иные условия и иные формы жизни. Но это предположение не выдерживает решительно никакой критики. Атмосфера, вода, благоприятная температура, пища необходимы всем видам организмов, и когда этих условий нет, нет и жизни. Напрасно говорят, что жизнь
—43—
распространена повсюду. В полярных странах, на высоких горах, в пустынях жизнь отсутствует на земле. Обращаясь к геологическому прошлому нашей планеты, видим, что в прошедшем видов жизни на земле было несравненно меньше, и что раньше Лаврентиевской эпохи, когда температура на земле была значительно выше, жизни не существовало совсем. Земной шар совершенно необитаемый двигался в пространстве.
Несколько десятилетий тому назад ещё можно было говорить об обитаемости звёзд. Тогда в науке держалась гипотеза Гершелей и Араго, которые представляли, что солнце собственно есть тело тёмное, окружённое двумя оболочками – внешней светящейся и раскалённой, и внутренней, имеющей для солнца, значение экрана, пропускающего к нему лишь умеренное количество теплоты и света. При таком представлении можно было предполагать, что солнце обитаемо, и это предположение можно было распространять и на другие звёзды, считая их строение аналогичным строению солнца. Но спектральный анализ разрушил эту гипотезу. Несомненно, что солнце и звёзды суть тела, находящиеся в раскалённом состоянии, и температуру их нужно считать в миллионы градусов. При таких условиях материя там находится уже и не в газообразном состоянии, но в состоянии крайней диссоциации. Ни о какой жизни здесь не может быть и речи. Не может быть речи и о существовании жизни на туманностях или кометах, вещество в них крайне разрежено, химический состав их чрезвычайно прост. Остаётся ещё предположение, что на необитаемых ныне, мирах жизнь возникнет в будущем. Солнце и другие звезды охладеют, покроются твёрдой корой подобно, как ей покрыта земля, и тогда на них возникнет жизнь. Но и это предположение не может быть допущено. Для того, чтобы на солнце явились организмы, нужно не только, чтобы оно охладилось, но чтобы явился ещё какой-нибудь источник, который посылал бы ему тепло и свет. Такого источника нет. Ближайшие звезды к солнцу суть α Центавра и 61-я созвездия Лебедя – первая отстоит от солнца на расстоянии восьми триллионов лье (расстояние это в 210.000 раз больше среднего радиуса земной орбиты), другая находится на расстоянии 15 трил-
—44—
лионов лье. Они не дадут солнцу ни тепла, ни света. Не явятся ниоткуда тепло и свет и для других звёзд. Таким образом звёздные миры были и останутся безжизненными. Но если это так, то, значит, теория распространения жизни по всей вселенной оказывается совершенно несостоятельной. Материя, образующая звёзды, представляет собой наибольшую часть всей материи вселенной (солнце в 700 раз больше всех тел своей системы), и эта наибольшая часть, оказывается, не носит в себе никакой жизни.
Можно ли предполагать существование жизни на спутниках звёзд – планетах? Вопрос этот нам возможно решать только по отношению к солнечной системе и нельзя сказать, чтобы наблюдения над планетами нашего мира, предоставляли данные для положительного ответа. Ближе всего из тел солнечного мира к нам находится наш спутник – Луна. На ней констатируют полное отсутствие атмосферы. Это доказывают многие явления, наблюдаемые на луне: резкость и абсолютная темнота, теней лунных гор, мгновенное исчезновение и появление звёзд во время закрытия их луной, то обстоятельство, что края луны видны так же отчётливо, как и середина её диска; наконец, то, что спектр луны совершенно совпадает с спектром солнца. Точно также на луне нет и морей. День на нашем спутнике продолжается около 15 наших суток и столько же времени продолжается ночь. В течение дня температура поднимается выше температуры кипения воды и в течение ночи она опускается более, чем на сто градусов ниже нуля. От таких перемен температуры разрушаются даже скалы, тем менее, конечно, их могут выносить какие бы то ни было организмы. Несомненно, что на поверхности луны в настоящее время нет жизни; некоторые говорят, что такая жизнь скрыта в её глубинах, но это – совершенно фантастическое, ничем не оправдываемое и много имеющее против себя предположение. Могла ли быть на луне жизнь в прошедшем? Гипотезы, предложенные относительно того, как она приобрела свой настоящий вид и своё настоящее движение (гипотеза Фая, объясняющая происхождение; лунных гор и имеющихся в них углублений) устраняют возможность и этого предположения.
Ближайшей внутренней планетой к земле является Ве-
—45—
нера. Несмотря на свой ослепительный блеск, на свою близость к солнцу и плотную атмосферу, она представляет не более благоприятных условий для обитаемости, чем и наш несчастный спутник. Большое наклонение её оси вращения (55°) сообщает крайне суровый характер её временам года. Умеренные климаты там неизвестны, потому что полярный круг ниспускается до 35° к экватору, и жаркий пояс в свою очередь поднимается на столько же градусов к полюсу. Тропические области проникают там в области ледниковые и наоборот. Перемены года, происходят чрезвычайно быстро. Лета отличаются необыкновенным жаром, который не вынесли бы никакие обитатели наших экваториальных областей, и в течение зим там царствует холод более суровый, чем холод наших полярных стран. Быстрые смены жары и холодов должны производить на Венере непрерывные и страшные бури, с которыми совершенно несравнимы наши ураганы и смерчи. Но при таких условиях на Венере невозможна жизнь, подобная земной.
За Венерой по направлению к солнцу следует Меркурий. Скиапарелли после восьмилетних исследований установил, что Меркурий обращается вокруг своей оси во столько же времени, во сколько и вокруг солнца (87 наших дней), т. е. что он обращён к солнцу всегда одной стороной. Значит, на одной стороне Меркурия вечный день, на другой – вечная ночь, на одной – страшная жара, на другой – страшный, холод. Но наука не знает организмов, которые могли бы существовать при температуре выше 100° или ниже 0°.
Из внешних планет (Меркурий и Венера находятся между солнцем и землёй, их орбиты находятся внутри земной орбиты, поэтому они называются внутренними, планеты, более отдалённые от солнца, чем земля, называются внешними) ближайшая к земле есть Марс. Во многих отношениях он похож на землю. Времена года у него такие же, как и на земле, наклонение оси к эклиптике почти то же самое, продолжительность дней и ночей близко подходит к нашей, атмосфера существует несомненно. Но год на Марсе почти два раза длиннее нашего. Вследствие большей отдалённости от солнца, чем земля, Марс получает от центрального светила лишь 4/9 того тепла,
—46—
которое получает наша планета. Будучи значительно меньше земли, Марс, по теории, должен быть значительно более охлаждён, чем она. Доселе недостаточно выяснена причина красной окраски его континентов. Некоторые учёные полагают, что это происходит от присутствия в почве в большом количестве одноокиси железа. Но если это так, то, значит, жизнь на Марсе абсолютно отсутствует: если бы на Марсе была растительность, то она перевела бы одноокись железа в двуокись, имеющую чёрную окраску. Но если нет растений, то нет и животных.
Далее за Марсом следуют астероиды – маленькие мирки, вес которых крайне ничтожен и которые крайне неустойчивы. Предположения, что они обитаемы, обыкновенно не делают даже самые ревностные сторонники теории многочисленности обитаемых миров. Но тем охотнее делают это предположение о двигающемся за астероидами Юпитере – самой большой планете солнечного мира. Он в тысячу двести раз больше земли. Но при такой громадной величине он имеет очень малую плотность, его плотность не много больше плотности воды, или, говоря иначе, в пять раз менее плотности земли. Астрономы вообще полагают, что он ещё не отвердел и что если он представляет собой не вполне жидкое тело, то по крайней мере тестообразен. Многие заключают, что он доселе ещё окружён полу-раскалённой массой. Но если это так, то, конечно, жизнь на нём невозможна в настоящем. Говорят, что она возможна в будущем. Юпитер охладеет, покроется твёрдой корой и растениями и, вместе с тем, по нему задвигаются животные. Но, говоря это, упускают из вида, что Юпитер отстоит от солнца в пять раз далее, чем земля, и что, следовательно, теплота, получаемая им, чрезвычайно незначительна. Что же в таком случае может оживить его застывшую поверхность?
Планеты, находящиеся далее за Юпитером (Сатурн, Уран и Нептун), представляют также мало благоприятных условий для жизни, как и этот последний. Сатурн по своему объёму в 700 раз больше земли, но его масса отличается чрезвычайно ничтожной плотностью (меньшей, чем плотность воды) так, что большинство астрономов полагает, что он находится в состоянии газообразном.
—47—
Но никто ещё не видал и не знает существ, для жизни которых довольно одной газообразной среды. Некоторые из сторонников многочисленности обитаемых миров говорит, что жители Сатурна должны наслаждаться великолепным видом восьми лун и колец Сатурна. К сожалению, они упускают из вида, что этот великолепный вид навсегда скрыт от сатурнианцев: Сатурн всегда покрыт густыми облаками, скрывающими от нас его поверхность, а от его проблематических жителей вид звёздного неба.
Говорить об обитаемости отдалённейших планет солнечной системы – Урана и Нептуна по меньшей мере странно. Их плотность так ничтожна, что астрономы вообще полагают, что они суть тела газообразные. Количество тепла, получаемого ими от солнца, вследствие их отдалённости, крайне ничтожно. Времена года на них крайне продолжительны (Уран обращается вокруг солнца в 84 земных года, Нептун – в 165).
Нептун – самая отдалённая планета солнечного мира и на всём протяжении от этого крайнего пункта системы до центрального светила мы встречаем благоприятные условия жизни лишь на одной земле. Не нужно удивляться этому, условия жизни сложны, многообразны и многие из них независимы одни от других. Удивительнее гораздо то, что это сложное и своеобразное сочетание условий всё-таки встречается, чем то, что оно встречается только один раз.
Но если и есть миры, на которых имеются все благоприятные условия для развития жизни, то следует ли отсюда, что на них есть и жизнь? На этот вопрос должно отвечать отрицательным образом. Жизнь не есть необходимое следствие сочетания молекул и комбинации атомов. Между существом живым и бытием мёртвым есть существенное различие, которого химия не может определить, потому что элементарный состав организма не изменяется после смерти. Есть принцип высший, чем материя, и материя сама по себе, одна – никогда не произведёт жизни. Вот, почему недостаточно того, что астрономия нам покажет миры, на которых осуществлены все климатические и метеорологические условия нужные для жизни, чтобы признать эти миры обитаемыми.
—48—
Они всё-таки будут необитаемы, если Творец не произнесёт своего творческого „да будет“. Материя не производит точно так же жизни, как мозговые функции не рождают мысли. Поэтому мы никогда не узнаем, живут ли на звёздах, даже способных к обитанию, существа разумные, если особое откровение не возвестить нам об этом, ибо долженствующее призвать их к жизни „да будет“ есть свободное деяние Всемогущего.
Но современная наука не знает не только обитаемых миров, но и миров способных к обитанию. Отсюда однако не следует, что их и не существует. Наука не может ни признавать, ни отрицать, их существования. Не предрешает ли вопрос об обитаемости миров религия. Говорят, что догмат воплощения Сына Божия на земле не может быть согласован с учением о многочисленности обитаемых миров. Это утверждение должно признать несостоятельным. Бог воплотился между нами, это – истина. Но какое отношение имеет это воплощение к другим мирам, мы не знаем этого. Их обитатели, если они существуют, были ли созданы в том состоянии, которое Богословие называет состоянием чистой природы, или они были созданы с природой неповреждённой? Приготовляются ли они настоящей жизнью для мира сверхчувственного? Сохранили ли они первоначальную невинность или пали, и в последнем случае Бог простил ли их и как? Открыта ли им тайна воплощения и вменены ли им плоды великой голгофской жертвы? Или они оставлены без надежды на прощение жертвами Божественного правосудия всё равно, как павшие ангелы? Ни одного из этих вопросов человек никогда не решит своими силами. Астрономия никогда не даст на них ответа, откровение молчит о них. Высочайший сохраняет их в тайне. Когда явится свет будущего века, когда мы будем созерцать Бога, лицом к лицу, когда истина без покровов явится нашей восхищенной душе, тогда перед вами откроются эти тайны.
Ну а теперь? Нельзя ли найти в св. Писании и предании каких-нибудь указаний на это учение о многочисленности обитаемых миров, которое так волнует умы в нашу эпоху? Конечно, мы не претендуем на то, чтобы утверждать, что об этой многочисленности учить Евангелие, но мы
—49—
склонны думать, что многие страницы богодухновенного текста хорошо согласуются с нею. Господь сказал: „есть у меня и другие овцы, которые не сего двора; и тех надлежит мне привести: и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один Пастырь“ (Ин.10:16). Древний экзегезис прилагал эти слова к призванию язычников, которые должны были соединиться с оставшимися в церкви иудеями; но новые богословы применяют их к населению звёзд, для которых, равно как и для земли, Христос является царём. Воплотившееся Слово сравнивается с добрым пастырем, который для того, чтобы спасти заблудившуюся овцу, оставляет прочих девяносто девять на горах, отправляется за несчастной заблудившейся и, когда наконец находит её, берет её к себе на плечи, чтобы избавить от трудностей обратного пути. „Так, сказал об этом Господь, на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии“ (Лук.15:7, Ср. предыд. и Мф.18:12). Папа Григорий понимал под девяносто девятью овцами, покинутыми на горах ради спасения одной, бесчисленное множество ангелов, которые не имели нужды в искуплении, потому что пребыли в благодати. Сын Божий оставляет их на их вечных высотах и нисходит в эту долину скорбей, чтобы найти здесь человечество, заблудившееся на пути к погибели. Он берёт его на свои плечи через воплощение и возводит его на небо через свою кровавую жертву и славное вознесение. Это объяснение прекрасно, но нельзя ли так же, как делает это современная апологетика, понимать под девяносто девятью овцами все звёздные человечества, для которых Божественное Слово не воплощалось, может быть, потому что они не пали. Но Оно снизошло на пашу бедную землю – этот незаметный шар, затерявшийся в неизмеримом пространстве, для того, чтобы влить новую кровь в вены несчастного потомства Адама.
Господь говорит ещё: „в доме Отца Моего обителей много“ (Ин.14:2). Имел ли Он сказать этим, как верили древние, только то, что избранные на небе будут иметь различные степени славы сообразно с степенью заслуги каждого из них? Или Он желал нам внушить, что эта
—50—
земля, которую Он имел оставить, чтобы взойти ко Отцу, есть только одно из многочисленных жилищ, созданных Богом для разумных существ, призванных к жизни, хвалебные песни которых во славу Высочайшего звучат на тысячах миров, вращающихся вокруг отдалённейших солнц. Точно также, когда св. Павел на своём блестящем языке учит нас, что Богу Отцу угодно всё восстановить во Иисусе Христе, не только то, что на земле, но и то, что на небесах (Еф.1:10; Кол.1:20), не хочет ли Он показать нам, что благодеяния искупления, совершавшегося здесь внизу, может, быть распространятся далеко за пределы нашего маленького мира?
Мы не настаиваем на том, что приведённые тексты – несомненно – содержат указания на многочисленность обитаемых миров. Мы не утверждаем этого. Но мы думаем, что если бы справедливость учения об этой многочисленности была когда-нибудь действительно доказана, то, не представляя собой ничего противного вере и откровению, это учение дало бы полную возможность истолковать приведённые тексты в представленном широком смысле.
Не оказалось бы учение о многочисленности обитаемых миров в несогласии и с духом и буквой святоотеческих писаний. Во многих из них говорится, что кроме хоров ангельских, о которых учит св. Писание, существуют ещё небеса других созданий, о которых Писание не говорит ничего и само имя которых нам неизвестно, хотя число их неизмеримо, Так у св. Иоанна Златоуста в одной из его бесед говорится: „ангелы, архангелы, престолы, начала, власти и господства – не единственные обитатели небес, кроме них существуют ещё неисчислимые нации, имя которых нам неизвестно“ (ὧν οὐδὲ τὰ ὀνόματα ἴςμεν). Он высказывает этот взгляд во многих местах своих творений. То же самое говорят Феодорит (в толковании на послание к Ефесянам), Феофилакт, Ориген, и Дионисий Ареопагит. Многие из других церковных писателей держались того же мнения. Все они держались убеждения, что ангельское воинство не ограничивается девятью известными кругами. Многие из них, несомненно, были убеждены, что ангелы не были духами, безусловно лишёнными материального начала, и что они имели тело, только
—51—
более тонкое, чем наше. Но, конечно, их словам нельзя придавать того значения, что они думали, что предполагаемые ими разумные существа жили на звёздах. Нужно полагать, что они считали их ангелами и помещали вместе с последними. Но вот что замечательно. Св. Василии Великий, перечисляя существа, которые могли жить до образования нашего мира, говорит не об одних только ангелах и всем небесном воинстве, но ещё и о иных разумных созданиях, которые может быть жили в свете и блаженстве. Ориген выражается ещё более ясно. Он прямо говорит в περὶ ἄρχὧν о множестве обитаемых миров. Только он не считает их совместно существующими, а предполагает, что Бог творил их последовательно: один после уничтожения другого. Он держался этого мнения, потому что думал, что нельзя представить творца без тварей, и он, очевидно, был убеждён, что мысль о последовательном возникновении и уничтожении миров не стоит ни в каком противоречии с догматом искупления.
Но он держался ещё и другого, представляющегося в настоящее время крайне странным, учения. Он считал звезды живыми, одушевлёнными существами. Он следовал в этом „Тимею“ Платона, и в его творениях мы часто встречаем рассуждения о душе солнца и звёзд. Он спрашивает – разумны ли их души, существовали ли они ранее тех блестящих сфер, с которыми соединились теперь, способны ли они грешить, умер ли Сын Божий и за них и что станет с ними в день последнего суда? Церковная литература первых веков показывает, что эти вопросы занимали не его одного. Блаженный Августин их часто повторяет в своих творениях. В своём „буквальном толковании кн. Бытия“ он ещё не решается высказать относительно их окончательное суждение и обещает сделать это в дальнейших комментариях на писание. В ХIII книге своего сочинения „о царстве Божием“ (гл. 16, по 2) он по-видимому склоняется к отрицательному ответу, но в „Энхиридионе“ (Enchiridion, cap. 58) он говорит следующее: я не знаю, чем различаются ангелы, архангелы, господства и силы, я не знаю также, „нужно ли помещать в их ряд небесные духи – солнце, луну и звёзды“. Исидор Севильский в вопросах об одушевлённости звёзд
—52—
склонялся к положительному ответу. Но замечательно, что, давая на вопрос и положительные и отрицательные ответы, церковные писатели никогда не говорили, что то или другое решение его стоит в противоречии с учением веры. Они допускали распространение жизни во вселенной гораздо более в широких размерах, чем современные учёные, говорящие, что во вселенной всюду царствует жизнь, и однако они не находили в откровении ничего несогласного с их мнениями, и Церковь не осуждает их взглядов.
Отцы и учители Церкви, полагая вообще, что число обитателей земли чрезвычайно ничтожно по сравнению с числом всех обитателей неба, никогда не затруднялись вопросом, почему же Сын Божий воплотился на земле? Но современным мыслителям представляется, что мысль о ничтожности земли не может быть согласована с учением, что Сам Сын Божий родился, жил и страдал на этой ничтожной песчинке мира. Они обнаруживают этим, что имеют чрезвычайно недостойное понятие о Божестве. Догмат воплощения не заключает в себе мысли, что Бог стал Богом лишь для одного человека. Откровение учит нас, что существуют бесчисленные мириады разумных созданий, блаженных духов, которым Бог открывается неизреченным образом, допуская их до блаженного восхищения Его созерцанием. Обитателям нашей земли Бог явил такие свидетельства Своей благости и любви, о возможности или вероятности которых наш слабый разум не осмеливался и помыслить. Если другие небесные шары: точно также представляют собой жилища для интеллектуальной жизни, в чём бы хотело убедить нас наше сердце, то Бог мог проявить на них Своё милосердие, Свою благость, Свою любовь бесконечно разнообразными способами, которых наше воображение не может представить. Если деятельность Его в мире физическом превосходит все наши вычисления, то бездны Его сердца не менее не измеримы, они заключают в себе глубочайшие тайны и неистощимые богатства непостижимой любви.
Бесконечно великое может проявиться в бесконечно малом. Бесконечные милосердие, правосудие и любовь Божии проявились в воплощении на земле Сына Божия. Кто знает – может быть жители других миров имеют откро-
—53—
вение об этой тайне воплощения, и наша маленькая земля вследствие этого не кажется уже им ничтожной. Может быть голгофская жертва принесла богатые плоды и для них? Нет ничего неразумного в таком предположении. Мы видим, что между всеми мирами существует физическая связь. Они связаны взаимным притяжением. Но может быть между обитателями миров есть ещё связь нравственная. Тогда всякий нравственный факт, где бы он ни совершился, имеет значение для всех разумно-нравственных существ вселенной, и плоды голгофской жертвы могут быть бесконечно велики не для одних ничтожных обитателей ничтожной планеты, но и для высоко-разумных жителей каких-либо великих миров.
В настоящее время мы не чувствуем своей солидарности с обитателями миров вселенной. Так ли будет в будущем? Что ждёт нашу землю и другие миры? Учёные, враждебные церкви, в последнее время возвратились к древнему учению метемпсихозиса, только в изменённой форме: они представляют себе, что наши души будут переселяться в тела обитателей других планет, и Фламмарион наивно представляет, что наиболее завидное и блестящее будущее ожидает астрономов. Учёные, руководящиеся в своих воззрениях догматами веры, тоже предложили в текущем столетии несколько своеобразных гипотез о будущем чувственно-разумных существ вселенной; Из таких попыток по своей своеобразности наиболее останавливают на себе внимание взгляды аббата Гратри, аббата Шаботи и Делетра.
Гратри (о месте бессмертия) полагает, что Господь по Своём Воскресении вознёсся на солнце. Согласно гипотезе Гершеля он представляет солнце телом тёмным, окружённым светящейся оболочкой и допускающим на своей поверхности возможность жизни. Там, по его предположению, вместе с Богочеловеком находятся Пресвятая Дева и другие святые. Когда Господь испустил дух „гробы отверзлись и многие тела усопших святых воскресли; и вышедши из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим“ (Мф.27:52–53). Эти святые с своими вошли в царство Божие. Солнце в настоящее время является божественною скинией, на которой правит
—54—
Господь с Своим небесным двором, но это – скиния только временная, это только образ вечности. Солнце угаснет, звёзды рассеются во мраке, тогда наступит истинный колец мира, произойдёт преобразование неба и земли, и вся вселенная станет местом бессмертия.
Миры тогда начнут устремляться к общему центру тяготения – к Богу и в том центре они получат новый вид и новую форму, и там начнётся новая жизнь. Там всегда, все будут вместе со всеми и в то же время в единении с Богом. Где ночь? где холод? где суетливое движение? где возможность одиночества? где смерть при этом непрестанном полном свете? что сталось со временем? кто замечает его продолжительность? Тела там будут прославлены и одухотворены. Какая жизнь! какие потоки света и любви! какое расширение всякого сердца, всякого духа, всякой жизни!
Шаботи (об обновлении) несколько иначе представляет будущее праведников. Когда волны потопа покрыли землю, человечество погибло не всё, оно спаслось в лице Ноя и его сыновей, точно также не погибнет всё человечество и тогда, когда волны огненного потопа в конце времён покроют землю. Бог средствами известными Ему одному спасёт праведных, они избавятся от действия карающего огня и на обновлённой земле положат начало новому человечеству. Это человечество станет жить блаженной жизнью, оно будет пребывать в состоянии невинности, пользоваться всеми преимуществами, которые потеряли Адам и Ева – бессмертием, неповреждённой природой, внутренним стремлением к Богу и благу, вкушением плодов древа жизни, они не будет испытывать никакого страдания. Люди будут жить на земле по тысяче лет или даже более и затем после лёгкого испытания, из которого они все будут выходить победителями, они последовательно будут переселяться на небо. Конец этой земной жизни не будет омрачаем печалью, он будет самым светлым праздником: прошедшие земной путь во славе будут подниматься на небо созерцаемые восхищёнными глазами их остающихся друзей и родственников. Человечество будет вечно жить на земле, но его члены – один за другим будут переселяться на небо. Сатана, лишённый силы, будет
—55—
заключён. Но так как искупление должно дать более, чем сколько отнял сатана, то поэтому людям будут даны дары новые, которых они не имели. Церковь будет продолжать существовать на земле, будут существовать священство, таинства вообще, особенно Евхаристия. Так земля и небо соединятся на веки, чтобы петь вечно гимн признательности, славы и любви в честь трисвятого Бога.
Шаботи – богослов и построяет свою теорию, опираясь на тексты св. Писания. Делетр – математик по профессии, в учение о Боге, ангелах, месте обитания душ (в сочинении „о теоцентрическом небе“) он пожелал ввести представления механики и физики. Во имя своеобразных аргументов он отвергает всеми признаваемую в настоящее время теорию строения неба и предлагают свою собственную. Он отрицает движение земли вокруг солнца, признаёт твёрдый небесный свод, кроме видимого солнца признаёт существование другого, находящегося за видимым (земля и оба солнца – являющаяся во время затмений солнечная корона принадлежит второму солнцу – по его представлению, всегда находятся на одной прямой). Второе солнце есть место обитания Бога, вокруг Него двигаются херувимы, серафимы, вообще все девять чинов ангельских, двигаются тем ближе к солнцу, чем выше стоят они в иерархическом ряду. К этому солнцу устремляются и души праведников. Делетр пытается дать такое строение вселенной, которое буквально бы отвечало повести Моисея и определениям вселенских соборов (например, словам первого вселенского собора о Христе „свет от света“). Но его концепции странны, противоречат положительным данным знания и не имеют для себя никаких оснований.
Всеми этими авторами, без сомнения, двигало благочестивое чувство, но их опыты примирения веры и действительных данных науки не могут быть признаны удачными. Положительные данные науки ведут к другим заключениям. Несомненно, что земля представляет собой только неизмеримо малый атом в неизмеримо громадной вселенной. Если бы она была разрушена, то во вселенной это событие прошло бы совершенно незамеченным, его не обнаружила бы даже целая половина тел нашей солнеч-
—56—
ной системы. Это было бы только исчезновением блестящей точки среди тех, мириады которых сияют на небе. Можно сказать более: если бы вся видимая нашими глазами вселенная, если бы все звёзды, которые различает наш глаз, в телескопе, включая и звёзды млечного пути, если бы все они внезапно исчезли, то исчезновение стольких солнц по отношению ко всей вселенной едва ли было бы чем-либо большим, чем падение одного листа в обширном лесу. Это ничтожество нашей планеты по сравнению со всем миром заставляет думать, что её гибель не будет гибелью вселенной. Как вероятное, должно предполагать, что есть другие обитаемые миры, которые будут продолжать существовать и после преобразования нашего. Будут существовать и необитаемые миры. И их бытие имеет цель. Omnia propter electos. Они будут предметом созерцания праведных душ, своей красотой они будут доставлять наслаждение им. Может быть, по своему характеру они воспроизводят геологическую историю земли в различных стадиях её прошлого. Земля некогда не носила на себе органической жизни; как раскалённый шар, она носилась в пространстве. Подобно ей в том её прошлом существуют миры, которые представляют собой одно минеральное царство; такие миры своей своеобразной красотой будут услаждать праведников так же, как услаждают нас драгоценные камни. На других мирах, может быть, существуют только растения; они будут услаждать праведников, как нас услаждают цветы. На третьих праведники будут созерцать животную жизнь. Миры, населённые существами разумными, имеют цель в себе.
Но вообще все миры будут открыты взорам праведников. Прославленные тела их будут владычествовать над временем и пространством. Христианское учение о свойствах прославленных тел обыкновенно возбуждало и возбуждает насмешки среди неверующих. Но наука своими открытиями побуждает глумящихся быть осторожными. Наука открыла в материи такие свойства, которые не грезились мудрецам прежнего времени – наука открыла междупланетную среду, материальную и однако не оказывающую никакого сопротивления двигающимся в ней телам (эфир). Эта среда проникает сквозь тела точно так же, как про-
—57—
славленное тело Господа проходило сквозь затворённые двери. Наука открыла, что действие притяжения распространяется мгновенно. Притягивающая сила, так сказать, луч притяжения не проходит в секунду 280 тысяч вёрст, как свет, нет, он сразу проявляет своё действие во всей вселенной. Должно полагать, что подобно тому, как притяжение владычествует над пространством, так будут владычествовать над пространством и прославленные тела праведников. Праведники будут наслаждаться созерцанием вселенной, но они не будут подчинены тем законам, которыми она управляется.
Неверие часто иронически предлагало вопрос, как будут восстановлены тела праведников? они истлели, разрушились; как и из чего они могут быть образованы снова? Наука показывает, что в учении о воскресении тел нет ничего, чтобы могло дать материал для иронии. Частицы материи, входящие в организм, представляют собой по отношению к организму не что-либо существенное, а нечто случайное, они входят в организм и выходят из него, а организм остаётся тем же самым. Наше настоящее тело есть в сущности то же, которое мы имели в детстве и которое мы будем иметь, когда станем умирать. Атомы углерода, кислорода, водорода, азота и других элементов могут замещаться одни другими, но наше тело остаётся тожественным самому себе. Существует некоторый принцип тождества. Какой этот принцип? Душа? Некоторые предполагают это, но с этим едва ли можно согласиться. Если бы свойства тела обусловливались воздействием души на материю, тогда в день последнего суда душа, значит, могла бы соединиться с каким угодно телом, чтобы получить то, что она имела в течение жизни. Это недопустимо. Не представляет ли собой этот принцип тождества некоторого организма тонкого и неразрушимого, отличного от видимого и осязаемого тела, организма, являющегося, может быть соединительным звеном между душой и телом, той таинственной средой, посредством которой дух воздействует на тело? Может быть, этот принцип родственен тому эфирному веществу, посредством которого распространяются световые волны и происходят все доселе ещё представляющиеся столь тём-
—58—
ными явления электричества, притяжения, магнетизма. Этот таинственный и тонкий организм обусловливает собой все свойства и индивидуальные особенности тела. После смерти, когда тело разрушается, он, без сомнения, остаётся неизменным и не сообщающимся ни с какой материей: Божественным Провидением он будет сохраняться до последнего дня, когда станет снова основанием для воскресшего тела.
Где эти воскресшие тела, найдут свой новый Иерусалим? Когда совершится воскресение? Откровение ничего не говорит об этом, наука не имеет данных для решения этих вопросов. Всякие предположения о них будут произвольными и бесполезными.
3.
На рубеже двух столетий – в 1900 году католический писатель Жуан издал книгу – La Question de l’habitabilité des mondes étudiée au point de vue de l'Histoire, de la Science, de la Raison et de la Foi – Вопрос об обитаемости миров исследованный с точки зрения истории, науки, разума и веры. Автор выступает решительным защитником обитаемости миров. В своей книге он неоднократно и резко нападает на Ортолана. Жуан – преподаватель математических и естественных наук. Ортолан – доктор богословия и канонического права; Жуан постоянно иронизирует над канонистом, трактующим астрономические проблемы. Но из книги Жуана не видно, чтобы его астрономические познания значительно возвышались над знаниями канониста. Его книга интересна в других отношениях.
Первую часть книги Жуан посвящает историческому исследованию вопроса об обитаемости миров и начинает историю с допотопного периода.
Каким образом можно узнать воззрения и взгляды допотопных людей? Жуан говорит, что это также возможно, как возможно знание животных и растений, существовавших до нас. Палеонтология изучает их по оставленным ими следам. Точно также и история изучает допотопных людей по оставленным ими следам. Если у после-потопных людей вы находите знания, которых они сами не могли приобрести, так как не располагали нужными средствами для итого, то какое заключение нужно сделать? То, что эти знания
—59—
приобретены ими по традиции. История астрономии представляет нам ряд фактов необъяснимых без этого предположения. У народов, происхождение которых восходит к самой отдалённой древности, находят следы астрономии не менее развитой по отношению к основным фактам, чем астрономия наших дней, и несомненно восходящей ко временам допотопным. Гелиоцентрическая система, помещающая солнце в центре мира, оказывается самой древней. Система Птоломея, помещающая в центре нашего мира землю, явилась только в первые века нашей эры. Плутарх в своей „жизни Платона“ сообщает, что некоторые ученики Пифагора, между которыми был Филолай кротонский, помещали солнце в центре мира и заставляли землю вращаться вокруг этого центра. Коперник в предисловии к своей книге De revolutionibus orbium coelestium. 1543, посвящённой папе Павлу III, говорит, что одна страница из Цицерона (Academica priora. С.ХХХIХ) и другая аналогичная ей из Плутарха подсказали ему первую мысль о его системе и указали на ложность системы древних. „Inde igitur occasionem nactus, coepi et ego de terrae mobilitate cogitare“ – так толкнутый случаем и я стал размышлять о движении земли.
Пифагор, посетивший древние народы Азии, принёс гелиоцентрическую систему в Европу. По мнению некоторых авторов, постоянные войны римлян и потом нашествие северных авторов повергли эту систему в забвение. Не отрицая этих влияний, можно однако показать, что римские учёные увлекались гелиоцентрической системой и теорией обитаемости миров. Европейские астрономические воззрения изменились под влиянием Аристотеля, знание которого распространили арабы.
Геометрические познания эпохи Пифагора были слишком недостаточны, чтобы выяснить и обосновать гелиоцентрическую систему. Авторов её нужно искать в допотопном мире, потому что до нового времени никто не владел нужными для её создания познаниями. Ученики Пифагора говорили, что неподвижные звёзды – такие же солнца, как и наше, и также, как и оно, имеют свои планеты. Но открытие спутников у звёзд – дело можно сказать вчерашнего дня, оно могло совершиться только благодаря громадным телескопам нашего времени.
—60—
Народы, существование которых восходит к началу времён, оказывается, имели ещё и другие не менее необыкновенные познания. Таково учение о шестисотлетнем периоде, или о великом годе, в конце, которого новолуния возвращаются к тому же числу месяца и к тому же самому часу. Иосиф Флавий, рассказывая (Древности иудейские, кн. 1, гл. 3) о патриархах, говорит, что „Бог продолжил их жизнь как по причине их добродетели, так и для того, чтобы дать возможность усовершить имевшиеся у них геометрические и астрономические познания. Они не могли бы этого сделать, если бы жили менее 600 лет, потому что только по истечении шести веков заканчивается великий год“126.
У древних быль ещё период в 19 лет, потому что после 19 лет новолуния возвращаются к тем же числам месяца, к которым они приурочивались в начале периода. В конце 18 лет, если бы они имели на 11 дней меньше, соответствие имело бы место. Но точно 12 лун или 354+11=365, что представляет собой продолжительность солнечного года.
У китайцев был периода, в 18 лет 11 дней, которым они пользовались для определения дней лунных затмений, и период в 19 лет для определения праздничных дней.
Байи обращает внимание на предание, сохранённое индейцами, по которому существуют две звезды, расположенные
—61—
диаметрально противоположно и совершающие своё обращение вокруг земли в 144 года. Байи отмечает, что год – родовое понятие у древних и мог заключать в себе цикл годов. С другой стороны, не существует никаких планет, отвечающих этому преданию. У татар существует период в 180 лет называемый „Ван“. 144×180=25920. Эта цифра обозначает собой совершенно точно период, в который равноденственные точки совершают свой полный оборот. Вследствие притяжения луны и солнца точка весеннего равноденствия (попятно, точка фиктивная) движется на встречу земле. От этого происходит предварение равноденствий и через 25920 лет равноденствия возвращаются к исходному моменту. У Байи получается, что одна часть, предания сохранилась у индийцев, другая – у татар, но ни Байи, ни Жуан этим не смущаются.
Вычисление окружности земли, данное Аристотелем не могло быть сделало греками, очень мало сведущими в этой области и никаким другим народом древности. Между тем градус по этому вычислению отличается всего лишь, на шесть туазов (туаз немного менее русской сажени) от того, который был измерен в Париже и который соответствует 49° широты. Определение окружности земли существовало у различных народов древности. Сами они не могли произвести его. Они должны были заимствовать его у народа более искусного, и мысль Жуана направляется ко временам допотопным. Знание зодиака восходит к ним же.
Но вопрос об обитаемости? Браманы допускали эту обитаемость. Бюрпэ, доказавши множеством цитат, что Орфей, Музей и Лин признавали множественность миров, добавляет: „это учение восходит не только к грекам, но ко временам потопа. И всё, что таким образом предшествовало времени греков и их писаний и что находится у варварских народов, я называю догматом иоахидов. Таковым догматом оказывается принцип обитаемости миров. Для христианина нет ничего удивительного в том, что точные астрономические познания и вера в обитаемость миров восходят к таким отдалённым временам. Адам, нарёкший имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, мог обладать и астрономическими познаниями. Но для материалиста эти изумительные
—62—
астрономические познания древних являются необъяснимыми.
Аммиан Марцеллин даёт сообщения о потопе подобные тем, которые находятся у Иосифа и у египтян (?). Люди, озабоченные сохранением священных обрядов и церемоний, выгравировали на стенах скал с великим трудом различные иероглифы, в которых изложили своё знание. Они сделали это, когда потоп угрожал им гибелью. Кассиан, сообщивши, что Сиф получил естественнонаучные познания от Адама, обвиняет потомство Каина в том, что оно эти знания извратило. Софроним и Моисей газский также говорят о преданиях, которые Сиф получил от своего отца и передал детям. Св. Епифаний (Haereses, contra Setheanos, n°5) также говорит нам о семи книгах, которые еретики приписывали Сифу и из которых по-видимому заимствовали свои основные положений восточные писатели. Наконец, Иосиф Флавий (Antiqu. I, С. II) так резюмирует все эти предания в следующих словах. „Было бы слишком долго, если бы я стал говорить о всех сыновьях Адама, я ограничусь тем, что скажу кое-что об одном из них, именуемом Сивом. Он был воспитан своим отцом и был усовершен в добродетели. Он оставил детей таких же, как и они. Они жили в своей стране очень счастливо и в совершенном единстве. Их разуму и труду мы обязаны существованием науки о небесах и их украшениях. И так как они узнали от Адама, что мир погибнет от воды и огня, опасение, чтобы не погибла наука раньше, чем люди будут ей научены, заставило их воздвигнуть две колонны – одну из кирпича, другую из камня, на которых они выгравировали приобретённые ими знания так, что если бы во время потопа разрушилась кирпичная колонна, то каменная колонна сохранила бы для потомства память о том, что они написали. Их предвидение оправдалось. Уверяют, что каменную колонну можно видеть ещё и теперь в земле сериадической.
После Сифа восточные авторы цитируют нам его сына Еноса, как продолжавшего дело отца. Библия говорить нам, что при Еносе начали призывать имя Господне. Жуан склоняется к воззрению Онкелоса, по которому при Еносе, начали писать имя Господне (четырьмя буквами). Таблички
—63—
с надписанием имени Божия помещались в храмах, в семьях, и в Китае они употребляются с незапамятных времён. За Еносом внимание Жуана останавливается на Енохе. Книга Еноха существовала ещё во времена Христа. Ап. Иуда в своём послании цитирует его. „О них (о нечестивцах), пишет он, пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: се, идёт Господь со тьмами святых ангелов Своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых“ (Иуд.1:14–15). Тертуллиан говорил, что эта книга была сохранена в ковчеге Ноя. Августин, Афинагор, Климент Александрийский, Лактанций цитировали её. Но по-видимому она рано была испорчена. Ни синагога, ни церковь не приняла её в свой канон. Арабы называют Еноха Едрис; они представляют, что он получил книжное и научное наследство после Сифа и первый после него сам писал книги. Кассиан объясняет, каким образом плоды культуры Каинова племени сохранились после потопа. Хам, зная, что не может сохранить Каиновых писаний в ковчеге, выгравировал их преступные знания и изобретения на пластинках разных металлов и на крепких скалах. Климент римский говорит о книгах, приписываемых патриархам. Климент Александрийский утверждал, что Ферекид заимствовал своё богословие у Хама (Строматы, 6). Августин говорит о колоннах, на которых писал Хам (Civit. Dei. Lib. XVIII). Пётр Коместор говорит о четырнадцати колоннах воздвигнутых Хамом (7 – из бронзы, 7 – из кирпича) Синкелл утверждает относительно Манетона, что он писал свою историю, пользуясь надписями на колоннах, находящихся в земле сериадической, на которых писал иероглифами Тот, первый Меркурий. Кедрен сообщает, что ангел Уриил наставлял Еноха относительно того, что такое месяц, солнцестояние, год и что год состоит из 52 недель. Заключение Жуана то, что астрономические знания древних превосходили те средства, которыми они располагали для приобретения знаний. Отсюда – вывод, что эти знания получены ими из допотопной традиции.
В последующем изложении Жуан пытается показать, что в Индии, Китае, у персов, египтян, скандинавов, кельтов, греков, латинян и в школе александрийской
—64—
вплоть до средних веков существовали предположения об обитаемости миров. Он находит веру в обитаемость миров и у отцов церкви – у Иоанна Златоуста в его толковании на послание к Ефесянам, где св. отец говорит, что ангелы, архангелы, престолы, начала, господства и силы не суть единственные обитатели небес, есть ещё иные бесчисленные племена, само имя которых нам неизвестно. Ту же мысль Жуан отмечает у Василия Великого (2-я беседа на Шестоднев, гл. 5), у Феодорита в его толковании на послание к Ефесянам. Амвросий Медиоланский, оказывается, развивал теорию – Terra minima mundi portio est (In Psalm. 1. Enarratio, n°,9. – Исаии XL. 15) и сообразно с этим предполагал бесчисленное количество созданий помимо земных. Августин много раз говорит о созданиях, населяющих высшие небеса. Нам трудящимся на земле, эти создания неизвестны. Все наши предположения о небесах и их обитателях гипотетичны (In Psalm. 32. ѵ. 6; in Psalm. 101, v. 13).
Важнейшие из арабских писателей, обсуждавших вопрос о мирах вселенной, все допускали обитаемость миров. Средневековые христианские писатели также склонялись к положительному решению этого вопроса. Так Исидор севильский ставил вопрос, какое место в божественном плане занимают существа, которые звёзды могут носить на своей поверхности. Патер Виргилий, ставший впоследствии епископом, утверждал, что есть другой мир, другие люди, другие солнца, другие луны. Признание обитаемости миров Жуан находит и у мистиков.
Чем ближе мы подвигаемся к настоящему времени, тем более выступает сторонников обитаемости мира. Великие умы эпохи возрождения – Николай Кузанский, Рейхлин, Пико де Мирандоль, Парацельс, Джиордано Бруно, Монтэн и другие верили в обитаемость миров. В новое время число таких сторонников умножается. В настоящее время их невозможно перечислить. Общие выводы автора из исторического обозрения вопроса об обитаемости миров таковы: 1) гипотеза обитаемости миров современна человечеству. 2) Эта гипотеза во все времена и во всех местах принималась лучшей частью человечества. 3) Единодушие в решении вопроса об обитаемости миров имеет
—65—
такое же значение, какое имеет согласие всех народов по тому или иному вопросу. 4) Мнение об обитаемости нельзя представить ни для какой эпохи, как новое, и нельзя появление его рассматривать, как вывод из каких-либо ошибочных данных.
Вторую часть своей книги Жуан посвящает вопросу об обитаемости миров с точки зрения науки.
Жуан полагает, что существует какой-то мистический голос, который всегда говорил человечеству: есть иные миры. Человечество верило в это. Наука подтверждает эту истину. Наука выяснила единство вселенной, единство вещества, образующего миры, единство законов управляющих вселенной. Для того, чтобы на планете могла существовать жизнь, нужна атмосфера (но понятно, не требуется, чтобы она была тождественна с земной), некоторое количество влажности, теплоты и света. Жизнь характеризуется эластичностью и приспособляемостью, она может возникать и существовать при самых различных условиях.
Жуан допускает, что есть миры, на которых жизнь ещё не возникла. Таковы, по его мнению, кометы. Но жизнь, он верит, ещё возникнет на них. Точно также Жуан допускает, что на многих мирах жизнь уже исчезла. В мировом пространстве, как и на земле, меньше колыбелей и брачных кроватей, чем гробниц, Жуан не присоединяется к тем, которые считают безусловно необитаемыми Луну и Солнце. Для него ещё вопрос – обитаемы они или нет?
Много места отводит Жуан вопросу об обитаемости Марса. Марс владеет атмосферой и в последнее время на нём замечены движущиеся облака. Его полюсы покрыты снегом, количество которого изменяется сообразно с временами года. У него есть ручьи, реки, моря, кажущиеся канализированными. Географическая (?) поверхность Марса распределена более равномерно, чем наша: на нём немного более земель, чем морей. Метеорология Марса почти та же что и земная. Вода имеется на нём в том же физическом и химическом состоянии, как и на земле. Всё показывает на этой планете более, чем на всякой другой, органические условия мало отличные от тех, которые управляют жизненными явлениями на земле. Правда. Марс
—66—
получает только 4/9 или 0.444 того количества света и теплоты, которое получает земля от солнца. Но этого количества совершенно достаточно для существования жизни. Затем, весна и лето имеют на Марсе 380 дней, а осень и зима – 307, следовательно, имеется 73 более тёплых и светлых дней. Наклонение оси также благоприятно. В известные периоды у полюсов замечается таяние снегов. Жуан чрезвычайно презрительно относится к соображению Ортолана о том, что красная окраска Марса, свидетельствующая о присутствии одноокиси железа на Марсе, говорит об абсолютном отсутствии на нём жизни. Это соображение, правда не имеет значения, но совершенно непонятным является злобно иронический тон, с которым Жуан трактует суждения Ортолана. Далее Жуан готов признать, что морей на Марсе собственно нет. Если бы были моря, они отражали бы солнце. Этого нет. И каналы Марса не суть действительно каналы. Это – линии указывающие места, культивируемые жителями Марса. Это, так сказать, оазисы жизни на Марсе. Но оказывается, что некоторые каналы иногда являются удвоенными. Жуан говорит, что это – явление субъективное. Скиапарелли видел удвоенные каналы. Это диплопия глаз. Конечно, каждый знаком с этим явлением, когда предмет представляется вдвойне.
Кроме Ортолана Жуан обрушивается ещё на другого своего единоверца – Лигондэ. По Лигондэ Марс теперь находится в состоянии подобном тому, в котором была земля в первичную геологическую эру. Для земли эта эра явилась зарёй долгого дня, в полдень явился человек. Но на Марсе дело обстоит иначе. Его теперешнее состояние является бледной вечерней зарёй короткого зимнего дня. Лигондэ делает вывод, что на Марсе не может быть существ по своему развитию подобных человеку. Жуан отказывается присоединиться к этому выводу. В заключение своей статьи он приводит ряд противоречивых предположений о Марсе, сделанных разными учёными и говорит: в виду этих противоречий остаётся лишь одно разумное заключение, что Марс действительно обитаем.
Жуан даже касается вопроса об обитаемости Вулкана – планеты, существование которой предположил Леверье и
—67—
даже вычислил её орбиту. Но Леверье давно умер, а Вулкана никто не видал.
Как должен смотреть разум на проблему обитаемости миров? Жуан даёт ответ на этот вопрос в третьей части своей книги. Но напрасно Жуан создал эту часть. Что такое разум сам по себе? Разум судит о вещах, исходя из знания или из веры, и Жуан, говоря о разуме, привлекает на самом деле данные знания и положения веры.
Библия и наука, по Жуану, находятся в полном согласии по вопросу об образовании мира. Библия говорит, что Бог сотворил небо и землю, и земля была безвидна и пуста, и наука говорит, что земля в начале была неизмеримой туманностью. Единство начала, вещества и законов предполагает единство свойств. Земля рождает, и другие миры должны рождать. Неизмеримость вселенной, бесчисленное количество звёзд и их спутников заставляют предполагать жизнь. Здравый смысл говорит нам, что другие миры обитаемы. Странно представить, что вселенная характеризуется абсолютным бесплодием, когда достаточно одного слова, чтобы распространить в ней красоту и плодородие, Человечеству было бы тяжело и ужасно жить при представлении, что оно живёт в абсолютной пустыне. В сущности, не на сторонниках обитаемости миров лежит обязанность доказывать их тезис, а на их противниках. Все божественные свойства – всемогущество, премудрость, любовь, особенно любовь заставляют предполагать, что миры обитаемы. Жизнь трепещет повсюду. Если миры не обитаемы, то творение представляет собой как бы противоречие. Идея творения предполагает собой: цель, средства для достижения этой цели и соответствие между целью и средствами. Бог сотворил всё „Себе ради“, т. е. ради Своей славы, цель творения в том, чтобы Бога познали и открыли в мире. Но кто же будет познавать и прославлять Бога, если мир пустынен? Великие авторитеты мысли и науки сходились в том, что миры обитаемы. Но в конце концов Жуан всё-таки заключает свою третью часть положением, что обитаемость миров не есть необходимое требование ни разума, ни науки.
Четвёртую часть своей книги, являющуюся последней,
—68—
Жуан посвящает вопросу о взаимоотношении христианских догматов и гипотезы об обитаемости миров. Как католик, Жуан готов поднять вопрос об отношении папы к обитателям других миров. Общие положения его таковы, что догматы воплощения и искупления вполне согласимы с обитаемостью других миров. Значительное место отводит Жуан вопросу об отношении Священного Писания к учению о многочисленных мирах, населённых живыми существами. Лица, пытающиеся на основании Священного Писания отрицать обитаемость миров, по его мнению, допускают тройную ошибку. Во 1) они не читают в тексте того, что в нём написано; во 2) они читают в тексте то, что в нём не написано и в 3) они читают в тексте совершенно противоположное тому, что он утверждает. Иллюстрацией такого отношения к Библии Жуан представляет попытку слова Вилдада Савхеянина из книги Иова (Иов.25:5): „и звёзды нечисты пред очами Его“ (Бога) представить, как доказательство необитаемости миров. Разумеется, из этого текста гораздо легче вывести обратное заключение: или что сами звёзды одушевлены или что на них живут одушевлённые существа, и, хотя эти существа являются небесными обитателями, они нечисты в очах Божиих.
Жуан обращает внимание на то, что нигде в Священном Писании не сказано, что звёзды сотворены для земли. Могут писать и утверждать, что папа есть верховный первосвященник всей вселенной, в частности и обитателей Луны, если у нашего спутника есть обитатели. Но земная церковь рассуждает, Жуан, есть только часть церкви, есть ещё церковь небесная, церковь ангельская, ни в каком подчинении папе эта церковь не находится. Папа есть глава только земной церкви. Но здесь именно для католика возникают затруднения. Папа считается наместником Христа, наместником воплотившегося Сына Божия. Как же можно говорить, что наместник Сына Божия может не иметь отношения к созданиям вызванным к бытию Сыном Божиим? Жуан говорит, что в Священном Писании нет учения о великом единстве мира. Жуан допускает, что догмат о Богочеловеке может быть неизвестен другим мирам. Он идёт далее и по-видимому готов допустить возможность боговоплощений и на других мирах.
—69—
Священное Писание, но Жуану, правильно понятое благоприятствует учению об обитаемости миров. В защите своего взгляда он руководится соображениями Бревстера. Священное Писание, рассуждает Бревстер, обозначает словом „небеса“ нечто независимое от Луны и звёзд, какое-то материальное создание, дело рук Божиих и вовсе не пустое пространство, относительно которого можно предполагать, что оно населено существами чисто духовными. Писатели Завета обозначают словом „небо“ материальное творение, отделённое от земли, и у них можно найти строки, которые, кажется, ясно указывают, что это творение есть жилище жизни. Когда Исаия говорить нам о Боге: „Он распростёр небеса, как тонкую ткань, и раскинул их как шатёр для житья“ (Ис.40:22), когда Иов говорит, что Бог, распростёрший небеса, сотворил Ас, Кесиль и Хима (Медведицу, Ориона и Плеяды) и тайники неба (Иов.9:9)127, когда Амос говорит: „Он (Бог) устроил горние чертоги Свои на небесах (Ам.9:6: Жуан: дома со многими жилищами), выражения, которыми пользуются эти писатели, ясно указывают, что небесные тела служат обиталищами жизни. Даже в книге Бытия сказано: „так совершены (сотворены Богом) небо и земля и все воинство их (Быт.2:1). В книге Неемии читаем: „Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что в ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются“ (Неем.9:6). Псалмопевец говорит: „Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их (Пс.32:6). Это тоже самое выражение, которое употреблено в повествовании о творении Адама (вдунул в лице его дыхание жизни. Быт.2:7). Исаия представляет замечательное место, в котором обитатели неба и земли описываются раздельно. „Я создал землю и сотворил на ней человека; Я – мои руки распростёрли небеса, и всему воинству их даль закон Я“ (Ис.45:12). К этим
—70—
словам нужно присоединить следующие также находящиеся у Исаии. „Так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший её; Он утвердил её; не напрасно сотворил её, Он образовал её для жительства“ (Ис.45:18). В этом заявлении вдохновенного пророка не заключается ли та мысль, что земля была бы создана напрасно, если бы она не была способна к обитанию и не была бы обитаема? Не должно ли заключать отсюда, что если Создатель не мог создать напрасно миры нашей системы, то Он также не мог создать напрасно и миры системы звёздной, и что, следовательно, нужно признать, что эти миры созданы для обитания?
Тот же дух истолкования находить в Новом Завете места, которые оказываются не только в полной гармонии с учением об обитаемости миров, но которых и нельзя объяснить без него. Когда апостол св. Иоанн говорит, что миры были созданы Словом Божиим, когда св. Павел учит, что миры суть создание Божие, нельзя предполагать, что здесь речь идёт о шарах инертной материи, на которых нет и не будет населения.
Мы можем сказать, что священные книги далёкие от того, чтобы осуждать мнения об обитаемости миров по-видимому подтверждают это мнение.
Постараемся получше понять вдохновенные обращения псалмопевца. „Благо есть славить Господа!.. Ибо Ты возвеселил меня, (Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои! человек несмыслёный не знает, и невежда не разумеет того“ (Пс.91:1, 5–7).
Под человеком несмыслёным и невеждой Жуан довольно прозрачно разумеет всякого, кто не разделяет его веры в обитаемость миров. Оценка этой веры будет произведена автором настоящего трактата после обзора всех важнейших мнений об обитаемости миров вообще и Марса в особенности, но теперь позволительно и, думаю, полезно указать несколько черт в рассуждениях Жуана, которые делают очень рискованным в его устах употребления слова „невежда“. Об одном его арифметическом расчёте я уже говорил в примечании. Должно ещё отметить следующее. Жуан предполагает, что на коме-
—71—
тах когда-либо возникнет жизнь, что это – будущие обитаемые миры. Но как же ни на чём может возникнуть жизнь? Массы комет чрезвычайно малы, астрономы называют кометы видимым „ничто“. Материя комет может быть притянута Солнцем, Юпитером, Землёй и на Земле может дать материал для органической жизни, но никто из действительно знающих астрономию не скажет, что комета Энке или Галлея может стать обитаемым миром. Далее Жуан сообщает, что на Марсе в году на 73 дня более тёплых, чем холодных (весна и лето имеют на 73 дня более, чем осень и зима). Совершенно верно, что на земле в северном полушарии на несколько дней весна и лето длиннее, чем осень и зима. Но это – не на земле, а на северном полушарии земли. На южном полушарии дело обстоит наоборот. И, следовательно, на земле в общем тёплые и холодные времена года по количеству дней равны. И на Марсе в том полушарии, которое отстоит дальше от Солнца, когда у него весна и лето, эти времена длиннее, а в противоположном полушарии наоборот. Наконец, Жуан зачем-то толкует о Вулкане. Занимающемуся астрономией должно быть известно, что более, чем полувековые наблюдения полных солнечных затмений при самых благоприятных условиях дают основания отнестись отрицательно к гипотезе Левере. Теперь охотнее склоняются к предположению, что имеются планеты за Нептуном, которые вращаются около Солнца.
Странным представляется тезис Жуана, что Св. Писание не учит о великом единстве миров. Как же не учит, когда оно говорит, что все эти миры суть создание одного Создателя? Да, и зачем Жуану обращаться в данном случае к Священному Писанию? он сам знает и признаёт единство вселенной, единство материи, сил и законов. А если так, то Боговоплощение есть соединение Божества не только с земной, но и со всей вещественной природой. Боговоплощение, это – новый момент в мировой, а не только в земной истории.
4.
Согласно воззрениям Жуана Библия, а затем, следовательно, и христианская религия учит нас, что миры оби-
—72—
таемы. Мы должны держаться учения о многочисленности обитаемых миров. Жуан не говорит, что это для нас обязательно, но требование обязательности веры в обитаемость миров на самом деле, у него необходимо предполагается. Поучительно противопоставить Жуану Альфреда Росселя Уоллэса, который во имя науки отрицает обитаемость миров. Прежде во имя религии отрицали обитаемость миров и во имя науки её утверждали. В данном случае мы видим обратное отношение. Этот факт естественно подсказывает два вывода: 1) что наука не располагает достаточными данными для доказательства обитаемости миров; 2) что связь вопроса об обитаемости или необитаемости миров с христианскими религиозными воззрениями не выяснена с несомненностью. Верны ли эти выводы? Мы будем обсуждать их впоследствии. Теперь обратимся к воззрениям Уоллэса.
А.Р. Уоллэса, которому теперь идёт уже десятый десяток лет (он родился в 1822 г. 8 января, а по нашему стилю 27-го декабря 1821 г.) нельзя заподозрить в подчинении авторитету Библии. Вместе с Дарвином Уоллэс есть творец дарвинизма, да и в некоторых частностях своей астрономической теории он нисколько не смущается отступать от воззрений, установившихся на основании Библии. Но раз Уоллэс не боится не соглашаться с Библией, то тем более ценно, что логика и сила вещей заставляют его идти ей навстречу. Нет нужды излагать всю книгу Уоллэса. Она имеется на русском языке. Поучительно рассмотреть выводы, к которым он приходить.
1) Современная астрономия установила факт единства вселенной, т. е. что между всеми мирами существует связь, в своей совокупности они – одно целое. Раньше предполагали, что различные системы миров совершенно независимы одни от других. Заметим об этом тезисе, Уоллэса, что признание единства материальной вселенной есть признание того, что уже тысячелетия утверждает Библия.
2) Наука приходит к заключению, что вселенная не бесконечна. Это доказывается слабостью света звёзд. Свет от всех звёзд равен лишь одной сороковой света луны128, а свет луны равен лишь одной полумиллионной
—73—
света солнца. Но бесконечное число звёзд должно давать бесконечный свет. Чем же может быть погашен этот спет? Расстоянием? Но на сколько расстояние ослабляет свет, настолько должно возрастать число звёзд с расстоянием. Нужно, ведь, предполагать, что звёзды, более или менее равномерно рассеяны в пространстве. Но в таком случае, если на расстоянии К от земли число звёзд равно S, то на. расстоянии двух R число звёзд должно быть равно 4S (поверхности растут, как квадраты радиусов). В первом случае сила звёздного света будет равна S/R2

во втором – 4S /4R2, т. е. тому же самому. Значит, расстояние не должно уменьшать количества света, посылаемого звёздами. Точно также по вычислениям лорда Кельвина (Томсона), если бы число звёзд было бесконечно, то у звёзд должны бы были встречаться скорости несравненно больше наблюдаемых. Конечно, многими и философскими основаниями и соображениями естественно-научного характера можно подкрепить этот довод о конечности материального мира, но в данном случае важны не его основания, а его значение. Если мир конечен, то понятно, что он не существует вечно, значит он сотворён129.
—74—
3) Вселенная имеет чечевицеобразную форму, на своей территории она ограничивается млечным путём. Все астрономы согласны в том, что солнечная система находится почти в центре вселенной. Далеко не все астрономы согласны, но Уоллэс считает и это имеющим за собой много оснований, что солнечная система окружена звёздным роем (скоплением звёзд), за которым количество звёзд быстро и сильно уменьшается. (Между звёздным роем и млечным путём пространство почти пусто). Это скопление, по его мысли, сообщает устойчивость положению солнечной системы, обусловливает собой отсутствие резких изменений её температур. Если бы солнце вышло из-под защиты этого роя и пошло бы по беспредельными небесным пространствам, оно могло бы оказаться в самых различных термических условиях и подвергаться притяжениям встречающихся светил, каковые притяжения могли бы производить революцию в нашей системе. Мы знаем, что тезис о центральности нашего положения в мире ещё более, чем за полтораста лет до Уоллэса, высказал его соотечественник Урайт. С тех пор его постоянно повторяли астрономы. Но замечательно, что во весь этот период очень многие на основании данных астрономии старались разъяснять, что древние притязания людей на центральное положение в мире наивны, нелепы, стоять в противоречии с здравым смыслом. Как же они нелепы, когда они находятся в согласии со всем тем, что доселе знает наука? Может быть впоследствии окажется, что они ложны, но, ведь, доселе никто не доказал этого. Некоторые. даже пытались из уничиженного положения земли
—75—
делать какие-то апологетические выводы о величии Божием. Но величие Божие так велико, что перед ним одинаково ничто – как маленький метеорит, сгорающий в земном воздухе, так и вся система млечного пути. Для величия Божия живые души могут иметь большую ценность, чем вся система млечного пути.
4) Физические и химические свойства вселенной однообразны.
5) Физиологические условия для возникновения (всякой возможной) жизни крайне сложны.
6) Для того, чтобы на планете возникла жизнь, нужны определённые свет, теплота, периодические изменения в их силе, нужно распространение воды по всей планете, достаточно плотная и сложная атмосфера и т. д.
7) Все эти условия необыкновенно благоприятным обозом скомбинированы на земле.
8) Ни на какой другой планете, кроме земли, в солнечной системе жизнь невозможна.
9) Относительно звёзд, которые уже изучены, выяснилось, что они не могут дать планетам, если таковые у них есть, нужных условий для возникновения и существования жизни. В высшей степени вероятным представляется, что то же самое должно будет утверждать о всех звёздах, которые будут изучены.
10) Звёздный мир может иметь важное влияние на растительную и животную земную жизнь. Выяснены уже химические, световые, тепловые и электрические влияния звёзд. Если звёзды сильно действуют на фотографическую пластинку, то, ведь, также и ещё более сложным образом они должны действовать на поверхность листьев. Постоянно открываются новые и новые радиации (излучения) от предметов (например, рентгеновские). Такие радиации, имеющие важное значение, должны идти и от звёзд. Но кроме того, что звёздный мир воздействует своими силами на органическую жизнь земли, он своим устройством сообщает земле такое благоприятное положение в центре вселенной, при котором оказывается возможным то богатое разнообразие жизни, которое мы на ней наблюдаем.
Из своих тезисов Уоллэс подсказывает вывод, что вся вселенная явилась для того, чтобы явился человек.
—76—
Процесс развития вселенной имел своей единственной целью рождение человека. Какой страшной ересью должны показаться эти слова не только многим неверующим учёным, но даже и некоторым богословам, кажется, уже собирающимся вступить в церковное общение с жителями Марса. Не должно, конечно, преувеличивать силы доводов Уоллэса. Последнее своё положение, что вся вселенная существует лишь для человека, он не доказал с несомненностью, но он лишний раз показал, что мы не знаем и не можем представить никого другого, для кого бы существовала эта вселенная. При оценке соображений Уоллэса нужно иметь в виду, что у него идёт речь лишь о материальной вселенной. Он не только допускает, но прямо признаёт, что кроме этой вселенной существуют ещё иные невидимые миры, как признаём это и мы, говоря о мирах ангельских130. Книга Уоллэса есть итог астрономических познаний человечества. Его книгой утверждается, что душа человеческая имеет великую ценность, так как вся вселенная лишь человека имеет своей целью. Действительно, поскольку мы знаем вселенную, она служит лишь для человека. Правда, мы часто не умеем управлять ею, но мы часто не умеем управлять и собственным телом. Неужели отсюда должно делать вывод, что и оно – не наше и не для нас? Уоллэс авторитетно напомнил о факте, который не только хотели забыть, но упрямо отрицают вопреки очевидности. Последние страницы книги Уоллэса можно прямо назвать изложением библейского учения о человеке и его положении во вселенной. Правда, вместо восьмого псалма, говорящего о человеке, немного умалённом перед ангелами, Уоллэс говорит словами поэта, что человек „по действиям подобен ангелу“. Вместо Библии он утверждается на астрономии. Но во всяком случае, в его лице астрономия к началу XX столетия подошла очень близко к пониманию истинности Библии.
(Продолжение будет).
Пантелеимон [Успенский], иером. Три богослова: св. ап. Иоанн Богослов, св. Григорий Богослов и преп. Симеон Новый Богослов131: (Общие черты их учения вообще и теории богопознания в частности) // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 77–103 (2-я пагин.)
—77—
Когда мы глядим на ясное звёздное небо или входим в большой роскошный цветник, дивное зрелище тогда представляется нам. Какое здесь разнообразие и в то же время единство, какая разбросанность и в то же время гармония! Нечто подобное представляется и мыслителю, когда он пытается умственным взором окинуть мир святоотеческой письменности. Как трудно бывает зрителю, глядя на небо или находясь в цветнике, остановить свой взор на чём-либо одном! Но ему совершенно легко будет это сделать, когда он станет всматриваться в звёзды какой-либо одной определённой величины и блеска или станет, например, выбирать цветы какого-либо одного названия. То же затруднение испытывает и всякий, кто пожелал бы остановиться вниманием в святоотеческой литературе на одном или нескольких Отцах. Но это затруднение быстро исчезнет, когда мы обратимся, например, к Отцам, получившим какое-либо общее и особенное наименование. В настоящем очерке мы и хотели бы остановить своё внимание на тех Отцах, которые в исключительном смысле названы Богословами. Человеку мыслящему и в особенности богослову так естественно заинтересоваться именно этими Отцами и спросить себя: по какой причине они так на-
—78—
званы, и существует ли между ними какое-либо соотношение и связь? Такая любознательность ничуть не будет праздной. Напротив, от решения заданных вопросов богослов вправе ожидать для себя выяснения столь важной для него проблемы об истинном богословствовании и об истинном богослове. В лице тех Отцов, которые по преимуществу наименованы Богословами, он и найдёт последний из этих идеалов, а первый – в самом их учении.
Первый из Отцов Церкви, получивший имя Богослова, есть один из трёх Каппадокийцев – св. Григорий Назианзин, живший и писавший в золотую пору расцвета святоотеческой мысли. Другой же Отец, которому также усвоено наименование Богослова, жил совсем в другое время, много позднее Григория, в период упадка и оскудения богатой раньше святоотеческой письменности. Это преп. Симеон Новый Богослов, живший в конце 10 и начале 11 века. В литературе о св. Григории Назианзине нередко говорится, что наименование Богослова присвоено ему главным образом за его знаменитые „пять слов о богословии“132. Что же касается до преп. Симеона, то о нём хотя мы и не встречали такого указания, но и у него, как и у Григория, также находим три „богословских слова“ 133, весьма сходных с Григориевыми по содержанию, по глубине, и высоте, созерцания, хотя и различных по языку и стилю. Было бы легкомысленно удовлетвориться таким внешним и случайным основанием для объяснения столь почётного и столь редкого титула. В виду этого мы поищем более глубоких оснований, и с этой целью займёмся детальным анализом и сличением богословской системы Григория и Симеона. Но к названным Отцам нам не только не бесполезно, но и прямо необходимо присоединить ещё одного величайшего мужа, не Отца Церкви, но возлюбленного ученика Христова, св. апостола и евангелиста Иоанна, коему ещё прежде Григория и Симеона усвоено наименование Богослова. Легко можно догадываться, что и
—79—
тому и другому Отцу имя Богослова дано не без отношения к первому и великому Богослову.
I.
Итак, приступая к сличению учения „трёх Богословов“. Мы расположим его по естественной и простои схеме: учение о Боге, о мире и человеке.
Раскрывая общее понятие о Боге, как Существе невидимом и непостижимом134, безначальном135, вечно сущем и живом136. Богослов – Тайнозритель даёт самое краткое, до в то же время и самое глубоко содержательное определение существа Божия. „Бог есть свет“137, говорит он: „Бог есть любовь“138. А о Христе Спасителе Иоанн по преимуществу учит, как о предвечном Слове Божием – Логосе139. То же самое учение о Боге, только более подробно, раскрывается и у двух других Богословов. Изображая Бога Существом беспредельным, превысшим всего, невидимым и неименуемым140, и Григорий и Симеон с одинаковым вниманием останавливаются на понятии непостижимости Божией. „Как никто и никогда не вдыхал в себя всего воздуха; так ни ум не вмещал со-
—80—
вершенно, ни голос не обнимал Божией сущности“ – говорит Григорий Богослов141. Не менее удачно выражает ту же мысль и преп. Симеон, говоря: Бог „столько познаётся нами, сколько может кто увидеть безбрежного моря, стоя на краю его ночью с малой в руке зажжённой свечой“142. Между тем понятие безначальности более оттеняется у преп. Семеона143, а понятие вечности у Григория Богослова144. Что же касается до учения о Боге, как о свете, то и у того, и у другого Отца оно развито с замечательной полнотой, ясностью и раздельностью145, тогда как о Боге – Любви чаще и настойчивее говорит преп. Симеон146, а о Слове – Логосе, о Боге, как о первом,
—81—
чистейшем и всецелом Уме, выразительнее учит св. Григорий147.
Переходя далее к важнейшему христианскому догмату Св. Троицы, о Григории Назианзине, не боясь преувеличения, можно сказать, что едва ли кто из Отцов так глубоко проник в этот догмат и изложил его с такой ясностью и отчётливостью, как великий Каппадокиец148. „Слова его“, говорить о нём архиеп. Филарет, „с изумительной точностью выражают боговдохновенные мысли о Триипостасном“ Божестве149. Вот, например, как кратко и ясно формулирует этот догмат Григорий: „Бог разделяется, так сказать, неразделимо и сочетавается разделённо; потому что Божество есть единое в трёх, и едино суть три“150. Но и Новый Богослов в этом отношении весьма близок к Назианзину и, быть может, даже ничуть не уступает ему. „Три лица Божества“, читаем мы в одном месте у Симеона, – „един есть Бог, Который разделяется нераздельно по ипостасям и единится неслиянно по единости единого естества, – весь единый в трёх ипостасях, и весь троимый в пресущной единости“151. Обращаясь после сего к
—82—
первому Богослову и припоминая слова его о том, что „трие суть свидетельствующии на небеси: Отец, Слово и Св. Дух, и сии три едино суть“152, должно спросить: у кого из Евангелистов и Апостолов можно найти более краткую и в то же время более точную формулировку приведённого догмата? Если бы даже вопрос о подлинности этих слов решать в отрицательном смысле, то и тогда следовало бы сказать, что они наилучшим образом выражают учение Иоанна о Св. Троице, потому что первое его послание и в особенности почти всё его Евангелие представляют собой полное и точное раскрытие учения именно о равенстве, единосущий и нераздельности лиц Св. Троицы и главным образом Отца и Сына153.
Обращаясь, наконец, к ещё более частному догмату о лице Христа, мы видим, что всё сплошь Евангелие Иоанна доказывает истину о Божественном достоинстве Христа: оно для того и написано, чтобы люди уверовали, „что Иисусе есть Христос, Сын Божии“154. Но с не меньшей выразительностью ап. Иоанн доказывает и ту истину, что Христос пришёл во плоти и был совершенным человеком155, и при этом с особенной силой и ревностью восстаёт против того, кто „не исповедует Иисуса Христа во плоти пришедша“156. Неудивительно, если и у последнего Богослова – преп. Симеона, жившего уже много позже несторианских и монофизитских споров, мы встречаем отчётливое и ясное учение о „двух совершенных естествах Божества и человечества, соединённых неслиянно и неизменно“ во Христе157. Но нельзя не удивляться тому, что и Григорий
—83—
Богослов ещё при самом возникновении христологических споров, своим проникновенным и глубоко созерцающим умом верно постигая истину, совершенно ясно и точно изложил православное учение о двух естествах во Христе-Богочеловеке при единстве Его ипостаси158.159
Рассматривая далее учение „трёх Богословов“ о мире, мы прежде всего должны оговориться, что будем говорить не о мире – космосе, но о мире, как всей совокупности проявлений жизни падшего человека. В данном случае преп. Симеону, как строгому, самоуглублённому монаху – подвижнику, вполне естественно было высказать мрачный взгляд о суетности мира и всего находящегося в мире160. Говоря, что „мир есть смерть“161, и призывая людей любить и веровать во единого Господа, св. Отец учит ненавидеть мир сей и бежать от него162. Однако и св. Григорий Богослов, чистая и святая душа которого постоянно стремилась в пустыню, к иному горнему миру, к безмолвию и созерцанию163, противополагая мир Христу, т. е. Церкви Христовой164, и жизнь мирскую жизни духовной165, необычайно яркими чертами изображает суетность, непрочность и тленность всего находящегося в мире сём166 – и таким образом подтверждает мысли Симеона. Наконец, и
—84—
возлюбленный ученик Христов своим апостольским авторитетом утверждает нас в том взгляде на мир, который принято ныне считать узким и односторонним. Противопоставляя мир с его князем мира сего167, мир – весь лежащий во зле168, не принимающий Духа Святого169, ненавидящий и гонящий Христа и всех избранников Божиих170, – противопоставляя этот мир царству не от мира сего, царству Господа и Христа Его171, Апостол любви в конце концов так ясно учит: „Не любите мира, ни того, что в мире... Ибо всё, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская“...172
Касаясь учения о человеке, мы также найдём немало сходных черт и прежде всего у двух Богословов – Отцов Церкви. Как Григория, так и Симеона одинаково поражает дивное сочетание в человеке духа и плоти, ума с прахом плотским, сочетание земли, персти с Царским образом или с образом Божиим173. Будучи, с одной стороны, червём, тенью и прахом174, узником плоти, однодневной тварью, немощнейшим существом175, человек однако силой благодати Духа Святого, через сочетание со Христом (о чём особенно подробно говорить преп. Си-
—85—
меон176 являясь обоженным, Христоносным и Богоносным, земным ангелом и небесным человеком, делается чадом, сыном и другом Божиим, братом и сонаследником Христу, малым светом и богом по благодати, имеющим ликовствовать окрест великого Света и соцарствовать с Богом177. Встречая и у Богослова – Апостола противоположение духа и плоти, рождённых от плоти и от Духа178, мы находим у него особенно развитое учение об единении верующих с Богом и со Христом179 и изображение благодатно-возрождённого и прославленного состояния рождённых от Бога чад Божиих180. Проникновенным усвоением и развитием именно этих сторон в учении Апостола любви особенно близким к нему является Симеон Новый Богослов.
Кроме этих основных черт, мы находим у „трёх Богословов“ и другие более частные черты сходства. Если в 10 главе Евангелия Иоанна нарисован прекрасный образ доброго пастыря, знающего своих овец и полагающего за них душу свою181, то и Григорий Богослов и в особенности преп. Симеон также прекрасно изображают нам идеал пастыря, высоту и ответственность пастырского слу-
—86—
жения182. О тесной связи богословской системы Симеона с богословием „сына Громова“ говорит ещё их одинаково настойчивое учение о любви, как о важнейшей для христианина заповеди, являющейся необходимым условием жизни в Боге183, неоднократно восхваляемой Симеоном в качестве главы добродетелей, госпожи и царицы их184. О той же связи Нового Богослова с новозаветным Тайнозрителем свидетельствует частая цитация первым последнего и постоянное заимствование им своих излюбленных идей у Иоанна Богослова185. Что касается до отношения Григория Богослова к возлюбленному Апостолу, то здесь ещё раз следует указать на то, что как у евангелиста Иоанна ключом богословия является учение о воплощении Бога-Слова186, так и у Григория Назианзина его мысль в особенности обращена была к предвечному Слову187. А близость между Григорием Богословом и преп. Симеоном, кроме всего вышесказанного, видна из того ещё, что Новый Богослов с особенной любовью и чаще всех других Отцов цитирует великого Каппадокийца188. О ней говорит и то обстоя-
—87—
тельство, что оба св. Отца, как поэтически одарённые натуры, писали стихи, и таким образом были не только богословами-проповедниками, но в то же время и христианскими поэтами189.
Такое близкое сходство у „трёх Богословов“ в решении ими важнейших вопросов богословия побуждает нас поискать причины этого сходства в личных свойствах и качествах трёх этих мужей. Однако с первого взгляда мы больше, пожалуй, заметим различия в их индивидуальных чертах, чем сходства. И в самом деле, Иоанн Богослов, как самовидец Господа, как возлюбленный ученик Христов и избраннейший из избранных Апостолов, является настолько великой и единственной в своём роде личностью, настолько яркой звездой, что в этом отношении сравнивать его нельзя не только с каким-либо Отцом Церкви, но даже и Апостолом190. Великий Каппадокиец – Григорий Назианзин, величайший из великих учителей христианства191, пастырь и святитель, всю жизнь ревностно боровшийся за истину православия, блестяще образованный по своему времени богослов-философ и красноречивый оратор192, также является своеобразною и
—88—
почти неподражаемой величиной среди всех Отцов Церкви. Что касается до Симеона Нового Богослова, то и он представляет из себя весьма оригинальную и выдающуюся личность, но совсем в другом роде, как самоуглублённый аскет, весьма строгий монах, величайший мистик, глубокий созерцатель и оригинальный богослов-проповедник193. Но при всём этом указанные различия и своеобразность „трёх Богословов“ являются внешними, обусловленными главным образом разнообразием их служений и положений, но отнюдь не внутренним различием душевных качеств. В этих именно качествах мы напротив видим у них глубокое сродство и полное сходство.
Общими для всех „трёх Богословов“ являются следующие черты. Во-первых, полная отрешённость от мира, от всего временного, земного, неудовлетворённость настоящим и обращённость к небу, к будущему, духовному, вечному, как бы всегдашний полёт в мир горний, в мир таинственной Истины и бесконечной Любви. Недаром символом Иоанна Богослова, как Евангелиста, является парящий орёл. Черта эта настолько характерна для всех „трёх Богословов“, что они ещё при жизни были более небожителями, чем обитателями земли194. Второй отличи-
—89—
тельной чертой наших Богословов является чистота и девственность души, цельность натуры и высокое благородство нрава. Это такие качества, которые присущи не только возлюбленному ученику и великому Богослову, но в такой же почти мере и двум другим Богословам195. Наконец, третьей общей чертой для „трёх Богословов“ является несокрушимая вера, всецелая преданность Богу и горячая, пламенная любовь ко Христу. Эта любовь привлекла к ап. Иоанну преимущественную любовь Господа, сделала его возлюбленным учеником и наперсником Спасителя и удостоила всыновления Богоматери. Изображая эту любовь сына Зеведеева ко Христу Иисусу, Μ.Д. Муретов говорит· „Христос составлял центр, основу и светоч всего духовного и физического существа Богослова. Христос быль для Иоанна всё: начало, конец, средина универса, – альфа и омега всего бытия“196. А Григорий и Симеон сами с за-
—90—
мечательной силой и выразительностью свидетельствуют о своей любви ко Христу. „Я люблю Христа“, говорит Григорий Богослов: „не знаю меры в сей любви и хвалюсь ею“197. „Христе Царю!“ – восклицает он однажды – „Ты – моё отечество, моя крепость, моё блаженство, моё всё!“198 „Я уязвлён любовью к Нему“, заявляет преп. Симеон, „и доколе не получил Его, сокрушаюсь духом и истаеваю“...199 „я стараюсь ненасытно любить“, говорит о той же любви Преподобный: „я принуждаю свою природу любить и выше природы“200. „Оставьте меня одного“, умоляет св. Отец: „Я не хочу более видеть свет мира сего, ибо я вижу Господа моего... Позвольте мне не только запереть келью и сидеть внутри её, но если даже я, вырывши яму, сокроюсь там, и буду проводить жизнь вне всего мира, созерцая бессмертного Создателя и Господа, желая умереть из-за любви к Нему“...201
II.
Анализируя сходные черты в учении „трёх Богословов“, мы опустили у них ещё одну наиболее интересную для нас сторону. Это именно идеальное изображение богослова и богословствования. Опущение это сделано нами умышленно, дабы обследовать эту сторону более обстоятельно.
Итак, обратимся прежде всего к Григорию Богослову, которым сделано отчётливое изображение идеального богослова, в виду того, что в его время крайне злоупотребляли высоким именем и делом богослова. „Любомудрствовать о Боге можно не всякому“, заявляет великий Святитель: „это приобретается не дёшево и не пресмыкающи-
—91—
мися по земле!“202 Пока не преодолело в человеке вещественное и не очищены слух и мысли, не безопасно вдаваться в богословствование203. Говоря с иронией о производящих „в один день“ в богословы и делающихся богословами204, св. Григорий с силой восстаёт против тех, которые „составили из нечестия науку“205 и христианское учение – это „великое наше таинство“ пытаются обратить „в низкое ремесло“206. В противовес таким ложным богословам Григорий, по его собственному фигуральному выражению, как бы изваяние, иссекает, идеального богослова во всей его красоте207. „Хочешь ли со временем стать богословом?“ – спрашивает св. Отец и сам же отвечает – „соблюдай заповеди и не выступай из повелений. Ибо дела, как ступени, ведут к созерцанию“208. „Восходи посредством дел“209, потому что к Богу мы приближаемся жизнью и делами210. „Любомудрствовать о Боге“, говорит ещё Святитель, „способны... люди, испытавшие себя, которые провели жизнь в созерцании, а прежде всего очистили, по крайней мере, очищают и душу, и тело“211. Богослову „должно быть, сколько можно, чистыми, чтоб свет приемлем был светом“212. Наконец, для богослова безусловно необходимо ещё „иметь руководителем Духа“ Святого213, потому что „при одном содействии“ Его „и можно только о Боге и мыслить, и говорить, и слушать“214. Итак, очищение себя, соблюдение заповедей, созерцание и руководство Духа Святого, возможное, конечно, только в Церкви, – вот необходимые условия для того, чтобы стать богословом.
—92—
Если таков должен быть богослов, то и на дело богослова – на богословствование св. Назианзин смотрит также высоко. „Ведение Бога“, говорит Григорий, есть „совершеннейшее из всего существующего“215. Будущее блаженство по мысли св. Отца, будет состоять не в чём ином, как в совершенном познании Троицы216. Истинное богословие217 настолько неразрывно соединено для Григория с деятельной верой, с христианской жизнью в лоне православной Церкви, что он не разделяет их даже и в мыслях. Поэтому православное богословие везде он называет „благочестием“218, которое противопоставляет злочестию и нечестию или богохульству219, разумея при этом ариан и других современных ему еретиков и их „излишнее, сладкоречивое и ухищрённое богословствование“220. Себя же св. Отец называет „не дерзновенным богословом“221, который всякий раз, когда говорит о Боге, имеет „трепетный язык, и ум, и сердце“222. А о богословии своём Григорий замечает, что он излагает его „по способу Рыбарей, а не Аристотеля, духовно, а не хитросплетённо, по уставам Церкви, а не торжища, для пользы, а не из тщеславия“223.
Обращаясь к преп. Симеону Новому Богослову, мы видим, что идеал богослова и условия для богословствования
—93—
рисуются у него в тех же чертах, что и у Григория, только более подробно. По словам преп. Симеона, ведение Бога в Троице есть жизнь224. Отсюда ясна, важность богословия, как истинного боговедения. Λ как высоко смотрел Симеон на богослова, видно из того, что богословствующий, по его представлению, это тот, кто находится как бы в царских палатах, близ Самого Царя – Бога, и беседует с Ним225. Поэтому-то св. Отец и говорит: „удивляюсь я тем..., которые прежде рождения от Бога... не трепещут богословствовать и беседовать о Боге. Когда слышу, как многие..., будучи исполнены грехов, богословствуют о Боге... без благодати Св. Духа..., трепещет, ужасается и некоторым образом из себя выходит дух мой“226. „Что может быть нечистее того“, восклицает Симеон, „кто... покушается учить о тех, яже Духа суть, без Духа? И что сквернее того, кто... приступает богословствовать с одним лжеименным знанием и внешней мудростью?“227. Порицая современных ему легкомысленных богословов, занимавшихся богословием не для пользы духовной и извращавших своими мудрованиями догмат Св. Троицы, св. Отец называет их „суесловами и нескладными богословами“, противопоставляя им ап. Иоанна, как самого глубокого Богослова228.
Но какие же условия необходимы для истинного богословствования? Мы видели уже, что преп. Симеон упомянул о благодати Св. Духа, как необходимейшем условии для этого. Для получения же благодати необходимо сперва через покаяние,229 разгоняющее наше неведение, очистить своё сердце230. „Прежде надобно очистить сосуд от всякой скверны“ – говорит Симеон – „и потом влагать в него миро“231. Но помимо этого, необходима ещё вера, ради ко-
—94—
торой Бог даёт нам ведение,232 и соблюдение заповедей233 или добродетели, коими также открывается нам дверь ведения234. Или, говоря образным языком Симеона, должно сперва положить основание веры и создать из добродетелей дом внутреннего благочестия души, чтобы возложить потом на него кровлю – ведение Бога235. Невозможно, говорит св. Отец, чтобы не исполняющий заповедей Божиих „верно возвещал божественные догматы и богословствовал“236. Соблюдающий же заповеди и тем доказывающий свою любовь к Богу облетается благодатью Св. Духа237. Который „отверзает ум наш“ и „всему научает“ нас238. Благодать Божия – этот сокровенный и умный свет – также необходима для духовного ведения, по словам Симеона, как чувственный свет для того, чтобы видеть видимые твари или читать книги239. Или как без солнечной теплоты не может созреть плод земной, так
—95—
и без молитвы, без благодати, без теплоты умного Солнца – Христа невозможно получить зрелого плода духовного от чтения св. Писания240, т. е. от всякого вообще теоретического богословствования. Силой же веры и благодати ум наш, повреждённый грехом и больной, очищаясь, делается здравым241, соединяется с Богом, со Христом242 и постигает истину243.
Итак, если ты приимешь Христа в себя, говорит преп. Симеон, то, не припадая к персям Спасителя, как Иоанн, „но имея внутрь персей своих всё Слово Божие, будешь ты богословствовать богословие новое и ветхое и добре поймёшь все богословия“244. Имея в себе Бога – вдохновителя Писаний, ты „сам... будешь вдохновенною книгой, носящей новые и древние тайны“245. Без соединения же с Богом, без просвещения божественной благодатью никакая добродетель не доставит нам „слова премудрости, или знания, или рассуждения“, потому что все добродетели – только путь к свету, а не сам свет:246 никакая мудрость мира не сообщит нам истинного знания и понимания божественных Писаний247. А в этом именно понимании и
—96—
заключается, без сомнения, основа для всякого богословия. Если бы кто, выучив наизусть св. Писание, всё его имел как бы в устах,248 то и тогда без благодатного откровения Духа Святого оно было бы для него закрытой и запечатанной книгой, или являлось бы полным неизреченного богатства, но крепко-накрепко замкнутым сундуком, которого нельзя открыть никакой человеческой мудростью249. Итак, для того, чтобы богословствовать, по словам Симеона, надо прежде перейти от смерти в жизнь, приять семя Бога живого – благодать Св. Духа, родиться духовно, стать чадом Божиим, – и тогда уже беседовать о Боге250. Резюмируя же всё вышеизложенное, следует сказать, что для истинного богословствования, по учению преп. Симеона, необходима высоконравственная, добродетельная жизнь в благодатной атмосфере Церкви и её таинств.
Но найдём ли мы что-либо подобное у Иоанна Богослова? Правда, у него нет изображения идеального богослова и богословствования, но однако никто иной из новозаветных писателей, как именно он – Апостол любви так ясно и полно развил ту теорию богопознания, которую мы видели у Григория и Симеона. „Ап. Иоанн“, читаем мы в одном месте о нём, „не допускает никакой противоположности между теоретическим и практическим, знанием и делом, верой и жизнью. Одно интеллектуальное познание истины (с его точки зрения) не имеет никакого значе-
—97—
ния“251. И в самом деле, в Евангелии Иоанна Христос Спаситель говорит, что познание единого истинного Бога и посланного Им Сына Божия есть уже жизнь вечная,252 что истину Его учения познает только тот, кто хочет творить волю Божию;253 а в посланиях Иоанна не об изучении истины говорится, но о „хождении во истине“254, и о том, что согрешающий не видел Бога и не познал Его255. Что касается частных условий богопознания, то по Иоанну Богослову для него прежде всего необходима вера, как основание256, затем очищение257 и главным образом любовь258, неразрывно связанная с соблюдением заповедей и проявляющаяся в нём259. Через соблюдение заповедей даётся познание истины и боговедение260.
Но не непосредственно, а через особое „священие“ во истину261, через рождение от Бога,262 через пребывание в Боге, во Христе263, Который есть свет истинный, просвещающий всякого человека264. Он именно есть путь, истина и жизнь265. Он дал нам свет и разум.266 Наконец, познание истины, по писаниям Иоанна, даётся через благодать Христову267 или через Утешителя – Духа истины268, Который научает нас всему и наставляет на
—98—
всякую истину269. Это и есть то истинное и неложное „помазание“, пребывая в котором, человек не требует, да кто учит его270.
Вот как согласно говорят об условиях истинного буговедения и в каких сходных чертах изображают нам идеального богослова все наши „три Богослова“. Богословие таким образом, по их представлению, есть не свободная профессия, которую легко можно взять на себя кому угодно и также легко и бросить. Богословствование есть „путь религиозно-нравственного опыта – путь трудный, требующий нравственного подвига и самоотвержения“.271 Чтобы стать богословом, недостаточно поступить в духовную школу, обучиться в ней наукам и получить соответствующий диплом. При всём этом необходимо ещё опытно пройти богословское знание – верой, жизнью, делами, необходимо личным подвигом углубить что звание и через благодатное озарение Духа Святого одухотворить и оживотворить его.
После того, что сейчас сказано, невольно напрашивается вопрос: приложим ли этот идеал к современному богослову? Если всё дело сводится к добродетельной жизни, то нужно ли при этом ещё научное богосдовствование? В ответ на это надо сказать: доколе мы живём в теле, и наше богопознание является „якоже зерцалом в гадании“272, доколе существуют ереси и разномыслия, и доколе не все пришли „в единство веры и познания Сына Божия“273: до тех пор необходима будет и наука и научное богословие. Доказательство итого мы видим почти у всех Отцов и учителей Церкви, которые в целях апологетических и полемических пользовались философией, диалектикой, естествоведением и всеми доступными им научными методами и средствами для защиты и утверждения христианской истины. И один из наших „трёх Богословов“ – Григорий Назианзин высказывает с своей сто-
—99—
роны весьма высокое уважение к образованию и науке274. Вообще Отцы Церкви отдавали науке известную дань внимания и уважения, но не как самоцели, каковой не по праву наука желает стать ныне, не как самостоятельной ценности, но как хорошему средству, которым можно и должно пользоваться для хороших, конечно, целей.
Таким образом не о необходимости научного богословия надо говорить, а о безусловно необходимом сочетании веры и жизни с задачами этого богословия. Стоя на уровне современной науки и отвечая потребностям времени и Церкви, ныне ещё более обуреваемой еретическими, рационалистическими и атеистическими учениями, современный богослов в то же время должен стремиться к воплощению в себе, того идеала, который так ясно начертан у „трёх Богословов“275. Отступление от этого идеала ведёт к саморазложению богословия, делает его мёртвым, безжизненным, схоластичным, обращает богословие в чисто рационалистическое, мнимое знание. А богослова лишает живой души и, создавая для него фальшиво-противоречивое положение, превращает его в того, против кого всякому бого-
—100—
слову необходимо направлять своё оружие. Оторвавшись от здоровой церковной жизни и не сдерживаемая никакими внешними авторитетами, значительнейшая часть западной протестантской богословской науки пришла уже к полному, саморазложению: богословие там, можно сказать, сделалось антибогословием и своими собственными руками вырыло себе могилу276. Тогда как эпоха непосредственной живой связи богословской науки с благодатной жизнью Церкви, „века великих образцов нравственного совершенства были в то же время золотыми веками в истории христианского просвещения, веками особенно широкого развития христианского богословия“277.
* * *
Заканчивая настоящий очерк, мы снова обратим свои взоры к „трём Богословам“. Замечательно, что в их лице, мы видим полное совпадение теории и практики, идеала и действительности. Припомним, что особенно характерными чертами для „трёх Богословов“ являются созерцательная настроенность, чистота сердца и пламенная любовь к Богу. А эти именно качества, по учению наших же Богословов, составляют основные условия для истин-
—101—
ного богословствования. Таким образом мы имеем полное оправдание того высокого и исключительного титула, который усвоен „трём Богословам“. Каково бы ни было происхождение, и каковы бы ни были основания для усвоения им столь почётного титула278, для нас теперь несомненным является то, что эти три великие мужа названы Богословами не случайно, но что это высокое наименование прилично именно им, как истинным и величайшим Богословам, которые не только начертали нам идеал богослова, но, через свою жизнь и благодаря своим высоким нравственным качествам, и осуществили его в себе – в своём поразительно глубоком и возвышенном богословствовании. В учении „трёх Богословов“ поражает именно высота созерцания и необычайная глубина проникновения в тайны боговедения, о чём свидетельствуют все, их исследователи279. А эта высота и глубина богословствования у
—102—
„трёх Богословов“ объясняется тем, что они за святость жизни, чистоту сердца и пламенную любовь к Богу получили особенно обильную благодать Духа Святого, Духа премудрости и разума, Духа, ведения и благочестия280. О возлюбленном ученике Христовом св. Иоанн Златоуст говорит, что горния силы дивятся благообразию души его, разуму и красоте его добродетели, которой он привлёк к себе Христа и получил благодать духовную; настроив яге душу свою подобно благозвучной лире, он возгласил через неё Духом нечто великое и возвышенное281. А св. Церковь, называя Иоанна Богослова „храмом Духа светоносными устами благодати“282, поёт о нём: „полн сый любве, полн бысть и богословия“283. Она же и о Григории Богослове – этом „органе Духа Святого“ и „боговещанной цевнице благодати“284 свидетельствует, что он, очистив божественными деяниями душу и тело и мысль, возшел на гору добродетелей285, посему и привлёк к себе Духа премудрости и, „полн благодати быв, божественная возгремел... учения“286. Наконец, подобное же сви-
—103—
детельство мы находим и относительно преп. Симеона. Это именно стихи некоего панегириста, который говорит о Симеоне, что он не был лишён ни одного из добродетельных деяний, но получил столько дарований, сколько – ни один из святых287. По словам того же автора, Бог „скоро исполнил его обильного причастия седмочисленных даров Духа“288. Итак, справедливо великий Апостол – Тайпозритель наименован Церковью „начальником богословия“289, а св. Григорий Назианзин „источником богословия“290. Мы не ошибёмся, если и преп. Симеона Нового Богослова, назовём проникновенным истолкователем первого и великого Богослова и весьма сродным и близким по духу Каппадокийскому Богослову.
Да сияют же своим небесным светом пред мысленным взором всякого православного богослова эти „три Богослова“, как три путеводные звезды. Да будут они для него как предметом подражания по своей жизни и высоким нравственным качествам, так и надёжными руководителями в решении основных вопросов богословия и во взгляде на само богословствование.
Иеромонах Пантелеймон
Эрн В.Ф. Письма о христианском Риме: (Письмо третье: В катакомбах св. Каллиста) // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 104–114 (2-я пагин.). (Продолжение.)
—102—
Чтобы попасть в катакомбы св. Каллиста нужно идти почти той же самой дорогой, которой первохристиане, ночью, тайком, уносили святые тела ново-прославившихся мучеников из окровавленного Колизея. Оставив за собой грандиозный каменный овал амфитеатра Флавиев и пройдя мимо огромной и тяжеловатой триумфальной арки Константина, Вы несколько минут идёте по широкой и пустынной via di S. Gregorio. Справа, за ажурной решёткой, подступает вечнозелёный Палатин – самая большая панорамная красота Рима: слева – запущенный и заброшенный Целий, ревниво хранящий в недрах своих, ещё не тронутых археологами, много каменных и бронзовых остатков самого блестящего периода императорского Рима. Немного не доходя до столь прекрасных в своей печальной оставленности мрачно-монументальных массивов Каракалльских терм, перед которыми Италия наших дней раскидывает огромный сквер и тем спасает их от натиска современного Города, этого цивилизованного чудовища, всё более и более пожирающего всю красоту и славу былых, более высоких эпох, – Вы сворачиваете налево и скоро достигаете полуразрушенной арки Друза, за которой высятся Аврелианские стены, и через ворота св. Севастиана выходите на старую Аппиеву дорогу. Эта дорога втройне прекрасна, ибо её осенила и на ней почивает тройная слава: по ней столько раз ходили с своими гордыми знамёнами объединители языческого мира – славные римские легионы; с обеих сторон её, с тонкой изысканной мерой и тщатель-
—105—
ностью, распростёрла Природа свои прозрачные дали, и свои сверкающие убранства; и по ней же прошли святые стопы благовестника до-мирной славы Христа апостола Павла, шедшего в 61 г. по этой дороге на судилище Кесаря и донёсшего по ней первую всемирно-историческую волну нового Царства, основанного на далёком Востоке.
Погружённые в прошлое, Вы как-то не замечаете маленькой церковки Quo vadis? с плоским бароккианским фасоном – стоящей в том месте, где по преданию св. апостол Пётр, уходящий от мученического жребия из Рима, был остановлен Спасителем. Эта церковь похожа на роман Сенкевича, такая же убогая, такая же далёкая от простой и глубокой правды первохристианства. Ещё не выйдя на просторы Кампаньи из стен, окаймляющих первые мили Аппиевой дороги, Вы уже видите заветный номер, указанный в путеводителях и входите в маленькую дверку. Впечатление странное. Кипарисовая аллея, цветы, грядки и местами взрытая розоватая земля Кампаньи. После города, всегда хочется целовать землю, но теперь Вы недоумеваете – где катакомбы? Какой-то полевой „человечек“ возившийся над грядой и не замеченный Вами, говорит, что нужно идти дальше. И в самом деле, пройдя аллею, Вы видите толпу празднично-одетых иностранцев, которая вдруг исчезает. Я только потом понял счастье, выпавшее нам. Главный „вожатый“, пересыпающий свой объяснения шутками и остротами (как я потом сам увидел) уже увёл иностранцев, и один из траппистов, в ведении которых находятся катакомбы св. Каллиста, подошёл к нам и решил нас вести одних. Тут, признаюсь, я забыл всякую археологию, всякую историю, всякое богословие. Едва мы вошли в тьму катакомбы, вдруг нахлынуло чувство радостное, умилённое, благоговейное, ноги сами собой опустились, и я, в несказанном восторге, стал целовать камни и землю и плакать обильными, облегчёнными, освобождающими слезами. Сбылось то, что я предчувствовал по далёким книжным вестям. Безмолвная, почти немая тайна первохристианства вдруг безмолвно и немо открылась сердцу, и самая „суть“ катакомб стала такой близкой, такой понятной, такой родной. Я всем существом ощутил мир, мир превосходящий всякое разумение, мир,
—106—
который благодатными волнами бил в мою душу из этой массы безвестных, смиренных могил. Близкие останки ребёнка таким победным уверением говорили, что нет смерти, нет печали и воздыхания, есть одна беспримесная, беспредельная радость. В то время как монах далеко впереди давал объяснение моим спутникам, я шёл сзади, и немое чувство моё стало находить разумные „внутренние слова“. Массы божественно-идиллических черт, которыми полна древняя христианская письменность, пришли мне на память и все синтезировались в словах Минуция Феликса: „Мы ожидаем весны нашего тела“. Нет слов, которые бы лучше передавали впечатление от ликующей тишины, от умопостигаемого покоя, от беспредельной умиренности первохристианского кладбища. Здесь тела лежат, как пшеница под зимним саваном, ожидая, предваряя, пророчествуя нездешнюю, внемирную весну Вечности. Первые христиане знали какую-то особую гармонию религиозного чувства, на них почил какой-то особый луч до-мирной божественной славы. Они были свидетелями и участниками кратковременного благодатного абсолютного мира между Землёй и Небом. В их кратких, обрывочных надписях, в их младенчески-чистой символике, в их простых и глубоких видениях сквозит тайна постигнутой, свершённой и разделённой Обрученности. Потом вошли в силу слова: „Истинно, истинно говорю вам: если зерно падши в землю не умрёт, то останется одно; а, если умрёт, то принесёт много плода“. И гармония первохристианства должна, была умереть в пустынях христианского подвига, и таинственное единство Неба, и Земли, возвещённое христианством, чтобы принести вечный и безмерный плод свой при конце мира, должно было трансформироваться в своё другое – в непримиримую борьбу монашества с миром, духа, с плотью, неба с землёй. Но как, почти целые три века, посеянное Словом зерно сохраняло свой первоначальный облик, лежало „одно“, пребывало, как истинный дар Божий, как беспредельное чистое счастье! Всё нечистое человеческое сгорало в вольном и светлом порыве к жертве, в вольной устремлённости к мученичеству, в постоянной готовности пострадать за имя Христово. Отсюда – непобедимый энтузиазм первохристианства,
—107—
заражавший одних – до мгновенного обращения, озлоблявший других – до полного озверения. Историки часто спорят о причинах гонений. Ведь, в самом деле, большинство гонений начиналось непроизвольно. Христиан ненавидели не столько правители, сколько народ. Это – психологическая загадка и исторический факт. Значит, было что-то особое в христианах, что возбуждало и беспокоило. Они были корректнейшими членами государства и мирными людьми. Но, в то же время, они горели энтузиазмом, пылали тайной примирения с Небом, тайной новых обетовании. И это неожиданно вызывало дикие вспышки народного гнева.
Первые христиане любили цветы. „Кто может подумать, что мы пренебрегаем цветами, говорит Октавий у Минуция Феликса, которыми дарит нам весна, когда мы срываем розы и лилии и все другие цветы приятного цвета и запаха? Их мы расставляем перед собой. Из них сплетаем себе венки на головы“. По внешней видимости, эта любовь к цветам – как у язычников. Но, на самом деле, эти венки из цветов сливались в первохристианском сознании с венцами мученическими. От этих венцов нет возврата к язычеству, и – прямой переход к добровольному внутреннему мученичеству аскетов и пустынников. Некоторые, обманутые внешностью, не замечают невидимой пропасти, разделяющей христианство от язычества. В самом деле, христиане в свою символику перенесли много элементов языческой микологии. Многие саркофаги в Латеранском музее кажутся чисто-языческими. Ионт Патер, а за ним П. Муратов, в своей книге об Италии, говорят об anima naturaliter Christiana. Тут, несомненно, невидимое признаётся за несуществующее. Разделяющий меч Благой Вести прошёл до самого сердца мирового, до самого корня человеческой истории, и всё, что мы видим в катакомбах, – уже принципиально новое, другое, выросшее из иных корней. Для того, чтобы измерить невидимую пропасть мистического разделения, достаточно прочесть Исповедь бл. Августина. Он прошёл весь путь, от одного края, языческого, к другому краю, христианскому, – и путь этот необычайно длинный. Мучительный, душевно-окровавленный. То, что у бл. Авгу-
—108—
стина тянется долгие годы, и то, что он запечатлел с гениальностью, перед которой Исповедь Руссо кажется болтовнёй, а Исповедь Толстого – неясными стонами глухонемого, – то в раскалённой атмосфере первохристианства происходило мгновенно, молниеносно, но при этом „субстанция“ обращения совершенно тождественна и неизменна. Там – длительно, тут – „одним духом“, но в обоих случаях, переходилась всемирно-историческая бездна.
И всё же христиане любили цветы, любили рокот волн, и детские игры (Октавий). Мне вспомнилась пронизанная печалью красота Кампаньи. С зелёных курганов Горациев и Куриациев на Аппиевой дороге, в просвете между гигантскими пиниями и кипарисами, таким воздушным, таким нездешним видением распластались нежно-волнистые дали. Бегущие арки далёкого акведука Клавдия кажутся очень странно выросшими из этих лугов, усеянных стадами белых овец, а не созданием рук человеческих. Тёмно-зелёные тускуланские холмы, албанские горы с Monte Cavo, точно в божественном ожерелье, соединяются с прозрачностью аметистовых Абруцц. Дальше, бегут и пропадают в живой беспредельности какие-то неведомые мне горы. А над всем – медленно, важно, торжественно плывут облака, и кажется, что божественная Десница ежемгновенно из небытия вызывает их сверкающую белизну. Неужели эту красоту христиане оставили во власти язычников? Нет, они забрали её и унесли с собой в катакомбы. Вот, когда язычники могли обвинять их не в государственном только, а в мировом „преступлении“. Христиане „ограбили“ мир. Всё, что преображённо расцветало перед новым, благодатно-родившимся зрением христиан, – всё это отцветало перед засорившимся, оскудевшим зрением язычников. Жизнь одних была смертью других, и, как только началось таинственное передвижение мировой стрелки, сначала в подземные катакомбы, а затем – ещё дольше, в умопостигаемые катакомбы христианского подвига, в духовную Фиваиду, восставшую на Востоке, – язычники с ужасом возвестили смерть великого Пана, действительно и реально в них происшедшую. Христиане же произвели невидимую жатву на заброшенной язычниками ниве, собрали в снопы все неселён-
—109—
ные червями колосья и понесли их под землю, к самым истокам творящих сил, и скоро уже в самих катакомбах появились первые ростки нового искусства и новое постижение, красоты мира. Да, христиане „любили цветы», но любовью новой, неведомой античному миру, любовью поглощающей и преображающей, и, когда пришли времена, христианство породило новую эпоху в истории искусства, сначала базилики, затем мозаики, а затем Данте и чудеса раннего итальянского Возрождения...
А монах всё шёл впереди и перед нами смыкались и размыкались всё новые переплетения узких земляных сводов с неожиданными блёстками слюды или мозаичного креста. Я не слушал объяснений. Мне просто радостно было ощущать тайну первохристианства, и все живописные и скульптурные знаки первохристианского душевного status’a были понятны сами собой. Обычным посетителям доступна лишь самая небольшая часть катакомб св. Каллиста, но и по ней мы ходили очень долго. Раз встретились с группой иностранцев, нас опередивших. Отталкивающее, хитрое лицо „гида“, говорившего по-английски, и дружный смех длиннозубых „леди“ и упитанных „джентльменов“ поразили нас, как неожиданный удар кнутом. Но уже скоро кончились тёмные переходы, и мы вышли в маленькую базилику свв. Сикста и Цецилии, освещённую прорубленным окном сверху. Здесь странно поражает присутствие мраморного бюста, вделанного в стену, которого я не замелил при спуске, в катакомбы. Под ним мраморная доска с надписью: Iohanni Baptistae di Rossi, quo duci christiana vetustas in novum decus effloruit... cultores martyrum et sacrae antiquitatis magistro optimo MDCCCXCII. Перед этим мраморным ликом стоит остановиться, чтоб сотворить мысленно хвалу гению христианской науки, великому, неутомимому созидателю современной христианской археологии. Когда знакомишься с обликом де-Росси, с его жизнью, которая отождествилась для него с жизнью, создаваемой им дисциплины, – то невольно поражаешься его крупным размером. В Джиованни Баттиста де-Росси чувствуется печать избранничества, высокая, редкая призванность к своему делу. Воспитанный в строгой религиозности, он с самого детства обна-
—110—
ружил яркую устремлённость к христианским древностям. Как только он освоился с языками греческим и латинским, его любимым занятием сделалось чтение древних документов, особенно житий святых первых веков. Восемнадцатилетним юношей он имел в Ватикане характерную встречу. Приведённый отцом, которого он должен был подождать, и вместо того, чтобы сидеть в приёмной, он вышел в Galleria lapidaria, стены которой покрыты огромным количеством греческих и римских надписей, и увлёкся их чтением. В то время как он копировал их, его взял за плечо осанистый кардинал и, спросив его, что он тут делает, прямо попросил его читать надпись, перед которой они стояли. Юноша без смущения стал читать и только в одном месте сказал, что прочесть невозможно. Кардинал подошёл ближе и увидел, что прочесть действительно невозможно. Это был знаменитый Анджело Май, названный Леонарди 1’italo ardito, глубокий знаток античности и счастливый угадчик славного в филологии палимпсеста Цицероновой Республики. С этой случайной встречи началась дружба молодого де-Росси с кардиналом-учёным.
Такой же случайной встрече он обязан своим окончательным вступлением в катакомбы. Повинуясь отцу, в Университете он изучал юридические науки, но только всего себя посвящал христианских древностям. Он ходил по старым римским церквам, по Кампанье, и везде со страстью собирал древние надписи. Друзья острили над ним, что он гоняется за „камнями“. Вход в катакомбы был настрого воспрещён ему отцом, ибо о катакомбах тогда ходили по Риму странные и страшные легенды. Открытые и изученные Бозио в XVII веке, катакомбы пришли в полное забвение в течение XVIII века. Вокруг де-Росси говорили, что катакомбы беспредельны и имеют выход к морю, что в них скрываются самые ужасные злодеи, что в них заблудившись погибла заживо погребённая целая компания смельчаков. Около Сант-Аньезе на Иоментанской дороге был известен тогда маленький ипогей, изучением которого был занят о. Марки. В день, когда в нём происходило богослужебное поминание памяти мучеников, де-Росси отделился от толпы, углубился
—111—
в коридоре и стал усердно копировать находящиеся там надписи. О. Марки наткнувшись на него и поразившись его странным видом, спросил, для него он это делает. Двадцатилетний де-Росси просто ответил: „Для издания полного собрания всех христианских надписей“. Учёный монах засмеялся „наивности“ молодого человека, но когда привёл его к себе, когда порасспросил о его планах, когда увидал груды эпиграфических материалов, расклассифицированных с той строгой научностью метода, которая потом составила всеми признанное достоинство монументальных эпиграфических изданий де-Росси, – то был чрезвычайно и восторженно удивлён, сделал де-Росси своим сотрудником, а через 15 лет скромно уступил гениальному исследователю издание бессмертного Roma sotteranea, которое было предпринято с согласия Пия IX на средства католической церкви. Но о. Марки оказал де-Росси ещё бо́льшую услугу. Он уговорил и отца снять своё запрещение, дозволить юноше доступ в катакомбы, и скоро юный учёный, вооружённый глубочайшим знанием не только древнехристианской и святоотеческой, но и всей средневековой литературы, стал „обхаживать“ Аппиеву дорогу с определённой целью не просто найти какие-то катакомбы, а отыскать древнюю усыпальницу римских епископов эпохи гонений. Такая определённость была настолько интуитивной и творческой, что даже о. Марки считал это юношескими бреднями. Но де-Росси, в первый раз сошедший в катакомбы в 1842 г., не оставлял своей мысли, с упорством и внутренней уверенностью гения. Учёный бенедиктинец Геранже был свидетелем странного вдохновения де-Росси. В 1850 г. де-Росси повёл его осматривать катакомбы Аппиевой дороги. В одном месте он вдруг остановился и указывая пальцем на какие-то тёмные массы земли, голосом вдохновенным и потрясённым (соn vосe enfatica e commossa) воскликнул, что именно здесь покоятся тела первых римских епископов и тело св. Цецилии. Это было настолько неожиданно, что Геранже перепугался, подумав, что де-Росси сошёл с ума, и стал убеждать его успокоиться. Когда начались раскопки, вдохновенная, почти мистическая интуиция де-Росси в точности оправдалась, о чём сам Геранже засвидетельствовал в новом
—112—
издании своей работы о мученичестве св. Цецилии. С этого времени начинаются триумфы христианской археологии. Более полувека трудится де-Росси, посвящая каждый день, каждую минуту своей жизни развитию и укреплению вызванной им почти-что из небытия новой дисциплины. Христианская эпиграфика, живопись, скульптура и архитектура первохристианства, миниатюры мозаики и arte cosmatesta, огромнейшие пространства катакомб – всё восстаёт из исторического забвения и восстановляется в памяти человечества. У де-Росси хватает ещё энергии создавать топографию древнего Рима, реконструировать всю „монументальную“ историю Рима, от хижин албанских пастухов вплоть до стен Аврелиана и Проба, воспитывать вокруг себя славную школу археологов и историков, наконец устраивать великолепный музей христианских древностей в Латеранском Палаццо.
В облике де-Росси есть ещё одна черта, которая по-особому высветляет его научное величие. Основной замыслы его – глубже и больше науки. Его пафосом было возвратить катакомбы Церкви и возвратить не в археологическом только смысле, но и в религиозном. И, казалось, в начале эта мечта была близка к осуществлению в каких-то огромных, всемирно-исторических размерах. Де-Росси начал свои великие открытия с благословения папы. Ему не только отпускались суммы и щедрая материальная поддержка. Когда была раскопана усыпальница мучеников-пап первых веков на всех надписях они зовутся просто епископами, – весь католический Рим был живо взволнован этим чрезвычайным событием. Откопаны живые и святые корни, от которых оторвалось папство, сначала тайно и мистически, в отделении от единства Вселенской Церкви в XI веке, а затем явно и исторически, в эпоху Возрождения, начавшегося для католичества 70-летним „Вавилонским пленением“ в Авиньоне, и снова открылась перед католичеством возможность покаяться в своих исторических грехах, и тем вернуться к единству церковному с православным Востоком. Тогда произошло знаменательное событие, запечатлённое в барельефе и так передаваемое Марукки, который слышал его из уст самого де-Росси:
—113—
„11-го мая. 1854 года старая Аппиева дорога увидала необычное. зрелище. Длинная вереница кардинальских и епископских карет двигалась в этих пустынных местах, направляясь, к месту, недавно приобретённому апостолическим правительством. Среди развален античных гробниц сходил Пий IХ, окружённый, своим двором и археологической комиссией, для того, чтобы увидеть новые открытия в катакомбах. Все спускавшиеся в эти святые пространства, вновь обретённые после стольких веков заброшенности, – были объяты волнением. В то время как де-Росси дрожащим голосом восстановляла перед Пием IX мраморные фрагменты, надписей Антера, Фабиана, Люция, Евтихиана, папа не мог удержаться, от слёз и в растроганности поцеловал надгробные эпиграфы своих славных предшественников. Это было торжественным моментом, и великий археолог никогда, до самых последних дней жизни своей, не мог вспомнить об нём без живого волнения“. И мы читаем с волнением об этом событии; только волнение наше совсем другое. Мы думаем: Какая великая возможность приблизилась к католичеству и как бессильно погасла. Пий IX сошёл в катакомбы, заплакал и ... вышел. Ведь в то время как де-Росси без перерыва делал свои открытия и обнажал всё с большей ясностью святое прошлое римского христианства – в это время в Риме шли деятельные приготовления к Ватиканскому собору, на котором должны были в догмат возвести основной грех католичества. С одушевлением католика Марукки может рассказывать о „сошествии Пия IX в катакомбы“, совершенно не замечая трагической стороны итого события. Откуда эти „столько веков заброшенности“? Почему гений археолога должен был открыть Риму его святыни? Разве мыслимо у нас, на Востоке, чтобы археолог открывал мощи пр. Серафима или гробницу пр. Сергия? Ответ ясен; археолог понадобился потому, что потомство забыло свои святыни, исторически оторвалось от их питающих корней. Отрыв нагляден и очевиден. Катакомбы забылись папством не потому, что были нашествия и завоевания, которые бы оправдали внешними соображениями оставленности катакомб. Нет, Римом владели папы с полнотой светской власти и катакомбы поэтому были всегда
—114—
в их распоряжении. Катакомбы забыты были папством с такой же внутренней неоправданностью, с какой после Авиньонские папы оставили древний, заслуженный перед церковью Латеран и переселились в совершенно новый без-традиционный Ватикан, или, ещё лучше, с тем же религиозным вандализмом, с которым папы „высокого“ Возрождения ломали древнюю Константиновскую базилику св. Петра, полную чудес христианского искусства Средних Веков, для того, чтобы заменить его пышным, холодным, бездушно-грандиозным и нехристианским современным собором San Pietro.
И всё же, я думаю, открытие катакомб – не только археологический факт для католичества. Если он не принят во всём объёме своего религиозного значения, то можно с радостью сказать, что он не прошёл и совсем бесследно. Открытие и изучение катакомб было незаменимой школой честного исторического исследования, стадием, в котором окрепла и сформировалась возродившаяся в католичестве за ХIХ-й век интеллектуальная совестливость, подавленная иезуитизмом. В современном католичестве существует тип свободного и внутренне убеждённого учёного – существует мысль существенно христианская и существенно независимая от Ватикана. Эксцессы осуждённого модернизма не могут убить это внутренне-освобождающее течение в католичестве, и оно не может в своё время не принести благого плода. И сильный толчок это течение получило из катакомб...
В. Эрн
Сахаров Н. Н., свящ. Кризис в немецком протестантстве (1910–1912 гг.) // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 115–146 (2-я пагин.). (Начало.)
—115—
I. Ортодоксалы и либералы
В целом ряде очерков религиозной жизни в Германии, печатавшихся в „Богословском Вестнике“ (начиная е 1903 года), мы проводили ту общую мысль, что протестантство в Германии медленно, но неизменно приближается к разложению, что антагонизм между консервативным (оно же ортодоксальное, позитивное) и либеральным течениями в нём зашёл так далеко и коснулся столь жизненных пунктов, что о примирении не может быть и речи, и все меры, принимаемые в этом направлении высшей церковной властью, способны лишь замедлить, но не остановить надвигающегося раскола291. Последние годы вы-
—116—
двинули несколько новых фактов, подтверждающих эту мысль: разумеем, прежде всего, учреждение особой, так называемой, „церковно-судебной коллегии“ (Spruchkollegium), а затем – многочисленные судебные процессы над либераль-
—117—
ными пасторами, с сопровождающими эти процессы спорами и раздорами. Факты эти настолько красноречивы, что сама
—118—
немецкая печать не может скрыть своих опасении по поводу приближающегося кризиса, и этому обстоятельству нужно придавать особенное значение, так как современные немцы, очарованные своими победами, – и военными, и культурными, – всего менее способны к самокритике, и если они сами начинают вскрывать свои церковные и религиозные язвы, то, значит, дело, действительно, плохо. К сожалению, сознавая самый факт разложения, протестанты не могут или не желают сознать истинных причин этого факта. В образовавшихся невыносимых условиях церковной жизни обе партии винят одна другую; ортодоксалам кажется, что сто́ит удалить из церкви вредные либеральные элементы, – и мир в протестантстве будет восстановлен; либералы, наоборот, видят спасение в устранении всех ограничений и стеснений в области веры и с этой целью проповедуют отделение церкви от государства, преобразование нынешней государственной церкви (Landeskirche) в народную (Volkskirche), с предоставлением каждой общине (приходу) полных прав организоваться и управляться по своему усмотрению. Но ни те, ни другие не понимают, или не желают понять, что корень зла лежит гораздо глубже, в самом протестантстве, в тех ложных предпосылках, на которых основана была немецкая реформация. Ложь этих предпосылок рано или поздно в историческом развитии – должна была сказаться, и, если не ошибаемся, этот трагический момент наступает именно теперь, спустя четыреста лет после введения реформации.
Антагонизм между ортодоксалами и либералами, начав-
—119—
шиийся давно и то усиливавшийся, то ослабевавший, за последние годы достиг особенного направления. Раздор на этот раз произошёл из-за вопроса о том, может ли протестантский пастор проповедовать с церковной кафедры и вообще в своей служебной деятельности всё, что ему заблагорассудится, или он обязан придерживаться церковного учения: другими словами, – допустим ли в современном протестантстве безграничный субъективизм, или существуют, – по крайней мере, для пасторов, как общественных деятелей, – известные обязательные границы, и где искать этих границ и кто̀ их определяет. В Православной Церкви (а равно и в католической) такого вопроса, собственно говоря, не существует: не только православный священник, но и православный мирянин, открыто и упорно отвергающий церковные догматы, т. е. формулированное Церковью учение Христа, почерпнутое из Св. Писания и Св. Предания, общепризнанное и общеобязательное, тем самым исключает себя из числа православных и церковной властью, также общепризнанной и богоучреждённой, отлучается от Церкви. Когда графа Толстого отлучили от Церкви, то принципиального вопроса о церковно-юридической состоятельности или несостоятельности этого деяния, насколько нам известно, не поднималось вовсе; говорили о великих заслугах писателя для отечественной литературы и, следовательно, для народа, о его личных качествах, о тяжёлых религиозных и нравственных условиях современной жизни и о других обстоятельствах, которые могли бы, по мнению некоторых, изменить, или смягчить приговор, но в праве исключать из своей среды упорствующих еретиков никто, кажется, Православной Церкви не отказывал. Далеко не так ясно и просто обстоит дело в протестантстве. Желая исправить ошибку средневекового католичества, исказившего Св. Предание и злоупотреблявшего им, немецкие реформаторы, лишённые единения и руководительства Восточной Церкви, впали, как известно, в противоположную крайность: они отвергли вообще догматическое значение Предания, оставив христианину одно Писание и предоставив каждому толковать его по своему крайнему разумению. В своё время эта реформа Лютера и
—120—
его сотрудников явилась своего рода откровением и стяжала им много последователей, тем более что священные книги в католичестве, действительно, были почти недоступны и мало известны в широких кругах народа; протестанты гордились тем, что они дали народу Слово Божие, разрушили „преграду, тяготевшую между человеком и Богом“ в виде человеческих измышлений (Предание), дали возможность каждому христианину жить и спасаться в непосредственном общении с Богом и т. д. Но все эти и подобные им громкие фразы могли производите впечатления лишь тогда, когда авторитет, подлинность и состав писанного Слова Божия признавались всеми беспрекословно, и когда оно, – по крайней мере, в главнейших пунктах, – толковалось более или менее однообразно. Но, с появлением и быстрым развитием историко-критического направления, в протестантском Богословии, когда Библия низведена была в ряд обычных историко-литературных памятников, когда повествования Апостолов, стали рассматриваться лишь под углом мировоззрения их времени, когда не только отдельные места из Нового Завета, но и целые книги, входящие в состав его, признавались неподлинными, позднейшими вставками, искажениями и пр., – тогда, естественно, и само понимание учения Христа, – поскольку это понимание основывается на Св. Писании, – должно было существенно измениться. И чем, дальше шла разрушительная работа научной критики, чем, глубже в, народные массы проникало влияние „модного“ Богословия, тем более увеличивалась пропасть между воззрениями тех, которые ещё пытались сохранить Новый Завет в неприкосновенности, и тех, которые увлечены были новыми течениями. Дошло до того, что уже весьма, многие протестанты отвергли (или толкуют, символически), не только отдельные факты евангельского повествования, как напр., чудеса, приснодевство Божией Матери, сошествие Господа во ад, телесное воскресение из мёртвых, вознесение и пр., но – и всю сверхъестественную сторону Евангелия и Божество Спасителя, а некоторые, как напр.. проф. Древс, пастор Кальтгоф, проф. Иенсен и др., ухитряются, – на основании того же самого Св. Писания, – отрицать само историческое существование Иисуса Христа. И
—121—
всё это – открыто, публично, на лекциях, на рефератах, в печати. Положение протестантской церковной власти, призванной блюсти единение „евангельской“ церкви, становилось крайне затруднительным. С другой стороны, не может быть сомнения в том, что всякая церковь, – как и всякое общество, – должно иметь известные основные нормы, не только определяющие сущность мировоззрения её членов и отграничивающие её от других церквей и обществ, но и обусловливающие её существование; если понятие протестантства настолько туманно и растяжимо, что может вместить в себя и людей, отрицающих Божество Христа и даже историческое существование Его, то почему не может быть назван протестантом и католик? Различие между католиком и консервативным протестантом, во всяком случае, не больше, чем между последним и протестантом радикалом. Но в таком случае в корне, подрывается весь смысл существования протестантства, и вся работа Лютера и его сподвижников сводится к нулю. С другой стороны, отвергнув авторитет Св. Предания и толкнув своих единомышленников на путь полного произвола в толковании Св. Писания, Лютер и прочие реформаторы тем самым узаконили, так сказать, всевозможные толки и секты в среде протестантства. Правда, вынужденные обстоятельствами, они формулировали своё догматическое учение в так наз. символических книгах292, которые являются, таким образом, своего рода протестантским преданием, церковным исповеданием веры. Но эти книги никогда не имели для протестантов (за исключением разве небольшой группы крайних ортодоксалов) такой обязательной силы, как для православных Св. Предание293: точно выражая веру протестантов XVI века. Они, по общему в Германии убеждению, сильно
—122—
устарели для современного члена евангельской церкви и в полном объёме едва ли кем признаются. Наконец, в протестантстве, опровергнувшем богоучреждённую иерархию и признавшем „всеобщее священство“ (allgemeines Priestertum), нет и такой общепризнанной власти, которая была бы компетентна в определении истинного учения Христа и была бы вправе, принимать те или другие меры против искажающих это учение: все эти суперинтенденты, консистории и верховные церковные советы, генеральные, провинциальные и уездные синоды, пресвитерии, министерства духовных дел и прочие государственные учреждения по церковным делам могут быть весьма компетентны и полезны. в деле управления церковью, но в понимании Евангелия, с протестантской точки зрения, могут также жестоко заблуждаться, как любой протестант. Поэтому, в протестантстве не может быть церковных отлучений; каждый может проповедовать какое-угодно учение и формально всё-таки оставаться протестантом. Известный проф. Геккель 50 лет проповедовал монизм, основал особое общество, „Союз Монистов“, явно враждебное христианству, и, тем не менее, официально числился членом протестантской общины в Иене, пока, наконец, сам не догадался положить конец этой комедии и объявил о своём выступлении из евангелической церкви (1910 г.).
Положение церковной власти стало ещё тяжелее, когда и пасторы начали более и более переходить в либеральный лагерь. В сущности, это можно было легко предвидеть; все пасторы в Германии получили своё богословское образование в университетах, где добрая половина профессоров принадлежит теперь к либеральному направлению; заразившись на академической скамье модными идеями, молодые кандидаты богословия выступают с ними, естественно, и на церковной кафедре, и в школе, и в своей внеслужебной деятельности (печать, рефераты, частные беседы и пр.). Особенно много либеральных пасторов в настоящее время в северной части Германии, преимущественно в больших городах, в Берлине, Гамбурге, Бремене, Киле и пр. Дошло до того, что многие протестантские приходы разделились на две партии, каждая во главе с своим пастором; отношения между партиями, конечно, далеко не дру-
—123—
жественные, и антагонизм достигает особенного напряжения во время выборов пасторов, членов церковного (Kirchenrat) и приходского (Gemeindekirchenrat) совета и синодов. В воззваниях, которые при этом распространяются повсюду, на выборных собраниях, в журнальных статьях и пр., употребляются по отношению к враждебной партии и её кандидатам весьма нелестные выражения, и получается впечатление, как будто дело идёт не о членах одной и той же церкви и одного и того же прихода, а о людях другого христианского или нехристианского вероисповедания. При особенно бурных столкновениях, та или другая партия, или обе вместе, обращаются иногда с жалобой к церковной власти, но она обыкновенно оказывается бессильной предпринять что-либо решительное.
В качестве иллюстрации этого крайне болезненного явления в современном протестантстве приведём один интересный факт, имевший место весной 1912 года в Шарлоттенбурге (пригород Берлина)294. В приходе Св. Троицы преобладает в численном отношении либеральная партия, и ей поэтому удалось из пяти пасторских вакансий три заместить своими единомышленниками; остальных два пастора были консервативного направления. В начале 1912 г. один из консервативных пасторов умер, другой был перемещён; при новых выборах опять восторжествовали либералы, так что консервативная часть прихода осталась без пастора. 22 марта 1912 г. консервативные обратились в; Бранденбургскую консисторию с следующим весьма характерным прошением: „…В нашем приходе все пять вакансий замещены либералами и, таким образом, члены прихода, остающиеся верными учению церкви (bekenntnisstreue), лишены освящения в таинствах и духовного руководства в проповеди. Вступить в общение с либеральными пасторами, а равно присутствовать при их служении, мы не в состоянии. Не протестовали же мы против назначения их потому, что аналогичные протесты против других либеральных пасторов295 церковной властью оставлены были без последствий. Нам ничего не останется, как
—124—
только молиться, чтобы Господь внушил нашей церковной власти обратить внимание на всю серьёзность положения и на нужды верующих. Позволяем себе предложить консистории, не найдёт ли она возможным разрешить одному из соседних пасторов, верных учению церкви, раз в месяц проповедовать в нашей церкви, совершать таинство причащения, крестить и венчать. Если это окажется невозможным, то пусть консистория укажет другой путь для удовлетворения духовных нужд верных церкви протестантов. В особенности, мы просим консисторию позволить верным церкви пасторам четырёх соседних приходов подготовлять наших детей к конфирмации...“ В заключение указывается на то, что, не получая в своей церкви удовлетворения своих религиозных потребностей, верующие легко могут уклониться в секты и другие внецерковные общества. – В своём ответе на это прошение консистория высказывает свою радость по поводу проявленной авторами прошения высокой религиозной настроенности, но в просьбе им решительно отказывает: если им не по вкусу убеждения пасторов их прихода., то кто мешает им ходить в другие церкви для слушания проповедей и совершения таинств, а равно и детей своих посылать для обучения к другим пасторам, которые им более нравятся? – Таким ответом консервативные не могли, конечно, удовлетвориться и подали жалобу на консисторию в верховный церковный совет Oberkirchenrat – высшая инстанция в Прусской протестантской церкви старых провинций)296; к ним присоединились и ортодоксалы ещё восьми приходов Берлина, находящиеся в таком же печальном положении, т. е. составляющие меньшинство в приходе (таких оказалось до 300,000 человек, если верить авторам жалобы). Тон жалобы уже более решительный, чем в прошении: церковная власть обязана так или иначе исполнить желание консервативных; протестанты, остающиеся
—125—
верными исповеданию своей церкви, имеют полное право оставаться в своём приходе и их нельзя гнать в другие приходы в угоду либералам, которые искажают Св. Писание и отрицают учение церкви и, в частности, Апостольский символ веры... – Ответил ли в. ц. с. на эту жалобу и что именно ответил, мы не можем сказать, но уже сам факт подачи этой жалобы достаточно характеризует, современное тяжёлое положение „евангелической“297 церкви; протестанты одного направления отказываются от церковного и религиозного общения с пасторами другого направления, не желают слушать их проповедей, не доверяют им своих детей; а консистория, вместо того, чтобы разобрать, дело и изгнать пасторов, отрицающих церковное учение, не находит ничего лучшего, как посоветовать „верующим“ протестантам ходить по другим приходам, где служат „верующие“ пасторы!
Когда либеральные выступления пасторов стали повторяться чаще и когда, вместе с тем, стали громче и громче раздаваться жалобы „верующих“, церковная власть присуждена была принять меры против усиливающегося либерализма, но эти меры были, – по крайней меры, на первых порах, – настолько нерешительны и слабы, что вызывали в обществе лишь насмешки и негодование: уж слишком ясно было, что церковная власть не чувствует под собой достаточно твёрдой почвы, не чувствует себя достаточно компетентной для суда над пасторами по догматическим вопросам и потому стремится во что бы-то ни стало покончить дело миром или как-нибудь замять возникающий раздор. Немало таких „замятых“ дел покоится в архивах консисторий и суперинтендентов, но некоторые стали известны и послужили темой для оживлённых суждений в печати и обществе. Об одном из этих дел мы говорим в своё время подробно298; разумеем дело пастора Фишера, о котором здесь достаточно напомнить в нескольких словах. Берлинский пастор
—126—
Фишер в октябре 1904 года, на собрании „Протестантского Ферейна“ (левое крыло либералов), прочитал реферат под заглавием: „Христианское учение при свете современной богословской науки и передача этого учения общине“299, где высказал, между прочим, следующие мысли: 1) чудеса, чудесные явления и вообще божественное откровение – старый предрассудок, 2) не Св. Писание, а „религиозный разум“ должно считать источником христианского учения, и 3) Христос был человеком, хотя и совершеннейшим, и Его жизнь и деяния – лишь один из моментов истории человечества; как человек, Он не должен быть предметом молитвы и поклонения. Реферат этот возмутил „верующих“, и они потребовали, чтобы консистория освободила церковь от такого пастора. Консистория, рассмотрев дело, упрекнула Фишера в том, что он своим рефератом оскорбил религиозное чувство верующих, но никакого наказания не наложила, ссылаясь на „богословскую незрелость и неопытность“ Фишера: „так как рассуждения Ваши“, писала Консистория: „производят впечатление не только недостаточной обдуманности, но и недостаточного богословского образования, ясности и зрелости, то мы считаем себя вправе предполагать, что Вы находитесь в переходной стадии развития и можете ещё, с Божией помощью, достигнуть истинного понимания сущности христианской религии...“ Чтобы понять весь комизм или, если угодно, трагизм этой консисторской уловки, нужно знать, что „находящемуся в переходной стадии развития“ пастору Фишеру в 1904 году было 57 лет, что он уже 33 года состоял на службе (10 лет – в Берлине) и что он – доктор Богословия! Верховный церковный совет, куда Фишер обратился с жалобой на консисторию (ему не понравилось, что консистория третирует его, как незрелого юношу), не только не нашёл решения консистории слишком снисходительным, но даже упрекнул её в том, что резким тоном своего решения она оскорбила Фишера!
—127—
2. Spruchkollegium
Вынужденная снисходительность консисторий и верховного церковного совета к еретикам-пасторам не могла продолжаться долго; она могла привести к полному упадку авторитета церковной власти и к быстрому разложению протестантства: либералы смеялись над слабостью власти, ортодоксалы возмущались и требовали более строгих и энергичных мер. Необходимо было найти такое средство, которое, с одной стороны, не противоречило бы принципам реформации, с другой стороны, помогло бы освободиться от наиболее вредных и беспокойных пасторов и восстановило бы церковный авторитет. Такое средство, как казалось, и найдено было Берлинским профессором – юристом Калем (Kahl), придумавшим особое, независимое от верховного церковного совета, церковно-судебное учреждение специально для суда над пасторами по вопросам веры, которое он назвал Spruchkollegium.300 По тому, как быстро проект Каля был принят и как энергично он был проведён в жизнь, можно судить, что нужда в судебной реформе была, действительно, велика, и что новое средство найдено было весьма удачным. В сентябре 1909 года проект Каля был представлен на рассмотрение двум провинциальным синодам (Рейнскому и Вестфальскому), а в октябре – Прусскому генеральному синоду и был ими принят единогласно и почти без изменения. В начале 1910 года проект был утверждён Прусским королём, как главой Прусской протестантской церкви, и восприял законную силу под именем „закона об ересях“ (Irrlehregesets). Опубликованный для всеобщего сведения в марте 1910 года (в главных чертах он стал известен ещё в конце 1909 года), он подвергся, конечно, оживлённому и всестороннему обсуждению в печати и в обществе, и надо признаться, что первое впечатление, произведённое им в Германии, было благоприятное: даже с либеральной точки
—128—
зрения, новый закон представлял собой, несомненно, шаг вперёд по сравнению с прежней практикой, когда заблуждения в вере судились тем же судом и подвергались тем же наказаниям, что и преступления против нравственности и общественного порядка. Об ортодоксалах и говорить нечего: они были рады, что, наконец-то, еретиков-пасторов будут судить более строгим и беспристрастным судом. Закон об ересях настолько характерен для современного состояния протестантства и важен для будущего развития его, что мы позволяем себе привести здесь в возможно-точном переводе несколько наиболее интересных параграфов301:
1. Заблуждения духовного лица в вере (Irrlehre eines Geistlichen) не подлежат дисциплинарному суду. Вместо того, вступает в силу новый церковный закон – в том случае, если на основании фактов станет очевидным, что духовное лицо в своей служебной или вне-служебной деятельности настолько разошлось с исповеданием церкви (mit dem Bekenntniss der Kirche dergesalt in Widerspruch getreten), что дальнейшая деятельность его в местной302 церкви (innerhalb der Landeskirche) является несовместимой с тем, что одно имеет значение для церковного благовестия, – с Словом Божиим, содержащимся в Св. Писании и засвидетельствованным в церковных исповеданиях веры (mit der für die Lehrberkündigung allein massgebenden Bedeutung des in der heiligen Schrift verfassten und in den Bekenntnissen303 bezeugten Wortes Gottes unvereinbar ist).
2. В указанном (§ 1) случае консистория должна прежде всего сделать попытку, – особенно через генерал-суперинтендента, – путём личной беседы устранить опасность. В случае неудачи она доносит об этом верховному церковному совету.
3. Верховный церковный совет наводит необходимые
—129—
справки; показания свидетелей могут быть отбираемы под присягой. Если в. ц. совет находит необходимым, дело передаётся на решение Spruchkollegium’a.
4. Одновременно с передачей дела в церковно-судебную коллегию или в течение судопроизводства, – в случае нужды и ранее, – в. ц. совет может устранить состоящего на службе пастора от служебных занятий, если эта мера окажется необходимой в интересах спокойствия общины. Вычета из жалованья, при этом, не производится, но помещение при церкви, назначенное для служебных занятий или, за неимением его, часть, церковной квартиры, а равно квартирные деньги предоставляются заместителю по усмотрению консистории; впрочем, издержки по заместительству могут быть покрываемы из церковного вспомогательного фонда.
5. По поступлении дела из в. ц. совета в ц.-с. коллегий, председатель последней поручает одному из членов её подготовить, – сообща с несколькими другими членами, – все необходимое для предварительного заседания суда, о чём извещается и обвиняемый.
6. На предварительное заседание приглашается обвиняемый для подачи объяснений; ему предоставляется право – в течение 4 недель (срок этот с разрешения председателя коллегии может быть продолжен), вместо устных объяснений или в дополнение к ним, подать письменное объяснение...
7. Акты предварительного заседания передаются председателю коллегии, который назначает срок для заседания коллегии, на каковое приглашается и обвиняемый,
8. Обвиняемому предоставляется право иметь одного или двух защитников, каковыми могут быть пасторы Прусской церкви или профессора богословия, или церковного права (протестанты) в немецких университетах. Обвиняемый и его защитники имеют право ознакомиться с относящимися к делу судебными актами.
9. Судебное заседание происходит и в том случае, если бы обвиняемый не явился.
10. На суде прежде всего докладывается сущность дела одним или несколькими докладчиками из членов коллегии по назначению председателя; затем выслушивается обвиняемый, а также приглашённые свидетели и эксперты; в
—130—
конце заседания выслушиваются заявления обвиняемого и его защитника; обвиняемому предоставляется последнее слово.
11. По окончании судопроизводства, члены коллегии в своём приговоре, – по искреннему убеждению, на основании данных судопроизводства, – объявляют доказанным (festgestellt) или недоказанным, что дальнейшая деятельность обвиняемого пастора в пределах Прусской церкви несовместима с его отношением к исповеданию церкви (dass eine weitere Wirksamkeit des Geistlichen innerhalb der Landeskirche mit der Stellung, die er in seiner Lehre zum Bekenntnisse304 der Kirche einnimmt, unvereinbar ist). Приговор объявляется или сразу по окончании заседания, или позднее, в особо назначаемый срок. Мотивированный приговор посылается в в. ц. совет для передачи обвиняемому.
12. Присяжный протоколист, назначаемый председателем, составляет протокол заседания, отмечая имена участвовавших, а равно ход процесса и решение в существенных чертах; протокол подписывается председателем и протоколистом.
13. С разрешения председателя, на заседание допускаются и лица, не принимающие участье в судопроизводстве. Допускаются также два члена церковного совета (или пресвитерия, или представитель патроната) той общины, в которой обвиняемый состоит пастором.
14. Обвинительный приговор (§ 11) ведёт за собой отрешение осуждённого пастора от должности и лишение его прав духовного сословия. Жалованье или пенсия оставляются осуждённому до истечения того месяца, в котором представлен был ему мотивированный приговор.
15. Если пастор в силу приговора (§ 14) отрешается от должности, на которой он по закону или в силу особого соглашения имел к этому времени права на пенсионный фонд Прусской евангелической церкви или принадлежал к пенсионной кассе, то с указанного в § 14 срока ему выдаётся из пенсионного фонда ежегодная пенсия в том размере, в каком он получал бы пенсию, если бы в это время вышел в отставку. Размер пенсии определяется в. ц. советом. Если осуждённый пастор находится
—131—
уже в отставке, то пенсия, получаемая им, сохраняется за ним. Если же пастор ко времени суда был на службе и затем, отрешённый от должности по суду, поступил на другую общественную должность с жалованьем, то он теряет право на пенсию, коль скоро размер нового жалованья вместе с пенсией превышает жалованье, которое он получал до суда; если же он был уже в отставке, то он теряет, при вступлении на новую должность, право на пенсию, коль скоро новое жалование не меньше пенсии. Пенсия может быть, по определению в. ц. совета сокращаема или отнимаема на более или менее продолжительное время, коль скоро бывший пастор получит какой-либо другой постоянный заработок. Пенсия отнимается в случае таких проступков со стороны бывшего пастора, которые повлекли бы за собой отрешение от должности или лишение прав духовного сословия по дисциплинарному суду или в силу закона, если бы он состоял на службе. По смерти его пенсия выдаётся наследникам в течение трёх месяцев,
16. Вдова и дети бывшего пастора получают законную пенсию, если умерший ко времени объявления приговора над ним принадлежал к пенсионной кассе для вдов и сирот духовенства и если он в течение трёх месяцев после передачи ему мотивированного приговора примкнул к пенсионному фонду Прусской евангелической церкви ежегодным взносом 2% своей законной пенсии... [Далее – правила о порядке судопроизводства в случае протеста против назначения пастора, – по причине догматических заблуждений его, – переходящего из другой церкви или прихода (§§ 21–25), а равно против назначения кандидата в пасторы (§§ 26–28)].
29. Церковно-судебная коллегия (Spruchkollegium) заседает в резиденции в. ц. совета. Она состоит из 13 членов: 1) председатель её – президента в. ц. совета или его заместитель; 2) и 3) вице-президент в. ц. совета из духовных лиц и светский заместитель президента в. ц. совета, или, в случае их отсутствия или выбора одного из них в председатели, – замещающие их члены в. ц. совета; 4) старший по службе член в. ц. совета из духовных лиц, а за его отсутствием или выбором в председатели, – следующий по рангу член в. ц. совета из духовных; 5)
—132—
и 6) два назначаемых королём, – но рекомендации в. ц. совета, – профессора богословия одного из Прусских университетов или их заместители; 7), 8) и 9) три члена Прусского генерального синода по выбору, 10) местный генерал-суперинтендент, которого в случае надобности замещает другой генерал-суперинтендент или советник консистории из духовных лиц по старшинству службы; 11), 12) и 13) три члена провинциального синода по выбору.
30. Члены, не принадлежащие к коллегии в силу своей должности, назначаются или выбираются на шесть лет.
32. Для решения дела, необходимо присутствие всех членов коллегии. Обвинительный приговор по смыслу § 11-го действителен только тогда, когда за него будет подано большинство, по крайней мере, двух третей общего числа голосов (т. е. 9 голосов). –
Мы уже говорили, что на первых порах новое учреждение встречено было сочувственно обеими враждующими сторонами: правые надеялись, что еретичествующие пасторы не будут теперь оставаться безнаказанными, и церковь постепенно освободиться от их вредного влияния; левые были довольны тем, что дисциплинарный суд над пасторами либерального направления, нередко оскорбительный для их самолюбия, теперь отошёл в область преданий, и предполагали, что новый, независимый от церковной власти, суд, при участии людей науки, окажется более верным принципам реформации и признает равноправие в протестантстве всех богословских направлений и всех церковных партий. Довольны они были и тем, что в уставе коллегии проявлено достаточно заботливости о материальной обеспеченности пастора и его семьи, на случай отрешения его от должности. Но это было лишь первое впечатление. При ближайшем ознакомлении с условиями нового суда и, в особенности, в виду первых действий его, отношение к нему изменилось; надежды, возлагавшиеся на него, не вполне оправдались, и против него поднялась сильнейшая агитация с обеих сторон.
Прежде всего, новое учреждение подвергнуто было строгой критике с юридической точки зрения. Выразителем либеральных взглядов в этом отношении явился пастор Трауб (из Дортмунда), который в журнале „Christliche
—133—
Freiheit“305 заявил, что учреждение сие незаконно с точки зрения Прусского законодательства, для которого не существует отрешения от должности, как наказания за ересь, незаконно и с точки зрения протестантского церковного права, которое не допускает никакого непогрешимого органа в церкви и не знает никакой ереси: коль скоро Св. Писание признаётся единственным источником вероучения, а этот источник подлежит непрерывному научному исследованию, то ясно, что в протестантстве не может быть законченного раз на всегда учения; в этом и состоит главнейшее отличие свободного протестантства от непогрешимого папства. Кроме того: ни одно законодательство в мире не знает судебной инстанции, которая была бы и первая, и последняя вместе, каковой является коллегия, – единственная и безапелляционная; это – своего рода юридический уникум. – Другой либеральный богословский журнал, „Chronik der Christlichen Welt“306, указывает на непримиримое противоречие, в которое впадает сама церковная власть, учредившая суд над пасторами по вопросам веры: сам в. ц. совет, как это явствует из заседаний шестого Прусского генерального синода, торжественно заявил, что символические книги нельзя считать протестантским кодексом веры (Glaubenskodex), и признал возможность более обстоятельной и правильной формулировки содержащихся в них истин (Verhandlunden der sechsten Generalsynode über das Kirchengesetz... S. 106). Далее, тот же синод установил, что вопрос о том, насколько пастор отступает от учения церкви, неразрешим юридически на почве протестантства (ib. S. 40). Другими словами, нет никакой объективной нормы для такого или иного приговора коллегии. Но в таком случае напрасно ссылаются на церковное исповедание веры, т. е. на символические книги, так как никто из членов коллегии (состав коллегии был уже известен журналу „Chronik d. Chr. Welt“) не мыслит и не верует так, как мыслили и веровали в XVI веке, в эпоху составления этих
—134—
книг; и притом, если бы проэкзаменовать самих судей так, как они собираются экзаменовать либеральных пасторов, то окажется, несомненно, что они и сами не согласны между собой в догматических воззрениях, и можно сказать, что у 13 членов коллегии окажется 13 разных исповеданий веры.
Консервативные протестанты обратили, главным образом, внимание на то, что, в силу § 1 нового закона, еретичествующий пастор привлекается к суду не во всех тех случаях, когда он отступает от церковного исповедания веры, а только тогда, когда он настолько разошёлся с этим исповеданием, что дальнейшая деятельность его несовместима с служением Слову Божию, т. е. весь смысл § 1-го заключается в слове „настолько“ (dergestalt), в той границе, которая разделяет дозволенное отступление от недозволенного. Но где же, в каком исповедании веры, обозначена эта граница, и как, по каким признакам и на каких основаниях, будет определять её коллегия? И не будет ли, из-за этой неопределённости, ущерба для церковных интересов в угоду модному либерализму? Закон, как бы намеренно, избегает точного определения того, в чём состоит норма евангелического учения и как далеко нужно отступить пастору от этой нормы, чтобы подвергнуться суду; даже само слово „исповедание“ в одном случае (в конце § 1) употреблено во множественном числе и в двух случаях (в начале § 1 и в § 11) в единственном.
Далее, почти общий ропот вызвали правила о составе коллегии (§ 29). Верховный церковный совет в своей объяснительной записке к проекту нового закона, поданной в 1909 году Вестфальскому и Рейнскому синодам, указывал на то, что в лице коллегии имеется в виду создать такой орган, который представлял бы собой всю евангелическую церковь и был бы, таким образом, самым компетентным и авторитетным судьёй над либеральными пасторами. Для этой цели, кроме представителей церковной власти и синодов, приглашены и представители богословской науки, и выбор их, в целях беспристрастия, предоставлен самому королю. Посылая в коллегию лишь четырёх своих представителей, – говорится далее в за-
—135—
писке, – церковная власть добровольно сокращает свои прежние права, но совсем отказаться от участия в новом Суде она не находит возможным307. – В действительности же оказывается, что жертва, принесённая в. ц. советом, вовсе не так велика: к четырём своим представителям он может с уверенностью присоединить не только генерал-суперинтендента, – что само собой разумеется, – но и обоих профессоров, так как они, хотя и назначаются королём, но рекомендуются королю в. ц. советом, который имеет полную возможность выбрать только удобных для себя. Что же касается синодов, то они обыкновенно являются послушным орудием в руках церковной власти, и из шести синодальных членов всегда найдётся, по крайней мере, двое, которые не решатся противоречить высшему органу церковного управления. Таким образом, в силу закона, девять голосов, т. е. необходимое для обвинительного приговора большинство, всегда обеспечено для в. ц. совета, и если прибавить к этому, что председателем коллегии, которому, по закону, предоставлены значительные полномочия, состоит, в силу того же закона, президент в. ц. совета, то ясно, что независимость нового учреждения довольно проблематична; признав себя некомпетентным в решении вопросов вероучения и сложив тяжёлую ответственность с себя на новый суд, в. ц. совет, тем не менее, на деле остался по прежнему настоящим судьёй. Другое дело, если церковная власть не участвовала вовсе в новом суде, или участвовала не четырьмя, а, напр., двумя голосами, – чтобы не производить давления на других членов, – если бы, взамен этого, увеличено было число представителей науки, и выбор их предоставлен самим университетам, и если бы в судьи приглашены были и представители той общины, к которой принадлежит обвиняемый пастор, – тогда ещё можно было бы говорить о независимости коллегии и о представительстве, в лице её, евангелической церкви.
Многие, наконец, указывают и на ту неопределённость, которая допущена в первой стадии судебного процесса по новому закону: в силу §§ 1 и 2-го, консистория начинает
—136—
дело и передаёт его в. ц. совету, а в. ц. совет – коллегии, тогда, когда „на основании фактов станет очевидным, что пастор настолько разошёлся с учением церкви“... и т. д. Но кто же, какая инстанция решает, очевидна или не очевидна ересь пастора? Сама ли консистория, по собственному усмотрению и по собственной инициативе, может начать дело, или только в том случае, если на еретика-пастора поступает жалоба? И какая жалоба может служить достаточным поводом для начала судебного процесса? Либералы думают, что возбуждать дело можно только тогда, когда значительная часть прихода, несогласная с религиозными убеждениями своего пастора, подаёт жалобу на него, и притом лишь в том случае, если пастор выступал с этими убеждениями в пределах своей служебной деятельности. Если же жалуется посторонний для прихода человек, или аноним, или другой пастор по излишней ревности к интересам церкви или по личным счетам с коллегой, или двое-трое прихожан, – также, может быть, из-за чего-либо поссорившихся с пастором, – а равно, если обвинение касается внеслужебной деятельности его, – то на такие жалобы не следует обращать внимания.
Нападки либералов на Spruchkollegium ещё более усилились, когда, – через год после учреждения, – новый суд открыл свои действия. Первым пастором, который привлечён был к суду коллегии, был Кёльнский пастор Ято. На этой первой жертве нового закона необходимо остановиться подробнее: столько шума, и озлобления столько страстной полемики, сколько вызвал процесс Ято, не вызывало ни одно событие в жизни немецкого протестантства за последние годы.
3. Пастор Ято (Karl Jatho)
Ято родился в 1851 году, на службу поступил в 1876 г.: следовательно, ко времени суда над ним ему был 61 г. и он состоял на службе целых 36 лет. Таким образом, мы имеем дело не с юным, увлекающимся проповедником, а с почтенным церковным деятелем установившихся убеждений и широкого жизненного и служеб-
—137—
ного опыта. Замечательно, что по первым годам его службы никак нельзя было предполагать, что из него выйдет человек крайних убеждений. Свою деятельность он начал в Бухаресте; там, в немецкой протестантской колонии, уже давно шёл разлад между либералами и консервативными. Когда он прибыл на место своего служения, его спросили, к какой партии он принадлежит; он дал уклончивый ответ, что может проповедовать и либерально, и позитивно, но примкнул к позитивным и в течение всей своей Бухарестской службы вёл упорную борьбу с своим либеральным коллегой. В 1881 году он председательствовал на собрании консервативных пасторов и, между прочим, просил присутствовавших оказать ему помощь в этой борьбе. Точно также и на втором своём месте, в Боппарде, он считался „верующим“ и даже в Кёльн он был приглашён именно консервативным меньшинством, которое в молодом блестящем проповеднике и весьма энергичном пасторе надеялось найти защитника против либерального большинства. Надежда эта не осуществилась. В Кёльне именно с Ято произошла резкая метаморфоза: „из Павла сделался Савл“308. Вращаясь в либеральных слоях общества, которые в Кёльне преобладают, он стал поддаваться либеральным веяниям, стал оставлять постепенно одно за другим свои прежние верования, пока его экспансивная, страстная натура не довела его до последних крайностей: в протестантстве немало пасторов, отрицающих те или другие основы христианства, но так далеко, как Ято, не заходил ещё ни один пастор. Не отличаясь никогда глубиной философского мышления и не будучи в состоянии критически отнестись к модным теориям, Ято сильно увлёкся монистическими идеями, а также выводами модного критического Богословия, и, желая, очевидно, примирить христианство с новыми веяниями и через то спасти для церкви современных маловеров, выработал в себе, какое-то странное
—138—
мировоззрение, – или, точнее, обрывки мировоззрения, – в котором можно легко распознать влияние модных богословских, философских и натурфилософских идей, но трудно узнать христианство. С этим мировоззрением он свободно выступает и в проповедях, и в рефератах, и в школе, и в печати, и так как он отличается совершенно исключительным ораторским талантом и заслуженно пользуется славой энергичного пастора, хорошего семьянина и простого, доброго человека, то неудивительно, что он приобрёл в Кёльне огромное влияние; церковь, в которой он проповедовал, всегда была полна, тогда как его коллегам приходилось ораторствовать перед пустыми скамьями. И чем больше росла его популярность, тем больший вред приносил он протестантству своими радикальными воззрениями.
Жалобы на Ято стали поступать в консисторию от „верующих“ членов его паствы ещё с 1905 года и не прекращались до 1911 года. Неоднократно, – в ответ на эти жалобы, – местный генерал-суперинтендент в личной беседе увещевал Ято, неоднократно созывался пресвитерий (церковный совет) общины, чтобы обсудить меры к устранению соблазна, неоднократно консистория и в. ц. совет посылали ему предупреждения, выговоры, угрожали дисциплинарным судом, – ничто не помогало309. Ято смело и открыто проповедовал своё учение и на службе, и вне службы. Примером того, как решительно и даже вызывающе действовал Ято и как робко выступала церковная власть, надеявшаяся уладить дело тайком, служит следующая оригинальная переписка.
Враждебное евангелической церкви общество „Друзей евангелической свободы“ (Freunde der christlichen Freiheit) пригласило Ято прочитать реферат в Бармене на пасхальной неделе 1910 года. Узнав об этом, Барменский Синод письмом от 23 марта 1910 г. просил Ято отказаться от приглашения и не вызывать соблазна в церкви. Ято ответил на другой день, что не признаёт за синодом
—139—
права делать ему какие бы то ни было указания, и обещанный реферат в Бармене был прочитан. Синод пожаловался Кобленцской консистории, которой Ято был подчинён. Консистория поручила (19 апр. 1910 г.) члену Кёльнского синода, пастору Шмидту, переговорить с Ято; тот ответил (17 мая 1910 г.) Шмидту письменно, что к письму, от 24 марта 1910 г. прибавлять ему нечего, а о собрании в Бармене, на котором он читал реферат, он вспоминает с радостью. Тогда консистория поручает (11 июня 1910 г.) тому же Шмидту взять у Ято экземпляр его реферата. Ято отвечает (16 июля), что реферата он не может прислать, так как говорил экспромтом, а не по тетрадке, но может послать вырезку из газеты, где правильно передано содержание реферата, и т. д....
Этого-то пастора Ято и решено, прежде других, привлечь к суду ново-учреждённой судебной коллегии. Консистория передала дело в в. ц. совет. В. ц. совет обратился к Ято 7 января 1911 года с обширным посланием, в котором, отметив заблуждения его и перечислив все напрасные попытки церковной власти вразумить его, объявляет, что дело перенесено будет на суд коллегии, и потому Ято предлагается ясно и обстоятельно ответить, действительно ли находящиеся в его сочинениях и проповедях и резко отступающие от учения христианства мысли его 1) о Боге и творении мира, 2) о религии и значении христианства, 3) о грехе, 4) об Иисусе Христе, 5) о загробной жизни, – выражают его убеждения по этим вопросам и если это так, то 6) остаётся ли он при этих убеждениях. Для ответа дано было две недели сроку.
26 января 1911 года последовал со стороны Ято ответ, который, сообразно с вопросами в. ц. совета, разделяется на 6 пунктов. Ответ краток и ясен и не оставляет ни малейшего сомнения в истинных убеждениях обвиняемого. Читая его, нельзя не удивляться, как мог Ято считать себя христианским проповедником и как могла христианская община терпеть в своей среде десятки лет такую проповедь! Поистине, плачевно состояние той церкви, в которой подобные духовные лица, прикрываясь своей принадлежностью к этой церкви и своей высокой должностью, не только распространяют свои идеи, имеющие
—140—
весьма мало общего с Христовым учением, но ещё и пользуются широкой популярностью310!
1. Свой ответ Ято начинает оговоркой, что в своих проповедях и беседах с паствой он, упоминая о Боге, говорит обыкновенно языком религиозной символики и лишь в исключительных случаях прибегает к точным выражениям в роде тех, на которые указывает в. ц. совет в своём послании: хороший проповедник должен говорить только о том, что сам переживает, а религиозные переживания трудно поддаются формулировке. Своё понятие о Боге и об отношении Его к миру и человеку Ято определяет следующими выражениями, которые мы приводим в точном переводе:
„Бог есть вечное бывание“ (ewiges Werden), „безконечное развитие вселенной“, „нечто движущееся“ (das Bewegliche), „становящееся личностью лишь в человеческом „я“, всебытие (Allsein), в котором нет пропасти между Богом и человеком“, „нет различия по существу, но лишь многообразие и своеобразность силы и формы; и эта форма подчинена вечному изменению; она – лишь волна в бесконечном потоке, теснимая и теснящая, воздымаемая и воздымающая“... „Я отрицаю существование внемирового Бога и верю в имманентность Бога миру, так как верю в бесконечный и вечный мир. Бог развил, образовал мир из Себя, а не призвал его извне к бытию. Я не могу представить себе акта творения в определённое время, но деятельность Бога и есть вечное творение. И то, что катехизис называет Промыслом, называю законом необходимости жизни. Жизнь в широком смысле слова, общая и индивидуальная, органическая и неорганическая, духовная и материальная, нравственная и религиозная есть для меня полнота Божества (die Fülle der Gottheit) и эта полнота Божества воплощается
—141—
только в человеке“... „Только в тебе, человек, живёт Бог, как Бог, как святая, благословляющая, спасающая любовь“... „Только в любви человеческой сознаёт себя любовь Божественная, из бессознательной силы природы превращается в само-определяющую духовную силу“ и т. д.
Желая оправдать своё несколько оригинальное для христианского священника, – пантеистическое или монистическое – учение, Ято, в первых, говорит, что для него жизнь в Боге (Gottinnigkeit) важнее познания Бога (Gotteserlentniss), что вся его деятельность направлена к тому, чтобы вызвать в людях Божественную силу (Erweckung göttlicher Kraft); достигнет ли он этого через одобренное церковью представление о Боге, или через какое-либо иное, – для него совершенно безразлично. Во-вторых, Ято ещё раз подчёркивает, что может говорить о Боге лишь то, что лично пережил и испытал (и ссылается при этом на слова А. Гарнака об исключительном значении личной жизни и этики для веры, произнесённые им на конгрессе „Свободного христианства“ в Берлине в 1910 г.). Наконец, в-третьих, Ято ссылается на то, что познание Бога обусловливается современным представлением о мире. „Если бы мы“, говорит он: „сохранили до сих пор мировоззрение Библии, то и в понимании Бога, Его существа и отношения к нам могли бы исправно разделять патриархальные представления. Но библейское мировоззрение разрушено и никогда не восстанет, и мы, благодаря развитию философии, истории и естественных наук, принуждены искать новых путей для создания новой, соответствующей этому развитию идеи Бога и, по возможности, идти этими путями. Кто ещё насколько наивен, что может разделять древне-церковную веру в Бога, основывающуюся, главным образом, на признании чудес, тот пусть её и проповедует; но для кого антропоморфизм Ветхого и Нового Завета является лишь символической оболочкой истины, тот не должен этого замалчивать. Доверие, которое оказывает мне моя община, основывается, главным образом, на моём доверии к ней. – что я могу ей сказать всё, что у меня на душе. Раз это доверие поколебалось, раз между мной и моей паствой образуется средостение в виде подчинения внешним инстанциям, – вся пастырская деятельность моя пара-
—142—
лизуется. Следовательно, если я не слушался предостережений в. ц. совета и консистории, то не из-за самоволия или упрямства, а из-за внутренней невозможности“.
2. Религия, по мнению Ято, есть „культ идеи“, „развитие сознательного отношения жизни индивидуальной к общей жизни“, „освобождение от оков – чувственности,“ „стремление души к высшему“... „Такое определение религии“, говорит Ято: „не противоречит понятию о христианстве, как о религии богооткровенной: каждая историческая религия, по-моему, есть Божественное откровение; почему же не признать этого и за христианством? Но я оспариваю мнение, по которому христианская религия есть завершившееся во Христе откровение Божие, и думаю, что откровение Божие получило во Христе лишь своё начало, но и до сих пор не достигло своего завершения“... В доказательство этой последней мысли Ято указывает, прежде всего, на то, что всё закопчённое, завершившееся обречено на гибель: если бы человечество произвело из своей среды наивысшее существо, последнее откровение, то этим исчерпывалась бы жизненная сила и Божества, и человечества; если бы Иисус был завершением, то Он был бы концом, а не началом, не вторым Адамом. Далее, подтверждение своей мысли Ято видит и в Евангелии, особенно у синоптиков (Евангелие от Иоанна он, как и многие протестанты, не признаёт надёжным источником), где Иисус, – как установлено, будто бы, новейшей исторической критикой, – является не объектом Евангелия, а лишь проповедником его (здесь Ято снова ссылается на А. Гарнака). Иисус не о Себе проповедует, а о Царстве, Божием, и притом не о завершившемся, а лишь о будущем. И по смерти Иисуса, верующие ожидают этого Царства и пришествия Сына Человеческого, каковое ожидание до сих пор не осуществилось: мы всё ещё молимся: „да приидет Царствие Твоё“. Ято согласен признать, что христианство до сих пор в общем превосходило все остальные религии, что касается религиозной, нравственной и культурной жизненной силы, но, чтобы оно было единой истинной, единой имеющей право на существование религией, он отрицает. „Пусть все религии мира“, говорит он: „в мирном соревновании между собой работают над прогрессом, тогда и христианству представится
—143—
богатая возможность к многостороннему развитию своих сил“.
3. Ято не отрицает греха и виновности человека, но он не допускает мысли, чтобы человек родился в грехах и по природе был не способен к добру. В доказательство он указывает на некоторые выражения Спасителя, – о добрых людях, производящих доброе, о древах добрых, не могущих приносить плодов злых, о детях, которым принадлежит Царствие Божие, – где совершение добрых дел и достижение Царства Небесного не обусловлено предшествующим возрождением в крещении или иными таинствами и, следовательно, зависит от самой природы человека. Он указывает также на те места Евангелия, где Спаситель предъявляет Своим последователям высокие нравственные требования, не обусловливая исполнение их Божественною помощью; равно и в притче о блудном сыне, по его мнению, спасение представляется исключительно актом собственной воли человека. „Но если сын в этой притче“, говорит Ято: „стал свят (heilig) для своего отца, то почему для нас не может быть святым человек, с человеком – жизнь, с жизнью – мир, природа, всебытие?“ По мнению Ято, его взгляд на природу человека выше церковного учения, так как любовь к падшему человеку есть лишь сожаление, а сожаление всегда унизительно для того, кому оно оказывается, а любовь, исходящая из уважения и благоговения, возвышает нашего ближнего. Уважение к человеческой природе побуждает к самовоспитанию и самосохранению: сохранить цельную статую доставляет больше радости, чем починить разбитую. Кроме того, церковное учение о первородном грехе и о виновности, тяготеющей на всём человечестве через грех Адама, покоится всецело на библейском предании о рае и грехопадении. „Но кто же теперь среди учёных богословов“, спрашивает Ято: „верит в историческое существование Адама и Евы? Что в книге Бытия и в особенности в первых 11 главах её мы имеем дело с сагами, этого не отрицают теперь даже представители позитивного Богословия“...
4. „Что исторический Иисус“, говорит Ято: „жил интересами своего времени (mit Gegenwarts-interessen belastet), в
—144—
этом не может сомневаться никто, знающий Его по синоптикам. Назову лишь Мессианскую идею и ожидание второго пришествия и страшного суда, – два фактора, имевшие большое влияние на Него, но для нас имеющие лишь исторический интерес. Ожидание второго пришествия в такой форме, как оно представлялось Иисусу и первым христианам, не осуществилось и никогда не осуществится, а вместе с тем теряет всякое значение и идея Мессии, возникшая на иудейской почве и тесно связанная с народными представлениями о кончине мира“... Далее, Ято утверждает, что Иисус умер, отчаявшись в Своём деле (an Seiner Sache verzweifelnd gestorben) и в доказательство ссылается на свидетельства евангелистов Марка и Матфея, но какие именно места он имеет в виду, умалчивает. Образ Иисуса, „в Своём поражении побеждающего“ (im Unterliegen Siegenden), ему нравится более, чем образ Иисуса в Евангелии Иоанна. Раз в Иисусе невозможны были свойства низшего порядка, как-то: страх, заблуждение и пр., то не может быть речи и о победе духа над телом. Здесь Ято вновь опирается на А. Гарнака, который отрицает Божество Спасителя, так как оно противоречит, будто бы, историческому образу Иисуса. Ято признаёт за жизнью Спасителя исключительно только педагогическое значение для современного человека, в особенности для юношества. „Но если мы“, говорит он: „желаем, чтобы лицо Иисуса производило и религиозное действие, то следует изъять его из рамок истории и одухотворить; из личности должна быть создана идея Христа: это сделал Ап. Павел и все следующие за ним деятели христианства, и в этом должен подражать им и современный проповедник... Только идеи остаются в истории, события же – и лица со временем бледнеют, становятся неопределёнными и вообще для неочевидцев не могут быть восстановлены беспристрастно. Поэтому я проповедую Христа, как идею“,
5. О загробной жизни Ято, по его словам, много и серьёзно думал, но не пришёл ни к какому определённому результату. Ничего не говорит ему и Библия, так как в Ветхом Завете, по его мнению, вопрос решается отрицательно, а в Новом – крайне разнообразно и разноречиво. Для него стало ясно только, что современная популярная
—145—
вера в будущую жизнь совершенно отлична от веры первых христиан: первые христиане думали, что небо сойдёт к ним, а не они поднимутся на небо... То, что сохранилось ещё в Богословии и в философии из древнехристианской веры в воскресение и бессмертие, так обще и неясно, что не может удовлетворить людей более серьёзных: – вечное блаженство не может быть счастьем и вечная мука не может быть страданием, так как счастье и страдание всецело зависят от смены впечатлений... Поэтому он, Ято, в надгробных речах вовсе не упоминает о будущей жизни и предоставляет каждому думать по-своему. „Будем“, говорит он: „спокойно выжидать хода событий и готовиться ко всему без страха; если мы не пробудимся после смерти, – хорошо; если же кроме земной есть какая-либо другая форма личного существования, – также хорошо, ибо эта форма будет совершеннее. Во всяком случае постараемся пережить себя – и физически, и духовно – в других и передать им кой-что из нашей жизни, чтобы о нас осталось благодарное, жизненное и мирное воспоминание. Тогда мы возвратимся, – в самом реальном смысле слова, – к Богу, чтобы увеличить и углубить Его производительную силу“...
6. На последний вопрос в. ц. совета Ято дал весьма резкий ответ, „Вы требуете от меня“. писал он: „решительного ответа, остаюсь ли я при своих убеждениях. Неужели вы, высокочтимые господа, действительно желаете, чтобы я ответил отрицательно? Неужели могут быть полезны для протестантской церкви, – охранять которую вы призваны, люди, отказывающиеся от своих убеждений? Никогда! И я не откажусь от своих мыслей, пока меня доводами Библии или здравого разума не научать лучшему учению. Свои убеждения, добытые сорокалетним опытом, я буду исповедовать и распространять без страха и с радостью, ибо эти убеждения суть мой бог и мой мир, мой грех и моё спасение, моя слабость и моя сила. Я уверен, что, исповедуя их, я не расхожусь с основами христианской веры и христианской религии. Я расхожусь, правда, с Церковным учением в отдельных пунктах; но в этом-то и вопрос, – эти отрицаемые мной пункты составляют ли, действительно, основу христианской религии. Я утверждаю –
—146—
нет; вы, высокочтимые господа, скажете, вероятно, – да. Кто из нас прав, решить невозможно, так как в протестантской церкви нет для этого компетентной инстанции. Христианская религия есть историческая величина и потому нуждается в развитии и способна к развитию“311...
(Продолжение следует).
Священник Николай Сахаров
Berlin – Charlottenburg, Pestalozzisrasset, 99.
Декабрь 1912 года.
Флоренский П., свящ. Пределы гносеологии312: (Основная антиномия теории знания) // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 147–174 (2-я пагин.)
—147—
1. К каким бы теоретико-познавательным заключениям ни приходил исследователь знания, бесспорно то, что исходит каждому должно из одного, общего для всех теорий знания начала, а именно из содержащегося в самом акте знания раздвоения его на субъект и объект знания.
2. Раздвоение акта знания на субъект знания и на объект знания – эта первичная двойственность, в сущности, и составляет предмет исследования гносеологии. Это – тот punctum pruriens, то зудящее место, которое раздражает философствующее сознание и вызывает, в ответ себе, движение философской мысли. Двойственность, характеризующая акт знания, она-то и служит в теории знания началом Аристотелевского „изумления“, от которого зачинается и которым живёт философия. Поэтому, понятно, что истинное назначение теории знания – прекратить этот зуд, сорвать с раздвоенности акта знания ореол изумительности, – придумать для мысли такие рессоры, на которых она могла бы двигаться по пути знания, не испытывая толчков от двоящейся области своего исследования.
Уничтожить фактически-данную двойственность – это значит оба момента её привести к одному. Теория знания есть и должна быть монистической, и в этом сходятся все попытки дать таковую теорию, – с той только разницей, что одни открыто несут пред собой монистическое знамя, а другие
—148—
пытаются осуществить монизм под прикрытием девизов менее решительных.
3. Отвлечённо говоря, есть два направления мысли, следуя которым можно надеяться достигнуть желанного. Число „два“ определяется количеством данных в самом акте знания начал для ходов мысли. Путь же третий, к которому должно обратиться лишь после неудачи на этих двух путях, существенно связан с требованием новой действительности, а потому должен быть путём к преображению действительности и, следовательно, уже не может считаться только-теоретическим.
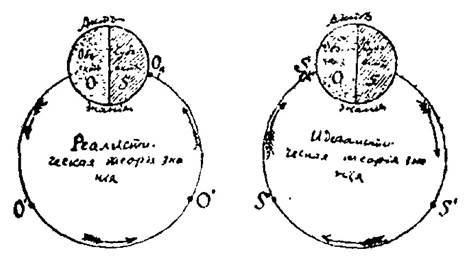
4. Первый теоретико-познавательный путь исходит из объективного момента знания, считая объект О за нечто непосредственно известное. Рядом преобразований этого О и надстроек над ним (О́, О» и т. д.), теория знания, на пути Ο Ό"βΟβ; обогащает понятие О всё новыми и новыми признаками. Когда комплекс этих признаков β достигнет надлежащей сложности, тогда теория знания рассматриваемого типа приравнивает 0β другому моменту акта знания, субъекту S, и тем достигает уничтожения S, как первичной данности. Первоначально равноправные, О и S теряют эту равноправность: О оказывается чем-то первичным, во что гносеология верит, а S – вторичным, что она знает. Итак, есть, в сущности, только Ο и его видоизменения: О́, О», ... Оβ=S. Так субъект дедуцирован из объекта, на чём задача теории знания может считаться законченной. Этот тип теории знания, в зависимости от характера пути и чистоты конечных результатов, носит различные имена: сенсуализма, позитивизма, феноменализма, реализма, эмпириокритицизма, имманентизма; но наиболее отчётливым и последовательным его выражением в истории мысли должно признать интуитивизм или мистический эмпиризм, развиваемый Н.О. Лосским.
Второй теоретико-познавательный путь как раз обра-
—149—
тен предыдущему, ибо исходит из субъективного момента знания, S, и, рядом преобразований этого S в S», S» и, наконец в Sα, обогатив его совокупностью признаков α, приходит к такому видоизменению субъекта, которое считает возможным приравнять объекту, О. Таким образом, здесь объект дедуцируется из субъекта, и на этой дедукции задачу теории знания опять можно считать законченной. Этот тип теории знания, опять-таки имеет много различных осуществлений и, в зависимости от вида пути и от чистоты достигнутых результатов, носит названия идеализма, рационализма, панлогизма и т. п. Одна из наиболее совершенных форм его, после Гегелевской, – та система панметодизма, которую развивает Герм. Коген и его ближайшие ученики.
5. Разные виды реализма – с одной стороны и рационализма – с другой образуют две параллельные линии, ограничивающие область той теории знания, которая желает оставаться в пределах человеческой данности и исключает возможность новых опытов и откровений иных миров. Не будучи в состоянии ни окончательно выбрать себе тот или другой путь, ибо теория знания существенно основана на вере, – либо в не-Я, либо в Я –, ни придумать новый путь, теория знания оказывается заключённой в эти пределы, которые начертала ей её вера в действительность или, точнее, её неверие в высшие миры. Равно-возможность субъективных и объективных построений в области теории знания – это основная антиномия науки о знании, и решение этой антиномии может быть найдено лишь вне поля зрения гуманизма. Но, чтобы представить Вам эту антиномию выпуклее, я попытаюсь обрисовать беглыми штрихами саму суть этих двух направлений гносеологии. Задаваться целью исторически-точно излагать то или другое учение мы не будем, но постараемся, скорее, выразить дух их построений. Не связывая себя определёнными именами и книгами, мы дадим вариацию на темы, заданные рационализмом и реализмом и постараемся уяснить, что каждое из направлений оправдывает свой угол зрения, – если только принята исходная точка его.
Итак, ка̀к же отвечает на основной вопрос о знании теория знания того и другого типа?
—150—
I.– Рационализм
6. Что такое – знание? Чтобы ответить на этот основной вопрос313, для этого надо указать такой признак знания, который присущ всякой познавательной деятельности. Надо охарактеризовать знание вообще, знание как таковое. Или, другими словами, мы должны сказать, что̀ мы знаем, о знании?
Что̀ же мы знаем о знании? – Прежде всего, мы знаем о знании то, что оно не есть незнание. Мы знаем, что знание неравно незнанию. Когда я знаю, то я – не незнаю, и я знаю, что я не незнаю. Знание знает о себе, т. е. знает, что оно есть именно знание, а не что-либо иное; т. е. знание знает о себе прежде всего через противоположение себя незнанию. Противоположить знанию незнание есть единственный способ узнать, что̀ такое знание. – Вам, вероятно, кажутся все эти рассуждения слишком общими и сами-собой разумеющимися. Но в них сказано вкратце всё дальнейшее.
7. Итак, различение есть необходимое и достаточное условие знания. Говорю: необходимое. Это значит, что без различения нет и знания; различение необходимо для знания. Если мы не различаем знания от незнания, то мы не зна́ем знания. – Говорю ещё: достаточное. Это значит, что при наличности различения бо́льше ничего и не требуется для знания. Раз есть различение, есть ео ipso и знание. Различение знания от незнания есть знание знания, ибо если мы различаем, то мы, хотя бы смутно, знаем и то, чем мы различаем знание от незнания, – знаем его сущность.
8. Но, б. м., Вы скажете: „Это – так только в отношении знания знания, но не вообще“. – Да, когда мы различаем, то в данном случае мы различаем знание от незнания, т. е. различаем объект знания (знание же) от того, что не есть объект знания (незнание). Следовательно, вся природа знания, как такового, независимо от этого или другого объекта знания, т. е. знания, – в отличие от всего, что
—151—
не есть знание, – или ещё, всё то, что делает знание (чего бы то ни было) именно знанием, – нами познана. Это есть различение, причём на вопрос „что́?“, „чего́ различение?“ отвечает уже ответ не о природе знания, а о частном случае применения акта знания. И, если бы различение не было природой знания вообще, то оно не могло бы быть им и в данном случае, когда объектом знания является знание же, ибо, выводя это свойство знания, как акта, мы ничего не говорили о специфической природе его объекта (в данном случае – знания же). Хотя мы сказали: „знание знания“, но тем не менее второе слово „знание“ оставалось чисто-формальным знаком объекта вообще [применение математического „способа неопределённых коэффициентов“ или „метода Декарта“, а также „способа неопределённой функции“ Η.В. Бугаева].
9. Что̀ же это значит? – А то, что знание исчерпывается различением познаваемого от всего иного. Выделить познаваемое из среды непознанного и противопоставить его всему прочему – это и значит познать. Знать – это значит выделять и различать. Сущность знания – выделение, различение, обособление.
10. Это – с одной стороны, – поскольку мы отвлекались от объекта знания. Но, с другой стороны, можно принять в расчёт и объект знания. Тогда делается понятно, что е́сть какая-то разница между знанием, различающим объект, и знанием, различающим знание объектов от незнания. Одно̀ знание направлено на различение объектов, а другое – на различение знания объектов от незнания объектов. Одно – про́сто знание (А1); другое – знание знания. – так сказать, вторая ступень знания (А2). В одно̀м случае знание поглощено всецело в свои объекты, ушло в них, не помнит себя; в друго̀м – оно, познавая объекты, в то же время следит за собой, за тем, что составляет его деятельность. Значит, во втором случае объектом знания (А2) делается само̀ знание (А1), т. е. то, что ранее было [познающим] субъектом.
11. Но ведь и знание (А2) направленное на себя (А1), имеющее себя своим объектом, может быть отличаемо от незнания себя, т. е. от знания, не направленного на себя. Следовательно, е́сть различающая деятельность, посред-
—152—
ством которой знание (А2) знания противополагается незнанию знания. Другими словами, е́сть знание, объектом которого служит знание знания (А2); или, ещё, е́сть знание третьей ступени (А3).
12. Возможно пойти и далее. Можно отличить знание третьей ступени (А3) от соответствующего незнания; этот различающий процесс будет знанием четвёртой ступени (А4), и т. д. ad indefinitum. Говорю: ad indefinitum, – в неопределённость, на неопределённо-далёкое продолжение. Это значит, что мы не встречаем на пути своём, в этом восхождении по лествице знания
A1, А2, А3, A4, А5, … An, An+1, Аn+2, … (1)
никакого препятствия, которое обрывало бы ряд (1). Эта беспрепятственность восхождения следует из итеративности, или повторительности, различающего акта знания. Каждый раз меняется объект его, но сам акт остаётся себе тождественным и потому, следовательно, всегда формально выполнимым, раз только он выполним в начале ряда; а здесь он, как мы знаем; выполнен, и потому, следовательно, выполним всюду.
13. На каждой новой ступени лествицы (1) (которую можно обозначить сокращённо через {А1}) будет повторяться один и тот же акт. А именно, „различающая деятельность предшествовавшей ступени будет различаема на последующей; познавательный процесс одной – будет становиться познаваемым на другой; что на одной было деятельностью субъективной, на другой становится объектом“314. Каждый такой акт из ряда (1) есть рефлексия знания на себя. Re-flexio значит пере-гиб, воз-вращение, о-бращение. Предикс re – указывает на двойное движение, – от чего и обратно, к тому же „что“. Рефлексия на себя и значит: 1) возвращение к себе, 2) оглядение себя, 3) узнание или, точнее, опознание себя.
14. Наши слова: „знание“, „познание“, „сознание“, „самосознание“, „самопознание“ и суть обозначения таких рефлексивных актов знания, причём некоторые из названных терминов не входят в ряд {А1} и представляют члены, так сказать, промежуточные, – смысл чего будет уяснён в дальнейшем.
—158—
15. Подобные же рефлексии на себя представляет и всякая критика. Первая критика (К1) изучает известное произведение (Р). Вторая критика (К2), или антикритика, – критики на произведение, т. е. К1. Третья критика или ре-критика (К3) – критику на критику или анти-критику и т. д. Образуется ряд, надстраиваемой на Р:
P, K1, K2, K3, K4, … Kn, Kn+1, Kn+2, … (2)
Каждая из последующих критик стоѝт ступенью, – или степенью, – выше, нежели предыдущая. – Замена критики nro порядка (Kn) критикой (n+1)го порядка (Kn+1) и составляет историю всякой науки. Всякий процесс познавания есть, в сущности, переход от Kn к критике этой критики, т. е. к Kn+1.
17. Итак, знание состоит из бесконечного ряда рефлексивных, обращающихся на себя актов, причём акты эти синтезируются, сочетаются в некое единство. Группа
{А1} i=1,2,3, … n …
есть не только множественность отдельных актов А1, но и единство их, мыслимое как нечто целое, как {А1}. Эта мысль – не новость. Красной нитью она проходит через всю историю философии, начиная с древнейших философов и кончая позднейшими. О ней говорит и Фихте: в своём „Науко-учении“. Но систематически она проведена впервые Шеллингом, в его „Системе трансцендентального идеализма“. Здесь Шеллинг задаётся целью изобразить историю сознания как ряд таких рефлексивных актов
A1, А2, А3, A4, … An, An+1 … (1»),
Которые он называет „потенциями“ или „степенями“ (Potenz) сознания и, по аналогии со степенями в математике, обозначает через
A1, А2, А3, A4, … An, An+1 … (2).
18. Для удобства дальнейшего изложения я позволю себе несколько разъяснить и усовершенствовать эти обозначения Шеллинга. У нас есть некоторый объект познания, – некоторое единство, которое мы хотим считать неразличимым далее, которое мы, – в продолжение исследования – рассматриваем как, неразложимое. Уместно обозначить это единство через единицу: „1“, – символ естественно льнущий к Понятию объекта, ибо апперцепция познаваемого объекта со-
—154—
стоит в уединении его ото всего прочего и в созерцании его как некоей неделимой сущности, как единицы. Впрочем, более глубокий смысл такой символики выясняется в дальнейшем. Но мы должны помнить, что для теории познания объект „1“ есть не иное что, как именно нечто, актом обособления определённое.
19. К этому объекту, к „1“, применяется акт различения. А. Символ А обозначает, следовательно, акт различения некоторого содержания от того, что не есть оно само. Итак, познание первой ступени, А1, придётся обозначить формулой
А1=А (1) (3)
или, упрощённо, А1=А 1 (3»)
Но как познание и есть познание „чего?“, то все равно; сказать ли: „объекта“, или не сказать. В акте познания уже содержится познание объекта, как и в понятии объекта – понятие выделяющего его акта познания. Переводя эту мысль на язык символический, скажем: Так как умножение на 1 не меняет величины производителя, то эту единицу („1“) можно не писать. Тогда можно представить нашу операцию познания так;
А1=А=А1 (4)
Различение этого различения А1, т. е. А2 придётся представить так;
А2=А (А1)=А (А1)=А (А) (5)
А различение этого различения, А3, через
А3=А (А2)=А [А(А1)]=А [А(А)] (6)
Далее, различение этого различения,
Α4=А(А3)=А[А(А2)]=А{А[А(А1)]}=A{A[A(A1)]}=А{А[А(А)]} (7)
и т. д. И вообще,
Αn+1=Α(Αn)=Α[Α(Αn−1)]=A{А[А(Аn−2)]}= … =А{А[А …]}n раз

(8)
Отсюда естественно обозначить эти выражения итеративных операций как символические степени оператора А, замечая, что в каждом из Аi оператор А повторяется i раз, и заменяя, сообразно тому, указатели всех Аi соответствующими показателями степеней, так, чтобы каждое
Аi=Аi (9) (i =1, 2, 3, 4, … n,..) или, в раскрытом виде
А1=А1, А2=А2, А3=А3, А4=А4,... Аn=Аn, Аn+1=Аn+1... (10)
—155—
Итак, мы получили ряд „потенций сознания“ или, точнее потенций знания в новой форме, и ряд (1) заменяется рядом:
А1, А2, А3, А4, А5, А6, ... Аn, Аn+1, Аn+2... Аn+m, ... (11).
Но, прежде чем идти в рассуждениях далее, дадим одно небольшое разъяснение. По-видимому, у Вас явилось недоумение, на каком основании мы заменяем неизвестное действие над 1 в формуле (3) символическим умножением формулы (3»). – Прежде всего, я отмечаю, что все наши формулы – формулы символические, имеют условное значение. Но нужно показать, что, действительно, наши символы допускают таковое истолкование, как умножения. Ну, в самом деде: во-первых, А(1) должно быть таково, чтобы оно было тождественно с А, ибо акт познания А ipso facto есть акт познания объекта „1“ и, стало быть, покажем ли мы это последнее обстоятельство особым символом, или нет, – смысл останется один и тот же. Следовательно,
А≡А(1) (12) (I),
где знак „≡“ есть знак тождества.
Во-вторых, отношение А1 к 1 должно быть таково же, как отношение А2 к А1, А3 – к А2 и т. д., ибо лишь актом познания разнятся две смежные потенции Аn и Аn–1. Вы спросите, почему̀ же именно „отношение“, а не „разность“? – Потому, что разные потенции суть сущности разнородные и потому не могут быть слагаемы и вычитаемы между собой („5 стульев – 3 чернильницы“; или: „5 душ без 3-х скамеек“); значит, чтобы сравнить их, должно брать отношение их. Итак:
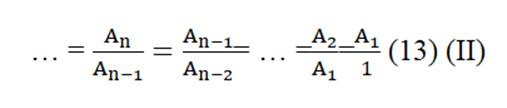
Формула (12) показывает, что символическая операция с А не может быть приравнена смежной [А≠А+1]; формула же (13) доказывает, что эта операция не может быть потенцированием, возвышением в степень –
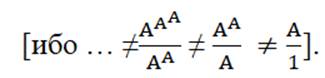
Остаётся одно: умножение. Конечно, можно было бы дать и строгое, математическое доказательство, – при помощи теории конечных разностей –,– решить функциональное уравнение. Но оставляю это до дальнейшего исследования, тем бо-
—156—
лее, что оно было бы неуместно в настоящем популярном изложении315.
20. Так или иначе, но мы имеем ряд (11). Теперь возникает вопрос: Как же обозначить непознанный, неразличённый объект познания, – нашу „1“? Т. е., другими словами, что̀ он такое с точки зрения познающего субъекта? Ведь и о не-познанном мы всё же говорим, т. е., как-то, значит, его знаем, ибо нельзя же говорить об абсолютно-непознанном. Иначе, слова наши были бы пустыми словами, лишёнными всякого смысла. Итак, что такое этот объект „1“ с точки зрения итеративного оператора А? Как внести симметрию в наши символические обозначения? Как установить единообразие символов? – Если рассуждать формально, то можно сказать: К нему, к объекту нашего различения, к „1“, не применено ни одного акта различения, т. е. i=0. В этом смысле, его можно обозначить, с точки зрения познавательного процесса, через А0 или, сообразно вновь принятым, преобразованным символам, – через А0. В самом деле, это обозначение весьма уместно:
1=А0 (16),
но А0= А0, (17).
и А0≡1,
ибо всякое число в степени 0 равно 1.
Итак, обозначая непознанный объект через А0, мы не уходим от первоначального обозначения, но лишь углубляем его. Раньше мы обозначали объект знания через „1“, как нечто разнородное с А. Теперь же, в виде А0, эта „1“ приведена к формальной однородности со всем рядом (1) или (11) и, следовательно, введена в итератив-
—157—
ный ряд. Другими словами, объект познания поставлен в ряд потенций сознания.
Может быть, не бесполезно сказать ещё несколько слов о нулевой потенции знания, т. е. о вещи. Тот вывод, что А0, знание нулевой потенции, есть объект или вещь, „1“, – единица познавательной деятельности – не, должен удивлять нас или казаться неожиданным. В самом деле, с гносеологической точки зрения уж один тот факт, что мы говорим о вещи, доказывает, что вещь есть некоторое знание (– иначе мы говорили бы, сами не зная, что̀ мы говорим –). Вещь есть своего рода знание. – Да, но какого? – Как знание, оно должно полагаться духом же, но так, чтобы дух не знал об этом своём положении вещи и, следовательно, она, хотя и акт духа, однако являлась бы ему как готовый результат.
21. Теперь является вопрос: Ка̀к же разуметь этот непознанный, но имеющий быть познаваемым, объект А0? Или, ещё: В каком отношении находится он к процессу знания? – Вспомним прежде всего, что такое есть каждое An. Это – знание предыдущего знания, Аn–1:
Аn=А (Аn–1) (18),
т. е. Аn есть акт различения А применённый к Аn–1.
Значить, в частности, А1 есть знание А0; а А0 есть объект, „вещь“. Но ведь объектом бывает всякое знание для последующей ступени знания; всякое А есть объект для Аn+1· Но что̀ оно само по себе? – Если воспользоваться выработанной нами терминологией, то должно сказать: и А0 (т. e. 1) есть тоже знание. Но – како́го же знания является, знанием А1? – Есть знание знающее, есть знание сознающее, есть знание самосознающее и т. д. Но А0 сюда не относится. Оно, хотя и знание, однако ещё не знается, как таковое, как знание. А0 – знание бессознательное или без-знательное. Это – знание не дошедшее до ступени знания, не пришедшее к сознанию, не осознанное. Итак, объект знания сам есть особое знание, – бессознательное. Ещё раз повторяя сказанное, мы говорим: Объект знания есть тоже знание, но бессознательное. С точки зрения познания, познаваемое есть бессознательное знание, и, следовательно, процесс познавания есть ничто иное, как осознание того, что уже заложено в духе, но – в бессознательной форме.
—158—
22. Но пойдём далее. Вы знаете, конечно, что существуют в алгебре отрицательные степени с отрицательными показателями. Развивая нашу символику далее, можно задаться вопросом: Что̀ означают символы:
А–1, А–2, А–3, А–4 ... А–n, А–n–1, … (19)
или, что то же, символы
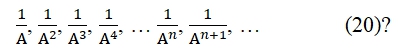
Чтобы ответить на этот вопрос, постараемся познать одну из таких постулируемых, но пока нам ещё неизвестных потенций. Возьмём хотя бы А–3. Познать её – это значит применить к ней акт различения А. Получаем:
А (А–3)=А–2 (21),
т. е. опять-таки что-то непонятное. Снова позна́ем А–2 Получаем
А (А–2)=А–1 (22).
Познавая А–1, находим
А (А–1)=A0=1 (23)
Итак, применяя к А–3 процесс различения трижды, мы приходим к бессознательному знанию, или объекту „1“. Ясное дело, что, познавая А–3 ещё бо́льшее число раз, мы получим А1, А2... и т. д. Это можно было получить и непосредственно, сразу применяя многократный акт различения:
А3 (А–3)=А0=1 (24)
А4 (А–3)=А1 (25),
или, если рассматривать символ отрицательной потенции, как единицу, делённую на ту же потенцию, но с положительным показателем, то получаем:
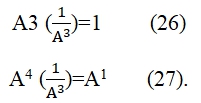
23. Иными словами, отрицательные потенции сознания суть, такие потенции, к которым различающий процесс А должно повторно применить некоторое число раз, чтобы получить ту или иную степень сознательности. Или ещё: отрицательные потенции суть такие бессознательные или, лучше сказать, подсознательные слои духа, которые погружаются всё глубже и глубже в недра объективности. Это – вещи
—159—
более вещные, нежели вещи, – res realiores, quam res reales. Отсюда понятно, что чем глубже лежит такая res realior в духе, тем интенсивнее должна быть различающая деятельность знания, чтобы res realior была опознана.
Вероятно, у Вас является вопрос: Что̀ же такое, – конкретно, – эти отрицательные потенции знания? Но, вслед за этим, встаёт другой вопрос, а именно: Можно ли конкретно познавать эти более глубокие, чем вещь, слои вещности? Не осуждены ли мы всегда оставаться при отвлечённом, гносеологическом знании их, ибо конкретное знание их подымало бы их на ступени сознательности и, следовательно, лишало бы их именно того свойства, ради которого нам хочется познать их конкретно? Не должны ли мы думать, что именно это свойство (– т. е. подсознательность бо́льшая, чем сознательность вещи, вещность вещнее вещи –) от такого процесса познания исчезнет? – Ответ на последние вопросы должен предварить ответ на первый.
Действительно, процессом постепенного дифференцирования мы лишили бы эти низшие потенции присущей им вещности. И таково, по необходимости, знание научное, мелодически проходящее все ступени и тем приобретающее силу, ставить объекты познания в связь друг с другом, но при этом обращающее действительность в призрачную ткань понятий. Но мо́жет быть и не-методическое познание, – дознание, сразу переводящее объект через несколько потенций и непосредственно вводящее подсознательное в сферу сознания (– таково определение мистики, по Гартману –). Тогда, е́сть познание этой подсознательной деятельности, как таковой.
24. Но можно подойти к отрицательным потенциям ещё и с иной стороны. Ведь символ А мы рассматривали ранее не только как оператор (operator), но и как операнд (operandum), – не только как символ, которым действуют, но и как символ, над которым действуют. Отсюда, по аналогии, рассмотревши символы отрицательных потенций как познаваемые сущности, как операнды, мы можем теперь взглянуть на них как на операторы, как на сущности „познавательные“, „познающие“, но, какой-то, особой природы, Какой же? – Чтобы ответить на этот вопрос применим наш оператор к одной из положительных, нам уже известных, потенций
—160—
и посмотрим, что̀ от этого произойдёт с нашей потенцией. Возьмём хотя бы А2, а как оператор А–1
А–1(А2)=А1 (28)
или
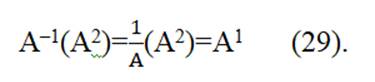
25. Итак, от применения оператора А–1 к положительной потенции, она понижает свою степень, свой ранг, т. е., другими словами, операция А–1 прямо-антогонистична операция А. А – акт дифференциации; А–1 – акт интеграции. А – акт различения; А–1 – акт смешения, акт конфузии. А – акт познания; А–1 – акт незнания или, точнее – раз-знания. А – акт образования суждения; А–1 – акт уничтожения суждения. А – гносеологическое умножение; А–1 =1/A – гно-серологическое деление. А – акт повышающий ранг потенции сознания; А–1 – акт понижающий этот ранг. А – акт рефлексии; А–1 – акт инфлексии, возвращения сознания в себя, но не на себя, – не in, но an sich. Одним словом, операторы А и А–1 – антогонистичны, противоборственны, полярно-противоположны.
26. Таким образом, мы подходим к новому пониманию знания, – разумея это последнее слово не в смысле А, но в смысле всей познавательной деятельности духа.
Знание, в целостном своём составе, слагается из бесконечного в обоих направлениях ряда актов рефлексии, – если расширить смысл слова рефлексия и включить сюда понятие инфлексии, а именно из ряда:
... Аn–1, А–n, ... А–3, А–2, А–1, А0, А1, А2, А3, An, An+1, ... (30)
Этот ряд, взятый как трансфинитная устроенная группа, определяет два элемента, – Аω справа и А–ω слева, – служащие пределами ряда и сами, потому, к ряду не принадлежащие. – Применение к любому члену ряду операции А передвигает сознание в сторону Αω, а применение операции А–1 – в сторону А–ω. Ряд (30), поскольку он определяет запредельный элемент А т. е. Поскольку мы рассматриваем его как восходящий – называется философией, φιλοσοφία, любомудрием. Но мо́жно рассматривать тот же ряд (26) и как определяющий элемент запредельный А–ω т. е. видеть в нём ряд нисходящий; в этом послед-
—161—
нем случае было бы уместно окрестить наш ряд (30) неологизмом никософия, τειϰοσοφία, враждо-мудрие, – впрочем, конечно, не в порицательном смысле, не в смысле осуждения, а, чтобы указать отталкивание от рефлексии, тяготение к корням бытия и ко мраку первобытной ночи. А – акт философствования, А–1 – никософствования.
27. Каждый член ряда есть познаваемое, в отношении к последующему, и познающее, в отношении к предыдущему. Оператор А делает познаваемое познающим, а оператор А–1, наоборот, познающее – познаваемым. Таким образом, А есть акт перехода от объективности к субъективности, от объекта к субъекту, от знания к бо́льшему знанию. А есть оператор субъективации. Наоборот, А–1 есть акт перехода от субъективности к объективности, от субъекта к объекту, от бо́льшего знания к меньшему знанию. А–1 есть оператор объективации.
28. Итак, каждый акт рефлексии есть субъект и объект вместе, – субъект своею „левой стороной“ и объект – своей „правой стороной“. Каждый член ряда – потенция – есть субъект и объект. Но объект есть то, что мы называем реальным началом, а субъект – то, что мы называем началом идеальным. Следовательно, каждый акт сознания реален, в отношении к последующему, и, идеален, в отношении к предыдущему. Каждый акт знания идеален и реален, т. е. идеал-реален или реал-идеален.
29. Следовательно, в каждой потенции знания идеальное и реальное, субъект и объект не разобщены между собой, хотя и не сливаются до неразличимости. Они образуют дву-единство, причём объекты знания даются имманентно самому процессу знания, познающему субъекту.
30. Это можно пояснить ещё и так:
Всякий акт знания идеален. И, с этой точки зрения, идеален и всякий познаваемый объект. Иначе и быть не может: ведь, если бы он не был идеален, то и не познавался бы, ибо абсолютно непонятно, ка̀к познаётся то, что решительно не сродно познающему, – как усваивается познанием то, что всячески разнствует с познанием. Познание того, что само никак не есть знание, т. е. начало идеальное, было бы превращением некоторого „а“ в акте
—162—
суждения в „не-а“. Значит, в акте познания идеальная природа познаваемого не создаётся, а только раскрывается, обнаруживается, опознаётся.
31. Но, с другой стороны, всякий процесс знания реален. Ведь он есть объективный, констатируемый процесс, происходящий в действительности. Скажу, хотя и не совсем точно, зато наглядно: Процесс знания объективно учитывается как нервный процесс, как иннервация связок голосового органа, как звуки, как мускульные сокращения и т. д. Ведь это – реальность. Но то, что я говорил, есть первый, самый грубый случай процесса мысли. Он – „вещный“ процесс и в более тонком смысле (флюидные истечения, излучения и вообще вся совокупность „оккультных“ явлений организма, сопровождающих акты познания) Если ранее мы сказали, что всякая мысль, да и сама вещь, – идеальность, то теперь скажем, что всякая мысль, как и сама вещь, есть реальность. Не только вещь мысле-образна, но и мысль веще-образна. Мысль имеет в себе вещи в виде своего содержания. И потому мысль – творческая сила в сфере „вещей“. Вспомните гипноз, заговоры, художественное творчество, преобразующее действительность, научное творчество, вторгающееся в жизнь объективности: ведь мысль же, если не прямо (– хотя и прямо! –), то косвенно, при помощи динамита, ввергает гору в море! Ведь точка приложения силы мысли есть, в конце концов, гора, самая гора, а никак не призрак, не „представление“ горы, в смысле чистой иллюзорности: в противном случае, пришлось бы человеку быть лишь созерцателем калейдоскопа своей психики, а не делателем жизни и строителем культуры.
32. Мысль есть мысль о вещах, и, следовательно, она – не вещна, она отлична от своего содержания. Но, вместе с тем, мысль есть мысль о вещах, – вещи суть содержание мысли и, значит, они даны вместе с мыслью. Повторяю ещё раз, мысль и вещь образуют неслиянное и нераздельное дву-единство.
33. Но возникает вопрос: Чем же тогда потенции разнятся одна от другой, если каждая из них есть дву-единство? И что̀ такое „вещь“ в собственном, общеупотребительном смысле слова?
—163—
Двигаясь к А–ω, мы увеличиваем идеальный момент потенции и соответственно уменьшаем момент реальный. Потенции делаются всё менее и менее вещными. Мы восходам ab idealia ad idealiora. Напротив, двигаясь по направлению и А–ω мы увеличиваем реальный момент потенций и соответственно уменьшаем момент идеальный. Потенции делаются всё более и более вещными. Мы нисходим а геаlia ad геаliora.
А0, т. е. „вещь“ в ходячем смысле слова, есть равновесие обоих моментов, – идеального и реального. А0 есть безразличие субъекта и объекта, тождество Я и не-Я, индиференция, или индифферентность, познающего и познаваемого. А0 есть, в то же время, в отношении к ряду (30), верхняя граница отрицательных потенций и нижняя – положительных. А0 – maximum идеальности, или сознательности, в сфере бессознательного, и – maximum реальности, или бессознательности, в сфере сознательного. И наоборот, А0 есть minimum реальности в сфере бессознательного и minimum идеальности в сфере сознательного.
Таким образом, А0 есть граница двух миров, из которых один, – мир положительных потенций – мы можем назвать миром „Я“ в широком смысле, а другой, – мир отрицательных потенций, – миром „не-Я“, тоже разумея этот термин в смысле шире обычного. Но мы должны при этом не забывать, что каждая потенция в отношении к одним является объективной, а в отношении к другим – субъективной.
35. Что́ же в таком случае есть „чистый субъект“, т. е. такая потенция, которая является субъектом в отношении всех остальных, но сама никогда не бывает объектом ни для которой? Что̀ такое чистая форма или схема субъективности? Что такое предел субъективности? Иными словами, что̀ же такое – „трансцендентальный субъект“, „субъект в себе?“ – Ясное дело, что он должен быть вне ряда потенций (30), т. е. он трансцендентен знанию, хотя знанием, т. е. рядом (30), постулируется. Это – идеальная граница справа для ряда (30), верхний предел ряда (30) и, в отношении к самому знанию, в составе самого знания, – гносеологически, – не может означать ничего иного, как только указания на возможность сколь угодно далёкого восхождения co–
—164—
знания ab idealia ad idealiora. Гносеологически, трансцендентальный субъект, чистое „Я“, есть ничто иное, как весь ряд (30), в его идеальном аспекте. Что есть чистое „Я“? – Это – всё, но взятое в ранговом отношении идеальности, – упорядоченное всё, поскольку оно идеально. Гносеологически, трансцендентальный субъект никогда не дан в качестве познаваемого (– иначе он был бы объектом! –), а всегда только задан. Одним слоном, это есть то, что мы обозначили символом Αω.
36. С другой стороны, возникает вопрос, что такое „чистый объект“, т. е. такая потенция, которая является объектом в отношении всех остальных, но сама никогда не бывает субъектом ни которой. Или ещё: Что̀ такое чистая форма или схема объективности, предельная вещность или предел объективности, вещности? Иными словами, что̀ же такое „трансцендентный объект“, „объект в себе“, или „вещь в себе“, точнее – „о себе“? Ясное дело, что и он, этот объект, должен быть вне ряда потенций (30), т. е. он – трансцендентен знанию, хотя знанием, т. е. рядом (30), постулируется. Это – идеальная граница слева для ряда (30), нижний предел ряда (30) и, в отношении к самому знанию, в составе самого знания, – гносеологически – не может означать ничего иного, как только указания на возможность сколь угодно далёкого нисхождения сознания а realia ad realiora. Гносеологически, трансцендентный объект, „вещь в себе“, чистое „не-Я“, есть ничто иное, как весь ряд (30), в его реальном аспекте. Что есть чистое „не-Я?“ – Это – всё, взятое, в ранговом отношении реальности, – упорядоченное всё, поскольку оно реально. Гносеологически, трансцендентный объект никогда не дан (– иначе он был бы субъектом. –), а всегда только задан. Одним словом, это есть то, что мы обозначили символом А–ω, ибо, если было бы дано, то можно было бы образовать А–ω–1, и Α–ω стало бы субъектом.
37. И ещё. Трансцендентальный субъект есть всё знание (познающее) в его целокупности. Трансцендентный объект есть всё знание, (познаваемое) в его целокупности. – По реальности, это – одно и то же; но они различны по типу, если воспользоваться Канторовским термином. Но реальности, абсолютное Я есть то же, что и абсолютное не-Я, и оба они
—165—
равны любой конечной потенции. Всё – во всём, и потому всё равно всему.
38. Всё сказанное удачно иллюстрируется такой схемой:
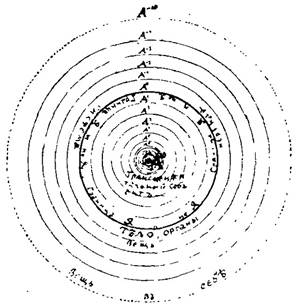
Начертим систему, т. е. бесконечное множество, концентрических кругов, с одной стороны „накопляющихся“, около центра т. е. беспредельно подходящих к центру, – обозначающему „трансцендентального субъекта“, Аω, а с другой – беспредельно увеличивающих свой радиус и устремляющихся к бесконечно-великому кругу, обозначающему „вещь в себе“. А–ω. Границей Я и не-Я, или вещи, служит один из кругов, А0, тогда как прочие круги получат обозначения Аi (i ±1, 2, 3,.... n,....) в порядке ряда (30). Окрасим, далее, все кольца какой-нибудь краской, например, внешние – голубой, а внутренние – розовой. Пусть, при этом, густота окраски кольцевого пространства между парами концентрических кругов соответствует степени углубления в субъективную или объективную сторону ряда (30), а цвет окраски, – красный или синий – преобладанию субъективности или объективности. Круги внутри круга А0 обозначают область „Я“, а круги вне А0 – область „не-Я“.
39. Выть может, впрочем, более уместно было бы и круги обозначающие отрицательные потенции чертить приближающимся к предельному кругу конечного радиуса, опять-таки обозначающему Α–ω.
40. Пойдём далее в изучении систем потенций знания (30). n-ый акт знания, Аn, есть знание объекта Аn–1, но Аn–1 есть знание знания, Аn–2; Аn–2 есть знание знания А n–3 и т.д., до А0 включительно, а затем – и далее; А0 есть знание А–1, А–1 знание А–2 и т. д. Следовательно, содержанием Аn слу-
—166—
жит не только Αn–1, но и Αn–2 и Αn–3 и Αn–4 и т. д. и А0 и А–1, и А–2 и т. д. Следовательно, каждый акт знания Аn включает в себя бесконечность содержания, – весь ряд (30) до Аn–1 включительно, т. е. всю область подсознательного, вещь и все предыдущие Аn ступени знания. Содержанием Аn служит любое Аi, где i < n.
41. Но мало и того. Если имеется акт А–1, – как мы уже видели, акт уничтожения суждения, смешения, слияния, забвения и т. д., т. е. обратный акту А, – то мы можем рассмотреть отношение An ко всем после него идущим потенциям. Применяя операцию А–1 к Аn+1, Аn+2, Аn+3...*., то или другое число раз, мы будем получать всё то же Аn.
Аn=А–1 (Аn+1)=А–2 (Аn+2)=A–3 (Аn+3)=.... (31);
и вообще An=A-m (An+m). (32).
Значит, An включает в своё содержание не только весь ряд меньших потенций знания, но и весь ряд бо́льших потенций.
42. Но знаемым, познаваемым является для Аn непосредственно лишь Аn–1. Все же потенции, предшествующие Ап-1 (т. е. все Аi, для которых i< n-1) в отношении к Аn („усиленному знанию“) являются „под-знаемыми“, лежащими ниже знания.
Наоборот, все потенции последующие Аn–1 (т. е. все Аi, для которых i>n) являются „сверх-знаемыми“, лежащими выше знания. Одни – уже не сознаются, другие ещё не сознаются. Одно – бесконечность до, другое – бесконечность после. Одно – забвение прошлого; другое – запамятование будущего.
43. В самом деле, законность этого нового освещения знания, – светом идеи времени? – явствует из следующего:
Последовательная смена потенций сознания создаёт идею времени. Движение в положительную сторону ряда – переход от прошедшего к будущему; движение в сторону противоположную – переход от будущего к прошедшему. Так, сознание умирающих, утопающих, падающих с гор и т. д., когда организм лишается знания (забвение, слабость и т. д.) создаёт обращённый временный ряд, – от настоящего к прошедшему. И наоборот, творческий акт познания влечёт в будущее, даёт предвосхищение буду-
—167—
щего, пророчество. Конфуз – потеря себя в настоящем, акт движения в прошедшее, и, следовательно, творчество – акт движения в будущее. И потеря себя в настоящем, т. е. конфуз, и творчество выводят из настоящего, но – в противоположные стороны.
Итак, если А есть настоящее (в настоящем), то что̀ есть прошедшее? – Система потенций {Ai}, для которых i
44. Сейчас идёт речь о том, как ряд потенций порождает собой ряд временный. – В самом деле, если наш ряд потенций (– закон раскрытия сознания –) должен быть источником исторического процесса философии, то он, этот ряд, должен, как сказано, быть историо-генным по своей природе. Но, порождая историю, он сам не может уже быть историчен, сам он не может быть в строгом смысле историей. Он историогенен и, следовательно, сам не историчен. Он – вне истории и, следовательно, вне времени. Следовательно, в нём должны быть силы, раскрывающие его содержание – как процесс во времени, или, ещё, являющие время, наполненное историческими событиями, – силы хроногенные, време-рождающие. Тут-то, по-видимому, и есть камень преткновения. Вы, наверно, подумали уже: но, ведь, чтобы перейти от потенции к потенции, уже нужно время. Ка̀к же ряд потенций производит время, когда сам он нуждается для своего построения во времени? Получается в рассуждениях idem per idem. Время – условие ряда, ряд – условие времени. Мы нумеровали члены ряда. Но разве сама нумерация недостаточно доказывает, что ряд не может быть без времени, – ибо нумерация, порядок последования, уже предполагает время и без времени существовать не может? – Спешу ответить на Ваши вопросы вопросом же.
Действительно ли, всякий порядок последования, всякая последовательность предполагает время? Или, быть может, возможна „логическая последовательность“ – безвременная и даже вне-временная и сверхвременная? Теперь вкратце отвечу на поставленный вопроса, лишь следующее:
—168—
Возьмите какую-нибудь сложную систему умозаключений – философских ли, или каких иных, по возможности строго-логическую, – ну, хоть систему Спинозы, как она изложена в „Этике“, или какую-нибудь геометрическую теорему. Если Вы читаете или продумываете её впервые, то отдельные положения формально и внешне приклеиваются друг к другу; неуклюже двигается механизм рассуждений. Во второй раз это движение совершается легче; отдельные положения крепче примыкают друг к другу, начинают врастать друг в друга. В третий раз – опять ускорение движения и более органическое срастание. В конце концов, вся вереница рассуждений проходит почти как единое целое, – как органическое тело с его органами. Мы различаем моменты первый, второй и т. д., но про эти моменты нельзя сказать, что они – моменты времени. Нет, это – моменты логические, диалектические, эстетические, нравственные и т. п. Вся группа положений стремится к пределу, – к нулю времени, – стремится стать мгновенной. Отсюда мы постулируем мгновенную последовательность, этот предел, как реальность. В дальнейшем я постараюсь показать, что такая реальность действительно есть: а сейчас скажу· то лишь, что нам важна не она, а само понятие её, – понятие вне-временного последования моментов. Вот, этим-то понятием вне-временной последовательности мы ныне и воспользуемся для обоснования происхождения идеи времени из вневременного ряда потенций.
45. Могло бы показаться неясным, ка̀к это система потенций есть будущее, или прошедшее. Но, конечно, это – так. Ведь, что̀ есть будущее или прошедшее, как ни известным образом полагаемая в настоящем часть содержания этого настоящего, Аn ? Координация полагаемых, соотносимых, частей настоящего и есть та характеристика, в силу которой мы называем одну часть „будущим“, другую – „настоящим“ в узком смысле, и третью – „прошедшим“. Но что́ такое координация, как ни ранговое отношение частей (т. е. положение одной части первой, другой – второй, третьей – третьей)? Нумерация – вот что создаёт идею времени. Разнородная качественность потенций – вот что даёт место нумерации: количественные различия потенций – на деле лишь проекция качественных на порождаемый этими послед-
—169—
ними временный ряд. Количественные разницы суть надстройки над качественными. Итак, соотношения ряда потенций с идей времени теперь ясно:
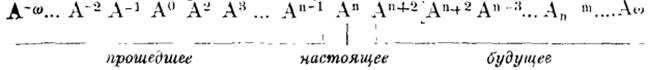
46. Но почему же настоящее – лишь точка? Почему, когда мы говорим о нем – его уже нет? Почему все наши речи могут быть только о прошедшем? Почему tempus fugit? Почему оно irreparabile? –
Настоящее – точка, ибо оно – единая потенция, т. е. акт единый, не имеющий в себе частей. Ибо мы хотим считать объект единицей, – не имеющею частей, и, следовательно, акт, его различающий, не имеет множества, – абсолютно прост. Настоящего нет, когда мы заговорили о нём, потому, что для того, чтобы заговорить о настоящем, об Аn, надо сделать его объектом (из субъекта). А сделавшись объектом, он делается уже меньшим по ранговому положению, нежели субъект речи, Аn+1. Поэтому-то, все наши речи и могут быть только о прошедшем, т. е. об одной из предыдущих потенций знания. – Fugit ли tempus? – Нет, поскольку мы не думаем, не живём. Бег времени есть такая же иллюзия, как и хоровод, который водят дерева, когда едешь по железной дороге. Не время уходит от нас, а мы уходим от настоящего, от Аn, к Аn+1, Аn+2 и. т. д.. уходим через познания этого А. Если бы мы его не познавали, если бы не было рефлексии (застывшее сознание: обморок; наркоз; мечты, и т. п.), то и время не убегало бы, а мы пребывали бы в вечном „теперь“. Скажете: Но для других, „объективно“, человек всё-таки жил бы во времени? –
Да, для других, т. е. они меняли бы своё настоящее относительно этого человека. Не меняй они своего настоящего относительно него, не жил бы для них и он во времени: „как аукнется, так и откликнется“. – Когда человек пробуждается после глубокого сна, или приходит в себя после наркоза или обморока, он, как сказочная спавшая и пробудившаяся царевна, не знает, прошло ли время, или нет: он не жил во времени.
47. Итак, мы повторяем Коперниковский переворот, но
—170—
только в расширенном виде. То, что сказал Коперник о движении светил небесных, мы теперь распространяем на всякое движение, на всякое изменение, на само время, как на „движение вообще“, „чистое движение“, „форму“ или „схему движения“. Коперник объявил, что движение солнца – кажущееся и обусловлено тем, что мы движемся. А мы теперь заявляем, что время не бежит, а лишь кажется бегущим, – от того, что мы меняем свою точку зрения на собственные акты познания. Мы бежим вдоль ряда потенции, и нам представляется, что ряд потенций движется мимо нас. Это-то прохождение в сознании потенций мы и называем временем.
48. Но вернёмся к нашим потенциям. Каждый акт знания Аn включает в себя всё обоюдо-бесконечное множество актов знания, в его прошедшем и в его будущем, – разумея эти термины „в прошедшем“, и „в будущем“ в смысле временной квалификации. Другими словами, каждый акт знания включает в себя забытую вещь в себе и запамятованного трансцендентального субъекта. Хотя и трансцендентна сознанию вещь в себе и трансцендентален чистый субъект, по всё же они всегда содержатся в каждом акте знания.
49. Мы думаем то, чего уже не думаем и то, чего ещё не думали. Мы знаем то, чего уже не знаем и чего ещё не знаем. Но всё, как прошедшее, так и будущее, в каком-то смысле е́сть в нас, ибо потенциальное знание есть не просто отвлечённая возможность познавать, не отсутствие знания, не οὐκ ὄν, а подлинная мощь знания, особое состояние знания, μὴ ὄν, – не отсутствующее знание, а особливо присутствующее знание же.
50. Значит, всякое узнавание есть воспоминание: либо „прошедшего состояния“ знания, знания в „прошлом его состоянии“, либо знания в его „будущем состоянии“, причём сюда можно причислить ещё прерывное переведение в сознание потенций из области под- и сверх-сознательного, которые получают, вследствие такой прерывности, характер вне-временный. Эти мистические процессы уместно было бы назвать „памятью настоящего“. Кроме того, формально говоря, есть память будущего, как есть память прошедшего, обе связанные с порядком во времени, но перено-
—171—
сящие прошедшее и будущее, с их характеристикой во времени, в настоящее. Но находится ли будущее и эта память будущего в конкретной психологии? – Само наступление будущего показывает, что мы его „вспомнили“, что мы узнали его; когда же сознание, забегая вперёд, как бы мечется по ряду потенций, тогда являются прозрения в будущее, предчувствия, предсказания и т. д. К этим же беспорядочным движениям относятся и явления парамнэзии, ясновидения и яснослышания, вещих слов, наконец, предвосхищение научных идей и открытий. В частности, с этими же процессами связано Платоновское учение о знании, как „припоминании“, ἀνάμνησις мира горнего, и Ницшевское учение о „вечном возвращении“: психологически выражаясь, в основе того и другого лежит явление парамнэзии, при котором кажется, что переживаемое в данный момент уже переживалось точь-в-точь так же и ранее. Каждое научное произведение содержится в предыдущем, и наоборот; одно можно найти в другом, – стоит только покопаться. Это – та простая истина, плохое усвоение которое произвело историзм ХIХ-го века, с его преувеличенным и напряжённым вниманием ко всякого рода историческим „влияниям“. Но бесспорно, что в каждом произведении можно найти все предыдущие и все последующие, залегающие в нём, как свёрнутые листочки в древесной почке. Часто автор и не подозревает ни своего отношения к прошлому, ни своего отношения к будущему, – не понимает себя самого. Однако, исследователю чужой мысли постоянно приходится наталкиваться на факт её связи с другими. Туг невольно вспоминаются слова Генриха Герца о том, что иногда кажется, будто математические формулы гораздо умнее того, кто их составил, ибо они содержать в себе то, чего составитель их даже и не подозревал, но что обнаруживается в них дальнейшей историей. Эта магическая сила формул зависит именно от того, что составитель их знал многое такое, что не опознал в себе. И опять, вспоминаются слова Генриха Гейне о том, что „у писателя, когда он создаёт своё произведение, – такое чувство как будто он, согласно Пифагорову учению о переселении душ, вёл предварительную жизнь после странствования на земле под различными видами; его вдохновение
—172—
имеет все свойства воспоминания“. Сюда же надо отнести и способность крупных художников предрекать свою судьбу в символике своих произведений, – напомню для примера хотя бы о Лермонтове, Пушкине, Гоголе, Байроне, О. Уайльде и др.
51. Итак, суммируя сказанное, мы можем написать такую табличку разных видов памяти:
| Память прошлого | Парамнэзия. Галлюцинация о прошлом. Сны о прошедшем. |
| Память будущего | Ясновидение и яснослышание (без конкретных образов). Галлюцинация (с конкретными образами). |
| Память настоящего | Предчувствие (без образов). Вещие сны. Художественное творчество. Галлюцинация о будущем. Предвосхищение научных идей. |
52. Итак, помимо знания упорядоченного, в смысле, последовательности переходов от потенции к потенции, существует ещё целая обширная область знания, так сказать беспорядочного.
В широком смысле, все это знание может быть названо общим именем мистики или, точнее, естественной мистики, – в противоположность сверхъестественной, благодатной. Мистика и даёт нам то знание, в котором делается ясной наличность многих слоёв реальности, многих отрицательных потенций. Сюда относятся, прежде всего, кратные сны. Каждый из Вас помнит, вероятно, те, случаи, когда он видел во сне, что видит сон, просыпается, и затем – просыпался снова. Оказывалось, что первое пробуждение было во сне. – Это сон дву-кратный. Бывают сны три-кратные, когда происходит три последовательных пробуждения, четыре-кратные и т. д.. n-кратные сны. Но обращали ли Вы внимание на то, что переход от сна второго слоя, так сказать, ко сну обычному сопровождается чувством увеличения сознания, перехода из чего-то подсознательного к сравнительно сознательному? Это чувство внезапного перехода очень потрясающе и тягостно, – от него
—173—
обыкновенно покрываешься холодным потом. Ближе всего возможно сравнить его с ощущением низвержения, падения, быстрого ухождения в глубь, увлечения водоворотом. Напротив того, возвращение к слоям простых снов или просыпаний сопровождается ощущением подъёма, восхождения, выплывания, выскакивания, вынесения каким-то потоком. И тут же, как бы оглушённый ударом, сновидец забывает виденное. Весьма вероятно, что Платоновское учения о забвении горнего мира, когда душа, низвергаясь в сей мир, ударяется о материю, должно понимать как превращение в миф и онтологизирование именно таких переживаний. или подобных им. Не буду вдаваться в детали и приводить описания таких n-кратных снов и соответствующих им η-кратных пробуждений. Они имеются в изящной литературе: у Шелли, у Кота Мурлыки (Вагнера), у Гофмана, у Гоголя, у Лермонтова и др.
Ещё более яркую картину этих переходов Я из одной плоскости подсознательного в другую, даёт гипноз. Многие гипнотизируемые хорошо знают это погружение на ту или другую ступень бессознательного. Особенно заметен этот переход, если он внезапен или быстр; тогда он иногда настолько пугает гипнотизируемого, что тот делает все усилия проснуться, и это или мешает гипнозу, или, во всяком случае, прерывает правильное его течение.
То, что при дикарских посвящениях в мистерии или в тайные религиозные общества называется „временной смертью“, что везде, всегда и во всех инициациях надлежало попытать посвящающемуся, – это, опять, есть одна из весьма значительных степеней подсознательности, – отрицательная потенция, А–n, со сравнительно значительным n. Различные „планы“ теософов, вероятнее всего, тоже имеют отношение к отрицательным степеням знания.
53. Итак, познавание есть припоминание, как и учит Платон. Познавание – ἀνάμνησις, – припоминание того, что видела душа до своего рождения, в горнем мире. Таковы выражения Платона. Но эта мифическая формулировка гносеологической истины – проекция данных гносеологии на ряд времени, тогда как на самом деле ряд времени и, следовательно, миф возникает из ранговых отношений элементов гносеологических. – Вся наука in nuce заключена
—174—
в каждом данном её состоянии. Все акты знания – в данном единичном акте. Всякое суждение есть вся философия. Знание, как бы оно ни было ограничено, по самому существу своему бесконечно и, следовательно, иррационально: как бы ни казалось ясно знание, оно ясно только в блестящем покрове „настоящего“ (Аn), но темно в обоих своих устремлениях, – и к Аω и к А–ω. Всякая наша мысль затрагивает бесконечность знания. При всяком познавании шевелится в душе всё знание.
54. Только этим, вот, можно объяснить, почему может быть удовлетворённость ограниченным, конечным знанием: ограниченное есть безграничное; часть есть целое: одно есть всё, ἓν ϰαὶ πᾶν, условное – безусловное, временное – вечное. Понять, что в данной конечной потенции сознания, соответствующей эпохе и моменту истории и личной жизни, нам даётся бесконечное содержание и потому ограничить свою похоть в выявлении этого содержания, – не тянуться всегда за будущим, – это и значит жить настоящим, но сделаться мудрым, ибо для такового не злоба дня распростирается на вечность, а вечность смотрит из глубины злобы дня.
55. Так, исходя из субъективного момента знания, рационалистическая теория знания обошла различные виды знания и по-сво́ему разъяснила все существенные понятия гносеологии. Но эта связность её, сама по себе, ещё ничего решающего в пользу рационализма не говорит, ибо мы вовсе не имеем оснований утверждать, что реализм, или, его чистейшая форма, – интуитивизм не ответит по-сво́ему на те же вопросы знания.
Священник Павел Флоренский
(Окончание следует).
[Автор не установлен.] Врачебное шарлатанство // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 191–193
—191—
На глазах у всех, среди белого дня, бесцеремонно и жестоко эксплуатируется больной человек. Изо дня в день в газетах и журналах появляются широковещательные объявления о новоизобретённых лекарственных средствах и приборах, якобы излечивающих быстро и радикально наиболее тяжёлые болезни, требующие для излечения или облегчения страданий заболевшего продолжительного воздействия средств научной медицины. Речь чаще всего идёт об излечении чахотки, сифилиса, рака, запоя и пр.
Охота на карман больного ведётся умело и настойчиво. С целью воздействовать на публику авторитетом высшего медицинского учреждения, средства эти проводятся через Медицинский Совет в качестве невинных полосканий для зубов, косметических препаратов, а затем уже с подзаголовком „с разрешения Медицинского Совета“ восхваляются в качестве чудесных средств против одной из вышеперечисленных болезней (так, напр., было с индийским бальзамом Аврахова и многими другими).
Для более успешного улавливания публики объявители возвещают, что средство вышло из „лабораторий“, обыкновенно никому неведомых (лаборатория „Кальтоко“, Нью-Йоркский Институт Знаний и т. п.), к средствам пристёгивают имя не существующего профессора или доктора (французский доктор факультета (!), проф. Маркони, Бибер, Вагнер и т. д.). Текст рекламы украшается сообщениями, что средство это выпушено в обращение „после целого ряда научных исследований“, „после долговременного испытания в клиниках и больницах“, хотя ни одного научного сообщения об этом средстве не имеется, ни одного испытания в клиниках и больницах с ним сделано не было. Далее в рекламах идут отзывы „князей, врачей, фельдшеров, священников, атаманов и артистов“, восторженные благодарности не существующих пациентов. Стремление обосновать якобы научно свои средства обнару-
—192—
живает крайнее невежество и безграмотность изобретателей, рассчитывающих на невежество же и легковерие публики: здесь и рисунки чудовищных бацилл в виде скорпионов, здесь и сообщения, что „данное средство превращает хрящ в мясо“, что „от впускания капель в глаза последние делаются чище и дальновиднее“ и т. д.
Обилие подобного рода конкурирующих между собой объявлений показывает, что улавливание публики идёт успешно и игра на невежество и легковерие оправдывает расчёты предпринимателей. К сожалению, от этого похода страдает не только карман больного человека, но и его здоровье.
Больные бросаются на эти средства, обещающие быстрое и радикальное исцеление, пропускают дорогое время для действительного лечения и, когда, разочарованные в самозванных целителях, обращаются за рациональной врачебной помощью, бывает уже поздно...
Чем дальше, тем характер этого обмана становится всё беззастенчивее. Создаются особые „популярно-медицинские журналы“, специально для рекламирования подобного рода средств, издаваемые нередко фабрикантами же новых средств („Будьте Здоровы“, „Вестник Здоровья“, „Гербарий“ и др.), организуются лечебницы, привлекаются к этому делу даже врачи, из тех, конечно, которые продают предпринимателю своё высокое призвание и честь.
Разыгравшаяся вакханалия достигла таких пределов, что дальнейшее молчание кладёт пятно и на тех, кто не возвышает голоса с целью предостеречь публику от беззастенчивых эксплуататоров.
Редакторы медицинских изданий в Петербурге на совещании 6 мая 1912 г. (председательствование в котором, по их просьбе, принял на себя Л.Б. Бертенсон, известный своей деятельностью по борьбе с шарлатанством в России) решили положить начало систематической борьбе с этим злом, наносящим крупный, нередко непоправимый вред здоровью населения316.
Намечен ряд мер для этой цели и прежде всего: привлечение к участию в этой борьбе представителей печати, вразумление лечащейся публики путём соответственных обращений к ней и учреждение особого Общества для борьбы с лечебным шарлатанством во всех его формах и проявлениях.
—193—
Приступая к работе в указанном направлении, редакторы медицинских изданий надеются, что общая печать и публика придут на помощь этим начинаниям, и таким образом явится возможность продуктивной борьбы с алчными искателями наживы за счёт больного человека.
Настоящее обращение и имеет своей целью вызвать самодеятельность общества для этой борьбы.
Председатель совещания Л.Б. Бертенсон; члены совещания: М.Б. Блюменау (Практическая Медицина), А.М. Брамсов (Новое в Медицине, Ежемесячник ушных, носовых и горловых болезней), М.Я. Брейтман (Здоровье и Жизнь), Н.А. Вельяминов (Русский Хирургический Архив), С.В. Владиславлев (Русский Врач), Р.А. Гайкович (Туберкулёз), Н.Ф. Гамалея (Гигиена и Санитария), Ф.Ф. Гольцингер (St. Petersburger Medicinische Wochenschrift), Г.И. Дембо (Врачебная Газета), Г.Б. Конухес (Труды Детских Врачей), А.А. Лозинский (Врачебная Газета), Д.П. Никольский (Журнал Русского Общества Охранения Народного Здравия), И.Б. Окс (Домашний Доктор), С.Б. Оречкин (Практический Врач), В.В. Подвысоцкий (Русский Врач, Архив биологических наук), А.А. Редлих (Журнал акушерства, и женских болезней), Д.А. Соколов (Педиатрия), М.С. Уваров (Вестн. Общественной Гигиены, Судебной и Практической Медицины), М.Ф. Цитович (Вестник ушных, носовых и горловых болезней), Я.Б. Эйгер (Медицинский Современник).
Н. П. [=Протасов Н. Д.] [Рец. на:] Weiner С. Die Entwicklungsgeschichte der Stile der bildenen Künste. Von Alterum bis zur Gotig. Leipzig, 1912 // Богословский вестник 1913. T. 1. № 1. С. 175–187 (2-я пагин.)
—175—
КРИТИКА.
I.
Е. Sohn Wiener, – Die Entwicklungsgeschichte der Stile in der bildenden Künste. I. Von Altertum bis zur Gotig. Leipz. 1912.
В тесной семье академических дисциплин наука церковной археологии в связи с историей христианского искусства занимает особенное, можно сказать, наиболее невыгодное положение. Если эта обособленность чувствовалась и прежде, до присоединения новым академическим уставом к кафедре церковной археологии истории христианского искусства, то теперь нужно отметить ещё более невыгодное положение новой дисциплины. Каждый академический предмет представляет собой не что-нибудь новое сравнительно с предметами семинарского курса, а лишь новую степень, расширение масштаба и кругозора этих последних. Совсем не то представляется в отношении новой академической науки. Здесь преподаватель должен чувствовать себя не совсем на месте. Не говорим уже о том, что ему приходится иметь дело с совершенно неподготовленной аудиторией, которая может только слушать, воспринимать, но не имеет никаких средств так или иначе критически отнестись к новому материалу. Ему приходится по необходимости быть очень осторожным в своих сообщениях, устранять всякие даже чисто-терминологические затруднения и вообще не отходить далеко от азбучных истин. И однако самому необходимо знать и не обходить самых опасных дебрей, самых сложных и запутанных вопросов своей специальности. Если раньше нас учили на лекциях церковной археологии, что занимающийся ею должен знать палеографию, историю, классический антик, то теперь этого оказывается совсем недостаточно. Историк Церковного искусства должен быть не только богословом,
—176—
археологом, палеографом, – этого мало: он должен знать и владеть всеми средствами для вполне научного анализа в своей области. Нельзя говорить об икосах частных домов, в которых первые христиане отправляли своё богослужение, не зная данных помпейских раскопок и тех выводов, и заключений, какие предложены учёными архитекторами. Но как говорить архитектурным языком, не будучи знаком с механикой? История христианской базилики была бы совершенно непонятной, если бы рассматривать её без экскурсов в историю античной архитектуры. Тоже самое нужно сказать и относительно иконографии. Изображение ангелов нельзя изучать без анализа античных монет с образом „Ники“, воскресение Спасителя очень интересные вариации имеет на поздних византийских монетах, и т. д. Нужно быть самому художником-техником, чтобы уметь анализировать древнейшие русские иконы, часто лишённые хронологических дат, которые можно установить бывает только разбором стилистических или палеографических данных. Прорись, записи, подмалёвка и пр. – всё это нужно иметь в виду при изучении иконографии. Конечно, подобные технические затруднения требуют специальных знаний, изучения самой теории живописи. Здесь мало, даже совсем не помогут собственные, всегда дилетантские, изыскания, здесь нужна школа, серьёзное изучение не только теоретическое, но и, главным образом, практическое. Но, раз школы нет, приходится с благодарностью отмечать наличность такой литературы, авторы которой понимают нужду дилетантов и помогают достаточно легко разбираться в тех или других вопросах в области истории искусства.
Предо мной лежит небольшой, очень изящно изданный томик – Е. Sohn-Wiener „Die Entwicklungsgeschichte der Stile in der bildenden Kunst“. I. Vom Altertum bis zur Gotik. Leipzig, 1912 r.
Этот томик представляет собой один (№ 317) из многочисленных выпусков целой серии научно-популярных монографий по всем областям человеческого знания, предпринятой лейпцигским издателем В. G. Teubner’ом под общим заглавием „Aus Natur und Geisteswelt“.
Автор-доцент Freie Hochschule в Берлине.
—177—
Каких-нибудь особенных горизонтов, новых открытий Читатель, более или менее знакомый с историей искусства, здесь не найдёт, но он получит новую систематику известного материала. Наоборот, для читателя-дилетанта книжка Зон-Винера представляет хорошее руководство, помогает легко разбираться в вопросах, касающихся главным образом области наиболее интересной, но и трудной, тёмной для неспециалиста: в вопросах стилей. Последовательному обозрению стилей в истории искусства, обозрению, которое преследует цели и запросы широкой публики и посвящена эта интересная книжка.
Автор широко смотрит на дело, оценивает художественно-исторические проблемы с точки зрения философской. Он борется с мнением учёных, которые хотят все стили выводить из архитектуры и к архитектуре свести все прочие искусства. Наоборот, он утверждает, что исторические движения в архитектуре нельзя понять без современных течений в пластике, живописи и ремесленном художестве. Переход от одной эпохи искусства к другой возможно сделать только тогда, когда удастся определить тончайшие переходы к новым руслам во всех областях художественной деятельности; каждая эпоха в сумме всех искусств должна дать что-нибудь законченное, цельное. Задача историка искусств здесь и состоит в том, чтобы определить стиль эпохи, одинаково сказавшийся в архитектуре, пластике и др. С этой точки зрения, история искусства представляется показанием того тонкого, еле уловимого для специалиста, развития из старого стиля нового со всеми признаками нарождающейся новой силы. Но при этом автор считает необходимым отметить некоторую разницу между искусствами. Он находит, что архитектура и ремесленное художество более непосредственно выражают сам стиль, дух жизни, чем живопись и пластика, где шире проявляется фантазия.
После такого небольшого предисловия автор переходит к искусству Египта. В раннейшую эпоху – древнее царство – египетское искусство вообще поражает своей монументальностью, которая основана исключительно на своеобразной гармонии простых линий и форм. Можно сказать, что монументальность является в этот период главным
—178—
принципом всего египетского искусства, которое своё место находит в сооружениях храмов и пирамид. Достаточно одного взгляда на реконструкцию храма царя Не-узер-ре, произведённую Борхардтом, чтобы понять, чем достигали древние художники Египта этой монументальности. Громадное пространство занято массивным каменным сооружением, но в нём нет совсем простора, всё загромождено, заложено огромными глыбами. Узкий проход, сдавленный снизу и сверху, ведёт внутрь. Особенно монументальны были пирамиды. При своей сказочной величине они внутри имели самую незначительную камеру, куда мог быть положен в саркофаге царственный строитель. Приблизительно к 2000 году, когда начинается вторая эпоха в истории Египта – среднее царство – является новое художественное течение, которое своим объектом избирает храмы. И наконец, новое царство, которое автор относит к второму тысячелетию до Р. X., совсем не знает пирамид. Архитектонический интерес здесь сосредоточивается всецело около храма. Вырабатывается троечастное деление храма на двор с колоннами, большой зал и место для отправления культа. Достаточно взглянуть на реконструкцию одного фасада, напр., храма в Люксоре, чтобы видеть, что и в эту эпоху монументальность стоит на первом плане. Фасадные, ничем нерасчленённые, площади составляют сильнейший контраст с узким, совсем невидным входом. Но появляется новый элемент-декорация. Художники испещряют все плоскости скульптированным орнаментом, ставят вазы, статуи, которые пока играют роль архитектурных обломов. Архитравная система покрытия создаёт новый архитектонический принцип – горизонтальность. Внутри храмы поражают своими размерами, но для молящихся остаётся совсем мало места, потому что всё занято громадными каменными стержнями колонн, между которыми остаётся небольшой проход к святилищу. Живопись и пластика в египетском искусстве занимали второстепенное значение декорации. Им были предоставлены стены погребальных камер и храмов. И здесь – простота на первом плане. Все фигуры изображаются в профиль, потому что так легче передать движение. Глаз может подметить здесь иногда блёстки реализма. Интересно, что
—179—
горизонтальность мы встречаем и здесь: фигуры и сцены наносятся рядами, разделёнными горизонтальными линиями, и глаз постепенно, плавно идёт от одной фигуры к другой, от одной сцены к другим. Величавая, спокойная торжественность египетского искусства сказалась вполне. Автор, между прочим, замечает, что египетские художники хорошо знали отношение вертикальности и горизонтальности к настроению: вертикальные линии означают движение, порыв, – это не нужно было им, и горизонтальные линии взяли верх.
2-ю главу Зон-Винер посвящает доисторическому искусству Эгейского моря. Это та культура, о которой рассказывает Гомер. Микены. Искусство отсюда дало художественные импульсы на весь тогдашний мир: Испания и (до) израильский Ханаан оказались также под этим влиянием. Нужно сравнить фреску из открытого дворца Кносса с египетским рельефом на гробе Ма-Нофер, чтобы уметь отличать египетское искусство от микенского: первое старается дать тщательный контур, последнее довольствуется простым пятном, формой, какая остаётся в памяти после одного взгляда. Деталей нет. Мы имеем здесь дело с настоящим импрессионизмом, который особенно част в пластике. В микенской живописи фигуры выпукло отделяются от стены, чего мы не видим в египетском искусстве. Что касается микенской архитектуры, то на основании анализа микенских Львиных ворот можно заключить об основном конструктивном принципе эпохи. Кладка из огромных тёсанных, правильной формы, камней. Пустые пространства в стенах над воротами (Львиные) заложены огромной плитой с высеченными изображениями двух львов, которая никакого конструктивного значения не может иметь. Круглые колонны с расплющенными капителями встречаются здесь часто, и это может служить признаком стиля.
В 3-й главе автор останавливается довольно подробно на искусстве Эллады.
На эллинской почве в ближайшее тысячелетие вырастает дорийский храм: этим вносится в общий хаос искусства раннего времени порядок. Первая архитектура эллин-
—180—
ская стремится прежде всего к дифференциации конструктивных частей, к расчленению плоскостей.
Храм Посейдона в Пестуме – выражение силы, мощи, но здесь же глаз невольно подмечает резко-выраженное отношение между частями, ритм пропорций, здесь красота выступает, как сам организующий мёртвый материал принцип. Время уничтожило всё, что подчёркивало праздничность стиля этого храма, ему недостаёт скульптур, рельефов в фризе, красок. Это – организм. Он слишком серьёзен, строг, суров, как серьёзна была и эллинская жизнь. Интересна керамика этого времени. Микенско-критские сосуды без основания сменяются глиняными широкими сосудами на круглом основании, с удобными для ношения ручками: весь сосуд украшается не рядами фризов, как это было до того времени, а одной сценой во всю величину стенки сосуда. Особенно любимы чёрные фигуры по красной глине, которые отличают эллинский стиль. Импрессионистическая манера микенской живописи сменяется стремлением к строгому контурному рисунку на плоскостях ваз. Ко времени персидских войн (VI в.) чернофигурный стиль сменяется постепенно краснофигурным: на чёрном фоне красные фигуры лучше выигрывают. Новый стиль владеет большей степенью выразительности, эффекта. Видно, что
4-я глава. Эллинистическое и римское искусство. Поликлет очень любил красоту амазонок, которая для него становится даже самоцелью. Боги представляются уже не в виде взрослых мужчин, а как юноши с нежным телом. Для художников обнажённая женщина – это идеал красоты. Пракситель ищет ещё повода представить обнажённую женщину: его Книдская Афродита сбрасывает одежды, чтобы войти в ванну. Томность, изнеженность придаётся и телу мужчины. Является зарождение в собственном смысле жанра. Пред нами эллинистическое искусство, вышедшее из поздне-эллинского направления культуры, какому Александр Македонский хотел подчинить покорённые народы. Афины сделались интернациональным городом. Это всё передалось и Риму. Он культивировал всякие греческие, египетские, сирийские традиции. Отличительная черта этого нового стиля заключается в том, что художники прежде всего стараются передать красивой фор-
—181—
мой зрителю свои чувства, настроение. Для этого прибегают ко всему. Нежность сменяется сентиментальной чувствительностью, сила – грубостью, страх – ужасом. Художники стараются возбудить в зрителях похотливость или ужас. Достаточно вспомнить о фарнезской группе, где женщину двое мужчин привязывают к рогам разъярённого быка, чтобы он затаскал её до смерти, или о группе Лаокоона, где центр внимания сосредоточивается на искажённых ужасом и страданиями лицах. Дисгармония в выборе тем характеризует эту эпоху. Выразить аффект в движениях тела – вот что преследуют художники этой эпохи. Это направление обращается к живописи и здесь находит все средства для своей новой задачи. В конце V века Аполлодор в своих картинах сумел разрешить проблему, поставленную эпохой: он достиг пластического выражения в своей живописи. Свет и тень – его средства. Такую аффектность мы находим даже в фресках Геркуланума – „культ Изиды,“ – где художники уже близки к реализму. Искусство начинает обращаться к повседневной жизни и здесь находить сюжеты для своих созданий. Архитектура также главный свой интерес сосредоточивает на частных жилищах. Роскошные перистили похожи на цветники, где богатые помпейцы отдыхали от приёмов своих клиентов. Чем дальше идёт время, тем всё более искусство культивирует декорацию, совсем забывая строгость античного ордера. В баальбекском храме матери богов перемешаны все ордера в угоду декорации. К концу античного мира такое смешение достигает высшей степени.
5-я глава. Древнехристианское искусство.
О создании христианством своего, особенного искусства нельзя говорить: оно дало только новое содержание, материю для художественных произведений. Родиной христианства была страна, где жили иудейско-эллинистические и римско-эллинистические традиции. Всё это сказалось на христианском искусстве. И значительно позже, когда столицей христианства сделалась Византия, нельзя было говорить о создании христианством своего искусства. И можно лишь констатировать переход от поздне-эллинистического искусства на пиксиде берлинского музея. Автор признаёт александрийское происхождение за последней и утверждает, что
—182—
эллинистические традиции здесь сохранились чище, чем в Риме. Если сравнить изображение Авраама на пиксиде с знаменитой статуэткой Софокла, то окажется, что христианство заимствовало у Эллады формы для художественного выражения. Можно даже сказать, что античные фигуры греческих философов христианские художники обратили в фигуры святых. Они эклектически собирали со всего мира элементы для христианского искусства. Такой эклектизм сказался и в архитектуре. Центрические храмы свой прототип имели, конечно, на востоке, откуда и переняли многое византийские зодчие, сами по большей части происходившие из Малой Азии. Замечательное создание Юстиниана св. София поражает своим конструктивным приёмом – соединением купола с квадратом. И нужно сказать, что всё образование стиля христианскими художниками состояло в том, что они развивали форму для ограничения пространства. И в базилике это направление нашло своё полное выражение. Италия с многочисленными образцами античных базилик дала все средства для христианских художников. Однако родиной христианской базилики был не Рим, а восток. Возможно, что эллинистическо-иудейские синагоги и дали плановой приём для базилик своими вытянутыми формами. Ряды колонн дают базилике особый вид: входящий в неё своими глазами бежит на замыкающее нефы алтарное полукружие. Здесь всё строение представляет собой один логический организм, в котором каждая деталь имеет под собой почву, потому – что вся базилика имеет определённую цель, – это целое, форма которого вызвана не случайно. Здесь ясность плана вполне соответствует ясности дорийского ордера. Живопись и свободная пластика в раннем христианстве находятся в полной зависимости от греко-римской древности. Голова Юстиниана на мозаике в алтарной нише св. Виталия Равенского носит все следы влияния классического антика. Даже более того: здесь пред нами импрессионистический стиль поздно-античной живописи.
Художники и простые мастера начинают преследовать определённые эстетические цели, хотят передать зрителям настроение. Является тонкость формы и линии в пластике: заметна свобода, легко осязаемая мягкость постепенно заме-
—183—
няет суровость дорийского стиля. Дискобол Мирона (около времени Перикла – 450) знаменует собой зарождение нового стиля. Начинается в полном смысле реалистическое искусство. Век Фидия приносит и архитектуре движение. В Парфеноне колонны легко, элегантно стремятся в высь и изящно поддерживают красивый фронтон. Стиль ионический. Из Малой Азии и с ионических островов этот стиль принёс с собой новые формы керамики и пластики. Храм Ники Аптерос в Афинах выразитель нового стиля. Здесь целла с агалма божества отограничена спереди и сзади четырьмя великолепными колоннами, образовавшими два портика. Колонны, как в дорийском стиле, стремятся вверх, но им придано нечто новое, что сообщает им какую-то особенную элегантность, эта элегантность передаётся и всему архитектурному организму, создавая новое единство. Игра света и теней на колоннах от каннелюр создаёт воздушность всего здания. Энергичное расчленение плоских фас в дорийском стиле заменили в ионийском стиле мягкие переходы, элегантная декорация. Блестящую эпоху ионийского стиля сменяет стиль коринфский, период упадка, вырождения, когда художники за мишурой не видели подлинных ценностей. В нём всё принесено в жертву блестящей декорации. В памятнике Лизикрата в Афинах это особенно ярко подчёркнуто. Богатейший скульптированный орнамент покрытия, треножник на крыше памятника и мн. другое не имеет никакого архитектурного значения, всё это только конструктивный балласт, фантазия. Декорация сделалась существенным элементом, чистая тектоника потеряла интерес.
В 6-й главе автор характеризует раннее средневековье в Германии и так называемый романский стиль. Начальное германское искусство эпохи переселения народов характеризуется прежде всего мелкими вещицами декоративного характера, добытыми раскопками из гробниц. Это главным образом фибулы из ценных камней, оправленных в бронзу, которую избегали патинировать. Частое соединение красного камня с блестящим золотом рассчитано, очевидно, на тоже чередование света и теней на равенских капителях. Этот стиль, конечно, своё начало ведёт от позднеантичной техники. В каролинскую эпоху
—184—
он господствует в искусстве: перед нами сосуд, подаренный герцогом Тассило в один монастырь; сложный орнамент бросается в глаза прежде фигур, окаймлённых орнаментальными же мотивами. В эту эпоху художники замечательно тонко передавали античные традиции, античные мифологические олицетворения. Карл Великий сзывает к себе во дворец отовсюду художественные силы и в результате этого его Аахенский собор и некоторые другие стороны по плану и стилю нужно относить к эллинистическим традициям. Книжная живопись его времени продолжает античный импрессионизм, не оставляя однако и византийской манеры. Но, вместе с тем, начинается новое направление в искусстве. Оно создалось в многочисленных школах того времени, которые стремились воссоздать дух позднего антика. Движения евангелистов на листе из кодекса аахенского дифференцированы с такой психологической топкостью, так свободно, смело, что невольно вспоминается античная манера. Это – каролингский ренессанс. В архитектуре постепенно совершается реформа: из базилики вырабатывается строение, которое носит название романского стиля. Мы в X веке. Романская архитектура в своей основе имеет план древнехристианской базилики. В романской церкви мы должны видеть благороднейший организм, какой после дорического храма человеческий гений впервые показал в изобразительном искусстве. Здесь архитектоническая ясность и архитектоническая красота составляют одно. Колонна не только декорация, – нет, она носительница силы, конструктивной мощи, как и стена, как и четырёхугольные столбы между колоннами. Фигурная пластика украшает всё строение, его стены, колонны, портал. Живописью убраны все стены среднего корабля, её мы видим в тысячах книг. Многие миниатюры оттонской эпохи ещё отдают античным импрессионизмом. Но к XII веку живость фигур исчезает, начинается царство орнамента, омертвелых персонажей, создаётся канон.
7-я глава. Начала готики автор относит к французской архитектуре, которая заменила круглую арку остроконечной. Это новый стиль, основанный исключительно на арочных сцеплениях, ему не нужны стены, которые он про-
—185—
резает причудливыми арками, нишами. В романской архитектуре всё держится на массивных стенах, в раннем готике – на воздушных арках. В нём портал обращает на себя особенное внимание: он органически слит со всем зданием, как это мы видим в соборе парижской Богоматери. Если в романской архитектуре башни стояли вне храма, то в готике они вошли в храм, так составные части, и их нельзя отделить, без нарушения всего единства. Зон-Вияер отрицает за готической аркой декоративное значение, – она имела значение конструктивное. Пластический орнамент постепенно вытесняет живописную декорацию, в нём даже фигуры святых имеют значение тех же растительных форм, витиеватых зигзагов. Постепенно в готическую эпоху пластика приобретает самостоятельное значение, за ней следует живопись.
8-я глава. Высокая готика. Около 1250 года была найдена классическая форма готики. В Соборе рейнском стена представляет собой сплошь прорезную плоскость. С этого момента всё внимание архитектора обращено на то, чтобы последний остаток стенной плоскости устранить и всё здание превратить в ажурное плетение. Появляется цветное убранство стёкол в окнах, и в этом нужно видеть то же стремление занять всякую плоскость орнаментом. Вместе с таким уничтожением стены, получают большое значение столбы, посредством которых архитектора начинают передавать движение вверх. Так, весь готический храм становится средством, чтобы вызвать в зрителе одно эстетическое впечатление, возвысить его над землёй и приблизить к Небесному. Готика не конструктивный, а живописный стиль.
9-я глава. Поздняя готика. Нарядность формы прежде всего подчёркивает эта эпоха. Тектоника становится в собственном смысле декорацией. Исчезают и колонны, превращаясь в простые рёбра острых арок; здесь уже нет ни главного, ни второстепенного, глаз не различает этого, его поражает общая ажурность, фантастичность. Орнаментальное богатство – это и есть сама красота.
Мы нарочно довольно подробно передали содержание книжки Зон-Винера, потому что она прошла совершенно незамеченной в русской литературе. В тысяче выбрасы-
—185—
ваемых немецкой литературой книг по истории искусства этот изящный томик занимает особенное положение. Автор в беглом, но внимательном очерке художественных стилей не разбрасывается на мелочи, что так свойственно его соотечественникам, он избирает четыре искусства, которые, по его мнению, имеют ближайшее отношение к культурной жизни – архитектуру, пластику, живопись и художественное ремесло, и опытным глазом определяет те идеи, которые развивали последние. Можно сказать, что перед нами – конспект в лучшем значении этого слова по истории искусства, который может даже заменить неспециалисту многотомные издания Любке, Шпрингера и пр. Если кто хочет бросить ретроспективный взгляд на ту или другую художественную эпоху, тому смело можно рекомендовать эту небольшую, но многую книжку.
Есть у автора и недостатки.
Зон-Винер – типичный немец, которому классическое образование мешает быть вполне объективным. Он слишком увлёкся идеей постепенного развития и прилагает её всюду, совершению не допуская типически-нового сравнительно с тем, что выработала классическая древность. Даже в эпоху готики, думает он, художники были несвободны от античных традиций (106, 126): после призмы средневековья, по нашему мнению, художники не могли знать подлинного антика, перед ними был обезображенный остов его.
Также несправедлив автор и в отношении византийского искусства. Конечно, о вкусах не спорят, но нельзя не подчеркнуть, что немцы не любят говорить, и, тем более, восхищаться византийским искусством. Зон-Винер, заметив вскользь о появлении в Византии художественного течения, начинает подробную речь о базиликах: выходит у него даже, что византийский конструктивный приём возглавления купола квадрата просто был оставлен архитекторами, так как оказался несовершенным, после чего те и обратились к базиличному плану (62–70). Конечно, это совершенно не научный приём: мы знаем, что базиличный тип существовал ещё при Тертуллиане, Рим оставил много базилик. В Византии же архитектонический гений из элементов антика и востока, дотоле бывшего в
—187—
загоне, создал свою, особенную архитектуру (св. София), превзойдя, таким образом, запад, в базиличном плане которого, не оставленного и готикой, нет ничего христианского – это те же римские basilicae forenses. Если бы автор хотел быть объективнее, он оставил бы свою национальную гордость и сказал нам, что Византия создала свой оригинальный стиль, своё искусство, в котором открыть античные языческие традиции гораздо труднее, чем в искусстве романского и готического запада... В своём очерке Зон-Винер совершенно опускает анализ византийских миниатюр, который, несомненно, заставил бы его сказать нам, что даже в эпоху готики немецкие художники совсем беззастенчиво и полными горстями черпали из богатой сокровищницы византийского искусства. Конечно, они были хорошими шлифовальщиками...
Н. П.
* * *
К.Р. Евграфов. Подсознательная сфера и художественное творчество. Ц. I р. 136 стр., Пенза, 1912 г.
Книжка Евграфова составилась из публичных лекций, читанных им в Пензе в 1909 г. В книжке этой две главных темы, как это видно и по заглавию. Из них особенно современна первая – „подсознательная сфера“. Вокруг явлений, покрываемых этим пока всё ещё недостаточно ясным термином, идёт очень интересная работа многих психологов и психиатров (Фрейд, Вальдштейн, Штекель и др.), а в России этой работе посвящена целая серия изданий переводного и оригинального характера под общим названием „Психотерапевтическая библиотека“. Это внимание психологов к душевным состояниям и процессам, до сих пор остававшимся в тени, находит себе мощную поддержку в некоторых новых философских направлениях (прагматизм, Берсон) и, в свою очередь, даёт возможность по-новому взглянуть на многие вопросы сопредельных с психологией наук. Думается, что недалеко то время, когда при помощи новых методов совершенно неожиданно разрешатся не только трудные психологические и психиатрические проблемы, но и многие вопросы
—188—
педагогики, этики, теории творчества, криминалистики и т. д.
Такой попыткой проложить тропу из области „новой психологии“ в теорию поэтического творчества является книжка Евграфова. Подробно изложив современное состояние учения о подсознательной сфере, он пытается привлечь это учение для выяснения вопросов поэтического творчества. Нельзя сказать, чтобы автор сумел наново и по-своему разрешить вопросы о сущности художественного творчества; сам автор, кажется, не претендует на это (стр. 77). Всё же, книжка имеет свою ценность: кроме толкового изложения современного положения учения о подсознательной сфере, автору попутно удаётся высказать много здравых суждений о литературе. её задачах, современной критике, мнимой научности и т. п. Всё это делает книжку Евграфова и современной, и ценной.
А. Е.
Жданов А.А. Из лекций по Священному Писанию Ветхого Завета читанных доцентом Московской Духовной Академии А.А. Ждановым (с сент. 1888 г. до сент.1893 г)./ Под ред. свящ. Д. В. Рождественскою // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 1–16 (3-я пагин.). (Начало.)
—1—
Александр Алексеевич Жданов родился 6 сентября 1860 г. в с. Рудневе Вронского у. Рязанской губ., где отец его состоял священником. В 1880 г. он окончил курс Рязанской Духовной Семинарии и спустя год занял место сельского учителя. Прослужив учителем два года, он в 1883 г. поступил в Московскую Духовную Академию, курс которой окончил в 1887 г. с блестящим успехом и, после стипендиатского года, определён и. д. доцента Μ. Д. Академии по кафедре Священного Писания Ветхого Завета. В 1891 г. Александр Алексеевич приобретает степень магистра богословия за сочинение: „Откровение Господа о семи азийских церквах. (Опыт изъяснения первых трёх глав Апокалипсиса)“, а 12 ноября того же года утверждается в звании доцента. Служба А.А. Жданова в Академии была непродолжительна: 1 сентября 1893 г. он выбыл из Академии и назначен на должность инспектора народных училищ Мариупольского уезда Екатеринославской губ. Его служебная карьера закончена в Тверской губ., в должности инспектора же народных училищ: он скончался 16 марта 1909 г. в Корчеве Тверской губ.
В должности доцента Академии по кафедре Священного Писания В. 3. Александр Алексеевич состоял только пять лет: срок непродолжительный, если принять во внимание то, что он за этот же срок должен был представить магистерскую работу. Однако, им составлен довольно обширный систематический курс его науки, обнимающий вопросы Общего Введения и решение важнейших исагогических проблем, касающихся Пятокнижия, книг исторических и пророческих, с общим обозрением их содержания и со множеством экзегетических экскурсов. В читанном им
—2—
курсе не достаёт чтений о книгах учительных (точнее – о книгах отдела „кетувим“, так как А. А. излагал свой курс применительно к расположению ветхозаветных книг в еврейской Библии) и неканонических. Он держится обыкновенно такого плана: при исследовании той или другой книги или целой группы книг (напр., Пятокнижия), он решает важнейшие исагогические вопросы, попутно знакомя с содержанием данной книги или нескольких книг; а затем специальному экзегетическому исследованию подвергает наиболее трудные отделы. Задача его чтений им самим выяснена в следующих словах, заключающих чтение, открывающее курс: „при наличном количестве лекций, мы принуждены ограничиться одним только первым отделом науки, т. е. предметом нашего курса будет „происхождение отдельных книг, входящих в состав библейского канона“, причём, по мере возможности, от времени до времени мы будем предлагать изъяснение избранных мест из тех священных книг, которые будут подлежать нашему изучению“. К лекциям приложен очень подробный указатель литературы – конечно, для нашего времени устаревший и требующий значительного пополнения. В исследовании вопросов исагогического характера и при истолковании избранных отделов, г. Жданов держится золотой середины: он не следует рабски за авторитетами, но и не увлекается критицизмом. С представителями отрицательно-критического направления очень успешно полемизирует. Что касается изложения, то, по-видимому, не все отделы можно признать одинаково обработанными: одни можно считать окончательно редактированными автором; другие же – с поправками, сокращениями и дополнениями – очевидно, предполагалось обработать впоследствии.
Кроме стипендиатского отчёта (см. Журналы Совета Академии за 1888 г.), магистерской диссертации и речи перед магистерским диспутом (Приб. к твор. свв. отц. за 1891 г.). А.А. Жданов составил разбор докторской диссертации Μ.Д. Муретова; разбор этот, при его обширности и обстоятельности, признаётся придирчивым (Прав. Бог. Энцикл., т. V. ст. 546). В Богословском Вестнике помещены Александром Алексеевичем несколько статей критико-библио-
—3—
графического характера (см. Указатель к Богословскому Вестнику за первое десятилетие). Он принимал участие в переводе творений св. Кирилла Александрийского (9-й части) на русский, язык. Помимо печатных, от Александра Алексеевича остались некоторые рукописные труды: Словарь еврейских собственных имён, Разбор соч. Морозова: „Откровение в грозе и буре“ и др.
Лекции покойного печатаются без существенных изменений, без сокращений и дополнений, равно как без критических замечаний. Подстрочные примечания (большей частью, библиографического характера) принадлежат редактирующему курс лекций.
Введение
В обширной группе наук, обозначаемых общим именем „богословских“, есть немало таких, которые должны отстаивать своё право на существование, отвоёвывать себе, и иногда с большим трудом, место в той или другой отрасли богословского ведения, т. е. доказывать, что и они, как подобает всякой науке, имеют свой собственный предмет, свою собственную задачу, оправдывающую их бытие, известную наличность исторических условий, вызвавшую их существование в качестве специальных наук: при этом часто является необходимость опровергать и рассеивать идущие с разных сторон возражения и сомнения в их теоретической состоятельности и практической пригодности, проводить трудно различимые грани и ставить межевые знаки, чтобы оградить свои пределы, обезопасить себя от вторжения чужеродных элементов, а также от собственных неосторожных экскурсий в чужие владения. Наука Священного Писания Ветхого Завета не из таких: её предмет (ветхозаветная Библия) с детства знаком каждому, и никому не приходило в голову сомневаться в его реальности. Насколько этот предмет изучения отличается определённостью с материальной стороны, не допускающей никаких перетолкований, настолько же бесспорно и не нуждается в доказательствах право науки на самостоятельное существование.
В ином положении находится дело относительно метода
—4—
науки, содержания её и конечной цели, к которой должно вести изучение ветхозаветной Библии. Хотя вам, как лицам, прослушавшим курс богословской энциклопедии, т. е. введения в круг богословских наук317, без сомнения, известны и положение науки Священного Писания Ветхого Завета в кругу прочих отраслей богословского ведения и её отличительный характер с материальной и формальной сторон, – тем не менее считаю небесполезным и от себя предложить вашему вниманию некоторые разъяснения по указанным пунктам, т. е. относительно надлежащей и возможной постановки науки Священного Писания Ветхого Завета.
В настоящее время громадное большинство учебных руководств и научных курсов по Священному Писанию Ветхого (а равным образом, и Нового) Завета носят название „введений“; к этому названию, смотря по характеру и объёму исследований, чаще всего присоединяются эпитеты; „критическое“, „критико-историческое“, „общее“, „частное“ и другие. Тем же термином обозначаются и специальные монографии об отдельных священных книгах и о тех или других группах книг, связанных между собой или единством происхождения, или однородностью содержания. Термин „введение“, как почти все другие термины, служащие для обозначения различных наук, не даёт ни малейшего понятия ни о содержании, ни о методе, ни о задаче науки, и никакой логический анализ не может извлечь из него указаний в этом направлении. Эту пустоту может дополнить единственно одно только историческое обозрение развития науки и непосредственное знакомство с её современным состоянием.
Термин „введение“ представляет историческое наследство от того, достаточно уже отдалённого, прошлого, когда только что зарождалась наука о Священном Писании, и прямо указывает на тот первоисточник, из которого она первоначально возникла.
—5—
С давних пор у толкователей и издателей свящ. библейского текста (сначала у первых) установилось обыкновение предпосылать толкованиям и изданиям предварительные вводные сведения, или предисловия, которые имели целью дать читателям руководство к надлежащему употреблению священного текста и облегчить его уразумение. Выбор сообщаемых сведений определялся отчасти известными потребностями того круга читателей, для которого назначались толкования и издания, отчасти личными вкусами и целями толкователей и издателей. Поэтому, естественно, что подобного рода сведения были отрывочны, случайны, небогаты содержанием и незначительны по объёму. Что представляли собой эти зачатки науки Священного Писания в патристический период, можно видеть из немногих примеров, которые мы заимствуем из творений отцов и учителей Церкви, весьма известных своими экзегетическими трудами. Пр. Ефрем Сирин, напр., предваряет толкование на книгу пр. Иоиля следующим введением (σχόλιον): „Иоиль происходил из колена Рувимова; и умер и погребён он в земле Рувимовой. Имя Иоиль толкуется: крепость Господня“; на Амоса: „Амос пророчествовал во дни Озии, царя иудейского, о царстве израильском о соседних народах, а именно: о пленении Израильтян и Сириян Ассириянами, и о пленении Иудеев Вавилонянами“: и в других случаях пр. Ефрем вкратце сообщает содержание изъясняемой книги318. Св. Иоанн Златоуст в предисловии (προοίμιον) к беседам на пр. Исаию ограничивается замечаниями о „превосходстве“ пророка и его „сострадательности“, которую он, впрочем, разделяет с другими святыми мужами древности.319 Бл. Феодорит обыкновенно даёт наперёд ὑπόθεσις – изложение содержания книги. Наибольшей обстоятельностью отличаются предисловия (προοίμια) св. Кирилла Александрийского, в которых, кроме биографических сведений о писателе, излагаются исторические обстоятельства, обуславливавшие происхождение священной книги и изъясняющие главную цель её и отличительные особенности её содержания. У бл. Иеро-
—6—
нима иногда можно найти перечень трудов его предшественников по изъяснению той или другой книги (так сказать, литературу предмета), – впрочем, это лишь в тех случаях, когда он желает показать слабость и недостаточность всего, что сделано до него. У многих толкователей (у бл. же Иеронима, у св. Кирилла и др.) попадаются методологические замечания о способах истолкования более или менее затруднительных мест и отделов Библии.
С течением времени, подобные предисловия или введения постепенно обогащались новым содержанием и мало-помалу начали появляться попытки составить из них нечто целое. Древнейшие из них и наиболее известные: на Востоке – Синопсис, приписываемый св. Афанасию Александрийскому (он помешается в полных изданиях славянской Библии320 и содержит краткие сведения о наименованиях, составе и писателях священных книг), затем „Обозрение книг Ветхого и Нового Завета, в виде памятных записок“, издаваемое в числе, творений св. Иоанна Златоустого321; на Западе – „In libros veteris ac novi testamenti prooemia“322 Исидора Севильского (VII века).
В новейшее время древние введения разрослись в обширные более или менее систематические трактаты, касающиеся разных сторон Священного Писания: были отделены от комментариев и изданий Библии и начали самостоятельное существование в виде специальной науки о Священном Писании, удержав за собой название „введения“.
Такова общая схема истории науки, получившей название „введения“, и таким образом наука о Священном Писании, согласно своему историческому происхождению, определяется как система предварительных понятий, необходимых для правильного, научного и практического, поль-
—7—
зования священными книгами, для надлежащего их уразумения и истолкования. Это определение в основных чертах неизменно повторяется в бесчисленных хандбухах и лербухах по Священному Писанию Ветхого и Нового Завета, различаясь лишь внешней формой выражения.
Нельзя не заметить, что приведённым понятием о науке заранее исключается из её содержания так называемый экзегезис, или истолкование: её пределы ограничиваются одной исагогикой: из двух, обыкновенно неотделяемых друг от друга элементов остаётся только один. Можно ли признать это ограничение правильным»? Не суживается ли от этого более, чем нужно, содержание науки, вследствие чего она должна многое потерять относительно своего интереса и значения?
На это должно сказать, что содержание науки действительно суживается, но суживается на достаточном основании: из области науки исключается элемент, хотя и тесно с ней соприкасающийся, но ей не принадлежащий. Истолкование священного текста представляет собой прикладную, – так сказать, практическую деятельность в сфере Священного Писания, применение слова Божия в известных научно-теоретических или жизненно-практических целях, управляемое отчасти сознательными принципами, отчасти бессознательным экзегетическим тактом; другими словами: истолкование можно назвать искусством, умением, и без него не в состоянии обойтись никакая наука, никакая деятельность, имеющие хотя бы малейшее отношение к Священному Писанию. Сохраняя указанный основной характер (искусства) и находя себе самые разнообразные применения и в самых разнородных сферах, истолкование, по необходимости, видоизменяется до бесконечности, в зависимости от того, к каким целям оно направлено, с какой точки зрения производится, кому оно предназначается, младенцам ли, требующим словесного млека, или мужам, привыкшим к твёрдой пище. При подобных качествах, само собой разумеется, оно не может быть самостоятельным элементом в составе науки, задачей которой должна быть выработка твёрдых объективных принципов, необходимых для правильности самого истолкования.
—8—
Что же должно входить в содержание науки, обозначаемой термином „введения“ или „исагогики“? Какие предварительные понятия и сведения должно считать необходимыми для уразумения Священного Писания? Будем искать ответа на этот вопрос, как и прежде, в истории науки и посмотрим, каким материалом наполнялись и наполняются исагогические трактаты по Священному Писанию Ветхого Завета.
В патристический период, когда внимание отцов и учителей Церкви было сосредоточено главным образом на уяснении основных нравственных понятий, сокрытых в священных письменах, защите христианского вероучения против Иудеев и язычников, раскрытии и обосновании догматов в полемике против еретиков, естественно, наиболее важное значение получили методологические приёмы, правила и способы, служащие к отысканию истинного смысла Божественного Откровения; исторический интерес выражен был в весьма слабой форме и отступал на задний план перед догматическим и нравственно-практическим. Вот что, например, пишет Григорий Великий в начале своих „Moralia» на Иова; „кто написал эту книгу, совершенно излишне спрашивать, если достоверно известно, что автор книги Дух Святый... Кто внушил написанное, тот и написал её... Было бы смешно, получив послание от великого человека, спрашивать, какой тростью оно написано“. (Merx, Eine Rede vom Auslegen etc.)323. При таком взгляде на Священное Писание, научное введение в него должно было заключать в себе лишь правила герменевтики, или искусства толкования, и именно такой характер носят все почти сохранившиеся до нашего времени труды по исагогике. Познакомимся с некоторыми из них.
В первой половине V-го века епископ Лионский Евхерий издал руководство по Священному Писанию под заглавием „Liber formularum spiritalis intelligentiae“, „книга образцов, или формул духовного понимания“. Это сочинение Евхерия содержит в себе собственно толковый словарь библейской герменевтики по аллегорическому методу. Вот несколько примеров из герменевтики Евхерия; если гово-
—9—
рится, что Бог имеет главу и власы (у Даниила) и пр., то глава означает сущность Божества (essentia divinitatis), власы – святых ангелов или избранных праведников; нос – вдохновение Божественное в сердцах верующих, уста – Сына или Слово Божие, губы – согласие обоих Заветов и под.; шея – Священное Писание, ибо в Песни Песней сказано: шея твоя, как башня Ливанская, на которой висит 1000 щитов324, т. е. свидетельств Священного Писания. Каждому существу и предмету, упоминаемому в Священном Писании, Евхерий даёт символическое значение: орлы, на языке Священного Писания, – это святые, страус – или еретик, или философ, или лицемер, петух – проповедник Слова Божия, курица – Церковь, премудрость или душа325. В этом духе составлено всё введение Евхерия.
В пятом же веке, как предполагают, появился первый труд по Священному Писанию с наименованием введения. Это – Εἰσαγωγὴ εἰς τὰς θείας γραφάς, „введение в божественные писания“, принадлежащее некоему Адриану. Адриан даёт собственно стилистику, или риторику Священного Писания, перечисляет тропы и фигуры, в нём употребляемые, указывает некоторые идиотизмы, свойственные духу еврейского языка, и по местам полемизирует с представителями чисто аллегорического толкования, настаивая на том, чтобы толкователь прежде всего отыскивал буквальный, непосредственный и ближайший смысл Писания.
От шестого века остались труды Юнилия326 и Кассиодора, бенедиктинского монаха. Юнилий не епископ Африканский, как обыкновенно предполагают, а важный Константинопольский сановник (quaestor sacri palatii у Юстиниана, † 552), написал „De partibus divinae legis libri duo“, (Strack, Einl.327 изд. 3, стр. 6). Сначала, в первой книге, Юнилий рассма-
—10—
тривает „виды речи“ (species dictionis: речь историческая, пророческая, приточная, дидактическая, или просто нравоучительная), затем даёт правила для их истолкования и в первой же книге переходит к изложению библейской догматики, которой посвящена и вся вторая книга328. Кассиодор составил в руководство подчинённым ему бенедиктинским монахам две книги „De institutione divinarum litterarum“, которые он сам называет „libri introductorii“, т. е. книги, содержащие введение в Священное Писание обоих заветов. В них Кассиодор сначала перечисляет все книги Священного Писания, с указанием главнейших толкований на них, преимущественно латинских, потом предлагает вспомогательные средства для понимания Библии, доказывает необходимость знакомства, с светской литературой (litterarum saecularium studia), сообщает некоторое понятие о разделении Писания и каноне священных книг, – наконец, преподаёт монахам советы относительно того, как списывать с книги, как исправлять погрешности, вкравшиеся в текст Вульгаты и пр.329.
Если к поименованным трудам прибавить ещё „De doctrina christiana“ Августина, – труд, имеющий ближайшее отношение к гомилетике, „семь правил для исследования и определения смысла Писаний“ (Regulae septem ad investigandam et inveniendam intelligentiam Scripturarum) донатиста Тихония330, то мы будем иметь перед собой почти всё, что создала древность по науке введения в Священное Писание, всю совокупность основных теоретических понятий, которыми руководствовались экзегеты до 14-века (не включаем сюда замечаний, рассеянных по комментариям, и других разрозненных и разбросанных материалов для науки).
Таким образом, „введение“ в Священное Писание, по взгляду патристической древности, выразившемуся в по-
—11—
именованных трудах, представляет собой, главным образом, герменевтику, которая соприкасается то с грамматикой и стилистикой, то с гомилетикой, то с догматикой, содержит в себе сведения чисто случайного характера и имеет направление почти исключительно практическое. Нетрудно видеть, что при подобной постановке „введение“ слишком узко, односторонне, страдает отсутствием всякой научной систематичности и может удовлетворять лишь нехитрым потребностям начетчика дилетанта, а не развитым и многосторонним вкусам учёного богослова.
В новейшее время герменевтика или трактуется как самостоятельная наука, или чаще всего входит в науку Священного Писания, как одна из её составных частей, в виде „истории толкования“.
Если мы теперь, миновав длинный ряд промежуточных звеньев, соединяющих древнейший период в развитии науки с новейшим, обратимся прямо к новейшим курсам „введения“, то заметим, что количество собранных сведений возросло в весьма значительной степени; но мы не найдём здесь должного соответствия с строго-логической простотой и систематической стройностью в конструкции науки: научный материал, накопленный веками, и, без всякого сомнения, ценный, перерос те ограниченные рамки, которые были пригодны для древнейшего периода в истории науки и в своё время, на своём месте могли быть признаны удовлетворительными. Какая хаотическая пестрота и какое изумительное разнообразие царит в новейших „введениях“ в Свящ. Писание, в этом можно убедиться, бросив беглый взгляд на содержание некоторых в том или другом отношении заслуживающих внимания научных курсов „введения“. Так в учебнике Рейша состав науки определяется следующим образом: во введении необходимы сведения: во-первых, по библейской филологии (о языках: еврейском, арамейском и греческом и истории их развития); во-вторых, по библейской археологии (о религиозных, гражданских и общественных учреждениях, установлениях, обычаях и пр. народа Израильского и других народов древности); в-третьих, по библейской истории и географии; в-четвертых, по библейской герменевтике и критике; в-пятых, учение о боговдохновенности Свящ. Пи-
—12—
сания и о каноне священных книг (у некоторых – история канона, или каноника); в-шестых, сведения по истории подлинного текста и его переводов; наконец, в-седьмых, сведения об авторах, цели, содержании, времени и месте написания отдельных книг библейского канона и пр.331.
В курсах de-Wette332, Bleek’a333, Keil’я334 встречаем обширные рассуждения не только о еврейском языке и истории еврейской филологии с древнейших времён до настоящего, но и о других семитических языках, сродных с еврейским: арабском, финикийском, ассирийском и других. К основным началам библейской герменевтики и критики св. текста, входящих в состав введения Рейша, у de-Wette335 и Keil’я336 присоединяется и история этих отраслей науки. Glaire вводит в своё руководство сведения из еврейского календаря337. Scholz338 помещает обширные исследования „о происхождении и развитии языков вообще и библейских в особенности“, об изобретении письма – в частности, у семитов, о материалах, употреблявшихся для письма, о литературе древних Египтян, Хананеев, Финикиян, Арабов, Ассиро-вавилонян, Персов, Греков и др. В некоторых введениях можно найти назидательные размышления о чистоте сердца, о молитве, о посте, как важнейших вспомогательных средствах, необходимых для уразумения Священного Писания.
Нельзя отрицать того, что составители „введений“ в указанном объёме по-своему правы, потому что на вопрос: „какие сведения необходимы для уразумения Библии“ каж-
—13—
дый даёт ответ не по личному только убеждению правильный. Одни из сведений, помещаемых во введениях, действительно необходимы при чтении и изучении Библии; другие, если и не так необходимы, то, во всяком случае, могут иногда быть пригодными для читателя и экзегета. Но с другой стороны, нельзя не видеть, что в выборе этих сведений по-прежнему, как это было в древности, – может быть даже более, чем в древности, заметно отсутствие твёрдого и устойчивого начала, которое с надлежащей определённостью указывало бы объём и границы науки и служило руководственной нормой при систематизации её содержания. Недостаток управляющего принципа со всеми по необходимости из него вытекающими научными и практическими недостатками составляет общую характеристическую черту всех курсов по науке Свящ. Писания, с наименованием „введения“, и ясно показывает невозможность правильной постановки этой науки в форме введения, как бы его ни называли – историческим, историко-критическим или каким другим. Всякое введение, но справедливому замечанию Э. Мейера (Gesch, d. poetisch. Nation. – Literatur der Hebräer. Vorrede, III),339 „может представлять не иное что, как произвольное накопление учёных сведений, которым не будет доставать истинного научного принципа и необходимой взаимной связи“; оно может быть только обширным и разнообразным собранием научных материалов, в котором беспорядочно перемешано существенное и необходимое с несущественным и излишним. Затем, если из него выделить еврейский язык, библейскую археологию, библейскую историю, как дисциплины самостоятельные (что уже и сделано), то, очевидно, „введение“ лишается самых важных и существенных пособий для понимания и истолкования Писания. Что же тогда останется от науки? – В неё должно будет входить всё то, что необходимо для уразумения Библии, и вместе с тем не входит в состав какой-либо другой самостоятельной науки, – до тех пор, пока снова не отделится от неё какая-нибудь важная ветвь, чтобы начать самостоятельное существование.
—14—
Не особенно давно неудовлетворительность описанной постановки библейского „введения“ была замечена, и вследствие этого стали появляться одна за другой попытки построить науку на иных началах, сравнительно с теми, которым она обязана своим происхождением. Эти попытки идут в двух направлениях: одни учёные поставляют науку о Свящ. Писании в тесную зависимость от догматики, другие рассматривают её, как часть всеобщей истории литературы. Представители первой группы твёрдо держатся традиционного названия науки „введением“ и лини, сопровождают его частными пояснениями относительно её задачи и метода. Напротив, учёные второй группы или бросают этот термин, как ненужный и устарелый остаток отдалённого прошлого, и заменяют названием „история Свящ. Писания Ветхого или Нового Завета“ (Reuss340, Kuenen341) или же, сохраняя прежний термин, прибавляют оговорку, что они имеют в виду собственно „критическую историю ветхозаветной или новозаветной литературы“ (Vatke342, Bleek343, Rieliin344). К первой группе принадлежат почти все католики (из католиков некоторое исключение представляет Haneberg)345 и протестанты так называемого ортодоксального направления, ко второй – большинство новейших свободомыслящих учёных.
К наиболее видным и типичным представителям первой группы учёных принадлежат из католиков Каулен,346 из протестантов – Кейль. Последний оказывал и продолжает оказывать сильное влияние на развитие рус-
—15—
ской науки о Ветхом Завете; в течение последних 30 лет русские богословы усердно переделывали и переводили Кейля347 и предпринимали исагогические исследования в духе и направлении той школы, к которой принадлежал Кейль (т. е. ортодоксально-протестантской; к ней же принадлежат Генгстенберг, Геферник и др.). Благодаря Кейлю и другим протестантам ортодоксалам, в русской богословской литературе утвердились до значительной степени и почти стали традиционными многие исагогические и экзегетические воззрения, прикрываемые обыкновенно авторитетом великих отцов и учителей Церкви, на самом же деле представляющие помесь протестантской ортодоксии с средневековым иудейством и отличающиеся ясно выраженным характером так называемой библиолатрии. Каулен же поименован нами потому, что он может быть признан типическим выразителем взглядов, преобладающих в католическом мире.
По воззрению Кейля, „историки-критическое Введение в Ветхий Завет есть наука об исторических основах ветхозаветного канона, как совокупность историко-критических изысканий, которые обосновывают научно-богословское употребление Ветхого Завета, как канона дохристианского Откровения, и доказывают права Церкви на подобное употребление. Но так как авторитет книг канонических прилагается писаниям Ветхого Завета лишь в том предположении, что они содержат в себе подлинные источники ветхозаветного Откровения, преданы нам неповреждёнными по своему содержанию и издревле были почитаемы за таковые, т. е. за книги канонические, то отсюда, заключает Кейль, для науки Свящ. Писания возникает двоякая задача: историко-критическим методом исследовать и доказать, во-первых, происхождение и характер этих писаний каждого в отдельности, а также собрание и соединение их в одно органически расчленённое целое; во- вторых, неповреждённость, т, е. сохранение этого целого в
—16—
неприкосновенном виде сначала в иудейской, а затем в христианской Церкви до настоящего времени“348.
Прямее и последовательнее эту задачу науки выражает Каулен. „Библейское введение (безразлично, какого Завета), по мнению Каулена, есть доказательство боговдохновенности и канонического характера Свящ. Писания“349. Этой цели оно достигает, раскрывая, во-первых, неповреждённость, во-вторых, подлинность и достоверность священных книг, вопреки действительным и возможным возражением против них. Поэтому, продолжает Каулен, „введение в Священное Писание не есть часть всеобщей истории литературы, как думают в новейшее время, потому что, в этом случае, оно перестало бы быть богословской наукой: ... не есть также ветвь исторического богословия, потому что имеет целью не раскрытие чего-либо искомого, а доказательство заранее данного: следовательно, оно составляет часть догматического богословия, и именно принадлежит к его общему, или апологетическому отделу“350.
Нельзя не заметить, что Каулен более логичен и последователен, чем Кейл. Кейл ставит рядом два совершенно непримиримых между собой понятия: „критически исследовать“ и „защитить от всех нападений противников“. Апологетическая задача351 („защитить“) требует критического исследования не самого предмета, а тех мнений о нём, которые заведомо признаются ложными: вследствие этого, исследование, необходимо, теряет критический характер, из критического обращается в полемическое, и, строго говоря, даже перестаёт быть исследованием в истинном смысле этого слова. „Введение“, в самом принципе своём преследующее апологетическую задачу, не может быть названо историко-критическим, а скорее полемическим, и если удалить этот ненужный и неудобный придаток (историко-критическое), в котором
(Продолжение следует).
Журналы собраний Совета Московской Духовной Академии за 1912 год // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 225–288 (4-я пагин.)
—225—
смелова, логическая Лосского, метафизическая Эрна, которые приводят автора к необходимости специального рассмотрения опытов наиболее внутренних, – опытов мистических. „Вселенское чувство“ Лапшина, теософия и, наконец мистика святых подвижников Церкви – вот главнейшие моменты в ходе рассуждения г. Голованенко. Но, так как выясняется, что опыты в конце, концов примыкают к течениям взаимно-исключающим, то является вопрос об аксиологии опыта. Тут последним словом, дающим читателю, так сказать, нечто осязательно, должно признать „символический параллелизм“. – Таков ход мысли в самых внешних его очертаниях. Мы не имеем здесь возможности входить в детальное обсуждение достоинств и недостатков этого исследования; оно столь сдержанно, да, наконец, и просто велико по объёму, а многие главы написаны, к тому же, столь сжато, а нечто – и совсем конспективно, что потребовалось бы для критики специальное сочинение. Несомненно, что пропуски некоторых глав., напр., о Канте, о Шуппе, о Гуссерле и т. д., на каковые указывает и сам автор, могли бы быть им легко выполнены и ничего не прибавили бы к нашему убеждению, что г. Голованенко работать умеет и любит. Ход мысли его, в основных линиях – правильный, хотя можно, конечно, спорить об „экономичности“ такого пути; результаты к которым приходит он вполне приемлемы. Но результаты его, – так сказать, хорошая сервировка для несуществующего ещё обеда. Будучи по-своему необходимы, они, сами по себе, не напитают души и, – судя по тону всего сочинения, безнадёжно-одинокому, – не напитали души даже авторской. Почему? – Мне думается, что это – потому, что автор вплотную подошёл к идее таинства, но не понял того, что или надо отказаться от всего построения, или же выступить за пределы философского умозрения в область новых реальностей, в которых даётся искомый синтез форм и норм опыта. Г. Голованенко принёс плод, по не сумел понять, что принёс его и ... остался голоден. Чтобы насытиться, ему нет надобности менять свои воззрения, – ибо у него есть уже всё, что нужно ему, – но надо подняться чуть-чуть выше над их плоскостью и понять их, увидать в найденном им – решение мучающих его во-
—226—
просов. Тогда-то он увидит, что, говоря о вере, на деле он призывает пока лишь к вере в веру и что эта высшая ступень философии есть лишь низшая ступень иных духовных деятельностей. Но, говоря всё то, что сказано в настоящей рецензии, я потому именно говорю так, что помню с кем имею дело. И знания, и способности и, главное, внутренняя честность г. Голованенко слишком превосходит таковые же громадного большинства студентов, чтобы рецензент заменил прямое слово к нему условными одобрениями его работы, как студенческой. Конечно, таковых она может получать сколько угодно, и степени кандидата с избытком заслуживает“.
б) Ординарного профессора А.И. Введенского:
„Автор слишком беззаботен по части ясности изложения, – иногда, кажется, намеренно беззаботен. Когда он систематизирует чужие взгляды, его речь достаточно вразумительна. Но когда переходит к изложению своих, то читателю приходится иногда с большим напряжением дешифрировать зерно скрытой в них мысли. Он неразборчиво бросает слова целыми пригоршнями, мало обращая внимания на то, какие это слова и как они располагаются. В некоторых главах (наприм., в главе о „Символическом параллелизме“) перед нами какой-то хаос афоризмов, в котором едва просвечивает упорядочивающая их мысль. Иногда, вместо отчётливой, логически ясной и вяжущей мысли, он даёт нечто в роде философской лирики, – пусть и красивой, но уже слишком субъективной и мало отвечающей научно-философским требованиям (см. главу: „Мистика личности“). „Множество тёмных слов“, – сказал ещё один из древних мудрецов, – „путает смысл смертных“. При чтении сочинения г. Голованенко, невольно вспоминаешь это изречение... Если же прибавить к сказанному, что сочинение крайне необработано в формально-литературном отношении (разбросанность мысли и отсюда – масса повторений) и переписано местами весьма небрежно, причём автор даже не потрудился, как должно, его выправить, то легко понять, каким испытанием терпения было для рецензента чтение его исследования. Было бы безмерно лучше, если бы автор дал сочинение, хотя бы и с
—227—
меньшим предметным захватом, но зато более обработанное и более удобочитаемое.
По своему составу сочинение г. Голованенко есть ряд монографий, довольно слабо цементированных идеей целого. Авенариус, Коген, Риккерт, Бергсон, Штерн, Несмелов, Индийская теософия, Лапшин, „Опыт святых“ (мистика Отцов и Учителей Церкви), – какая подавляющая широта захвата!.. И всё же, если оценивать сочинение с точки зрения полноты, то следует отметить в нём существенные пропуски. Напр., автор берёт, в качестве представителя „персонализма“, Штерна. Оттенить это направление ему, действительно, было необходимо, – по требованию его задачи. Но он мог бы найти более типичного представителя персонализма, хотя бы, напр., в лице Тейхмюллера и, особенно, его ученика и продолжателя, Озе, докторская диссертация которого („Персонализм и проектинизм в метафизике Лотце“, Юрьев, 1896 г.) ему, к сожалению, осталась совсем неизвестной. Далее, – почему автор не остановился на Джемсе, с его „Многообразием религиозного опыта?“... Ведь это прямо из его области. Вообще обсуждая сочинение с точки зрения полноты, – а сам автор, своей широтой захвата, невольно сосредоточивает внимание рецензента именно на этой стороне дела, – можно было бы пожелать от него и ещё кое-чего, кроме данного. Но само собой попятно, что, при всём усердии и при изумляющем количестве вложенного в сочинение труда, он не мог, физически не смог бы, выполнить всех этих желаний, потому что монографически он не мог одинаково удовлетворительно обработать даже и тот материал, который введён им в сочинение (собственно говоря, у него хорошо обработаны только Авенариус, да, пожалуй, Коген). А в таком случае, если уж ему представлялось необходимым провести читателя к своему основному тезису по всем философским мытарствам, от Авенариуса до буддийской теософии включительно, то он должен был бы, на мой взгляд, поступить совсем иначе: ему нужно было, проштудировав внимательно весь свой материал, взять из него лишь то, что входило необходимым элементом в конструкцию его сложного выводного тезиса. Этого требовали и условия его труда (разумеем главным обра-
—228—
зом ограниченность времени) и интересы дела (ясности конструкции). Таким образом, по-нашему мнению, основная ошибка автора заключается, в методе работы, которым прежде всего обусловлено внешне-формальное её несовершенство, а потом и несовершенство внутреннее, – слабая, цементировка целого, всего чаще даваемая в форме пояснительных придатков к концу каждой главы-монографии.
В „Заключении“ своего сочинения автор пишет: „Итак, проблема опыта разрешается в опыте, личности, как идеи опытов (?). Но чистая личность – идеал: проблема опыта переходит в проблему жизни личности... Проблема опыта, разрешается или в идее – методе (символ пространства, вещи), или в идее – личности (символ вечности, личность). Проблема опыта, или задача мысли, или задача, жизни, мысли – как органа жизни. Мы верим в жизнь и логос жизни. Проблема опыта не тоска по единству методов, а, тоска по живому Всеединству“. Всё это, конечно, не слишком ясно (даже и в „заключении“!). Но если взять эти положения в связи с предыдущими разъяснениями, в положительных главах сочинения (к сожалению, как раз именно самых туманных), то мысль автора, – за точность передачи не ручаюсь, – по-видимому, можно выразить в следующих простых положениях. Есть „научный“ опыт, уводящий нас в дурную, пространственно-вещную бесконечность, мёртвую и мертвящую (опыт научников-механистов). Но есть и „общечеловеческий“ опыт, особенно опыт людей религиозно-настроенных, ведущий к истинной, „живой“ Бесконечности, – к началам личному, творческому, трансцендентному. Если я правильно понимаю автора, то дело ему как будто представляется так, что оба эти опыта, идут параллельно (см. гл. о „Символическом параллелизме“). Едва ли, однако, таким решением проблемы можно удовлетвориться. В факте это, конечно так. Но в идее это не должно быть так: общечеловеческий опыт должен питать, направлять и оформлять опыт „научный“ и именно в направлении к „живой“ Бесконечности. С этой точки зрения должна быть организована вся область опыта, вся вообще область мысли. А отсюда вытекала бы не „тоска“, а задача, ясно сознанная и твёрдо поставленная, долженствующая нормировать постулаты, методы и пути к цельному научно-фило-
—229—
софскому знанию. Вот эта-то именно сторона дела и осталась у автора в тени, хотя намёки в этом направлении есть. Было бы в высокой степени благодарной задачей показать, как именно возможно транспонирование всего опытного знания в иной тон, так чтобы научный опыт оказался органической частью опыта общечеловеческого... Тут совсем иные плоскости и горизонты. Тут только, строго говоря, сочинение и доросло бы до богословско-апологетического интереса. Но, к сожалению, именно здесь-то автор и поставил точку.
В общем моё впечатление от сочинения г. Голованенко такое: даже и привыкшему к философским туманам читателю не легко дышится в его ультра-туманной атмосфере... И это, как мне кажется, главным образом, потому, что сочинению совершенно чужды как раз именно те свойства, о которых сам автор, словами истинно-мудрых, говорит на стр. 461 и сл.
Высказываясь таким образом о сочинении, я всё-таки далёк от мысли относиться к нему совершенно отрицательно. Более того: я должен признать, что в общем оно стоит значительно выше студенческого ординара. При всей своей хаотической беспорядочности и смутности в целом, оно не лишено интереса, и иногда очень крупного, в деталях: там и здесь мелькают в нём светлые, тонкие и оригинальные мысли, – всего чаще, к сожалению, лишь в намёках. Некоторые философские вопросы, – наприм., вопрос о значении эмпириокритицизма (едва ли не лучшая глава!), – освещены у него новым светом и, во всяком случае, поставлены в иные, сравнительно с общепринятыми, перспективы. Труда вложено автором в сочинение столько, что его е избытком хватило бы на нескольких студентов. Отношение к христианству, хотя он отводит освещению своего вопроса с этой точки зрения, сравнительно, очень немного страниц (стр. 456–495), осторожное. „Мистика личности, как опыт личностей“, – пишет он (стр. 461), – „рождена христианством“, почему, – как добавляет он в другом месте (стр. 487), – „не смотря на все внешнее сходство, между мистикой вещи (= научники и теософы) и мистикой личности (= мистика христианская) целая бездна: тут быстрота“ и „свет“ (Исаак Сир.), свет холодный и тёплый“
—230—
Конечно, сочинение г. Голованенко, как труд огромный и, хотя весьма и весьма несовершенный, но обнаруживающий недюжинную даровитость, степени кандидата богословия заслуживает вполне“.
12) О сочинении студента Грацинского Ивана на тему: „Иван Васильевич Киреевский, как родоначальники славянофильства“.
а) И. д. доцента Н.Л. Туницкого:
„Основная точка зрения на И.В. Киреевского, как на одного из родоначальников славянофильства, была подсказана автору самой формулировкой темы. Задачей своей работы он поставил „восстановить полузабытый образ И.В. Киреевского, пролить свет в (на?) эту глубоко оригинальную, загадочную личность, в глубине которой родилась в муках та первая интуиция, которая послужила зерном проросшим и распустившимся в целое, сложное учение“ (стр. 1). Эту задачу он осуществляет в рамках исторической перспективы, характеризуя обстоятельства зарождения славянофильства, и воссоздаёт образ Киреевского путём всестороннего изучения его биографии и литературных трудов, попутно привлекая к сравнению с ним других старших представителей славянофильства, особенно Хомякова. Славянофильство в его первичных основах г. Грацинский рассматривает, как националистический протест против рабской подражательности Западу и как стремление к национальному осознанию внутренних ценностей русской истории и жизни. Почвой, на которой выросло, и вместе атмосферой, которой дышало это направление русской мысли, он считает романтизм, понятый им, впрочем, в очень широком смысле, как органический синтез романтической поэзии с шеллингианской философией. В таком понимании генезиса славянофильства заключается оригинальность взглядов автора в отличие, от точек зрения на славянофильство других исследователей. В соответствие с этой оригинальностью находится и взгляд его на личность Киреевского, как на романтика по натуре и по свойству его миросозерцания. Такое понимание Киреевского нам представляется совершенно справедливым. Заслуживает одобрения также попытка рассмотреть
—231—
славянофильство с точки зрения связи его с романтическими исканиями в русской литературе 30–40-х годов. Но в этой попытке есть, безусловно, некоторое увлечение, имеющее своим следствием сужение перспективы, в которой выступает славянофильская идеология. Автор отвергает сложившееся убеждение, ставящее славянофильское учение в зависимость от философии Гегеля, на том преимущественно основании, что славянофильство, как научная теория, даже и начинается с борьбы с Гегелем. Но отрицать или даже слишком ограничивать влияния гегельянства на славянофильство нельзя: из гегельянства это учение черпало свои теоретические основы и, если и боролось с ним, то черпая из него же орудие и материал для борьбы. Неудивительно, поэтому, что почти все старшие славянофилы в большей или меньшей степени отдали дань поклонения Гегелю. Впрочем, что касается собственно И.В. Киреевского, то устанавливаемые в его личности и миросозерцании черты романтизма отнюдь не заслоняют от автора других сторон в его образе и взглядах. Собрав из разных источников биографические данные, автор успешно изображает, как эта романтическая и в то же время глубоко-религиозная, жаждавшая душевной цельности, натура от юношеского скептицизма перешла к вере и успокоилась на идее „верующего разума“. Но в собранных автором данных недостаёт более точных сведений о той литературе, которая воспитала этот переворот, а освещению последнего можно было бы сообщить большую психологическую глубину, которой бы, на общем фоне современных интеллигентских исканий, больше индивидуализировался процесс превращения Савла в Павла. Характеристику миросозерцания Киреевского следует признать вдумчивой, основанной на тщательном изучении сочинений его, но его взглядам придана бо́льшая стройность и целостность, чем какую они, на наш взгляд, в действительности имели. Цельность душевной жизни вообще была больше идеалом Киреевского, чем действительным свойством его сложной натуры. Способы постижения истины, которые, но Киреевскому, могут дать человеку истинное знание, – духовный опыт, самособранность духа, мистическое проникновение – очерчены автором прекрасно, но едва ли можно признать
—232—
удачным название их „гносеологией Киреевского“. Наибольшую трудность для автора должно было представлять определение того места, которое принадлежало Киреевскому в коллективном создании славянофильской доктрины, так как хронологически последний стоит рядом с Хомяковым, самым сильным, многосторонним и активным представителем её. Оба они взаимно дополняли друг друга и жили под взаимными перекрещивающимися влияниями. Но автор весьма успешно преодолел и эту трудность. Он находит в Киреевском счастливое сочетание созерцательного мистицизма с светлой струйкой романтической эстетики, в противоположность трезвому, рационалистически настроенному Хомякову. Отсюда под пером Киреевского основоположения славянофильской школы приобретали лишь общую формулировку, тогда как Хомяков сообщал им более сильное и детальное развитие, частности Киреевскому принадлежит постижение самых коренных различий между миром восточным с его православием и западным с его утратой веры в безусловные ценности жизни.
Таким образом сочинение г. Грацинского по постановке вопроса и основательному изучению его литературы, по оригинальности и самостоятельности мысли и выдержанности основных точек зрения, наконец по исчерпывающей полноте содержания – должно быть признано очень хорошим. Помимо указанных уже частностей, возбуждающих сомнения или недоумения, других недостатков можно указать сравнительно немного. Несколько странное впечатление производит заключение сочинения. Рассматривая здесь славянофильство, как первую тропу того пути, но которому должна идти русская мысль, как ту стихию, в которой русский дух мог бы свободно развиваться, автор недостаточно искусно связывает свои мысли с основной концепцией сочинения, представляющей всё славянофильство продуктом романтических исканий и стремлений. Нет ничего удивительного, далее, что на всём сочинении лежит печать увлечения не только славянофильской теорией, но и славянофильской фразеологией. К сожалению, это увлечение иногда доходит до крайности. Изложение по местам приобретает слащавый тон и пестрит такими „речениями“, как: „опознание“, „осознание“, „прорастание“, „выявление“ и
—233—
проч. Ломоносов, Новиков и др. писатели 18 века попадают чуть не в предтечи славянофильства (стр. 19). Написанное в общем грамотно, в некоторых местах сочинение не лишено грамматических ошибок. Так, излюбленное славянофилами „чувство“ под пером автора часто теряет первое в и пишется – „чуство“ (стр. 166, 168), равно и как „сочуствие“ (168 стр.), „почуствовать“ (450). Впрочем, эти недостатки особенно не понижают ценных сторон сочинения. Степени кандидата богословия г. Грацинский заслуживает вполне“.
б) Ординарного профессора А.И. Введенского:
„Сочинение закончено в минорном тоне. „Автор“, – читаем мы в его заключительных строках, – „намеревался дать полное и по возможности живое изображение Киреевского, но недостаток времени не позволил ему вполне выполнить (!) свою задачу. И в настоящей работе приходилось неопытной и не всегда правильной рукой набрасывать лишь грубые и расплывчатые мазки духовного облика И.В. Киреевского“. Это очень скромно. Но автор, по всей справедливости, закончив работу, мог бы смотреть бодрее. Сочинение вовсе не плохое, хотя и не чуждо недосмотров, – и предметных, и формальных. Фигура Киреевского поставлена, определённо и освещена всесторонне, а его идеи систематизированы с достаточной отчётливостью. Сделаны надлежащие указания и на последующую судьбу школы...
Один лишь недостаток по существу мы, с своей стороны, должны отметить. Автор обрывает историю славянофильства на Ив. С. Аксакове (стр. 486) и называет его последним представителем „классического“ (!) славянофильства. Это, конечно, совсем не верно. Он должен бы был знать, что историческую линию славянофильства проводил далее А.А. Киреев, причём славянофильское учение нашло у него довольно своеобразное преломление. Сочинения Киреева, в двух томах, вышли как раз во время составления автором его трактата. Если бы он заглянул в них, то узнал бы, что в последнее время появились ещё и „нео-славянофилы“, с которыми славянофильство старого типа, в лице Киреева, горячо полемизировало... Таким образом, трактат автора, при условии знакомства с сочи-
—234—
нениями Киреева, мог бы получить не лишённое, интереса продолжение. Правда, это не требовалось необходимо темой. Но раз автор счёл нужным говорить о Ю. Самарине, Хомякове, Аксаковых, К. и Ив., то почему было не упомянуть и о Кирееве, который, непосредственно за ними, вёл славянофильскую линию дальше?..
Как труд серьёзный, основанный на внимательном изучении литературы предмета, обстоятельный и ясный, хотя и не без недосмотров, сочинение ст. Грацинского Ивана может быть признано достаточным для присуждения автору степени кандидата богословия“.
13) О сочинении студента Даниловского Александра на тему: „История преподавания философских наук в духовно-учебных заведениях России“.
а) И. д. доцента священника И.А. Флоренского:
„Заслуги духовной школы в распространении по России философских знаний и, отчасти, в творчестве философских идей весьма велики, – во всяком случае, неизмеримо больше, нежели какого угодно другого учебного или учёного учреждения в России. Можно сказать и более того: русское философское просвещение, либо непосредственно, либо посредственно, через воспитанников духовной школы, обязано всецело своим существованием именно духовной школе, и лишь самый конец XIX-го века ознаменован появлением философии иначе распространившейся. Если же вспомнить, сколько борьбы вела духовная школа, отстаивая против противников философии своё достояние быть оплотом философского знания, – то, как бы ни пытались бессильно протестовать против высокой оценки её заслуг некоторые голоса, станет ясным, что история преподавания философских наук в духовно-учебных заведениях России должна быть признана за основную нить истории русской философии вообще, разумея в данном случае под „русской философией“ совокупность всех философских течений, возбуждавших русское общество. Но, неся на себе высокую культурную задачу философского просвещения России, духовная школа никогда не бывала лишь механической передатчицей западной мысли. На всех представителях
—235—
духовной школы лежит особый отпечаток, характерный именно для русской мысли, и, если история преподавания философских наук есть основная нить истории русской философии, в широком смысле, то эта последняя всегда теснейшим образом сплетается с историей русской философии, в узком смысле философии самородно русской. И потому, едва ли может подлежать оспариванию та мысль, что обойти тему разбираемого сочинения для историка русской мысли было бы равносильно обречению себя на непонимание своего предмета.
Итак, понятно, что тема, предложенная г. Даниловскому, имеет интерес не только специальный, но и общий, и что разработка её во многих смыслах весьма желательна (в частности отметим хотя бы предстоящий юбилей нашей Академии). Г. Даниловский понял важность своей задачи и отнёсся к работе своей старательно и добросовестно. Но не изучение печатных трудов, на которое он потратил немало времени, считает заслугой его рецензент, а документальное исследование архивного материала. Программы читавшихся курсов лекций, конспекты и записи их – вот, что главным образом привлекало его внимание, и некоторые рукописные источники, им почти открытые в качестве историко-философского материала, представляют собой несомненный интерес и немаловажное значение; таковы, хотя бы, программы курсов Фесслера, фон Горна и др., рукописные труды братьев Лихудов, конспекты Георгия Конисского и др. Собрав значительный запас сведений, г. Даниловский не теряется в них, но владеет им, – удачно делает выборку наиболее значительного, колоритно подбирает цитаты и „словечки“, отчётливо систематизирует материал и не без успеха пытается осветить идейную основу тех или иных течений, Сочинение его написано ровным и правильным языком, изложение спокойно и объективно, тон речи его – тон взрослого человека. Несмотря на сухость материала, сочинение г. Даниловского читается с интересом, хотя вторая половина его и изложена. гораздо конспективнее и менее отделана, чем первая, Лёгкости чтения способствует и выделение примечаний, иногда весьма ценных, в конец сочинения.
Есть, впрочем, и довольно существенные недостатки этого
—236—
сочинения; суммарно их можно было бы обозначить как некоторую канцелярщину. Г. Даниловский несёт своё исследование немного в том же духе, в каком составляются деловые бумаги. Он боится отходить от буквы темы и буквы документов, боится освещать их, боится читать между строками. Поэтому, часто как корни известных явлений, им изучаемых, так и плоды их, оказываются вне поля зрения его. Выражаясь не метафорически, скажем, что г. Даниловский не умеет учитывать влияния лиц, задававших известный тон философским течениям времени, но не состоявшим на философской кафедре, как не считается и с влияниями духовной школы, часто весьма существенными, на лиц, не числившихся её студентами или профессорами. Естественно думать, уже загодя, что это невнимание ко всему, что не подлежит, так сказать, архивно-канцелярской регистрации, лишает нашего автора возможности понять связь отдельных явлений и неизбежно вносит в сочинение его некоторую идейную отзывчивость. Чтобы не быть голословным, скажу например, что для г. Даниловского, кажется, не всегда ясна связь между преподаванием философских наук и преподаванием наук прочих. Но если бы он достаточно определённо установил для себя эту связность всей системы преподавания в то или иное время академической жизни, то для него уже сам собой встал бы вопрос: не следует ли во многих случаях искать вдохновителей и покровителей курса всей академической жизни, а, в том числе – и преподавания философских наук, – в лицах, прямо не состоящих в Академии, или не состоящих на философских кафедрах? А если бы этот вопрос был поставлен им, то, несомненно, не могли бы оказаться вне поля его внимания такие огромные величины, как Митрополит Московский Иларион, Иннокентий, впоследствии Архиепископ Херсонский. Митрополит Московский Филарет и др., создававшие целые эпохи. А с другой стороны, было бы естественно спросить себя: Что̀ же давала духовная философия русскому обществу? Как развивалось истекающее из духовной школы философское просвещение? Не задаваться этим вопросом, это значит отрезывать от духовной школы те лучшие силы, которые часто, лишь временно или косвенно испытав
—237—
от неё известное воздействие, были с ней в большой близости. Рецензенту представляется немыслимым говорить о судьбах философии в духовной школе – и не принять во внимание вскормленников её, как то: П.Д. Юркевича, графа Μ.Μ. Сперанского и др., отчасти Вл. С. Соловьева, а также наших масонов, славянофилов и представителей материализма, нигилизма и атеизма, которые опять-таки, по странной, но нередкой, диалектике бытия, исходили из той же духовной школы. Необходимо отметить также и недостаточное знакомство г. Даниловского с общим ходом философской мысли в Европе; оно приковывает его к горизонтам ограниченным и не даёт достаточно и определённо учесть самородное русское от наносного, западного. Правильно разумея основную идею русской философии, как идею религиозную он, однако, не умеет точнее определить характер этой идеи и её исторических предков. В частности, г. Даниловский совсем не видит прямого преемства русской философии, философии древней, почти минуя схоластическую и западную. Платон, на которого он неоднократно указывает, как на виновника многих светлых сторон русской философии, не осознан им, однако, как родоначальник русской идеи философской, как таковой, – хотя материалов, приводимых в самом сочинении, с избытком хватило бы для многих очень достопримечательных заключений о надёжной связи нашей философии с философией древней и о сопротивлении нашей философии постоянной попытке философии западной ворваться в сферу русской мысли. Глубокие корни философских начал славянофильства, древность периодически повторяющихся нападок на эти начала начал рационалистических, русская философия как связное единое течение, зависимость светской философии от философии духовной – эти и тому подобные общие вопросы нуждались бы в более расчленённом изложении, в большем, так сказать, напоре мысли.
К недостаткам более специальным относится, главным образом, малая изученность истории Казанской Духовной Академии, слишком некритическое изложение истории Московской школы философии и некоторые более мелкие описки и погрешности. Весьма желательно, чтобы г. Даниловский восполнил недостающее и напечатал свою работу. Но и того,
—238—
что сделано, для получения степени кандидата вполне достаточно“.
б) Ординарного профессора С.С. Глаголева:
„В своей истории (470 стр.) автор неопределённо датирует границы своего исследования. С какого года у нас явилась философия? На это ответить трудно. Но на каком моменте жизни академий автор поставил точку? Оказывается, в различных академиях эта точка поставлена под различными годами и в некотором смысле под различными эпохами. Можно привести пример этого. В С.-Петербургской академии автор кончает историю изложением деятельности Каринского, но Каринский был учеником Кудрявцева, жив и поныне, вышел в отставку, правда, всего лишь несколько лет после смерти Кудрявцева, но он уже был по отношению к Кудрявцеву, человеком нового образа мыслей, новых взглядов. В Киевской академии историю философии автор кончает Линицким – человеком наших дней, а в Казанской академии – Милославским († 1884).
Автор – благодарный ученик и, как благодарный ученик, он не мог не признать, что наиболее философия процветала и процветает в Московской академии. И Μ.И. Каринский отмечается, как воспитанник Московской академии, на котором сказалось её влияние, Казанская академия представлена стоящей под философским влиянием Московской. Так ли это? Актовая речь Кудрявцева о позитивной философии в Казанском академическом органе была растрактована так, что она написана лицом, не имеющим понятия о позитивной философии. Думается, что Милославский и Снегирев не особенно высоко ценили Кудрявцева, и наш автор должен бы был сказать о Снегиреве, который несомненно умел большее влияние в академии.
Мало обратил внимания автор на Юркевича, труды которого, и он сам привлекали общественное внимание.
Но оставляя в стороне то, чего не дал нам автор (а он не дал нам многого), я спрошу: уверен ли автор в том, что он передаст нам действительную историю без примеси поэзии? Я не только не уверен в этом, я отрицаю это. На 162 стр. и соответственно в примечании
—239—
243 указывается на отзыв о Ф.А. Голубинском графа Μ.В. Толстого в „Душеполезном Чтении“ 1891 г. Отзыв был восторженный. Покойный Д.Ф. Голубинский, питавший к своему родителю религиозное почтение, говорил мне, что гр. Толстому нельзя вполне доверять, что он забывает прошлое и в новых вариантах своих воспоминаний прибавляет к биографии Ф.А. Голубинского всё новые и новые и всё более поразительные черты. На этом основании Д.Ф. Голубинский попросил меня что-то выкинуть из биографии его отца.
Много нужно ещё написать, чтобы явилась книга, заслуживающая название истории преподавания философских наук в наших духовных школах. Сочинение г. Даниловского представляет собой лишь отрывки из такой несуществующей истории.
Но полезны бывают и отрывки. К числу таковых должно быть отнесено и сочинение г. Даниловского. Степени кандидата он заслуживает“.
14) О сочинении студента священника Добровольского Василия на тему: „Иерусалим, как центр политической и религиозной жизни израильтян, до разрушения его римлянами“.
а) Экстраординарного профессора Д.И. Введенского:
„Обширное сочинение о. Добровольского (494 стр.) состоит из 5-ти глав и заключения. В первой главе автор даёт филологический анализ наименования „Иерусалима“. Во второй он говорит об Иерусалиме „до-еврейском“. В 3, 4-й и 5-ой главах говорится об Иерусалиме, как центре политической и религиозной жизни со времени Давида до разрушения Иерусалима римлянами.
Несмотря на то, что представители науки нередко касались в своих библейско-исторических исследованиях истории Иерусалима, однако работа автора, по её задаче, должна была дать цельное представление об историческом значении Иерусалима для израильтян в религиозном и политическом отношении, а таковая задача – новая и – довольно сложная. В виду этого для него была настоятельная необходимость систематизировать данные Библии, отно-
—240—
сящиеся к его вопросу и ознакомиться с большим материалом, какой можно найти в многочисленных источниках и пособиях, так или иначе затрагивающих вопроси автора. И мы должны сказать, что автор добросовестно отнёсся к этой стороне дела. Он обстоятельно ознакомился с Библией и с одним из основных своих источников – с сочинениями иудейского историка Иосифа Флавия. Кроме, того, он познакомился почти со всеми, наиболее известными, трудами как западных, так и русских учёных – и не только по монографиям, но и по журнальным статьям. В предисловии о. Добровольский перечисляет более ста названий отдельных авторов, касавшихся в своих работах его вопроса. И сочинение о. Добровольского показывает, что он внимательно отнёсся к перечисленным им в предисловии трудам, не только поверял, но иногда, с пониманием дела, и поправлял их общие выводы.
Что касается плана сочинения, то и в этом отношении труд автора должен быть признан удовлетворительным. Автор показал в своей работе способность ориентироваться в сложных вопросах и находить основные точки зрения, от которых он почти всюду и отправляется в своих суждениях.
Но при общем достоинстве сочинения рецензент должен отметить в нём и некоторые недочёты.
Не смотря на обстоятельное знакомство автора, с источниками, он всё же опустил из виду некоторые полезные и даже необходимые для него пособия. Так, говоря об Иерусалиме после-пленного периода (гл. 5-ая), он мог бы с пользой для дела ознакомиться с авторитетной работой Schürer’a (Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi), в каковой работе указана, между прочим, и серьёзная литература по интересующему о. Добровольского вопросу. Ознакомившись с энциклопедиями и монографиями, автор почему-то совершенно обошёл лучшие курсы библейской истории, в которых он также мог бы найти для себя полезные справки. А таковых курсов – и особенно у западных учёных – не мало, что знает, несомненно, и сам автор.
Можно отметить и другие пробелы в сочинении автора.
—241—
Так, он нередко говорит в своём сочинении о таргумах (напр. стр. 57), об иудейских преданиях (стр. 37, 38), но таргумы и иудейские предания очевидно были знакомы автору в самых общих извлечениях из трудов других авторов, которые, в свою очередь, сами не всегда пользовались первоисточниками. Этим объясняется, между прочим, то, что в некоторых случаях автор совсем не делает указаний на источники, откуда он извлекает, напр., иудейские предания.
Обосновывая свои положения, автор вдаётся иногда в излишнюю полемику, что особенно нужно сказать о 1-й и 2-ой главах.
Говоря о недавно, сравнительно, найденных Тель-эль-Амарнских письмах Иерусалимского (Ур-Салим) царя к фараону „Аменофису“ 4-ому, автор хочет пользоваться этими письмами как доказательством того, что Иерусалим ещё задолго до завоевания его евреями уже носил таковое название (стр. 90). Но нет достаточного основания из этой одной справки делать вывод об особой древности названия „Иерусалима“, так как вопрос о Тель-эль-Амарнских письмах вообще спорный вопрос.
Но все эти недочёты не могут быть поставлены автору в серьёзную вину в виду общих достоинств сочинения, свидетельствующих об авторе, как о библеисте – историке с здравым критическим чутьём и с достаточной эрудицией. По крайней мере, два первые недочёта (незнакомство с некоторыми пособиями и первоисточниками) извинительны для автора в виду того, что он всё же собрал значительное количество интересовавшего его материала, а последний недочёт (суждения по вопросу о Тель-эль-Амарнских письмах) может найти себе извинение в том, что ориентология – наука молодая и ошибки в этой области возможны.
И мы указываем все эти недочёты не столько в целях принижения достоинств работы автора, сколько в видах личной пользы его.
Приняв во внимание наши указания, он может дать и более совершенную работу, которая была бы полезным и вкладом в нашу отечественную библейско-богословскую литературу, небогатую экскурсами в широкую область библейской истории.
—242—
Вот почему и в настоящем виде мы признаём сочинение о. Добровольского очень серьёзной кандидатской работой“.
б) И. д. доцента В.А. Троицкого:
„Иерусалим занимал такое место в жизни еврейского народа, что его история есть почти история самого народа“. Этими словами Vigouroux начинает своё сочинение о. Добровольский, и слова эти как нельзя лучше указывают на широту той задачи, которую взял на себя автор рассматриваемого сочинения. История Иерусалима, неразрывно связанная с историей еврейского народа, может быть предметом многотомных сочинений, но автор сумел в своём, правда, довольно обширном сочинении (494 стр.) не только в сжатом очерке представить эту историю в рамках, намеченных темой, но даже написать целую главу о „до-еврейской священной истории Иерусалима“ (стр. 37–107), а в заключении поговорить о лже-мессианских и сионитском движениях в еврействе до „Лондонского еврейского колониального банка“ наших дней включительно (стр. 466–467). Такая полнота исследования оказалась под силу нашему автору, конечно, потому, что он оставил в стороне дремучий лес гипотез отрицательной науки, тот лес, через который обычно стараются не всегда с успехом проложить себе, дорогу авторы научных исследований. О. В. Добровольский всё своё внимание сосредоточил на изучении первоисточников – св. Библии и сочинений Иосифа Флавия и цитаты из этих источников он щедрой рукой рассыпает на пространстве, всего своего сочинения. Особенно приятно видеть, что св. Библия изучена автором в полном виде: он так же тщательно собирает нужные ему сведения из книг учительных и пророческих, как и из исторических. Внимательное изучение первоисточников составляет главное достоинство сочинения о. Добровольского и ставит его на должную научную высоту. Изучено автором и множество так или иначе касающейся его предмета литературы. В предисловии (стр. 12–22) он перечисляет до 75 книг и 40 журнальных статей, прочитанных им, но в цитатах сочинения нам не раз встречались книги и статьи, в этом списке, не указанные, из кото-
—243—
рых даются случайные справки. Всё это, конечно, бесспорный показатель авторского трудолюбия, интереса и серьёзного отношения к научному делу. Нельзя не отметить и того, что сочинение написано хорошим литературным языком: если и встречаются иногда стилистические шероховатости (стр. 8, 23, 38, 47, 51, 60, 70, 84, 108, 114, 124, 136, 143, 157, 227, 274, 285, 464), за то попадаются целые ряды страниц (напр. 190–198. 366 слл. 397 слл.), написанных даже художественно.
При всех этих достоинствах сочинения мельче недочёты, – как ссылки на отцов и учителей Церкви без всяких цитат их сочинений (стр. 45. 46. 48), неудачное начертание слов еврейских (стр. 42. 53), – хотя и могут быть указаны, никакой большой беды не составляют.
Рецензент позволяет себе не согласиться с одним из утверждений автора. Блаж. Иероним говорил: „ex verbis et interpetatione nominum saepe res ostenduntur“·, и о. Добровольский стр. 23–36 посвящает филологическому анализу имени „Иерусалим“. Иосиф Флавий производит это имя от греческого ἱερός и еврейского שןס. О. Добровольский такое толкование вслед за Reland’oм и энциклопедией Герцога называет нелепым (стр. 26–27. 67). Но ведь Иосиф говорит о греческом названии Иерусалима, а таких названий два. Одно Ἰεϱουσαλήμ – представляет лишь транскрипцию еврейского имени (лат. Ierusalem) и совершенно не имеет греческого элемента ἱερός. Правда до последнего времени филологи (даже Тишендорф) на Ἰεϱουσαλήμ ставили spiritus asper, для которого в еврейском слове, начинающемся с буквы иод, нет никакого основания, по теперь по примеру Blass’a, Westcott,’а и Hort’a принято ставить spiritus lenis (см. напр. Franciscus Zorell. Novi Testamenti lexicon graecum. Parisiis 1911. p. 261). В книгах Маккавейских, в кн. Товита, в ветхозаветных апокрифах, в Евангелиях Иоанна, Матфея и Марка, а также у Страбона и Иосифа Флавия выступает грецизпрованная форма имени – Ἰεϱουσόλημα (лат. Hierosolyma), где несомненен греческий элемент ἱερός, почему филологи единогласно и ставят spiritus asper. У эллинизованных евреев господствовала именно эта форма имени Иерусалим. Толкование Иосифа Флавия может быть и не особенно согласно с законами филологии, но исторически оно инте-
—244—
ресно и верно: иудеи – эллинисты воспользовались созвучием еврейского слова с греческим и составили, не спрашиваясь у европейских филологов 19-го века, имя, где первый элемент (ἱερός) значит „священный“. А ведь сам же о. Добровольский приходит к тому заключению, что при всяком филологическом объяснении имени Иерусалим выделяется из ряда других городов, как, город священный, как место священных событий и соединённых с ними священных воспоминаний (стр. 35).
Общее моё заключение о прочитанном сочинении священника Василия Добровольского таково; сочинение очень хорошее и заслуживает полного одобрения и автор его вполне достоин степени кандидата богословия“.
15) О сочинении студента Епифановича Григория на тему: „Математические науки в русских духовных семинариях XIX века и желательная постановка их в настоящее время“.
а) Инспектора Академии – и. д. ординарного, заслуженного профессора А.П. Шостьина:
„В качестве вступления к исторической части исследования г. Епифанович помещает (стр. 1–35) краткое сообщение о преподавании математических наук в Петровских цифирных школах, в которых получали образование дети духовенства, и затем в духовных семинариях XVIII столетия (до реформ 1808–1814 гг.). Далее он довольно подробно говорит о преподавании математических наук в духовных семинариях и академиях до 40-х гидов XIX столетия (до Протасовской реформы) и затем по „Положению“ 1840 г. до реформы 1867–1869 гг. (стр. 36–131). Сравнительно короче говорит он о математических науках в наших духовных семинариях по реформе 1867–1869 г. и по Уставу 1884 г., кончая суждениями Предсоборного Присутствия 1906 г. (стр. 131–166). Вся эта историческая часть исследования г. Епифановича написана очень обстоятельно и документально. Она основывается не только на внимательном изучении различных „Историй“ духовных семинарий (прот. Смирнова, Агнцева, Надеждина, Благовещенского и др.), или известных трудов митр. Мака-
—245—
рия. г. Титлинова и Сперанского, но и на непосредственном знакомстве с духовно-школьными Уставами и объяснительными к ним записками. Многие страницы сочинения заняты разбором тогдашних программ и характеристикой современных им учебников, с указанием степени успешности математического обучения по отзывам различных ревизоров и преосв. Архиереев.
Так же обстоятельно и отчётливо написана следующая глава рассматриваемого сочинения: „Значение математики“ (стр. 166–198), равно как и общий трактат „о методе математических наук“ (стр. 199–285).
Менее обоснованной представляется дальнейшая часть труда г. Епифановича. содержащая в себе частные методические рассуждения о преподавании алгебры (287–378), геометрии (379–463), тригонометрии (465–495), физики (497– 547), космографии и пасхалии (549–568). (Арифметика опущена, потому что она входить в курс духовных училищ, а не семинарий, о которых сказано в поставленной теме сочинения). Здесь во многом можно спорить с автором и не соглашаться с его пожеланиями. Но и здесь должно поставить ему в заслугу, что он внимательно изучил громадную литературу и умело сопоставил теперешние наиболее авторитетные учебники по всем названным предметам; в некоторых же частных пунктах сумел дать и свои указания, несомненно имеющие цену. Видно, что наш автор не новичок в математических вопросах, а с любовью и давно занимался ими, так как в противном случае он не мог бы выполнить и половины своего труда.
Следует добавить, что одни примечания к сочинению, помещённые в конце его, с указанием литературы и множеством математических формул и чертежей, занимают 255 страниц (569–824).
Для степени кандидата богословия сочинение г. Епифановича бесспорно достаточно“.
б) И. д. доцента священника. П.А. Флоренского:
„Интересная и нужная тема, предложенная г. Епифановичу, разработана им старательно и изложена с тщательностью. Сочинение его аккуратно переписано и изящно
—246—
переплетено в виде толстого тома: очевидно, автор ценил свой труд. Обильные литературные ссылки показывают, что этот труд заставил автора потерять немало времени на себя. Страницы так и пестрят ссылками на мнения лиц авторитетных, или казавшихся г. Епифановичу таковыми. Повторяю, это сочинение – плод многих усилий. Вот почему, нельзя удержаться от сожаления, что оно, в самой основе своей, представляется рецензенту каким-то недоразумением, ибо тема его не была, очевидно, даже приблизительно под силу г. Епифановичу. Впрочем, едва ли можно было ждать иного.
Чтобы писать историю преподавания математических наук и, в особенности, историю, имеющую подготовить положительное решение вопроса о постановке преподавания, надо знать историю идей, как математических, так и педагогических, надо понимать, откуда шли и чем объединялись отдельные моменты математической дидактики, надо иметь силы подняться над отдельными фактами. Вне общих течений в математике, дидактике и философии, изучение истории преподавания похоже на чтение неведомых писмен, и, вместо истории, получается нанизывание, случайно подвернувшихся сообщений. До смысла читаемой книги истории г. Епифанович и сам не доходит и читателя своего не доводит. Впрочем, эта первая часть сочинения, где делается попытка изложить исторический ходи постановки математического обучения в духовной школе, не смотря на внешнее скольжение по фактам и данным, представляется несравненно более ценной, чем последующая, ибо в первой части факты говорят сами за себя, и, сами собой, помимо намерений автора, наводят на размышления.
Значительно слабее вторая часть, та, где решается вопрос о желательной постановке преподавания. Сама попытка решить такой большой вопрос молодым человеком, не имеющим: ни математического образования, ни педагогического опыта, ни принципиальных, философских убеждений, кажется, да и не может не казаться, или самоуверенной притязательностью, или чрезмерной наивностью. В самом деле, можно ли говорить о желательной постановке преподавания математики, хотя бы элементарной, не зная математики (– нельзя же считать знание элементарной
—247—
алгебры, геометрии и тригонометрии за знание математики! –). Основания методов элементарной математики лежат вне поля зрения школьника, хотя бы и весьма усердного, и уяснить себе сущность хотя бы четырёх действий над числами в пределах первого десятка неизмеримо труднее, чем обучиться технике инфинитезимальных исчислений. А для рассуждений о желательной постановке обязательно знать не только последние, по и весьма уяснить себе вопросы, подобные первому.
Но если бы г. Епифанович и обдумал всё то, чего он не обдумывал, и узнал то, чего не знает, этого не было бы достаточно для подлинного ответа на взятую им тему. Только практическая опытность в преподавании позволяет правильно положить тени на жёсткий контур, начерченный теоретиком. Конечно, нет оснований ждать от г. Епифановича такой опытности; но если бы и была она, то и этого не было бы достаточно.
Чтобы говорить о желательной постановке, преподавания, необходимо иметь твёрдые и глубокие общефилософские воззрения на сущность познания вообще и математического – в частности. Это требование не есть, по крайней мере при современной постановке дидактических проблем, простое формальное пожелание, уместно всюду, а дело насущной необходимости. Столкновение принципов интуиции и дискуссии, выразившееся столь обострённо в теории познания борьбой психологизма и критицизма, не могло не отразиться и на области математического преподавания: и действительно, тут со всей определённостью возникли противоречивые течения, – наглядного, даже экспериментального обучения математике, и отвлечённо-логического, конструктивного. Оба течения идут весьма далеко в стремление выразить себя во всей чистоте, и, в то время как одно ищет исключить логическое доказательство, другое стремится всё построить путём чистой логики. Вопрос о желательной постановке, преподавания существеннейшим образом связывается со спорами, идущими ныне по всей линии боя между интуитивизмом и критицизмом. Но г. Епифанович даже не понимает глубоко-принципиального характера этой борьбы, не знаком с многочисленной литературой его, даже специально-дидактического содержания, и, в своих пожелани-
—248—
ях относительно постановки преподавания, не имея ни руководящих точек зрения, ни системы, даёт случайные и дробные указания, у которых едва ли есть какой смысл, если не решены вопросы коренные, об общем характере постановки преподавания, и ценность которых не подлежит обсуждению. ибо каждое из них неизвестно откуда взялось и в каком стоит отношении к другим высказываемым пожеланиям. Эта неметодичность характеризует всё сочинение г. Епифановича: для решения случайно представившихся вопросов привлекается случайно-подвернувшаяся литература и потому, конечно, в итоге исследования мы имеем ряд случайных заметок, может быть, могущих приходиться в качестве материала кому-нибудь, вооружённому методом, но в настоящем своём виде бессвязных и безыдейных. Однако, при тех условиях, в которых находился г. Епифанович, он сделал, что мог, и потому степени кандидата заслуживает“.
16) О сочинении студента священника Ефремова Михаила на тему: „Русская религиозная жизнь в половине XVII в. по сочинению архидиакона Павла Алеппского“.
а) Доцента Н.В. Лысогорского.
„Обширный труд Павла Алеппского: „Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в.“ возбуждает понятный интерес к изучению и определению исторического своего значения, как запись непосредственного наблюдателя событий, как дневник родственно-близкого лица к патриарху Макарию, участнику в крупных наших церковных переменах половины XVII в. Сочинение о. Ефремова в значительной степени удовлетворяет помянутому научному интересу. После предварительных сведений об авторе „Путешествия“, поводе, к написанию его, некоторых списках сочинения и т. п. предметах (предисловие, стр. 1–16), о. Ефремов излагает в четырёх главах материал, который содержится в разных местах „Путешествия“. Он описывает русские храмы того времени, особенности совершаемого в них богослужения, также некоторые чины и действа – действо страшного суда, действо в неделю Ваий, чин омовения и т. д. (Глава 1, стр. 17–76).
—249—
Представляет характеристику царя Алексея Михайловича и патр. Никона, как „главных деятелей реформы русских богослужебных чинов и обрядов“ (глава 2-я, стр. 106–148). Даёт сведения касательно русского духовенства, – его одежды, избрания на места, ограничений вдовствующих священнослужителей, материального обеспечения, нравственного поведения, относительно епархиального управления (глава 3-я, стр. 149–228). Изображает религиозное состояние русских, – в чём оно проявлялось и какие носило особенности (глава 4-я, стр. 229–279). Наконец, в заключении о. Ефремов пытается разрешить вопрос: „что такое из себя представляет русский раскол, случайное ли явление в жизни русской церкви или неизбежное“ (стр. 273–278).
Систематизируя материал, находящийся в „Путешествии“, о. Ефремов старается по возможности сопоставлять его с свидетельствами других источников, преимущественно русских, отчасти иностранных. После проверки он не все сказания архидиакона Павла принимает: иные считает ошибочными и исправляет, другие признаёт преувеличенными и ослабляет. Таким образом в сочинение вносится научно-критический элемент.
Суждения автора, вообще правильные, не все однако могут быть приняты. Так, о. Ефремов думает, „что ближайшей причиной появления раскола в русской церкви была также и восточная церковь“. Он сетует на бывших в Москве; восточных иерархов за то, что они не объяснили Никону значения обрядов в делах веры, „что должны (были) и могли бы сделать“. Без этого восточного учительства Никон и впал в ошибки, не будучи в состоянии сам при отсутствии „систематического правильного образования“ „в делах веры отделить важное от неважного, сущность от обряда, чина“ (147–148 стр.). Но мнения нескольких иерархов, бывших в то время в Москве по своим нуждам, не могут отожествляться с голосом восточной церкви. Да и руководящие разъяснения во взгляде на обрядовые разности Никон в действительности имел, притом более авторитетные, чем голос нескольких случайных гостей-милостыне-собирателей. Никону в ответ на его недоумения была прислана грамота константинопольским патриархом Паисием, составленная после зрелого собор-
—250—
ного обсуждения вопросов из Москвы. Только патриарх Никон ей не последовал.
К своему сочинению о. Ефремов приложил весьма желательный в учёном исследовании список источников и пособий (в числе 92), без точного, однако, разграничения одних от других и без характеристики, хотя бы самой короткой, перечисляемых им изданий.
План сочинения нуждается в объединяющей идее, а заключение не находится в органической связи с предшествующими рассуждениями автора, занимаясь разрешением совершенно самостоятельного вопроса.
Недостатки сочинения о. Ефремова совершенно однако искупаются его достоинствами. Как кандидатская диссертация оно должно быть признано очень хорошей работой“.
б) Экстраординарного профессора С.П. Смирнова:
„Изложение своего вопроса автор поставил в очень широкие рамки. Основательно изучив важную эпоху в истории нашей церкви – начало обрядовых исправлений и возникновение старообрядства – по главнейшим источникам и литературе, он сличил с ними показания арабского писателя диакона Павла, относящиеся к тому времени. Эта широкая осведомлённость вместе, с выдающимся трудолюбием автора помогли ему исчерпать свой источник и правильно оценить его. Изложение сжато и деловито. По всему сказанному сочинение свящ. Ефремова заслуживает похвалы“.
17) О сочинении студента Ивановского Семёна на тему: „Ветхозаветное священство до Моисея“.
а) Экстраординарного профессора священника Е.Μ. Воронцова:
„Небольшая работа г. Ивановского производит впечатление стройно составленного и продуманного целого. Оно состоит из введения и 4 глав, причём библейско-археологический интерес имеют главы 2–4. Рассуждения автора, наполняющие введение, и главу первую, носят отвлечённый характер и сбиваются или на принятые схемы или приобретают отпечаток догматической учёности. С пониманием слова коген у автора можно не согласиться, особенно
—251—
странна попытка развернуть однослоговое кун в двуслоговое каган, откуда являлось бы причастной деривацией коген. С горловыми звуками свободно обращались только поздно выступающие на горизонте истории евреев самаряне. Сообщение автора, что коген по-арабски прорицатель, составляет его измышление, рецензент же ему указал бы хазарское каган, которое могло перейти в аплофоническое хан, вне какого-либо отношения к семитическому корню кун, каван. Автор склонен видеть в обозначении коген отражение взгляда на священника, как посредника, но любопытно, что позднейшее еврейство, отмечая посредствующее служение первосвященника, называет его апостолом – шелиах, например, в трактате о дне очищения. Различение жречества и священства г. Ивановским проводится туманно, зато социальные основы священства вскрыты достаточно ясно и убедительно; его речь о развитии общества на базе дифференциации служений соответствует выводам археологической науки. 1 глава в сочинении „о сущности ветхозаветного священства“ могла бы быть с удобством опущена в археологическом исследовании, да и в русской богословский литературе, если принять во внимание одну цитацию у нашего автора, этот вопрос достаточно изучен и освещён.
Во 2 главе сочинения г. Ивановский собственно приступает к археологическому экскурсу. Он делит историю ветхозаветного священства до Моисея на 3 периода: 1) от Адама до Авраама, 2) от последнего до переселения в Египет и 3) период пребывания евреев в Египте. Из lapsus в этих главах укажу на некоторую натянутость аргументации по местам, например, доказательство раннего появления кровавых жертв из факта создания Богом кожаной одежды для прародителей: равно требовало бы более веской аргументации высказываемое автором аподиктически положение о сотериологическом характере жертвоприношений праотцов, рецензент обратил бы внимание так пишущего на термин „мниха“, каковым обозначается жертва Каина и Авеля. Таким же искусственным характером отличается и аргументация по вопросу, почему Авраам сначала только строит жертвенник, а не приносит на нём жертвы. Напрасно наш автор ставит храм
—252—
в тесное соприкосновение с скинией в пустыне, забывая последующую домообразную скинию в Силоме.
Но в сочинении и немалые достоинства. Автор прекрасно уяснил себе факт существования культов общественного и домашнего и удачно применил его к примирению теории Гуммелауера о священстве, как сосредоточенном в колене Манассиином, с воззрениями других богословов на священническое достоинство первенцев в период до Моисея. На изложение и критику теории Гуммелауера падает центр тяжести всей работы г. Ивановского, и нужно, воздавая ему справедливое, сказать, что он здесь достаточно потрудился. Генеалогические справки Гуммелауера им проверены, теория последнего изложена сжато и отчётливо, оппозиция священства из Манассиитов представлена выпукло, хотя бы по вопросу о ропоте на Моисея со ссылкой на Египетские котлы с мясом. Степень кандидата богословия должна быть достойным поощрением таких работ, как труд г. Ивановского. По обработке его сочинение стало бы даже очень хорошим“.
б) И. д. доцента А.М. Туберовского:
„При всей своей краткости, работа г. Ивановского представляет собой довольно полное и обстоятельное исследование. И нужно ещё удивляться, каким образом автору, не смотря на полное почти отсутствие готового материала, удалось по такому специальному и тёмному вопросу сказать так много.
Особенно интересна IV глава, где г. Ивановский знакомит читателя с остроумной теорией Hummelauer’a, по которой левитское священство заменило лишь собой бывшее до него ранее, в период пребывания евреев в Египте, священство из колена Манассиина.
Единственный упрёк, который может сделать второй рецензент с точки зрения своей специальности, касается усвоения ветхозаветному священству каких-то „благодатных“ прав и сил. Автору хорошо, конечно, известно, что благодать – явление новозаветной жизни, противоположное данному через Моисея закону (Ин.1:17). Поэтому, как бы ни было священно ветхозаветное жречество, оно ни в коем случае не может быть, как подзаконное, названо бла-
—253—
годатным. Под-благодатность может быть лишь усвояема христианам и новозаветному священству, потому что как те, так и другое не подзаконны.
В общем и по частям работа производит приятное впечатление и заслуживает высокой отметки“.
18) О сочинении студента священника Иванова Александра на тему: „Сотериологическое и эсхатологическое учение Оригена и его историческая судьба“.
а) Ординарного профессора А.А. Спасского:
„Содержание сочинения свящ. Иванова определяется уже заглавием его отделов. Обсудив во введении вопрос о возможности прогресса богословской мысли и дав на него утвердительный ответ, автор в первой главе рассматривает Оригена, как богослова, и определяет его отношение к преданию церкви и философии (1–79). Далее следует подробное обсуждение сотериологических-эсхатологических вопросов, как они излагаются в догматической системе Оригена, разделяемое по следующим пунктам: первосозданные духи и их падение (81–121), состояние падшего человека (122–152). воплощение Логоса (152–201), искупительная деятельность Логоса (202–251), усвоение совершённого Им спасения (252–293), бессмертие души, состояние умерших, воскресение мёртвых, конец мира (294–396), теория бесконечных испытаний и миров (397–434), учение о всеобщем восстановлении и возвращении всех к Богу (434–484). Сочинение заканчивается обширным отделом „ историческая судьба учения Оригена“ (485–609).
Достоинство представленного сочинения св. Иванова в научной постановке всего предпринятого им исследования. Автор не только знаком с иностранной и русской литературой по относящимся к нему вопросам, но и изучил творения Оригена по подлиннику в такой достаточной мере, что получил полную возможность обсуждать исследуемые им вопросы более или менее самостоятельным образом. Каждый отдел его сочинения представляет собой особый этюд, где изучаемый им предмет исследуется всесторонне и определяются его результаты, и в целом своём его работа даёт исчерпывающее его задачи обозрение со-
—254—
териологии и эсхатологии Оригена. Полнота, содержательность – отличительные черты сочинения свящ. Иванова; пополнить его чем-либо новым или внести в него существенные поправки на основании использованной им литературы едва ли возможно. Конечно, оно не без недостатков и доступно многим возражениям. Не только сложность взятых им вопросов, но и самая личность изучаемого им автора, – Оригена с его обильным богословскими талантами, богатым творческим умом, способным на самые разнообразные философско-богословские концепции, – предоставляет каждому исследователю его полную возможность многие и существенные пункты, касающиеся Оригена, истолковать в ином порядке и ином освещении.
Но эти трудности, эта возможность новых точек зрения и новых освещений вопроса предстоит каждому исследователю не только Оригена, но и при изучении таких знаменитейших богословов древности, как Афанасий Александрийский или Кирилл Александрийский; они не только не вредят научному прогрессу, но лишь создают возможность для науки обогащать себя разнообразием исследований.
Рассматривая с этой точки зрения сочинение свящ. Иванова, нужно признать его работу одной из серьёзных попыток выяснить все трудности и сложные проблемы, связанные с именем Оригена, которая по своей научной постановке, детальности и полноте, с какими здесь обсуждаются все пункты сотериологии и эсхатологии Оригена, является не только заслуживающей степени кандидата богословия, но и долженствующей быть причисленной к таким явлениям, которые редко наблюдаются на студенческой скамье,“.
б) И. д. доцента О.М. Россейкина:
„Избранной о. Ивановым темой требовалось изложить существенную часть сложной религиозно-философской системы знаменитого александрийского учителя. Изучать и излагать часть системы вне её связи с целым – дело, конечно, невозможное, и автор совершенно правильно при раскрытии сотериологии и эсхатологии Оригена всегда имеет в виду и его общее догматико-философское мировоз-
—255—
зрение. Если к этому прибавить, что в объём темы входила историческая судьба учения Оригена, то станет ясно, с каким количеством частных вопросов должен был иметь дело о. Иванов. С другой стороны, каждый вопрос он рассматривает обстоятельно и полно. В результате, сочинение о. Иванова разрослось в обширную (XVI+609) монографию, охватывающую взятую тему полно и всесторонне.
Система Оригена излагалась неоднократно и ранее. О. Иванов не игнорирует эти изложения, пользуется ими; но он знает и сочинения самого Оригена и их прежде всего имеет в виду. Хорошее знакомство с источником и литературой вопроса сообщает работе характер научности.
Суждения автора здравы и полновесны; тон изложения спокойный и уверенный.
Сочинение потребовало немало трудов. Кажется, автор не пожалел их прежде всего потому, что подчинился обаянию изучаемого им мыслителя и проникся к нему живыми симпатиями. Уважение и сочувствие к Оригену сквозит в сочинении с первых страниц и до последних, отнюдь, впрочем, не в ущерб научному беспристрастию. Не без апологетической цели, но и вполне основательно по существу, в предисловии сочинения раскрыт тезис, что каждый мыслитель должен оцениваться „относительно“, с точки зрения современного ему момента; тогда его работа получает свой истинный смысл, положительные достоинства её выступают рельефнее, „а отрицательные моменты теряют свою остроту и силу“ (XVI; ср. 575 стр.). В дальнейшем автор горячо защищает Оригена от упрёков в синкретизме христианства и греческой философии, обосновывая ту мысль, что Ориген твёрдо держался апостольского предания, самостоятельно пытаясь решать лишь те вопросы догматического характера, которые не имели общецерковного решения, и если заимствовал из философии те или иные идеи, то всегда давал им собственное освещение, вытекающее из начал христианского учения. Автор, конечно, не думает разделять неправильные мнения Оригена; но склонен давать им толкование, скорее приближающее, чем удаляющее их от кафолического учения (ср. стр. 220); подчёркивает, что Ориген не считал
—256—
своих мнений окончательными, а лишь гипотезами (стр. 296); охотно уделяет место экскурсам в защиту Оригена от предъявлявшихся ему обвинении (335 и далее); очень недоволен, если оригенисты пошли гораздо далее своего учителя, привязав к его тезисам выводы, явно непримиримые с кафолическим учением, и возлагает всю ответственность за неправомыслие на неосмотрительных и беззастенчивых учеников (504); известному эдикту Юстиниана от 543 года отказывает в беспристрастности (533); наконец, внимательно пересматривает вопрос об осуждении Оригена на 5 вселенском соборе и, не видя возможности отвергнуть факт осуждения, останавливается однако на среднем толковании Дикампа (606–609) и заканчивает мнением Френкеля, что соборные анафемы падали на оригенизм как систему, но не на самого Оригена. Живое сочувствие автора к личности и судьбе изучаемого им мыслителя (ср. 484 стр.) действует импонирующим образом, вознаграждая читателя за труд чтения. – К отделу о 5 соборе автору можно бы посоветовать поискать аналогий с Трулльским собором и повнимательнее отнестись к мнению такого учёного как Hefele.
Цитируя иностранных авторов, о. Иванов обычно даёт хороший перевод. Но в одном месте (стр. 8) он едва ли удачно перевёл слово evolutions малоупотребительным технически – военным термином „эволюции“; проще и лучше перевести словом „движения“.
Автор пишет: „антиоригенисты“ (526; 538; 571); „Фотий“ (588). При переносах слов, кажется, предпочитает руководиться не правилами грамматики, а соображениями эстетического рода, разрезая слово там, где это нужно, чтобы все строчки на странице были равной длины. – На первом месте в списке „источников и руководств“ стоит: „Patrologiae cursus completus, series graeca. Migne“. Нужно, конечно, указать тома.
Солидный труд о. Иванова даёт ему полное право на получение степени кандидата богословия“.
19) О сочинении студента Изюмова Ивана на тему: „Вопрос о личном спасении и служении общественному благу“ (По
—257—
поводу нападок на монашество в современной литературе).
а) Ректора Академии Епископа Феодора:
„Задача настоящего сочинения требовала от автора широкого и основательного изучения современной литературы – богословской и светской, – которая, особенно несколько лет тому назад, дружно ополчилась на тот основной принцип, который лежит в основе монашества, как оно исторически себя проявило. Это и исполнено автором весьма добросовестно: не только более или менее крупные литературные произведения так называемых „неохристиан“ – главных противников монашества и вообще всякого аскетизма, но и сравнительно мелкие журнальные статьи и беллетристические произведения анти-монашеского направления, всё это собрано автором, прочитано и приведено к единству основных мыслей. Не опущен автором без должного и серьёзного внимания и спор о монашестве, возникший среди представителей богословской науки на страницах духовных журналов („Бог. Вестн.“ „Душеп. Чт.“), спор, обнаруживший у защитников общественного идеала для монашества удивительное отсутствие здорового религиозного чутья и невольное пленение предвзятыми идеями беспринципных в религиозном отношении радетелей общего блага. Для последних, никогда не живших по-христиански в собственном смысле слова и потому не понимающих ни дела Христова, ни жизни во Христе, конечно задача личного спасения может казаться странной, а тот путь, которым идут подвижники, даже противоестественным. Тут извинительно и непонимание монашества и его задачи, потому что исключительно земная точка зрения, на которой стоят противники монашества, сама по себе делает невозможным правильное суждение о предметах, имеющих отношение к небесному и вечному. Но вот для богословов, которые должны бы помнить „тайны царствия Божия“ и о духовном рассуждать духовно, уже непростительно это опорочение цели монашеской жизни – личного спасения, – ибо это граничит с опорочением той цели, ради которой пришёл Христос Спаситель: – „грешные спасти“, призывать людей прежде всего к „покаянию“ и „исканию царствия Божия и правды
—258—
его“. Эта основная мысль, что ни светские писатели, ни те богословы, которые отрицают ценность дела личного спасения и указывают всем и особенно монахам задачу общественного служения, не понимают ни существа христианской жизни, ни существа самого подвижничества, ни сущности исторического уклада жизни православного монашества, каким оно было всегда по своим идеалам, и проходит через всё сочинение г. Изюмова. Его основная мысль, – это: не только всегдашняя историческая верность монашества самому себе и своему идеалу (только личного спасения), но и правда в этом монашества в его отношении к существу христианской задачи жизни. Мы бы дополнили ещё: в христианстве удивительным образом разрешаются и объединяются те противоречия, коими полна человеческая жизнь; разрешается и примиряется, напр., множественность и единство, свобода и необходимость, вера и знание, объединяется и совмещается и это кажущееся для плотского понимания различие дела служения личному спасению и общему благу; более того: эти задачи совпадают и неотделимы одна от другой.
План своей работы г. Изюмов определённо указывает на стр. 27–30 и этот план действительно обнимает полно всю перспективу его работы и последовательно раскрывает ту основную мысль, которую мы выше указали, как главную в его сочинении. Сначала (1 гл.) у него довольно подробно излагаются основные мысли противников монашества из лагеря светской литературы (стр. 31–75), затем (2 гл.) нападки духовной литературы (75–106). В 3-й гл. устанавливается то основное мировоззрение светской литературы, на почве которого и возникают у ней возражения монашеству (106–145) и указывается полное несоответствие и неприложимость её (светской литературы) точки зрения для правильного решения поднятого вопроса. В 4-й гл. устанавливается необходимость перенесения вопроса о личном спасении и служении общественному благу для его правильного решения на христианскую почву; указывается необходимость для спасения подвига – аскетизма и выясняется уже с христианской точки зрения отношение начала аскетизма к жизни и миру. Отсюда намечается принципиальное решение вопроса (146–220). В 5-й гл. раскры-
—259—
вается и утверждается наличность в монашестве и вообще в подвижничестве ради личного спасения начала и элемента служения и общественному благу (220–250) и наконец в 6-й главе автор удачно критикует и разъясняет непригодность проекта реформировать современное монашество по идеалу служения общественному благу, как хотелось бы это сделать некоторым светским писателям и учёным богословам (стр. 251–280). В указанном плане автора можно указать одну брешь: по примеру 3-й гл., где у него определяется основное мировоззрение светской литературы, на почве которого она и делает возражение монашеству, следовало бы определить и в отношении духовной литературы, отрицающей за монашеством ценность идеала личного спасения, тот основной принцип, с коего и она делает натиск, с целью яснее показать её слабый пункт. Видимо этой цели служит отчасти 5-я глава, с предварительными суждениями в 4-й главе. Но сама по себе 5-я глава, весьма важная во всём плане работы г. Изюмова, выполнена сравнительно слабо. Здесь не даётся принципиального раскрытия той весьма важной мысли, что в христианском подвижничестве, в его задаче личного спасения совмещается и задача служения общему благу, конечно понимаемому по-христиански. Вот этот-то синтез идей личного спасения и общественного блага и не раскрыт принципиально в достаточной полнотой у г. Изюмова. Эта мысль у него раскрывается фактами из истории монашества, свидетельствующими наглядно, что монашество всегда имело громадное влияние на общественную жизнь, на гражданскую и даже политическую.
Впрочем, и в этом своём виде глава 5-я у автора имеет цену и интерес.
Сочинение несколько страдает ещё от необработанности языка, и, если бы автор придал ему некоторую литературную обработку, оно могло бы с интересом читаться в каком-нибудь периодическом журнале.
Степени кандидата богословия автор за своё сочинение заслуживает“.
б) Экстраординарного профессора Д.И. Введенского:
„Небольшое, но написанное с пониманием дела, сочи-
—260—
нение студента Ивана Изюмова посвящено интересному вопросу. выдвинутому современностью. Автор дал в нём достаточно полный обзор „терристической“ (terra) литературы, которая смотрит на вселенную „с единственно-доступной ей обсерватории – с земли“. Христианство также оценивается этой литературой с основной её „терристической“ точки зрения. Своеобразно понятое ею „общественное благо“ не оставляет в ней места разумению высшего смысла жизни. Отсюда нападки на монашество и непонимание вопросов личного спасения и в частности – аскетики. Таковы, в общем, богато иллюстрированная, основные мысли автора.
Но верные по существу, основоположения г. Изюмова недостаточно развиты с принципиальной стороны. Автор в своём сочинении следует, главным образом, методу полемистов, оспаривающих обыкновенно отдельные положения противников. Отсюда в его сочинении целый ряд справок, которые он отыскивал у беллетристов и богословов, с одной стороны, в целях обличения взглядов сторонников узко понятого „общественного блага“, а с другой, в видах обоснования своих суждений. Но принципиальная сторона дела отходит у автора на второй план. Правда, он делает попытку уяснить понятие „мира“ и „жизни“ с этой последней принципиальной стороны, но его как бы настойчиво преследуют готовые решения и выводы – и он принимает их.
Но этот главный недостаток сочинения г. Изюмова, касающийся методологической стороны его вопроса, видоизменяет желательный характер его работы, но не колеблет, однако, его правильных, в целом, выводов, которые, к тому же, он пытается обосновать суждениями христианских подвижников и выдающихся аскетов.
Вот почему мы и признаём сочинение г. Изюмова вполне удовлетворительным, а автора его достойным степени кандидата богословия“.
20) О сочинении студента священника Ильинского Михаила на тему: „Нравственно-христианское учение святителя Тихона Задонского“.
а) Ректора Академии Епископа Феодора:
„Сочинение священника Ильинского может быть названо
—261—
вполне добросовестной работой, как со стороны обстоятельного изучения им творений Святителя Тихона, так и со стороны полноты изложения христианского мировоззрения Святителя. Само изложение материала, почерпаемого автором из творений Св. Тихона, систематично и назидательно просто; автор не выходит из круга идей Святителя, не уклоняется на путь к. н. научно-богословских экскурсов, сопоставлений, ссылок, а раскрывает религиозное мировоззрение Святителя словами самого же Святителя по плану, обнимающему сущность всей нравственной христианской системы. Автор говорит о грехе в понимании его Святителем, начиная с этого вопроса само изложение религиозно-нравственного мировоззрения Святителя. Это вполне естественно, ибо вся сотериология и вся мораль христианская в своих основных началах определяется фактом греха в жизни человека и проявлением его в человеке.
Вот почему автор вполне правильно в начале II-й гл. сочинения (I-я глава посвящена биографии Святителя) сосредоточивает своё внимание на психологии греха, стараясь выяснить действие греха в жизни человека путём сравнительного сопоставления жизни и природы человека до грехопадения и после грехопадения. Определённо автор устанавливает взгляд Святителя на состояние свободы человека в грехе и на сам процесс образования греха. Отсюда намечается им жизненная задача человека, призванного во Христе ко спасению: необходимость борьбы с миром, плотью и диаволом, без коей (борьбы) и само возрождение человека не может совершиться. В чём выражается жизнь возрождённого во Христе человека, это автор раскрывает в III-й гл. своего сочинения, изображая те основные настроения христианина, или „добродетели“, которые составляют главную особенность святой христианской жизни: по отношению к Богу – смирение, страх, любовь и благодарение; к ближним – милосердие и любовь: к миру – свобода от пристрастий и пр.
Есть у автора и попытка начертать по указанию Святителя Тихона как бы руководство к спасительному пути, – это IV гл., которую он называет „Христианской аскетикой“.
Но здесь только конспективно указываются те средства,
—262—
кои обусловливают христианский путь к нравственному совершенству, напр. верность Св. Церкви, таинства, молитва, пост, труды в духе любви и пр. Собственно специально-аскетической психологии и аскетики, как изображения всего процесса спасения в последовательном его движении, у автора нет. Нам кажется даже, что автор не уяснил себе окончательно, что по учению Святителя Тихона является началом спасения: познание себя, или познание Бога? У автора в этом заметна некоторая путаница (см. стр. 134–143). Вообще тонкости аскетической психологии автору не понятны.
Думается нам также, что заключительная часть сочинения (V-я гл.), в которой автор даёт характеристику личности Святителя, была бы более уместна по внутренней связи своей в начале сочинения, там, где автор даёт биографию Святителя. Но это недостаток плана и существа сочинения не касается. В общем сочинение священника Ильинского производит своей ясностью, простотой и назидательностью приятное впечатление и даёт ему право на получение степени кандидата богословия“.
б) Экстраординарного профессора Д.И. Введенским:
„Сочинение о. Михаила Ильинского в целом является добросовестной работой, свидетельствующей о том, что автор обстоятельно ознакомился с творениями святителя Тихона Задонского, который, по его же собственным словам, „старался своими сочинениями принести пользу братии-христианам“ и расположить „душу свою унывающую к покаянию и подвигу в благочестии“. Видно, что мысли проникновенных творений Задонского святителя преломлялись в сознании автора не как простые, хотя бы и бесспорные, теоретические положения, но как дорогие нравственному сознанию руководящие правила жизни. Этим объясняется и общий характер серьёзно-вдумчивой, часто проникновенной, работы автора.
В частности, схема работы автора не безупречна. Так, в начале сочинения он даёт общую, и быть может слишком общую, биографию святителя и отрывает от неё характеристику самой личности, которой он отводит особое место в последней 5-ой главе, тогда как такую характе-
—263—
ристику естественно было присоединить к общей биографии. Следует отметить также и то, что многое из „характеристики“ святителя могло бы найти место в изложении нравственно-христианского и аскетического миросозерцания святителя, как, например, всё то, что о. Ильинский говорит о „богомыслии“ по творениям святителя Тихона (стр. 211 и след.).
Далее, сказав (во 2-й главе) о религиозном мировоззрении святителя Тихона, автор в 3-й главе говорит о христианском идеале по учению Задонского святителя. Понятно, что „христианский идеал“ должен был служить точкой отправления при решении вопроса о религиозном мировоззрении святителя.
Но эти недочёты сочинения о. Ильинского не помешали полному и всестороннему обследованию им творений святителя Тихона. Перестройка плана сочинения в указанном нами порядке несомненно выгодно отразилась бы на общей группировке материала, которым располагал о. Ильинский. Однако это касается более формы сочинения, чем существа его.
В виду сказанного мы признаём сочинение о. Ильинского вполне удовлетворительной кандидатской работой“.
21) О сочинении студента Ильинского Николая на тему: „Василий Осипович Ключевский, как историк русской церкви“.
а) Экстраординарного профессора С.И. Смирнова:
„После небольшого введения сочинение разделено на четыре главы: в I сообщаются биографические данные о В. О. Ключевском, которые объясняют его тяготение к церковно-историческим вопросам и отчасти сами церковно-исторические взгляды его, во II говорится о главном церковно-историческом труде покойного историка „Древнерусских житиях святых“, в III – о древнерусских монастырях, в IV – о влиянии русской церкви на быт и нравы. В V гл. автор намерен был описать взгляд Ключевского на происхождение раскола старообрядства, но не успел.
Автор собирает по разным трудам В.О. Ключевского
—264—
его церковно-исторические воззрения и группирует их по отмеченным отделам, причём излагает по возможности, не отступая далеко от выражений изучаемого автора. Получились таким образом очень интересные, цельные, живо написанные очерки, отражающие огромный талант покойного историка. Но такая работа для г. Ильинского была лишь предварительной. От него требовалось ещё синтезировать частные моменты церковно-исторических воззрений Ключевского, уловить их основную мысль и генезис, наконец, хотя бы только попытаться критически рассмотреть воззрения знаменитого учёного. Этого не сделано. И объяснение пробела в следующем. Во-первых, г. Ильинский не успел окончить своего труда, он не написал главы о происхождении старообрядства, между тем это самое характерное явление нашей древней церковной истории, и суждения Ключевского о происхождении старообрядства, может быть, открыли бы отчасти общие воззрения покойного историка на церковно-исторический процесс. Во-вторых, г. Ильинский, взяв главнейшее из трудов Ключевского, напрасно опустил кажущиеся мелочи, напр., частные замечания в Курсе истории, которые иногда вскрывают, как думал Ключевский относительно крупных вопросов нашего церковного прошлого.
Достоинством сочинения надо признать то, что автор обнаружил в нём большой интерес, даже увлечение своим вопросом, хорошо изучил многочисленные, разновременные, разбросанные по разным изданиям исследования Ключевского, наконец, сумел немногословно и точно изложить тонкие и глубокомысленные построения покойного историка. Это в значительной мере искупает указанные недочёты сочинения и заставляет признать его очень хорошим“.
б) И. д. доцента О.Μ. Россейкина:
„В течение года, протёкшего со дня смерти В.О. Ключевского, о личности покойного историка успела составиться целая литература, посвящённая выяснению его значения для русской науки и общества и осветившая по возможности все стороны его научной деятельности. Менее всего осталась раскрытой одна сторона, это – значение покойного для
—265—
русской церковной истории. Между тем эта сторона не малозначительна. Не принадлежа к числу официальных историков русской церкви, В. О. в своих исследованиях много работал в церковно-исторической области, и последняя обязана ему не малым.
Интересную задачу охарактеризовать В. О. как историка русской церкви и принял на себя г. Ильинский. Для выполнения задачи автор предположил во 1-х, изложить биографию В. О-ча, останавливаясь на тех преимущественно· моментах, которые могут уяснить генезис его церковно-исторических взглядов; во 2-х, дать разбор основного церковно-исторического сочинения В. О-ча о „Житиях“; передать, в 3-х, взгляд В. О-ча на происхождение, развитие и государственно-общественное значение древнерусских монастырей, – в 4-х, оценку В. О-чем влияния русской церкви на общественный и частный быт и нравы русского народа и в 5-х, его взгляд на раскол.
Автор не скрывал от себя ожидавших его трудностей и не без смущения приступал к работе (стр. VIII). И нужно признать, что его опасения в известной мере оправдались: своей задачи во всей полноте он не решил.
Г. Ильинский трудолюбиво собрал работы В. О-ча, внимательно их перечитал и тщательно изложил содержание тех из них, которые относились к его теме. Читатель получает отчётливое представление об основных трудах В. О-ча, имеющих церковно-историческое значение, и о его взглядах по отдельным вопросам истории русской церкви и религиозного быта русского народа. Но, как замечено, своего дела г. Ильинский до конца не довёл. Во 1-х, он не написал главу о взглядах В. О-ча на раскол; во 2-х, не очертил общего церковно-исторического миросозерцания В. О-ча и, для большинства затронутых вопросов, не указал, какое место решение В. О-ча занимает в науке, – не охарактеризовал, так сказать, его научную „опричнину“.
Та своеобразная обработка биографии В. О-ча, какую ставил себе целью г. Ильинский, вынуждала его быть самостоятельным, так как здесь предшественников он не имел. Но в его распоряжении не оказалось достаточного материала из детских лет В. О-ча, и тогда автор пу-
—266—
скается в область предположений, иногда мало удовлетворительных. Автор хочет, напр., выяснить возможное влияние на В. О-ча со стороны его отца, сельского священника: отметив, что отец В. О-ча трудился над просвещением местного полуязыческого мордовского населения, автор продолжает: „возможно, что впечатлительная душа будущего историка – художника ещё в детстве внедрила в себя задатки для определения исторического значения духовенства в круговороте русской жизни, того значения, по которому последнему относится место носителя идей христианской культуры и равенства в мире варварства и насилия“ (стр. 6). Можно согласиться, что отмеченные детские впечатления содействовали выработке взгляда на духовенство, как носителя христианской культуры: но причём же тут „идея равенства в мире варварства и насилия“? – В той же первой главе (стр. 16) неверно указан год поступления В. О-ча в Пензенскую семинарию.
В своём изложении г. Ильинский предпочитает держаться ближе к изучаемому автору и обычно отражает достоинства его стиля. Но лучшие страницы сочинения г. Ильинского, конечно, те, которые целиком взяты у В. О-ча.
Встречаются, хотя и редко, у самого автора мало удачные выражения („духовенство, как интеллектуальный сельский класс,“ стр. 4; „ихние“, стр. 46: „наиболее интереснейший“, стр. 59).
Степени кандидата богословия г. Ильинский вполне заслуживает“.
22) О сочинении студента, сербского уроженца, иеромонаха Серафима (Иовановича) на тему: „Сравнительная оценка главных типов реставрации ветхозаветного храма“.
а) Экстраординарного профессора священника Е. А. Воронцова:
„Обширное сочинение о. Иовановича свидетельствует об его трудоспособности и начитанности в области, подлежавшей его исследованию. Понимая под наименованием „ветхозаветный“ храм Иерусалимское святилище во все времена самобытного существования еврейства в Палестине, о. Иова-
—267—
нович говорит не только о храме Соломона, составляющем центральный пункт в его изысканиях, но и о храме после-пленного времени, нашедшем описание своей архитектоники в сочинениях Иосифа Флавия и в талмудическом трактате Миддот. Итак, со стороны широты кругозора автору рецензируемого сочинения нельзя поставить упрёка, но он его заслуживает, когда перейдём к его методу изложения. Процитировав свои первоисточники и второстепенные пособия, он излагает данные тех и других смешанно, так что уравновешено значение основного библейского текста и комментирующих его исследований. Кроме того, расширение описательной части в сочинении не соответствует тематическому вопросу: от о. Иовановича вовсе не требовалось описывать ветхозаветный храм, тем более его утварь, как он делает по местам, но нужно было, исходя из библейских или эллино-раввинистических данных, осветить и главное схематизировать существующие не частные виды, но типы реставрации Иерусалимского храма от древности до наших дней. Важное значение при этом приобретала общая история античного искусства, особенно на востоке, у народов близких к Палестине территориально или по политико-коммерческим сношениям. Поэтому вместо материала, составляющего у о. Иовановича введение к его труду, удобнее было бы поместить общий эскиз по истории храмовой архитектоники на востоке. Далее у о. Иовановича остаётся невыясненным понятие „тип реставрации“. Тип предполагает существование нескольких аналогичных форм, каковые он объединяет, суммируя все черты сходства и отбрасывая индивидуальные особенности частных видов реставрации храма. Сколько типов наблюдается в конъектурах учёных по этому вопросу, у о. Иовановича не выяснено, равно нет и определения, как типы реставрации коренятся в изучении синхронистического Иерусалимскому храму зодчества востока. Благодаря всему ранее сказанному обширное сочинение о. Иовановича не даёт целостного впечатления от многовековой истории попыток библиологов и археологов воссоздать Иерусалимский храм не только в плане, но и в частностях.
Наш автор уделяет много внимания геодезическим
—268—
изысканиям в области Мориа, поскольку именно террасовидный характер местности отразился на типах реставрации наших отечественных учёных. Русской библейско-археологической науке о. Иованович отводит подобающее почётное место в ряду трактатов западных библейских исследователей, но древних типов реставрации, например, Пайллу он не касается, вообще хронологической схемы у о. Иовановича не имеется, из западных учёных он интересуется Вогюэ (отчасти), более Перро и Шипиэ, мимоходом Фергюссоном, оставляя в тени и забвении знаменитого Шика и оригинального Пэна. Литература по вопросу о храме, виденном Иезекиилем, также представлена слабо.
Но в сочинении имеются и достоинства: во-первых, литературный русский язык, складное синтаксическое построение речи, допускающее быть отмеченным в сочинении иностранца. О. Иованович прекрасно владеет французским языком, много переводив из Перро, отчасти из Вогюэ, Сольси (Histoire de l`art, judaique) и т. п. Рецензенту известно и знание о. Иовановичем элементов арабского языка, спорадические следы какового заметны в сочинении. Ограниченный временем о. Иованович не успел продумать всего собранного им обширного материала, а поэтому внёс в сочинение много сырых, необработанных данных, но его трудолюбие служит показателем, что и это сырье превратилось бы в выработанные ткани, будь автор вне срока для окончания своего исследования. Появлением своего труда на сербском языке он оказал бы несомненную пользу славянской науке. Степени кандидата богословия о. Иованович заслуживает“.
б) Ординарного профессора А.А. Спасского:
„Автор с должной внимательностью выполнил предлежащую ему задачу, ознакомился с необходимыми для него источниками, пособиями и в сложном, и полном гипотез вопросе встал на возможно правильный путь. Недостаток сочинения заключается частью в полном отсутствии или неумении владеть критическим методом: он больше пользуется пособиями, чем источниками, и в защиту исторической действительности таких важных для него пунктов, как напр. видение прор. Иезекииля и друг., он
—269—
приводит слабые, а иногда и наивные аргументы. Степени кандидата его сочинение заслуживает“.
23) О сочинении студента священника Коновалова Иосифа на тему: „Книга Есфирь и праздник Пурим“.
а) Экстраординарного профессора священника Е.А. Воронцова:
„Сочинение о. Коновалова состоит из 2 частей, сообразно двойственному характеру темы, требовавшей соединения двух относительно самостоятельных исследований: библейско-исагогического и библейско-археологического. Свою задачу о. Коновалов выполнил так, как только можно ожидать от усидчивой годичной работы. Блестящий лингвист, человек строго-библейской школы, наш автор изумляет богатством общей эрудиции и такими детальными познаниями в области подлежавших его обследованию вопросов, что побуждает рецензента признать его труд требующим только литературной и внешней переработки для того, чтобы стать весьма полезной для библейско-археологической науки магистерской диссертацией. При бесспорно ценном научном содержании, положительно редком для кандидатской работы, писанной в краткий срок, сочинение производит по местам несколько неприятное впечатление в неумелой переписке.
В первой части о. Коновалов даёт последовательный обзор данных о каноничности и историчности книги Есфирь, предваряя свой синопсис сведениями о наименовании книги и замыкая его посильными заметками об авторе и дате этого библейского памятника. Деление материала на главы, как это делает автор, здесь потому уже неуместно, что первая, особенно четвертая главы при сравнении со второй и третьей оказываются несоразмерными. Содержание этих глав удобнее замкнуть в пределах введения и растворить во второй и третьей главах. Таким образом вне введения, куда относима первая глава сочинения, вся эта часть работы о. Коновалова сосредоточивается на решении двух вопросов: 1) канонична ли книга Есфирь сообразно иудейской и христианской традиции и собственному внутреннему содержанию и 2) исторична ли она. Когда книга Есфирь рассматривается
—270—
со стороны каноничности, то анализируется её религиозно-моральное содержание, а когда та же книга изучается со стороны историчности, то содержание книги сопоставляется с Персидской историей датируемой книгой эпохи и с результатами раскопок Сузского дворца.
Во второй части сочинения о. Коновалов даёт правильно 2 главы, причём сначала описывает празднование Пурим, потом обозревает существующие в западной науке гипотезы о происхождении этого праздника: 1) гипотезу де-Лягарда о персидском происхождении Пурим (праздник мёртвых), 2) гипотезу о греческом происхождении Пурим, 3) гипотезу Циммерна-Гункеля о вавилонском происхождении Пурим и 4) гипотезу о происхождении Пурим из вавилонской саги, переработанной у евреев в Маккавейскую эпоху (гипотеза Эрбта).
Воздавая должное гебраистическим познаниям о. Коновалова, заметной в его работе научной технике, рецензент усматривает лишь небольшие легко устранимые lapsus: 1) автор вряд ли сознательно представляет различие экзегезиса и номологических преданий у таннаимов и амораимов. О сабораимах он почему-то и не упоминает. Неточности в передаче собственных имён рецензент относит на погрешности переписки, так явилось Лаким вместо Лакиш, или по части выражений технических: „диастора“ вместо „диаспора“ и т. п. Более серьёзной погрешностью является наклонность автора толковать психологически там, где потребна документальная справка, так по вопросу об упоминании „места“ в книге Есфирь там, где ожидалась бы постановка имени Божия. Толкуя это обстоятельство, автор даёт художественно-психологический эскиз, но лучше было бы указать на употребление речения „маком“ в раввинической письменности (даже у эллинистов τόπος).
В заключении отзыва рецензент считает нужным отметить положительные свойства прочитанной работы: автор владеет техникой еврейского письма, он увлекается своей темой, давая иногда страницы экзегетического пафоса, он способен как к построению общих схем, так и к погружению в микрологию грамматических форм (напр. стр. 158–159), он говорит о праздновании Пурим, как начитанный эортолог и как бытописатель,
—271—
и имел знания и терпение изучить литургию Пурим по еврейским источникам (Коль сасон); талмудические цитаты в отделе о названии, значении и каноничности книги Есфирь проверены им по подлиннику (Ugolino, Goldschmidt, Schwabe). О. Коновалов владеет знаниями по библейско-археологической терминологии (напр. его толкования терминов: мингаг, мусаф и т. п.), наконец в его труде рецензент с благодарностью должен отметить влияние классных и частных занятий по истории Библии, как манускрипта, что особенно сказалось в отделе о писании мегиллы, свитка книги Есфири, являющегося наитипичным представителем еврейского графического искусства. Излишне говорить, что кандидатской степени о. Коновалов более чем достоин“.
б) Экстраординарного профессора священника В.Н. Страхова:
„Автору предстояла задача описать еврейский праздник Пурим, доказать его самобытность и время его происхождения. Главным источником для автора служила книга Есфирь, названная так по имени её главной героини – евреянки Есфирь, сделавшейся супругой персидского царя Ахашвероша или Ксеркса I и оказавшей в этом положении бессмертную услугу своему народу спасением от покушения на его истребление царедворцем Аманом. Это замечательное в истории Еврейского народа событие и послужило поводом к установлению торжественного и особенно популярного у евреев праздника Пурим. Вот почему история Есфири есть вместе и история происхождения этого праздника. Доказать историю происхождения праздника Пурим – это значит доказать исторический характер книги Есфирь. Так и делает автор. Его сочинение распадается на две части: в первой устанавливается каноническое достоинство и исторический характер книги Есфирь и кратко говорится об её авторе, времени и месте её написания, во второй описывается сам праздник Пурим, – его установление, ритуал, внесиногогальное его провождение, и разбираются главные гипотезы о происхождении этого праздника.
Рецензент должен отозваться о сочинении о. Коновалова
—272—
с большой похвалой. Автор усвоил вполне научный метод. Его рассуждения всегда спокойны и строго обоснованы. Особенно это нужно сказать о тех двух главах сочинения, где автор устанавливает каноническое достоинство и исторический характер книги Есфирь. В главе о каноническом достоинстве книги автор сначала излагает историю вопроса, т, е. говорит об отрицательном отношении к признанию книги Есфирь канонической как со стороны некоторых еврейских учёных, так и со стороны некоторых христианских писателей, и потом шаг за шагом разбирает и опровергает возражения против канонического достоинства книги. Автор, по моему мнению, очень удачно объясняет, почему в книге Есфирь нигде прямо не упоминается имени Божия, защищает моральный характер книги ссылкой и кратким раскрытием общего духа ветхозаветного миросозерцания, говорит о тех причинах, которые послужили поводом к отрицанию канонического достоинства книги, показывает шаткость возражений Талмуда против каноничности книги и анализирует свидетельства Иосифа Флавия и Оригена о каноническом достоинстве книги, пополняя их другими авторитетными свидетельствами о том же (Пешито, 85 ап. правило, 60 пр. Лаод. соб., 4 огл. слово Кирилла Иер., свид. Епифания Кипрского и бл. Иеронима). В главе об историческом характере книги автор на основании указаний вавилонской клинописи и свидетельств греческих историков устанавливает тождество библейского Ахашвероша с Ксерксом I и анализирует внутренние признаки исторической достоверности повествования книги Есфирь, т. е. полное согласие описываемых в книге нравов и обычаев со всем, что известно об обычаях персов за это время. Само описание праздника сделано с любовью и интересом и изложено живым и простым языком. Изложение и разбор главных гипотез о вне-библейском происхождении праздника Пурим сделаны также очень толково и дельно. Литература вопроса, главным образом иностранная, использована и изучена добросовестно. Автор везде является опытным и знающим хозяином дела.
С внешней стороны сочинение производит не менее благоприятное впечатление. У автора очень удачны некоторые
—273—
аналогии (см. сс. 54, 78, 143, 151 и особенно 264). Это лишний раз говорит о незаурядной эрудиции автора. И только в немногих местах у автора встречаются неприятно звучащие в учёной работе слова и обороты (развесёлый с. 42, блазнительный сс. 53, 63, 170, смаковать с. 61, беспардонный с. 153 и др.). В некоторых местах своей работы автор не смог отделаться от влияния иностранных пособий. Только этим можно объяснить опять немногие стилистические погрешности (напр. на с. 3, 6, 7, 29 и др.) и непривычные для православного богослова названия греческого перевода LXX Септуагинтой (38), библейских книг: 1-ой и 2-й Парал. – Хрониками и 2-ой кн. Царств – 2-ою книгой Самуила (42, 145, 147, 246). Под влиянием иностранных же пособий вместо 136 псалма процитирован псалом 137.
Но эти мелкие недочёты в работе о. Коновалова нисколько не мешают ей быть прекрасным кандидатским сочинением, а по исправлении – составить ценный и интересный вклад в нашу небогатую литературу по Ветхому Завету и Библейской Археологии“,
24) О сочинении студента Курганского Михаила на тему: „Природа в религиозном воззрении русского народа (проблема космологии и космогонии“).
а) И. д. доцента священника П.А. Флоренского:
„Рецензент уже имел случай, разбирая работу аналогичного содержания, высказаться о существенной необходимости философского и религиозного изучения народной философии (см. „Журналы Собраний Совета Μ. Д. А. за 1911 г.“, отзыв о сочинении студента В.А. Ильинского, стр. 214–215). Настоящая работа г. Курганского представляет вторую часть указанной там трилогии „Человек – Природа – Бог“, и потому нет теперь надобности распространяться о значении темы. – Значительное по объёму (XII + XII + 354 + VII стр. мелкого, убористого почерка), разделённое и подразделённое на множество отделов, глав, параграфов и т. д., написанное с приметной любовью к изучаемому предмету и с большим прилежанием, оно невольно обращает на себя внимание читателя. Можно даже сказать, что сами недостатки сочинения произошли в значительной мере от
—274—
тех его свойств, которые составляют основные его достоинства. Это указание, понятно, не уничтожает недостатков работы, но оно в значительной мере снимает вину с автора.
Г. Курганский изучил много книг и статей, и не только специально относящихся к теме, но и побочно связанных с ней, а иногда и вовсе к ней не относящихся. Но и за вычетом таковых остаётся за ним заслуга изучения значительной литературы по фольклору, правда, только русской. Автор старается ставить каждый вопрос, им затрагиваемый, на возможно широком основании и копает рвы для этих оснований возможно глубже. Не смотря на обилие конкретного материала, работа г, Курганского запечатлена философическим характером. Вопросы фольклора ему хочется изучать в связи с психологией и даже гносеологией, – замысел, который не может не заслуживать одобрения, даже если бы осуществление его не удалось на деле. Но мало того, что автору хочется обводить философскими понятиями контуры около данных народоведения: он делает попытку оживить и освежить эти данные, приблизить их к нашему пониманию, так сказать, наложить блики, при помощи постоянных параллелей из области поэтического творчества. По своему замыслу, эта работа должна быть обширным сооружением, охватывающим всевозможные вопросы и объединяющим весь известный материал. Самочувствие г. Курганского весьма напряжённое, и работа, нами разбираемая, и вглубь и вширь задумана как „monumentum ære perennius“. Если добавить сюда ещё определённую симпатию к народу, к его жизни и его мировоззрению, горячее чувство любви к родине и общий идеалистический тон, стремление проникнуть в душу народную и показать, что народное мышление – иное в сравнении с научным, но не низшее, эти черты столь светлые, то с горечью спрашиваешь себя: „Но, при этих превосходных намерениях, не забывает ли о своих силах автор? Может ли он выполнить хотя бы небольшую часть предпринятого им труда? Не сорвётся ли он при первой же попытке осуществить свои планы?“ И, действительно, лишь только начинается разработка темы, начинаются и досадные промахи, на каждой почти странице портящие впечатление от работы. Избыток
—275—
прочитанных книг делает изложение пёстрой, часто случайно-склеенной мозаикой цитат и т. к., г. Курганов прочитал много, и в том числе – совсем не цепного, то ему трудно удержаться от цитации, а ссылки на третьестепенные по качеству статьи и, притом, часто не идущие к делу, бывают положительно невыносимы. Стремление г. Курганского к философичности ведёт к тому, что далеко не всегда углубление данных народоведения достигается само собой: нередко это углубление – насильственное, с форсированием своей мысли. И вот, работа испещряется неуклюжими и даже сочинёнными терминами, необыкновенными заголовками для весьма обыкновенных фактов и мыслей. Глубина (?) разъяснений сопровождается таким туманом вычурных слов и нагромождённых терминов, что, право, для читателя было бы приятнее получить что-нибудь более скромное. Не смотря на отдельные меткие определения, удачные выражения мысли и характеристики, язык работы притязателен и неправилен, изобилует иностранными словами, часто употребляемыми, к тому же, не совсем правильно и без нужды, метафорами, носящими в себе противоречия, странными, наобум сочетанными образами. Недостатки языка – главные недостатки разбираемого сочинения и они особенно досаждают; ведь автор, столько раз подчёркивающий свою любовь к народу, забывает, что язык – важнейшее явление души народной и что любовь к родине и к своему народу прежде всего выражается в охранении его языка. Автор сетует на исчезновение народных обычаев, на порчу нравов, на меркантильный дух, разлагающий народную жизнь. А сам он разве не участвует в том же разрушении, собственною рукой начертывая фразы вроде: „Надо сказать, что на ступени религиозно-космологической гармонии телеологическое воззрение русского народа с внешне-логической стороны довольно правильно у народа. Тут мы уже замешаем связность этиологической необходимости и зависимость телеологическую, пытающуюся обусловить цели применением тех или иных направляющихся к ним следствий“ (стр. 115)? И разве не варварство говорить о „das Ding an sich вещи“, об „акте opero operatum“ (стр. 39), или утверждать (стр. 38), что „по смыслу народных (некоторых) сказаний субстан-
—276—
ция субъекта, приняв иной облик, монистически ассимилируется с ним, со-растворяется в нём, обращает его в свой организм, с его плотью и кровью“? Неужели же по любви к народу должно сажать воззрения его в клетки с надписями вроде: „Превращение реституционно-имморталыюе“? – Здесь приведены почти наудачу примеры, – таких можно набрать великое множество. Но, подобно тому, как чрезмерно-напряжённое стремление к глубине производит лишь обманное углубление, через головокружительное нагромождение разных „страшных слов“, так и чрезмерно-напряжённое стремление к широте лишь мнимо расширяет горизонт автора, заставляя его, по недостатку сил, внимания и времени, вовлекать в работу то, что следовало бы отстранить за ненужностью, или даже прямой мусор. И, мало того, в итоге он часто не имеет никакой возможности в должном виде представить то, что идёт к делу, – не проверяет цитат, попавших к нему из десятых рук, делает ошибки, описки и промахи всякого рода. Странно видеть в кандидатском сочинении речения вроде: „nomina и omnia“ (вместо „nomina et omina“), „Андри Бергсон“, „взаимно-общение“, или узнавать о „добрых и злых предметах“, о крестьянине, как об „аграрной величине“ и т. д. и т. д. Не могут не коробить ссылки на первоклассных поэтов, даже на Тютчева и Фета и др., заставляющие читателя путешествовать по каким-то журнальчикам, или ссылки на статьи из „Богословского Вестника“, причём цитаты заимствуются из „Теософического Обозрения“. Автор доходит до такого безвкусия, что цитирует знаменитое место из св. Иринея Лионского о Церкви, как сокровищнице, по журналу „Мирный Труд“, – да, „см. „Мирный Труд“ 1911 г., № 10, стр. 193“, и, к тому же, заимствует оттуда же и грамматическую ошибку и приписание цитаты Игнатию Богоносцу. Сведений всякого рода, – до латинских названий растений и болезней включительно, у г. Курганского чрезмерно много. Но не лучше ли бы уклониться от сообщений, – к чести автора, опять-таки заимствованных и не проверенных, – вроде того, что некий В. Н. Сперанский оказывается ни более, ни менее как „главой критического идеализма“ (стр. 42). Нам не приходилось читать ничего, принадлежащего перу этого соперника Канта,
—277—
но, кажется, и г. Курганский только слышал, что у г. Сперанского есть где-то какая-то статья. Пусть же кости Канта почиют спокойно. – Подобных промахов у г. Курганского весьма много. Но должно отметить, что средняя часть сочинения написана несравненно лучше, чем начало и, отчасти, конец. При всём сказанном, повторяю, что недостатки сочинения г. Курганского произошли главным образом от чрезмерного расширения и чрезмерного же углубления темы. Можно надеяться, что, воспользовавшись своим сочинением, как материалом для дальнейших работ, г. Курганский без особого труда сможет дать более совершенные осуществления хотя бы части своих обширных и глубоких замыслов. Но и в настоящем виде сочинение его вполне достаточно для присуждения ему степени кандидата“.
б) Ординарного профессора С.С. Глаголева:
„Сочинение (XII + XII + 354 + VII) г. Курганского читается легко и с интересом. Но это зависит не от автора. Язык его тяжёл и неясен, схемы его пёстры. Автор пишет, что его сочинению не будет чуждо „рассмотрение русского народа, как человека и мыслителя“ (V): несколькими строками далее утверждает, что в литературе „народные воззрения пытаются выводить совсем не из его мыслительных способностей“... (V). Задачей своего сочинения (VI стр.) автор между прочим полагает „бросить камушек в проблематическую пропасть“ (?) У него встречаются выражения: „ практикованный садовник“ (!), „этичный“ (надо полагать: этический). К грамматике автор не питает высоких чувств. На 47 стр. читаем: „точь-в-точь как в утопленнике (Пушкина?), на 152 стр. вѣх (cicuta verosa), нужно: вех. К знакам препинания автор относится с значительной долей пренебрежения.
И расплывчатая речь, и отсутствие запятых являются постоянными признаками его сочинения. Всё, что существенно относится к его теме, выражено кратко; всё, что приближает к этому существенному, выражено многословно. Читая его, нередко вспоминаешь слова Полония из Гамлета, что „краткость его душа ума, а многословие – его прикраса“.
—278—
Но сочинение интересно, потому что оно говорит о поэзии народа, а поэзия народа всегда интересна. По-видимому она увлекает и самого автора, и особенно ему нравится поэзия философская, поэзия, облекающая природу мистическим покровом. Эта поэзия настолько влечёт его, что рядом с народными произведениями у него цитируются Вл. Соловьев, Тютчев. Кольцов, Майков, Жуковский, А. Круглов и даже в немецкой Леноре Бюргера, переведённой полурусским Жуковским автор видит выражение русского духа.
В сочинении слышится глубокая вера в духовную и религиозную мощь русского народа, есть много основательно раскрытых положений, немало дельных замечаний, собран ценный материал. Но первое, что поражает в этом сочинении читателя, привыкшего при изучении фактов не поддаваться искушениям со стороны поэзии, – это – отсутствие фундамента в сочинении.
Нельзя написать научного трактата на тему, избранную автором, не зная сравнительной мифологии и истории религий. В ряду пособий, указываемых автором, упоминается о сравнительной мифологии, и упоминается, правда, микология высокоталантливого учёного, являющаяся выражением его личных взглядов и притом несколько уже устаревшая. А главное – невидно следов влияния и этой книги на нашего автора.
Отсутствие достаточного знакомства с названными мной дисциплинами заметным образом сказалось на сочинении. Укажу два примера. Автор много говорит о дуализме в веровании русского народа и сближает дуализм русский с дуализмом персидским (Заратустры) (123–126). Но русский сатанаил или чёрт слишком прост, наивен, пожалуй, можно сказать даже добродушен, чтобы сопоставлять его с мрачным и величественным Ангромениусом. Ни по происхождению, ни по свойствам они неравны. Ангромениус вечен и независим от Агурамазды, наш чёрт – павший ангел, созданный Богом, и находящийся в подчинении у Бога. Положим, чёрт наших народных сказаний в значительной мере христианизирован, но если отбросить от него христианские наслоения, мне кажется, явится образ очень похожий на Локи германской мифологии, а вовсе не маздейский принцип зла.
—279—
Автор очень путается при попытке выяснить народные представления о небесах. И число небес у него – величина переменная и значение их оказывается то одним, то другим. На 206 стр. мы читаем, что небо, между прочим, делится на 7 поясов, распределённых между чинами ангельскими, 7 поясов, потому что 7 – число священное. Всё это не так. Чинов ангельских не 7, а 9. Концепция семи небес очень древняя, потому что древность считала 7 планет: Солнце, Луну, Меркурия, Венеру, Марса, Юпитера и Сатурна. Каждая планета должна была двигаться по особенной сфере, так как в их движениях нет согласия. Общая сфера назначалась для звёзд, которые не изменяют положения одна относительно другой. Г. Курганский не найдёт карт небесных полушарий с нанесёнными на них планетами и кометами. Древнюю концепцию о 7 небесах русские славяне приняли издавна, а постепенно усвояя христианство и не глядя на звёзды, они переработали её несколькими способами в религиозную астрономию.
Не зная сравнительной мифологии и истории религий, автор не мог определить, что в рассматриваемых им воззрениях представляется общечеловеческим, что наносным, т. е. случайным заимствованием от других народов, что самостоятельным. Нужно заметить ещё, что и при изложении русских воззрений автор мало считался с этнографией, географией и историей.
Немало у автора и отдельных lapsus’ов.
Прежде всего в заглавии. Он пишет, что исследует проблемы космологии и космогонии, но потом в сочинении занимается ещё эсхатологией. И общим заглавием, и здравым смыслом требовалось включить эсхатологию в сочинение о природе (в её прошедшем, настоящем – и естественно – будущем). Но зачем в подзаглавии исключать этот предмет?
На 21 стр. он говорит о статье 1910 г. по поводу 35-летия со смерти Н. Я. Данилевского. Но Данилевский умер в 1885 г.
На 43 стр.: „теперь люди лишь буквы и слоги Божьего глагола“. Это что-то через чур мудрено.
На 26 и во всем сочинении он употребляет термин
—280—
гилозоизм (скорее – анимизм) так, что его совершенно не поймут биологи.
На 71 стр. автор противополагает теизм христианству.
На 72–75 стр. автор приписывает русскому народу такую веру в одушевлённость мира, при которой нельзя жить, ибо жить можно лишь при признании естественной связи между явлениями и при приспособлении к ним.
На 77 стр. оказывается, по народным воззрениям „дуэль видеть во сне к благополучию“. Но напрасно автор в источнике этого положения – соннике видит выражение народных воззрений. Автор комментирует это так, что сельские ссоры обыкновенно кончаются выпивкой и закуской, а дуэли у народа считаются простой потехой. Не знаю, откуда он знает последнее, но все мы знаем, что пьяные сельские ссоры часто кончаются бессмысленными убийствами.
83–86. О значении слова у народа автор говорит многое, но забывает о слове, имеющем силу внушения.
На 98 стр. автор в народном календаре видит выражение крепкой веры в упоминаемых там святых. На самом деле народный календарь всегда – натуралистический, по принятии христианства народ скомбинировал его с церковным и главным образом при помощи рифм. Но веры здесь видно немного.
На 119 стр., как и на прочих, не видно, чтобы автор выяснил себе понятия пантеизма, теизма, политеизма.
На 314 стр. автор спрашивает: „почему лёд вопреки закону физики не тонет?“ Я отвечу ему; „лёд не тонет, потому что подчиняется закону физики“.
На 315 стр. автор делает экскурсию в область математики. Но эта область оказывается для него табу, и он, говоря о величине 9(99), серьёзно думает, что выразил её формулой 9(99).
Но относительно двух последних замечаний я должен сказать, что они находятся в главе, представляющей одну из немногих попыток выяснить, что наука не так близка к истине, а народные воззрения не так далеки от неё, как это обыкновенно думают. Это – взгляд ценный.
Ценен в сочинении автора его идеализм. Видна любовь к предмету, заметно трудолюбие.
Указывая недостатки в сочинении я имел в виду не
—281—
осудить автора, а побудить его их исправить. Для получения степени кандидата сочинение удовлетворительно“.
25) О сочинении студента священника Лебедева Константина на тему: „По каким поводам совершалось расторжение браков в Святейшем Синоде за 18–19 века?“
а) И. д. доцента Н.Д. Кузнецова:
„Сочинение студента священника Константина Лебедева написано на тему: По каким поводам совершалось расторжение браков в Св. Синоде за XVIII и XIX века и представляет хорошую работу по этому вопросу. Автор не ограничился изучением материала из вторых рук, содержащегося в разных сочинениях по данному вопросу, но ознакомился с самими делами, хранящимися в Архиве Св. Синода и некоторых консисторий. Сочинение разделяется на главы по числу поводов, служивших законным основанием для расторжения браков в XVIII и XIX столетиях. Такое распределение материала при хорошем изложении в каждой главе данных, собранных относительно того или другого повода к разводу, прекрасно освещает весь вопрос и способствует его широкому уяснению. В этих видах автором написано и Введение, в котором сделан обзор бракоразводного права древнего времени у разных народов и особенно древнего Византийского законодательства и древней русской практики по делам брачным.
Вопрос о разводе автор называет труднейшим, особенно же с точки зрения христианской. Он справедливо отмечает, что обыкновенно недостаточно понимают сущность брака и его духовно-нравственное значение. Этим нужно объяснять и неудовлетворительное состояние законодательства, связанного с браком. Отсюда проведение в него разных взглядов на то, что сохраняет и разрушает брачный союз. Изучение автором вопроса о брачном законодательстве в России приводит его к заключению, что оно отличается невыдержанностью в принципиальном отношении и некоторой отрывочностью. Относительно него ясно ощущается большой разлад с жизнью.
Свои соображения в этом отношении автор подкрепля-
—282—
ет ссылками на известные отзывы епархиальных преосвященных по вопросам церковной реформы, присланные в Св. Синод в течение 1905–1906 года, на суждения по вопросам о браке Предсоборного Присутствия и на определение св. Синода от 28 февраля 1907 года об учреждении Особого Совещания для обсуждения и выработки проекта положений о поводах к разводу согласно указаниям Предсоборного Присутствия. На основании всего итого автор тем смелее утверждает, что действующее в России брачное законодательство не удовлетворяет требованиям жизни и должно быть изменено.
Возможность и даже необходимость пересмотра нашего брачного законодательства ясно выступает из самой рассмотренной им практики Св. Синода. Она показывает, что сами понятия прелюбодеяния, его доказательств и цели развода не отличались устойчивостью даже на протяжении двух веков. В первое время они были шире и духовной власти предоставлено было более свободы в разрешении, бракоразводных дел в зависимости от обстоятельств каждого случая. Тогда больше имелось в виду, внутреннее состояние разводящихся и их отношение к брачному союзу. С введением же действующего Устава Духовных Консисторий в России устанавливается крайний формализм и более внешнее отношение к делам брачным.
Об этих сами собой напрашивающихся выводах автору следовало бы ясно отметить в своей работе и кроме того обратить больше внимания, что брак имеет много сторон, что он входит не только в область церковного, но и гражданского права, что в вопросе о нём очень заинтересовано и само государство. Этой смешанной природой брака во многом обусловливаются затруднения при нормировании его законодательством.
Вопрос о пересмотре брачного законодательства особенно сильно выдвинулся, как известно, в связи с признанием необходимости произвести важные преобразования в русском церковном управлении. Этим вопросом немало занималось Предсоборное Присутствие и вопрос этот до сих пор считается очередным.
Поэтому всякие исследования в этом направлении, с той или другой стороны освещающие вопрос о браке, имеют
—283—
теперь не только академическое, но и практическое значение. Среди таких исследований сочинение священника Лебедева не затеряется без всякого следа и приобретает известное значение в деле столь необходимого исторического освещения вопроса. Сочинение это, по моему мнению, вполне, заслуживает степени кандидата.
Нельзя не пожелать автору, чтобы он, при обнаруженном им уменье разбираться в историческом материале и хорошо освещать рассматриваемый вопрос, не ограничился только этой работой, но продолжал бы свои труды для столь нужных теперь исследований по разным выдвинутым современной жизнью церковно-общественным вопросам.“
б) Экстраординарного профессора священника В.Н. Страхова:
„Свою задачу – „исследовать бракоразводную практику Св. Синода за 18–19 века“ – автор выполнил с отличными успехом. Предпослав своей работе „краткий исторический обзор бракоразводного права древних народов Востока и Запада“, автор далее рассматривает нормы бракоразводного права, определявшие практику Св. Синода в течение 18 и 19 вв., „в связи с церковным и гражданским Византийским законодательством, и древнерусской бракоразводною практикой“, причём очень удачно сопоставляет эти нормы с бракоразводным правом западноевропейских государств. Принятый автором метод освещения вопроса в широкой исторической перспективе обеспечивает основательное и правильное решение поставленной автором задачи. Такая вполне научная постановка работы о. Лебедева была возможна лишь при широком и добросовестном изучении им большой литературы вопроса. Автор использовал весь напечатанный материал по данному вопросу: изучил бракоразводные дела за 18 и 19 вв., хранящиеся в Архиве Св. Синода, рассмотрел часть протоколов Московской Духовной Дикастерии за 18 век, изучил напечатанные бракоразводные дела, хранящиеся в архивах Духовных Консисторий: Московской, Тульской, Курской и Харьковской, и протоколы Св. Синода, изданные в сочинениях Иоанна Смоленского. Кроме этого основного
—284—
материала автор изучил всю, заслуживающую внимания, русскую литературу по этому вопросу, о чём свидетельствует её длинный перечень (XII–XXX), помещённый в конце его сочинения. Автор, наконец, обнаружил знакомство как с общими источниками византийского и русского церковного и гражданского права, так и с относящимися к его вопросу творениями и беседами отцов Церкви (Амвросия Мед., Астерия Амасийского, Григория Нисского, Василия Вел. и Григория Богослова). – Язык сочинения ясный и правильный. Сочинение читается с удовольствием.
Степени кандидата богословия автор заслуживает вполне“.
26) О сочинении студента Левкоева Николая на тему: „Вопрос о переутомлении учащихся“.
а) Инспектора Академии, и. д. ординарного, заслуженного профессора А.П. Шостьина:
„После небольшого предисловия (стр. 1–7), в котором автор говорит о важности избранного им вопроса и о громадном количестве литературы по нему, причём откровенно признается, что „с иностранной литературой в подлиннике“ он не ознакомился, далее следует „краткая история возникновения и развития вопроса о переутомлении“, начиная с 40-х годов минувшего столетия (стр. 8–31), и затем во 2-й главе устанавливается точный смысл самого термина „переутомление“ в его отличии от скуки и нормальной усталости (стр. 31–99). В 3-й главе (стр. 100–297) довольно подробно выясняются „причины, вызывающие переутомление“, кроющиеся в условиях современной жизни, семейной и школьной, а в главе 4-й (стр. 298–385) обсуждаются „следствия переутомления“, – те болезненные явления, которые обычно считаются естественным следствием школьного переутомления: сколиоз, близорукость, неврастения, малокровие и т. п., причём приводятся наблюдения и статистические данные школьных и военных врачей. Не довольствуясь этими наблюдениями врачей, автор в 5-ой главе (стр. 385–476) излагает „экспериментальные исследования процесса переутомления“, производившиеся психологами и педагогами. Эти последние исследования, не смотря
—285—
на их многие недостатки, важны в том отношении, что не только констатируют с несомненностью факт школьного переутомления, но и показывает наглядно, до какого предела повышается качество учебной работы и с какого начинается упадок её. Наконец, в кратком заключении (стр. 476–498) делается сводка, результатов всего предыдущего исследования и предлагаются меры для борьбы с все возрастающим переутомлением учащихся.
Изложенное содержание труда г. Левкоева показывает, что вопрос о переутомлении учащихся рассмотрен им довольно полно и всесторонне, с заметной начитанностью в литературе – русской и иностранной (в переводах). К сожалению, с внешне-формальной стороны приходится отметить в этом труде, немало недостатков, свидетельствующих о спешности его. Здесь встречаются иногда суждения противоречивые (срав. стр. 206 и 255), есть придаточные предложения без главного (109–110), много стилистических погрешностей (напр.: „восприимчив к восприятию“ – 254; „напряжение, неизбежное при всякой работе, дольше известного напряжения отнюдь не безразлично“ – 96), не говорю уже об орфографических ошибках, в которых повинен переписчик, но отчасти и автор, не проверивший с должным вниманием переписанного.
Но и при этих, весьма досадных, недосмотрах сочинение г. Левкоева должно быть признано удовлетворительным для присуждения кандидатской степени“.
б) И. д. доцента В.П. Виноградова:
„Сочинение г. Левкоева представляет собой изложение собранных из различных пособий сведений, так или иначе связанных с вопросом о переутомлении учащихся. Подбор сведений сделан более или менее трудолюбиво и обнаруживает в авторе некоторую начитанность в педагогической литературе, но постановка и трактация вопроса – не на высоте научной работы: сочинение не обнаруживает действительно серьёзных попыток научно-принципиального освещения добытых данных, самостоятельного исследования вопроса.
Степени кандидата богословия автор может быть удостоен“.
—286—
27) О сочинении студента священника Лукьянова Михаила на тему: „Историческая судьба Вавилона в её отношении к ветхозаветным пророчествам о Вавилоне“.
а) Экстраординарного профессора Д.И. Введенского:
„Исторический Вавилон давно уже закончил своё существование. Но ещё в то время, когда от него не была отнята слава могущественнейшей монархии, над ним носился приговор Божий, изречённый устами ветхозаветных пророков о его гибели. По смыслу темы, автор настоящей работы и должен был поставить ветхозаветные пророчества в ближайшее соотношение с последующей историей Вавилона. Между тем он расширил рамки своей работы, уделив из 4-х глав её [1) История древнего Вавилона, 2) пророчества о Вавилоне, 3) историческое исполнение пророчеств о Вавилоне, 4) Апокалипсический Вавилон] первую, довольно обширную главу (1–93), сложной истории древнего и отчасти доисторического Вавилона. Эта часть сочинения не была обязательной для автора, и, разумеется, могла не занимать особой главы. О древнем Вавилоне автор если и мог сказать, то разве только – и это к своей выгоде – во введении. Это не налагало бы на него ответственности за правильность решения вопроса о происхождении Вавилона, о древней культуре его и т. п. Но выделенная в целую главу, эта часть работы сделала автора ответственным за ценность его научных выводов, которые в некоторых случаях должны быть признаны сомнительными, по крайней мере, в сложном вопросе о древней хронологии. Эта хронология является у автора вне соотношения с данными Библии – и в этом главный недостаток его работы. Общая предпосылка автора (предисловие), в которой он выясняет значение Промысла Божия в истории древних народов, также должна быть отнесена к разряду слабых мест сочинения. Так, на стр. 4-й, ссылаясь на Пс.24:4, он утверждает, что все „пути“ – „Господни“, причём он склоняется к признанию того, что и нарушением воли Божией (стр. III-я) человек, как будто, осуществляет пути Господни... А это такое положение, которое опровергает и сам автор целым сочинением, раскрывающим ту истину, что Бог не попускает развиваться до
—287—
бесконечности злой настроенности людей, дабы они не препятствовали целям Высшего домостроительства.
Последняя глава сочинения о. Лукьянова – „Апокалипсический Вавилон“ всего в 11 страницах без достаточных оснований выделена им в особую главу. Обозреватель судьбы Вавилона, имеющий дело с данными Ветхого Завета, по необходимости должен был обратиться в своей последней главе к Апокалипсису, а для полного анализа его содержания у него не оказалось достаточных данных. Лучше было бы, если бы автор свёл упоминание об апокалипсическом Вавилоне к простому заключительному замечанию.
Но отмеченные нами недостатки сочинения о. Лукьянова искупаются общим характером его работы. Желая придать ей серьёзность и обстоятельность, он привлёк, в качестве пособий, святоотеческую литературу (Кирилл Александрийский, Иероним, Василий Великий), первоисточники (кроме основного – Библии он пользуется Иосифом Флавием, Геродотом, Страбоном, Диодором Сицилийским и др. по Fragment. Histor. Graec.), лучшие пособия по Библейской истории и по экзегетике – как отечественных учёных, так и иностранных (всего 62 названия). В начале сочинения он поместил довольно хорошую карту древней Вавилонии.
2-я основная глава сочинения о. Лукьянова написана с большим пониманием дела. В ней дан серьёзный систематический свод выразительных пророчеств о Вавилоне, причём автор обратил особое внимание на пророчества Исаии и Иеремии, которые в ярких образах начертали будущее Вавилона.
Следует также отметить 3-ю главу сочинения. В ней автор дал блестящий по языку и очень серьёзный по научным справкам исторический очерк судьбы Вавилона до полного его уничтожения.
При устранении неясностей в обще-богословской вводной части и при переработке первой и четвертой глав сочинения, последнее могло бы быть признано интересной, научно-обоснованной, безукоризненной работой, имеющей апологетическое значение, поскольку в ней ветхозаветные пророчества рассматриваются с точки зрения их полного исторического оправдания.
—288—
Но и в настоящем своём виде, при наличности неизбежных в каждом курсовом сочинении недочётов, работа о. Лукьянова должна быть признана серьёзным кандидатским сочинением“.
б) Экстраординарного профессора, священника Д.В. Рождественского:
„В рецензируемом сочинении, написанном по строго выработанному и стройному плану, с достаточной полнотой обследованы все существенно важные вопросы, касающиеся древнейшей истории Вавилона, ветхозаветных пророчеств (главным образом, Исаии и Иеремии) о судьбе Вавилона и Вавилонской монархии вообще и осуществлении этих пророчеств в последующей истории. Автором изучено большое число пособий по истории древнего Востока, по библейской истории, ветхозаветной экзегетике и пр. К разработке своей темы он всюду относится с живым интересом, что по местам заметно сказывается в искренности и убеждённости тона и в картинности изложения.
К числу недостатков сочинения следует отнести почти полное отсутствие критики и попыток сопоставления и проверки разнообразных исторических свидетельств, стоящих в противоречии друг с другом. Напр., у автора рассматриваемого труда Валтасар книги пр. Даниила и Валтасар, известный историкам из вне-библейских источников, без дальних рассуждений принимается за одно лицо (198–201 стр.). Между тем, по пр. Даниилу, Валтасар – сын Навуходоносора (5, 2 и др.); а по мнению историков светских, он – сын Набунаида, принадлежавшего к другой династии, бывший при взятии Вавилона только главнокомандующим вавилонского войска, а не царём. Относительно „Киропедии“ необходимо было заметить, что это произведение Ксенофонта не может быть признано историческим исследованием в собственном смысле (см. Ф. Ленорман, Руководство к древней истории Востока до Персидских войн. Тома 2-го вып. 2. Киев, 1878. Стр. 201). В перечне использованных сочинений помещено значительное число трудов мало авторитетных и устаревших. Необходимо поставить на вид автору и то, что он почти нигде не обозначает места и года издания своих пособий.
Отчёт о состоянии Братства Преподобного Сергия за 1911 г. // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 33–48 (4-я пагин.)
—33—
184. Богородице-Рождественской, за Смоленскими воротами, ц., священника А.В. Воскресенского:
Д. Алексеев – 25 – –
N. – 50 – –
N. – 25 – –
Липская – 25 – –
Волков – 25 – –
Священник Д. Ромашков – 50 – 50
Леонтова – 25 – –
185. Богоявленской, в Ямской Дорогомиловской слободе, ц., священника Н.М. Михайловского:
Священник С.В. Зерцалов 1 – – –
Священник Н.М. Михайловский – – 2 –
Священник А.В. Викторов 1 – – –
186. Борисо-Глебской, на Арбате, ц.. протоиерея о. М.И. Руднева:
Протоиерей М.И. Руднев 5 – – –
Церковный Староста К А. Шевелев 3 – – –
В. В. Думнов 3 – – –
187. Борнео-Глебской, на Поварской ул., ц„ священника о. Д. Д. Виноградова:
И. Д. Самарин – – 5 –
B. И. Дубровина – – 1 –
C. К. Попов – – 2 –
188. Введенской, в былом Новинском монастыре, ц.. священника Ф. Л. Островского:
Священник Ф.Л. Островский 2 – – –
Е.Г. Лямина 3 – – –
18!). Власиевской, в Старой Конюшенной, ц., протоиерея о. Д.П. Некрасова:
Прот. Д.П. Некрасов 3 – 3 –
Второва 5 – 5 –
—34—
Л.П. Казаков 3 – 3 –
Геннерт 3 – 3 –
190. Воздвиженской, на Пометном Вражке. ц., протоиерея Н.С. Сахарова:
N. 1 – – –
191. Неопалимовской, близ Девичьего поля, ц., священника Б.И. Забавина:
NN. – – 1 –
192. Николаевской, что на Курьих ножках, щ. священника В.Д. Воздвиженского:
N. 1 – – –
N. 3 – – –
193. Николаевской, в Плотниках, ц., протоиерея о. И.И. Фудель:
Протоиерей И.И. Фудель – 50 – –
NN. – 50 – –
194. Николаевской, на Щепах, ц„ священника о. Н. М. Счастнева:
Священник Н. М. Счастнев 2 50 2 50
Машков – – – 25
N. – – – 50
195. Покровской, в Левшине, ц., протоиерея о, И.В. Розанова:
Протоиерей И.В. Розанов 1 – – –
196. Предтеченской, в Кречетниках, ц., священника о. П.Г. Доброхотова:
Д.А. Хомяков 3 – – –
197. Преображенской, на Арбате, ц., протоиерея Благочинного С. В. Успенского:
Протоиерей С.В. Успенский – – 5 –
N. – – 3 –
М. Петровская – – 3 –
—35—
198. Рженской, на Поварской, ц., священника о. М.К. Миртова:
А. М. 3 – – –
199. Саввинской, на Саввинской ул., ц., священника о. Д.В. Георгиевского:
Т-во А. Гюбнер 5 – – –
200. Симеоновской, на Поварской, ц.. протоиерея о. М.Д. Успенского:
Протоиерей М.Д. Успенский 1 – – –
201. Седмовселенской, близ Новодевичьего монастыря, ц„ священника о. Г.В. Левитского:
N. – 25 – –
202. Тихвинской, в Малых Лужниках, ц.. священника С.И. Синьковского:
Причт и прихожане 1 – 1 –
203. Тихвинской на Бережках, ц., протоиерея о. E.М. Лавровского:
Протоиерей E. М. Лавровский 2 – – –
204. Троицкой, на Арбате, ц., протоиерея о. Н.Д. Липеровского:
Протоиерей Н.Д. Липеровский – – 3 –
Священник Н.А Романовский – – 3 –
205. Христо-Рождественской, в Кудрине. ц., священника о. Владимира Владиславлева:
В. Д. Бабурин 5 – – –
Н, Н. Авинов 5 – – –
206. Успенской, на Могильцах, ц., протоиерея о. Ф.М. Ловцова:
N. 1 – – –
Ивановского сорока 1-го отделения.
207. Александро-Невской, в 3-ем Кадетском Корпусе, ц., свящ, о. Н.П. Казанского:
От Церкви 1 – – –
—36—
208. Александро-Невской, в Практической Академии Коммерческих наук, ц., протоиерея М.И. Диомидова: 2 – 3 –
209. Благовещенской, на Воронцовом поле, ц., протоиерея о. И.Ф. Мансветова;
Протоиерей И.Ф. Мансветов 1 – – –
210. Богородице-Рождественской. на Кулишках. ц., протоиерея о. А. М. Знаменского:
Протоиерей А.М. Знаменский 1 50 1 50
211. Введенской, в Барашках, ц., протоиерея о. В.Н. Руднева:
И. Авдеев 1 – – –
N. 1 – – –
212. Введенской, в Семёновском, ц, священника о. Ф.М. Бажанова:
Священник Ф. М. Бажанов 1 – – –
N. 1 – – –
213. Воскресенской, на Семёновском кладбище, ц.. священника благочинного о. В. С. Недумова:
Священник В.С. Недумов – – 1 –
214. Воскресенской, в Барашках, ц., священника о. В. И. Постникова:
Священник В. И. Постников 5 в Амфитеатр. ш.
С.В. Дремичев 3 – – –
215. Иоанно-Предтеченской, в Казённой, ц., протоиерея о. В.Ф. Соболева:
Протоиерей В.Ф. Соболев 5 – – –
216. Иоанно-Предтеченской, в Ивановском монастыре, ц., прот. о. В.Д. Лебедева:
Причт монастыря 1 – – –
217. Князе-Владимирской, в Садех, ц., протоиерея Т.И. Соболева:
NN. – 50 – –
—37—
218. Косьмо-Дамианской. на Покровке, ц, священника о. М.С. Пятикрестовского:
Священник М.С. Пятикрестовский 1 – – –
А.И. Червяков 1 – – –
219. Марие-Магдалининской. в Императорском Техническом Училище, ц, священника о. С.А. Виноградова:
Свящ. С.А. Виноградов 1 – – –
220. Никитской, в Старой Басманной, ц. прот. о. М.И. Геликонского:
М. Н. Бостанжогло 1 – – –
221. Николаевской, в Воробине, ц„ священника о. И.В. Никанорова:
Свящ. И. Никаноров 1 – – –
222. Николаевской, в Кобыльском, ц., священника о. А.И. Введенского:
Священник А.И. Введенский 1 – – –
223. Петропавловской, в Лефортове, ц., священника о. И.Д. Можарова:
Свящ. И.Д. Можаров 1 – 1 –
224. Покровской, на Воронцовом поле, ц., священника о. Н.Н. Строганова:
A. М. Капцова 2 – 1 –
B.П. Быльев 1 – – –
225. Преображенской, в Преображенском, ц., священника о. С.Г. Соколова:
К. Л. Беляев 2 – – –
226. Трёхсвятительской, на Кулишках, ц„ протоиерея о. В.С. Пятикрестовского:
Протоиерей В.С. Пятикрестовский 1 – – –
N. 3 – – –
Крестовников 1 – – –
—38—
Ивановского сорока 2 отд.
1. Алексиевской, на М. Алексеевской, ц., священника о. В.А. Красновского:
Свящ. В.А. Красновский 1 – – –
N. 3 – – –
N. 3 – – –
2. Аннинской, в д. призрения бр. Мазуриных, и., свящ. о. А.И. Цветкова:
N. – 50 – –
3. Богородицкой „Взыскания Погибших“, ц., в Убежище Марии, в Малом Успенском пер., священ.
И.В. Маркова:
В. Щенков – – 1 –
4. Василиевской, в Новой Деревне, ц., свящ. о. И.Д. Лужниковского:
От церкви – 50 – –
От принта – 50 – –
5. Воскресенской, в Гончарах, ц., свящ. о. М.Г. Городенского:
Свящ. М.Г. Городенский 3 – 2 –
6. Космо-Домианской, в Таганской сл., ц., свящ. о. М.А. Певницкого:
NN. 3 – – –
7. Св. Мартина Исповедника церкви, протоиерея о. А.И. Молчанова:
Прот. А. И. Молчанов – – 5 –
N. – – 1 –
8. Св. Никиты Мученика, что за Яузой, ц., свящ. о. Н.И. Померанцева:
N. 1 – – –
9. Николаевской, в Кошелях, ц., свящ. К.Д. Всехсвятского:
N. 1 – 1 –
—39—
10. Николаевской, в Котельниках. ц., свящ. о. Н.Ф. Черткова:
Свящ. Н.Ф. Чертков 1 – – –
11. Николаевской, на Болвановке, ц., протоиерея о. Н.А. Орлова:
М.М. Ноликов 2 – – –
A.М. Кирекин 1 – – –
12. Николаевской, на Воронцовой ул., в приюте кн. Щербатовой, ц., свящ. о. А. Вознесенского:
Свящ. А. Вознесенский 1 – – –
13. Николаевской, на Ямах, ц., свящ. Е.А. Цветкова:
NN. 2 – – –
14. Покровской, на Лыщиковой г., ц., свящ. о. П.С. Никольского:
От церкви – – – 50
15. Сергиевской, в Рогожской слободе. ц. протоиерея И.А. Орфанитского:
Прот. И. Орфанитский 5 – – –
Я. Андреев 2 – – –
Гришина 3 – – –
П. Г. Зыков 3 – – –
N. 3 – – –
B. Т. Возков 3 – – –
16. Петропавловской, у Яузских ворот, ц., протоиерея о. В.И. Цветкова:
Прот. В.И. Цветков 1 – – –
N. 1 – – –
17. Скорбященской в Яузской больнице ц., свящ. М.А Виноградова:
От причта и разных лиц 1 40 – –
18. Скорбященской, на Калитинском кладбище, ц. протоиерея о. С.И. Уварова:
Свящ. К. Запрудский 2 – – –
19. Сорокосвятской, у Новоспасского м., ц., свящ. о. В. Попова:
N. 1 – – –
—40—
N. – 50 – –
В. Яковлев – 50 – –
20. Св. Стефана Архидиакона церкви, за Яузой, свящ. С.А. Зверева:
Д. Беляев 1 – – –
И. Н. – 50 – –
21. Троицкой, в Серебрянниках, ц., свящ. о. А.Д. Харитонова:
Свящ. А. Харитонов 1 – – –
А. Филиппова 1 – – –
22. Успенской. в Крутицах, ц., свящ. о. Ф.Д. Воздвиженского:
Свящ. Ф. Д. Воздвиженский 3 – – –
И.П. Герасимов 2 – – –
О. Благочинного единоверческих церквей
Единоверческой Троицко-Введенской, у Салтыкова моста, ц., – Благочинного свящ, о. Григория Стефановича Шлеева:
Свящ. Григорий Шлеев 2 – – –
Свящ. Павел Коиьев 1 – – –
О. Благочинного Московских Придворных соборов и церквей
Настоятеля Спаса-на Бору собора, благочинного, о. протоиерея П.Г. Извекова:
Протоиерей П.Г. Извеков 2 50 2 50
Саккелария Благовещенского собора о. протоиерея П.М. Маркова:
Протоиерей П.М. Марков 3 – 2 –
Протоиерей Н. Д. Извеков 3 – – –
Петропавловской в Николаевском дворце, ц. Протоиерея о. К.П. Зверева:
Протоиерей К. Зверев 1 50 – –
—41—
Священника Покровской, в Красном селе, ц. о. Петра Иоанновича Голубева:
Пром. и торг. Тов-во Малютина С-ья 50 – – –
3) Пожертвования по подписным листам от духовно-учебных заведений
1. От Корпорации Московской Духовной Академии:
Р. А. Еп. Феодор 10 – – –
Инспектор Акад., проф. А.П. Шостьин 5 – 5 –
Заслуженный орд. проф. А.Д. Беляев 10 – – –
Заслуж. орд. проф. М.Д. Муретов 2 50 2 50
Заслуж. орд. проф. П.И. Цветков 5 – – –
Заслуж. орд. проф. Н.Ф. Каптерев 5 – – –
Заслуж. орд. проф. П. Казанский 2 – 3 –
Заслуж. орд. проф. Г. Воскресенский 2 50 2 50
Заслуж. орд. проф. А.И. Введенский 5 – – –
Орд. проф. М.М. Тареев 5 – – –
Ординарный профессор А.А. Спасский на ст. Н.Ф. Сергиевского.
Орд. проф. М.М. Богословский 5 – – –
Орд. проф. С.И. Соболевский 5 – – –
Экстр-орд. проф. П.П. Соколов 5 – – –
Экстр-орд. проф. И.В. Попов 5 – – –
Экстр-орд. проф. С.И. Смирнов 2 50 2 50
Экстраординарный проф. А.Н. Орлов на ст. Н.Ф. Сергиевского. 5 – – –
Экстр-орд. проф. Д.И. Введенский 2 50 2 50
Экстр-орд. проф. Е. Воронцов 5 – – –
Экстр-орд. проф. Д. Рождественский 2 50 2 50
Экстр-орд. проф. В. Страхов 5 – – –
И. д. доцента Н.Л. Туницкий 5 – – –
И. д. доцента Ф.М. Россейкин 5 – – –
И. д. доцента П.А. Флоренский 5 – – –
И. д. доцента В.П. Виноградов 5 – – –
—42—
И. д. доцента А.М. Туберовский 2 50 2 50
И. д. доцента Н.Д. Кузнецов 100 – – –
И. д. доцента В.А. Троицкий 5 – – –
И. д. доцента С.П. Знаменский 2 50 – –
Лектор Н. Преображенский 5 – – –
А.К. Мишин 5 – – –
Секретарь Н.Д. Всехсвятский 2 50 2 50
Помощник секретаря, Н.Г. Шафранов 3 – – –
Библиотекарь К.М. Попов 2 50 2 50
2. От корпорации Московской Духовной Семинарии.
Архимандрит Борис – – 5 –
М. Струженцов – – 1 –
С. Никитский – – 1 –
С. Кедров – – – 50
Д. Минервин – – 1 –
В. Цветков – – – 50
Д. Смирнов – – – 50
Лебедев – – 3 –
М. Ильин – – 3 –
Н. Розанов – – 1 –
С. Световидов – – 5 –
П. Третьяков – – 1 –
А. Петропавловский – – 1 –
С. Голощапов – – 1 –
П. Минин – – 1 –
Свящ. И. Гумилевский – – 1 –
М.П. Аристов – – 5 –
3. От корпорации Елизавет-градского дух. училища:
Статский Сов. И.Н. Полонский – 10 – 10
И. Б. 1 – 1 –
Д. Смирнов – 10 – 10
А. Глобин – 30 – 30
N. – 10 – 10
—43—
Г. Пожертвования по подписным листам через настоятелей и настоятельниц монастырей Московской епархии
(В пользу студентов академии / В пользу бывших воспитанников. Руб. Коп.)
1. Настоятеля Московского Сретенского монастыря Архимандрита Афанасия:
От монастыря 3 – – –
2. Настоятельницу Моск. Страстного монаст. Игуменью Сергию:
От монастыря 8 – – –
3. Настоятельницу Моск. Ивановского монастыря Игуменью Епифанию:
Игуменья Епифания 3 – 3 –
4. Настоятельницу Моск. Вознесенского монаст. Игуменью Евгению:
Игуменья Евгения 5 – – –
5. Настоятельницу Моск. Новодевичья монастыря Игуменью Леониду:
Игуменья Леонида 10 – 10 –
6. Наместника Моск. Богоявленского монаст. Арх. Ипполита:
От монастыря 5 – – –
7. Настоятеля Московского Златоустого монастыря, Архим. Феодосия:
От монастыря 3 – – –
8. Настоятеля Знаменского монастыря, благочинного Моск. монастырей, Арх. Модеста:
Архим. Модест 10 – – –
9. Настоятельницу Московского женского «Всех скорбящих Радости» монастыря, игуменью Нину:
От монастыря 3 – 2 –
—44—
10. Управляющего Московского Данилова монастыря иеромонаха Кассиана:
Е. А. 5 – 3 –
От монастыря 10 – 2 –
Казначей иером. Кассиан 3 – – –
11. Управляющего Моск. Заиконоспасского монастыря, Епископа Евфимия:
Епископа Евфимий 3 – – –
12. Настоятеля Моск. Новоспасского Ставропигиального монаст., Арх. Макария:
От монастыря 5 – 5 –
Арх. Макарий 1 – 1 –
Игумен Христофор. – 50 – 50
Иеромонах Серапион – 20 – 20
Иеромонах Леонид – 25 – 25
Иером. Афанасий старший – 25 – 25
Иером. Аркадий – 25 – 25
Иером. Прокопий – 25 – 25
Иером. Иоасаф – 15 – 15
Иером. Афанасий младший – 20 – 20
Монах Зосима – 25 – 25
Иером. Филипп – 25 – 25
В. К. – 25 – 25
Иерод. Сергий – – – 10
Иерод. Павлин – 15 – 15
Монах Серафим – 15 – 15
Иерод. Григорий – 10 – 10
Иерод. Алексий – 10 – 10
Инок Ириней – 15 – 15
Иером. Иаков – 25 – 25
Иером. С. – 15 – 15
Иером. Иларион – 15 – 15
Монах Димитрий – 15 – 15
Иером. П. – 25 – 25
13. Савво-Сторожевского Звенигородского монастыря, о. наместника игумена Иоанникия:
От монастыря 15 – – –
—45—
14. О. Протоиерея Крестовоздвиженской в Алексиевском монастыре; ц., Алексия Петровича Афонского:
Свящ. Симеон Ковганкин 2 50 2 50
Свящ. В. С. 3 – – –
С.Н. Горбова 2 – – –
15. Игуменья Серпуховского мон. Валентина – – 1 –
16. Игуменья Спасо-Бородинского мон. Евгения – – – 50
17. Игуменья Аносина Борнео-Глебского монастыря Иоанна – – 2 –
18. Игуменья Крестовоздвиженского Иерусалимского мон. Маргарита 1 – – –
Д. Единоличные пожертвования, внесённые непосредственно в кассу Братства почётными, пожизненными и действительными членами и членами-соревнователями.
(В пользу студентов академии / в пользу бывших воспитанников. Руб. Коп.)
Александренко И.А., московского купца 5 – – –
Александренко П.С., жены московского купца 5 – – –
Архимандрита Арсения, Наместника Чудова монастыря 10 – – –
Богданова К., учителя Новочеркасского Духовного училища 5 – 5 –
Богоявленского Г.К., преподавателя Ростовского Дух. Училища 5 – – –
Священника I. Васильева (г. Москвы). 3 – – –
Благочинного 38-й пехотной дивизии священника А. Вознесенского 25 – – –
Игуменьи Казанского Головинского монастыря Евгении 5 – – –
Протоиерея г. Орла И.В. Ливанского 5 – – –
—46—
Священника Мироносицкой г. Твери церкви М. Любского 10 – – –
Законоучителя Ярославского Учительского Инс-та Свящ. И.К. Миртова 5 – – –
Павлова П.И. (из г. Витебска) 10 – – –
Протоиерея И. Полянского (г. Москвы) 5 – – –
Заштатного священника Ник. Иоан. Носка 3 – – –
Стеблева Б.П., преподавателя Красноярской учительской Семинарии 20 – – –
Протоиерея Московской Троицкой в Вешняках ц. С. В. Страхова (4% Гос. рента) 100 – – –
Стурницкого Ф.Е. (из г. Витебска) 5 – – –
Архимандрита Филиппа, Ректора Вифанской Дух. Семинарии 15 – – –
Проф. А.П. Шостьина, Инспектора Моск. Дух. Академии (4% Гос. рента) 100 – – –
Юрасова В.К. преподавателя Казанской Дух. Сем. 3 – – –
V. Денежные средства Братства
А. Денежные средства Братства для вспомоществования студентов Московской Духовной Академии по приходо-расходным книгам за 1911 год.
Приход.
а) наличными деньгами:
1) Взносы членов и единовременные пожертвования 1114 р. 95к.
2) От Московского Епархиального Свечного завода 300 – – к.
3) От Общества нуждающимся литераторам и учёным (взнос за 1911 г.) 25 – – к.
—47—
4) От продажи изданий Братства 884 р. 69 к.
5) Остатки от % % с капитала Косташ (за 1910 и 1911 гг.) 540 р. – к.
6) Остаток от стипенд. капитала Колесова 75 р. 41 к.
7) Возвращённые долги 251 р. – к.
8) %% с принадлежащих Братству капиталов 3557 р. 85 к.
9) Переходящие суммы 55 р. – к.
10) Остаток от 1910 г. 2540 р. 85 к.
Итого: 9344 р. 75 к.
б) процентными бумагами:
11) Протоиереем Московской Троицкой в Вешняках ц.
Сергием Васил. Страховым пожертвовано 100 р. – к.
12) Инспектором Московск. Дух. Академии профессором
Александром Павловичем Шостьиным пожертвовано 100 р. – к.
13) Куплено Советом Братства на средства запасного капитала
свидетельство 4% Госуд. ренты тысячерублёвого достоинства 1000 р. – к.
14) Остаток от 1910 г. 75900 р. – к.
Итого: 77100 р. – к.
Расход.
1) Внесено в экономию Академии за содержание студентов 4182 р. – к.
2) Выдано квартирного пособия студентам 376 р. 50 к.
3) Выдано на лечение студентам 400 р. 05 к.
4) Канцелярские, почтовые, типографские и случайные расходы 203 р. 48 к.
5) Выдано заимообразно студентам 754 р. – к.
6) Уплачено в Московскую Комиссию пособие Салмановой и Смирновой 84 р. – к.
7) Уплачено в Московскую Контору Государственного Банка
за хранение и управление капиталами 51 р. 55 к.
—48—
8) Израсходовано на покупку тысячерублёвого свидетельства 4% Госуд. ренты 921 р. 82 к.
9) Переходящие суммы 455 р. 53 к.
Итого: 7428 р. 93 к.
3апасный капитал Братства.
1) К 1911 г. в запасном капитале состояло:
а) % % бумагами 75900 р. – к.
в) наличными деньгами 961 р. 07 к.
2) К 1912 г. в запасный капитал отчисляются:
а) одно свидетельство 4% Госуд. ренты в сто рублей (ст. № 66) 100 р. – к.
в) одно свидетельство 4% Госуд. ренты в сто рублей (ст. № 67) 100 р. – к.
c) одно свидетельство 4% Госуд. ренты в тысячу рублей (ст. № 107). 1000 р. – к.
d) Остаток наличными деньгами образовавшийся после расхода (в 921 р. 82 к.) на покупку тысячерублёвого свидетельства 4% Госуд. ренты 39 р. 25 к.
e) 20% с 2940 р. 05 к. (= со всех поступлений, кроме остатка от 1910 г., переходящих сумм, %% с капиталов и возвращённых долгов) на сумму 588 р. 01 к.
К 1912 г., таким образом, состоит:
1) в запасном капитале:
а) процентными бумагами 77100 р. – к.
в) наличными деньгами 627 р. 26 к.
2) в расходном капитале:
а) наличными деньгами 1288 р. 56 к.
Краткие сведения о капиталах стипендий, учреждённых и учреждаемых Братством при Моск. Дух. Академии.
1) Стипендия имени Алексея Ив. Колесова. Капитал её состоит из 8000 рублей
(Продолжение следует).
* * *
Βίος καὶ πολιτεία καὶ μαρτύριον τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Μαξίμου – в Б. Л.89. а. В Г: Житие и подвижничество Исповедника правой веры святого и балженного отца нашего Максима. – в А см. стр. 15.
Так Б.
Б. ώφελῆσαι.
Б. πολλήν.
Б. 89. б. παραστήσασϑαι.
Б. γενέσϑαι.
Б. ὰνειπεῖν.
Б. вм. τέως читаем τις.
Б. φαινοίμεϑα.
Б. приб. καὶ.
Б. приб. καὶ.
Б. 90. а.оп. ὰλλά и οὒτε μὴν τοῦ εὶχότος.
τέως – намек, на то, что житие, служившее источником автору, начиналось именно с указания на монофелитское движение как в А.
Б. οἶόν τι τά τοῦ όσίου τέως.
Эта глава есть и в Р, хотя и в не вполне точном переводе латинском, – также и в Г, хотя и не сходствует с С и Р, но в Д совсем отсутствует. Имя максим есть латинское maximus соотв. греческому μέγιστος. – «поистине величайший учитель», как толкует имя св. Максима св. Анастасий апокрисиарий в письме к Феодосию пресвитеру Гангрскому. Comb. I. LXVII. Minge 1. 173. A. В Д рус. Феодосий ошибочно назван Феодором.
Г: отец назывался Иоанном, а мать Анною.
Б. 90. б. чит. καὶ после αὺτῷ.
αὺτόν не чит. Б.
Б. 91. а. не чит. τά пред πρός, что правильнее.
Св. Максим родился в 580-м году, так как на суде в Константинополе в 655-м году он сказал, что ему 75 лет. Comb. Acia I. 13. р. XL, Migne 128. c. См. ниже наш перевод.
ὲπί Б. 91. а.
τέ Б.
Буквально: никого не допускал приблизиться к себе хоть сколько-нибудь.
Б. ὲφαμίλλω.
Лат. corrogabat – неверно.
Лат. porro?
Б. ἒῦτεργε.
Букв. бытий – τῶν άντων или существующего.
Б. 91. ὸ ἀποβαλλόμενος.
Б. συγκαταχραίνεται.
ὲκέινῳ γὰρ πολλοῦ δίον καὶ φάναι, но Б: δέω... φανῆνω, а Р кажется читал δέω φάναι: Ionge abest, nt haec de ipso dixerim
Б. 92.а. приб. ποτί.
Бук.: велемудрствовать.
Р in omni erudition.
Коротенькое соответствие II и III главам есть и в Г.
Б. 92. а. καὶ τὸ μὴ ἁλῶναι ταύτης ἐν χρῷ – ошибка.
Б. не чит. τοῦτον, что лучше.
Царствовал с 610 по 641 г.
υπογραφία πρῶτον τῶν βασιλικῶν ὑπομνημάτων, – А: πρῶτος τῶν τοῖς βασιλικοῖς ὑπηρετούντων γράμμασι. Ср. πρωτασηκρίτης в минее, – πρῶτος εν τοῖς μυστογράφοις – АА. SS. 98. В – С. Д: саном асигкритским почте.
Б.92. б. εὺσυνετώτατος.
Б. ὲπὶ τά...
Р: et eum in ocuiis namquam desmebant?! Соответствие IV главе есть и в Г ср. далее прим. к А. и стр. 12, прим.4.
Б. τό вм. τῷ.
В Г даются более подробные сведения о еретиках.
Константинопольского пролива в Вифинии, близ Халкидона, – теперешний Скутари. АА. SS. 7 и 14.
Т.е. христианское богословие.
Б. 93. а. ἒσδημα, т.е. монашескую. Г. в схиму монашескую стр.456.
Б. приб. ὰπαραμίλλῳ, но оп. ὴδή.
Букв. выпрямляя, воздвигая прямо.
Букв.: от вещественного, материи.
Б. εἰς αὐτοὺς ὑπεισδῦναι τοἰς ἀθλους
О Пирре, как предшественнике св. Максима по игуменству в хрисопольской обители см. АА, SS, Commentarius praevius №№ 12 и 13. См. ниже примеч. к ХIII гл. жития.
Букв.: поклажу, багаж.
Б: τοῖς μεν – лучше чем С: – без μέν.
Б: оп. κατὰ: τό – смысл не изменяется.
Б: 94. а. и Р при. οὐδ’ ἔληγε νῦν μὲν κοινῇ νῦν δὲ καθ’ ἕνα τὰ βελτίω.
Б: ἀνήδυστον.
Б: оп. ἐώρα ἢ ἐξεως ἢ καὶ φύσεως ἔχοντα. Καὶ αὐτὸς μεν Р имеет.
Ср. М. An. 640. c.5. Описание монашеской жизни, соответствующе главам V–VI, но гораздо короче, есть и в Г.
Ересь монофелитская была продолжением монофизитской: монофизиты признавали, что во Христе одна природа (φύσις), а монофелиты учили и об одной воле – божеской, – вопреки православному учению о двух природах и двух волях – божеской и человеческой – в одном богочеловеческом лице Христа нераздельно и неслитно соединенных.
Б πλείονα вм. С. τέλειον.
М. а.640. 6.чит. только: orieniem без et accidentem.
Б: ἐν ἄλλαις νήσοις, опуская: καὶ ὅσον ἐν Ἀθρικῇ и τόποις καὶ, а вместо ἐκείναις читая ἐκείνης. Но Р как С.
Царствовал с 610 по 641 г. AA. SS,
Епископствовал с 610 по 638 г. ib.
Р magistratus.
Р in christo.
Отсюда начинается сходство с Th. варианты cм к греч. тексту. Ср Стр. 15, прим. 3. к греч
Б πρὸς δὲ καὶ.
καδ» ύπόστασιν – в одном лице богочеловеческом.
Б не чит. καὶ пред έαυτῶ
κακοδοξίαν Р: pravi dogmati opinionem.
Римскими цифрами в скобках помечены отделы, соответственно главам С, т.е. Vita ed Combefis, Б и Р. Сходственно, но пространнее, излагает эту главу 1, стр. 453–454.
Отсюда начинается совпадение с Th.
Папе Иоанну.
Отметим, что печатаемое письмо М.Н. Каткова, за промежуток истекших 29-ти лет, ничуть не устарело и сделалось даже ещё более современным: в самом деле, прискорбный Каткому § Устава 1684 года в Уставе 1912 года не только не отменён, но даже усилен разделением классических языков между Академиями (§ 12917). Ред.
Речь, произнесённая (в сокращении) на торжественном акте Вифанской духовной семинарии 11 ноября 1913 г. в память столетней годовщины со дня кончины митрополита Платона.
См. речь прот. А.А. Беляева: „Митрополит Платон, как строитель национальной духовной школы“. Богосл. Вестн., 1912 г., декабрь. Относящиеся сюда статьи его же в „Душ. Чт.“ разных годов перечислены в нашей статье: Об изучении жизни и трудов и чествовании памяти Платона, митрополита Московского. Богосл. Вестн. 1912 г., май.
В автобиографии м. Платон пишет: в сём 1805 году случилось для митрополита удовольственное, что утварь чудотворца Алексия: саккос, подризник, епитрахиль и крест, коим до нынешнего года прошло 441 года, которая утварь вся скрыта была в Патриаршей ризнице, но просьбе Платона, и по соизволению Государя Императора, отдана в Чудов монастырь, где мощи Чудотворцовы опочивают и митрополит возымел желание, посох поставив при гробе Чудотворца, а и прочую его утварь выставить для народного зрения и удовольствия, в особом открытом шкафе, возле самого гроба (См. Снегирева „Жизнь московского митрополита Платона“. Изд. 4-е. М, 1891, стр. 252. Существует отдельное издание Автобиографии С. К. Смирнова). „Обрадован я, пишет Платон в письме викарию Августину от 12 февраля 1805 г., что облачение святителя Алексия дозволено в Чудов выдать, как пишут из Питера. Но вместо того просят подворья на Фонтанке для архиереев“... (Письма Платона м. Московского к преосвященным Амвросию и Августину. С примечаниями С. Смирнова. М. 1870 г., стр. 102).
„Надлежит сказать, пишет Платон в автобиографии, о хозяйстве Московского Архиерейского дома, не только нельзя было в нём жить, но и ничего почти в нём не было: и он принужден был жить на подворье Троицком, что у Сухаревой башни. Ибо во время мятежа бывшего в 1771 году, и убиения Архиерея, Архиерейские покои были внутри разорены и разграблены: так же и конюшня, и экипаж весь. А между тем, по небытии до 1773 года хозяина, не без того, что и от других, или запущено, или недостаток и умножен. Заботило сие Платона. Пожаловала Императрица без просьбы, сама собой на построение нового дома 40000 р. И он построил новый дом, в том виде, в коем он теперь зрится всеми. Так же и в церквах Чудовских, всё оправил и украсил; и ризницу весьма всякой утварью умножил, которая до того времени весьма была недостаточна: как то сие всяк видеть может, кто возлюбопытствует узнать, что до Платона в Чудовских церквах и в ризнице было, и что при нём было... Так же не оставил и загородного Черкизовского дома, который был крайне запущен, и к падению склонен. Он его возобновил во всём пристроил, новые построил службы, сад в порядок привёл, и кругом обнёс оградой каменной. Возобновил прорвавшийся пруд, поставил мельницу, – и прочее, что всё исчислять трудно. И всё сие производил коштом монастырским; ибо, при заведении верного и доброго хозяйства, доходы весьма, против прежнего, умножились. И на всё устроение слишком доставало“ (Автобиография изд. Снегирева, стр. 231).
Получив на оную (Троицкую Лавру) до 30000 р. построил, вместо ветхой старой, новую ризничную палату, сделал новый иконостас, обложил весь серебром, в Троицком соборе, и расписал по стенам на золоте; тоже и в трапезной церкви, и у Никона, и у Михея, и в Сошественской церкви, везде новые иконостасы, и вновь расписав стенным писанием и в больничной церкви новый иконостас, и у Смоленской вновь расписав по стенам и крыльцо новое у Успенского собора и две палатки новые, Серапионовскую и Максимовскую, и оградив оградой каменной Корбуху и сад, что при Лавре, и другие многие сделав постройки и поправки, что всё исчислить подробно не без трудности, да и в печатном Лавры описании то усмотреть можно (Автобиография, стр. 232).
О следах деятельности м. Платона в церковном быте Московской епархии см. особенно Снегирев, Жизнь, ч. I стр. 42–45.
Литература по характеристике деятельности м. Платона указана в нашей упомянутой статье; Об изучении жизни и трудов и чествование памяти Платона м. Московского.
Поучительные слова при Высочайшем Дворе Её Императорского Величества благочестивейшей великой Государыни Екатерины Алексеевны, самодержицы Всероссийской и в других местах с 1763 года по 1780 год, сказанные Его Императорского Высочества Учителем и Придворным Проповедником... Платоном, архиепископом Московским и Калужским. Т. IV, стр. 113–115. М. 1780.
Поучительные слова, XVIII стр. 200.
Ср. XII, 24.
XVIII, 203.
Поучит. слова, I. стр. 163.
Поучит. слова. V. 253–254.
Поучит. слова. V, 90–91.
Поучит. слова. IV, 284–285.
Поучительные слова. II, 99–102.
Поучит. слова. IV, 113–116.
См. Поуч. слова, II, 158–162.
„Дело не о том, чтобы уклониться от неприятностей, а о том, чтобы в запутанных и тёмных обстоятельствах быть полезнее и безопаснее от нарушения долга“, говорит, например, Филарет в одном из писем к наместнику Троицкой Лавры Антонию (Письма, к Антонию, т. 11, стр. 20). „Он выработал и выносил себе твёрдое убеждение, что в деятельности в поступках своих – как любил он выражаться – каждый должен сообразоваться с внушениями долга, как внутренне сознаётся он каждым, и как внешне определяется законом. „Долг и закон – прежде всего“ – вот девиз приснопамятного Филарета! Этим девизом, как мерилом праведным, определял, и оценивал, и уравнивал он как поступки свои, так и поступки других, какое бы положение в обществе ни занимали эти другие“... Проф. Н.А. Заозерский: „Митрополит Филарет, как администратор и судья в Московской епархии. Сборник, изданный обществом любителей духовного просвещения по случаю празднования столетнего юбилея со дня рождения Филарета. митрополита Московского“. Т. II. стр. 42.
Слова и речи м. Филарета, т. I стр. 130. М. 1848 г.
Автобиография, стр. 262.
Автобиография, стр. 262.
Автобиография, стр. 209.
Там же, стр. 221.
Дневник архиепископа Ярославского Евгения Казанцева. Душ. Чт. 1868 г. III, 52.
Субъективно в сознании Филарета этот идеал утверждается на почве совершенно чуждого сердцу Платона ригористического взгляда на земную жизнь. Для Филарета здесь наиболее характерна проповедь о любви к миру (Слова и речи ч. I стр. 17–22 М. 1848), сосредоточивающаяся на раскрытии двух текстов: „любовь мира сего вражда Богу есть“ (Иак.4:4) и „суета суетствий, всяческая суета... возненавидех аз суетная мира“ (Екк.1:2,2:18). Проповедь эта, как известно, произнесённая при Дворе в 1814 г. в присутствии Императрицы вызвала неудовольствие последней и имела результатом то, что „голос проповеди Филарета с тех пор уже не слышался в дворцовых церквах, да и вообще стал менее слышан“. Корсунский, петербургский период проповеднической деятельности Филарета. Вера и Разум 1884 г. т. I ч. II (отдел церковный). стр. 498–499. Специальную характеристику (хотя и не всестороннюю) нравственного облика м. Филарета см. у проф. А.П. Лебедева „Великий и в малом московский митрополит Филарет“. Троицкий цветок. № 49. Троице-Сергиева Лавра 1906 г.
Автобиография, стр. 213.
Автобиография 212–213. Характерны мысли Платона о браке и безбрачии и монашестве, встречающиеся в проповедях. „Чувствовать в себе вожделение к плотскому соединению, и разжение сие уставленным от природы порядком погасить, кажется не только быть сродным, но и невозможным, чтоб человек сей немощью обложенный инаковым образом и поступить мог. Но чудесный Бог не оставил явить нам таковых рабов своих, которые огнь похотения совсем погасили, среди сей разожжённой пещи остались неопалимыми, сохранили через всю жизнь девство и целомудрие, и во плоти пожили, яко бесплотные. А некоторые, не удалившиеся в горы и пустыни, но живучи в мире, да ещё имея всегда при себе законных супруг, по взаимному согласию сохранили воздержание и поистине ходя по разожжённым углям нимало не опалили ног своих“ (XV, 670–671). „О удалении от мира и уединённой жизни должны мы судить, что они не сами по себе что-нибудь значат, или похвалу заслуживают: нет! и в удалении от мира и в жизни уединённой может иной быть развратен, или лицемер, и скрывающий только по наружности свою внутреннюю злость. Такового, удаление от мира, и уединённая жизнь не только не спасает, но более осуждает и погубляет. А при удалении мира, и заключив себя в уединённой жизни, необходимо потребно, чтоб он удалил от себя все прихоти мира, един для единого жил бы Бога, и содержа душу в чистоте, а сердце наполнив любовью к Богу и ближним, единственно стремился бы достигнуть вечного отечества, ничего для себя не желая, и не ища в мире сём. При таковом токмо души расположении, удаление от мира и уединённая жизнь, есть Богоугодна; и она хотя праведника от мира удаляет местом, но не пользованием: далёк от места расстоянием, но близок спасительным примером и молитвами (XX, 57–58)... Пусть он (преп. Сергий) взошёл на высокий степень совершенства Евангельского. Но я могу сказать, что в мире живущий, а к миру не приверженный христианин, не меньше, ежели не больше, возвышает себя. Труден сей подвиг, скажете вы. Конечно труден. Но чем большие встречаются трудности, кои с помощью Божией христианин преодолевает: тем большая награда, тем светлейшая победа, тем знаменитейшая слава“ (XVII. 299).
Поучит. слова VI. 332–333. Ср. XI, 169: „свойственно человеку желать быть всегда радостным. Ибо создан он не на смущение и печаль, но на удовольствие и радость“; I, 229: „врождено нам есть искать себе удовольствия, и стремиться до такого состояния, в котором бы мы совершенно были успокоены“.
Поучит. слова XI, 91–95.
Ср. XV. 808–812.
Поучит. слова XVI, 50–54.
Поучит. слова, I стр. 81.
Ср. XII. 223.
XII, 163–167. Ср. IV, 227–228.
Доношение м. Платона в Синод от 28 декабря 1809 г. См. Сушков, Записки, о жизни и времени святителя Филарета митрополита Московского, стр. 44. М. 1868 г.
Слова м. Филарета. См. Сушков, Записки.
Сушков. Записки, стр. 125. В письме к родителям, описывая свои посещения м. Платона, Филарет свидетельствует, что „при всех сих случаях он редко видит начальника, чаще отца, наставника“ Письма к родным, стр. 107. Письмо 101-е. М. 1882. О другом стихотворении в честь Платона под заглавием „Старость“, а равно взаимоотношениях между Платоном и Филаретом во дни пребывания последнего в Троицкой семинарии см. Корсунского „Лира Филарета, м. Московского“. Русский Вестник, 1884 г. т. 174 стр. 272–291.
Письма Филарета к родным. Письмо 95-е, стр. 160.
Доношение в Синод. См. примеч. 1-е.
Дневник архиепископа Ярославского Евгения Казанцева. Душ. Чт. 1868, ч. III. стр. 62 примеч.; Благовещенский, Архиепископ Евгений Казанцев, стр. 20, м 1875.
Дневник Евгения Казанцева, стр. 52, 53.
Шесть писем к Евгению за 1809 год помещены в издании; „Материалы для истории русской Церкви. К биографии архиепископа Евгения Казанцева“. Письмо 1-е от 15 марта 1809 г. Стр. 4.
Там же, письмо 2-е от 6 апреля 1809 г., стр. 5.
Там же, письмо 3-е, стр. 6.
Там же, письмо 5 и 6 от 23 ноября и 28 декабря.
Об отношении м. Платона к проповедническому таланту Филарета см. Корсунского „Проповедническая деятельность В.М. Дроздова (впоследствии – Филарета, митр. Московского) 1803–1808 гг.“ Вера и Разум 1884 г. т. I ч. I (отдел церковный) стр. 286–305; 362–401. Подробности об отношениях Платона к Филарету во время пребывания последнего в Троицкой Лаврской семинарии см. в книге прот. А. Смирнова „Детство, Отрочество и Юность, годы учения и учительства в Троицкой Лаврской семинарии митрополита Филарета“ стр. 50–71.
Дневник Евгения Казанцева, стр. 56.
Своё рассуждение о великом годе Жуан снабдил таким примечанием. Кассини вычислил, что 721 обращение луны или 29 дн. 12 ч. 44 м. 3 сек. составляют 219146 дней с половиной и что это число точно соответствует 500 солнечным годам в 365 дн. 5 ч. 51 мин. 36 сек. Эта величина года отличается лишь на 3 минуты от величины определённой нашими астрономами. По поводу этого странного примечания я должен сказать, что напрасно Жуан смеётся над физико-математическими познаниями Ортолана. Достаточно одного взгляда на приведённые цифры для утверждения, что из 721 месяца никаким образом не может получиться ни 500, ни 100 лет. Точно так же непосредственно видно, что от умножения 721 не только на 29½, но и на 30 не может получиться шестизначного числа. 721×30=21630. Ясно, что 721×29 дн. 12 ч. 44 м. 3 сек. <21630. У нашего автора, если мы даже уменьшим его цифру в 10 раз, получится больше = 21914,6. Эта цифра по разделении на 365 дн. 5 ч. 51 м. 36 сек. даёт почти 60. Что в данном случае справедливо о 60, то справедливо и о 600. Это вычисление имеет смысл. Но расчисление Жуана лишено его.
Жуан не ставит цитат и его перевод библейских текстов несколько отличается от перевода русской Библии, по которому я пред· почитаю цитировать приводимые им места. В данном тексте Жуан переводит Ас – Арктура (α Bootis) и тайники неба – комнаты полудня.
Не слишком ли высок даже и этот расчёт?
Книга Уолласа „Место человека во вселенной“ (собственно: место земли и человека во вселенной) появилась на русском языке в 1904 году. Пять лет спустя в русском переводе появилась книга Карла Снайдера – „Картины мира в свете современного естествознания“. Автор не является в своей книге сторонником религии, напротив, в нём скорее чувствуется её противник и однако он выступает решительным сторонником теории конечности мира. – По мнению Снайдера, существуют два основания, позволяющие считать мировое пространство конечным. Одно основание даётся слабостью звёздного света. То обстоятельство, что от многих звёзд идёт свет белый, показывает, что в мировом пространстве нет поглощающей среды. Вели бы таковая была, белый свет бы разлагался. Но если в междупланетном пространстве нет поглощающей среды, и число звёзд бесконечно, тогда и ночью, и днём должно было бы быть одинаково светло, и свет звёзд должен бы был быть ярче солнечного. Другое основание извлекается из фактов всемирного притяжения. Бесконечное число звёзд должно было бы заставить некоторые звёзды двигаться с бесконечной скоростью. Но этого нет. Как вселенная, по Снайдеру, ограничена в великом, так она имеет пределы и в малом. Делимость вещества ограничена. Электрический атом – электрон, по его предположению, есть наименьший предел вещества и электричества. „Основной принцип объяснения природы, приводит Снайдер слова Гельмгольца, заключается в её постижимости; если этот принцип несправедлив, бесполезно приступать к изучению“. И далее Снайдер прибавляет от себя: „если космос, к которому мы принадлежим, как часть к целому, бесконечен, то он непостижим, потому что бесконечность лежит за пределами нашего понимания. Если вселенная бесконечна по своему протяжению и по своей массе, она должна заключать в себе бесконечные силы, действующие на бесконечном расстоянии и с бесконечными скоростями. Если части вселенной делимы до бесконечности, то соединения этих частей друг с другом должны быть бесконечно разнообразны. Однако, насколько позволяют заключать наши знания, нет никаких оснований делать такие заключения“. См. о книге Снайдера мою статью „Конечность мира“ (Странник, 1910, январь).
Как физик Крукс и некоторые другие натуралисты, Уоллэс является горячим сторонником спиритизма. Им написана целая книга в его защиту – Miracles and modern Spiritualism. Эта книга выдержала несколько изданий (у меня под руками издание 1901 г.).
Настоящая статья представляет собой пробную лекцию, читанную в заседании Совета профессоров Μ. Д. Академии 19 сентября 1912 г.
См. Фаррара Жизнь и труды св. Отцов и учит. Церкви в русск. перев., изд. 2-е, т. I. стр. 554: свящ. Н. Виноградова Догматич. учение св. Григория Б., стр. 138; Богослов. Энциклопедия, т. IV, столб. 624 и др.
См. Слова преп. Симеона в русск. переводе, изд. 2-е. вып. II, стр. 75–108.
Ин.1:18; 1Ин.4:12. Излагая учение Богослова – Евангелиста, мы в равной мере пользуемся как посланиями его, в которых более всего, конечно, отразилась личность Апостола, так и Евангелием, излагающим собственно речи и учения Спасителя, равно и Апокалипсисом, изображающим видения и откровения, показанные Тайнозрителю; потому что и в этих двух величайших памятниках новозаветной апостольской письменности также не могли не отразиться индивидуальные черты и личные особенности возлюбленного ученика.
1Ин.1:5; Ин.1:7–9; ср. Ин.8:12; 9:5; 12:46; ср. 12:35–36.
Ин.1:1–2; 1, и; 1Ин.1:1; Откр.19:13.
Григорий Б, твор. в русск. пер., изд. 3-е, ч. III, стр. 17, 197, 155; ч. II, стр. 182, 144; ч. I, стр. 186; ч. IV, стр. 197 и др. Симеон Н. Б. Слова вып. II. стр. 105; Divinorum amorum liber singularis, Migrie P. ser. gr., t. CXX, cap. II. col. 510 C; c. VIII. col. 519 AD; c. IX, col. 521 А; c. XIII, col. 526 AC; c. XV, col. 530 D; c. XIX, coll. 545 D, 546 C, 547 A; c. XX, col. 550 BC; c. XXII, coll. 558 C, 559 A; c. XXV, coli. 561 D, 562 B; c. XXXII, col. 582 B; c. XXXVII, coll. 592 B. 593 А и др.
Твор. ч. III, стр. 78; см. ещё ч. III. стр. 21, 196 и др.
Слова в. II стр. 100; ср. в, II. стр. 554–555; см. ещё в. I. стр. 260; в. II; стр. 78, 80–81; Μ. Р. gr. (тот же том) ор. cit. (т. е. Div. am...) с. XV, coll. 529 С, 530 D; с. XX, соl. 550 B, 551 AB; с. XXXII, соl. 582 В и др.
Григорий Б. твор. ч. III, стр. 100–101; Симеон H. Б. Слова в. II, стр. 80–82, 102, 104; Μ. Р. gr. ор. cit. с. XIX, соl. 545 С; с. XXII, сои. 558 D; c. XXV, coll. 562 В, 563 В и др.
Симеон Н. Б. Слова в. II, стр. 93: Μ. Р. ор. cit., с. XXII, соl. 559 В; с. XXV, соl. 562 В; Григорий Б. твор. ч. III, стр. 78, 196; ч. IV, стр. 125 и др.
„Бог есть свет высочайший, неприступный неизглаголанный“, говорит Григорий Б. (твор. ч. III, стр. 226); Бог – первый и чистейший свет (ч. III, стр. 257) и пр. Весьма часто повторяя своё учение о Боге, как свете (см.. напр., твор. ч. I. стр. 50; ч. II, стр. 145; ч. III. стр. 68, 120, 256–257; ч V, стр. 44 и др.), и о Троичном Свете (твор. ч. III, стр. 103, 143, 215, 254; ч. IV. стр. 188 и др.), Григорий мог с полным правом сказать: „мы ныне узрели и проповедуем краткое богословие Троицы, от Света – Отца прияв Свет – Сына во Свете – Духе“. Твор. ч. III, стр. 85. Но едва ли менее, если не более, такое же „богословие“ развито и у преп. Симеона, который говорит, например. „Бог свет есть, и те, которые сподобляются узреть Его, все видят Его, как свет, и те, которые прияли Его, прияли как свет... и без света Ему невозможно явить Себя“. Слова в. II. стр. 518. Или ещё: „Бог есть свет в свет беспредельный, и что в Боге, свет есть... Отец есть свет, Сын свет и Дух Святый свет, – три – един Свет... и то, что от Бога, свет есть“ и пр. Слова в. II. стр. 106–107. См. ещё в. II. стр. 51. 556; Μ. Р. ор. cit., с. III, соl. 522 С; с. XVIII. соl. 543 AB; с. XXXII, соll. 582 А, 583 ВС и др.
В творениях Григория Б. см. ч. I, стр. 186, 248; ч. II, стр. 189 и др. У преп. Симеона мы читаем: Бог „наименовался и есть самосущая и ипостасная Любовь“. Слова в. II, стр. 367; ср. Μ. Р. ор. cit., с. XL, соl. 600 С и др. И o Сыне Божием св. Отец говорит: „Христос есть совершенная любовь“. Μ. Р. ор. cit., с. VI. соl. 518 D. Также и о Духе Святом он утверждает, что „Божественный Дух есть любовь“. Ibid. с XVII, coll. 536 В, 539 А См. ещё у Симеона ibid. с. XV, coll. 529 D, 530 А: с. XVII, соl. 534 СD; с. XVIII. соl. 544 С, с. XX. соl. 551. С и др.
У Симеона см. Слова в. I, стр. 260; в. II. 94–8; Μ. Р. ор. cit. с. XVII, соl. 539 В; с. XXX. соl. 575 С; с. XXXI, соl. 578 СD. Григорий Б., называя себя учеником и служителем Слова (твор. ч. IV, стр. 3; ч. VI, стр. 24) о Боге весьма часто говорит, как о всецелом, великом и бесконечном Уме. Твор. ч. I, стр. 49; ч. II, стр. 34. 84; ч. IV, стр. 164, 178, 188, 190 и др. Иоанна Предтечу Григорий не иначе называет, как гласом Слова и светильником Света. Твор. ч. II, стр. 145; ч. III, стр. 29, 61. 203 и др. И вообще св. Отец мыслит о Христе главным образом, как о Слове Божием. См. твор. ч. III, стр. 60, 80. 214 и др.
Недаром св. Церковь называет Григория „таиником Троицы“ и „троическим богословом“. См. службу на 25 янв., 1-й тропарь 4-й песни первого канона и 4 й тропарь 8-й песни того же канона.
„Посему-то“, замечает святитель, „и св. Дамаскин более, чем кем-либо, руководствовался (Григорием) Богословом в своём изложении веры“. Историч. уч. об Отцах Церкви СПб. 1859, т. II, стр. 190–191; ср. т. III, стр. 260.
Твор. ч. III. стр. 215; см. еще ч. III, стр. 216, 260; ч. VI, стр. 24 и др.
Слова в. II. стр. 104; см. ещё в. I. стр. 260; в. II, 72–74, 80; Μ. р. ор. cit, с. XIX. соl. 547 А; с. XXXI соl. 578 BСD; с. XXXII, соl. 582 ВС и др.
1Ин.5:7. Проникновенный истолкователь Апостола любви – Новый Богослов уже в самом начале Евангелия Иоанна усматривает учение о Троице. Приведя первые пять стихов из пролога 4-го Евангелия, преп. Симеон утверждает: Говоря так, Иоанн Богослов открывает таинство нераздельные Троицы, и Богом называет Отца. Словом – Сына, жизнью – Духа Святого“·... Слова в. II. стр. 43.
1Ин. 1:2; 2:23. В Евангелии см. особенно 10:31; 14:7–11; 15:36; 16:13–15; 17:10–11. 22–23 и мн. др.
Ин.I:14; 19:34; 1Ин.1:1–3; 5–6; Откр.:5, 7, 18 и др.
Слова в. I, стр. 261; ср. в. I стр. 202 и др. Преп. Симеон говорит, что Христос, воплотившись, показал в Своём лице двоякое чудо: видимого и невидимого, держимого и недержимого (Μ. Р. ор. cit., с. XVII, соl. 536 С) и изумляется тому, так невидимый, неуловимый, непостижимый и неизменный Бог соделался видимым, доступным, осязаемым. Ibid. с. ХIII, соl. 526 AB; с. XV, coll. 530 D–531 А.
Твор. ч. IV, стр. 160, 203; ч. I, стр. 24: ч. III, стр. 202, 204, 253, 363; ч. VI, стр. 23 и др.
Отцы Ефесского и Халкидонского собора, доказывая истинность православного учения о лице Иисуса Христа, приводили выдержки из сочинений Григория Богослова. Богосл. Энциклоп. т. IV, столб. 622–623.
Μ. Р. ор. cit., с. XXXV. соl. 587 С.
Ibid. с. XXXIX, соl. 595 В.
Ibid. loc. cit.; с. V. соl. 516 С; с. VI, соl. 518 А: с. XII, соl. 524 D; Слова в. II, стр. 2«, 510, 563–565 и др.
Твор. ч. I, стр. 15; ч. II. стр. 115. 133. 202–203; ч. IV, стр. 221, 234. 263; Виноградов Догматич. учение св. Григория Б.. стр. 118.
Твор. ч. I, стр. 40.
Твор. ч. V, стр. 158–165.
„Всё здешнее“, говорит св. Григорий, „смех, пух, тень, призрак, роса, дуновение, перо, пар. сон, волна, поток, след корабля, ветер, прах“ и пр. Твор. ч. IV, стр. 223: см. ещё ч. IV, стр. 219, 221–223 и др.
1Ин.2:15–16. Учению Иоанна Богослова о троякой похоти отвечает параллельное же учение Симеона Нового Богослова о трёх основных страстях, которые он называет „узами мира“. „Всякий человек, рождающийся в мир сей, говорит преп. Симеон, трём бывает раб страстям: сребролюбию, славолюбию и сластолюбию“. Слова в. I, стр. 208–9, 213 и след. Определяя отношение человека к собственному телу, ко внешнему миру и к себе, как личности, эти страсти или похоти действительно исчерпывают собой всю сумму возможных для человека в сём мире греховных отношений.
Григорий Б. твор. ч. I, стр. 40, 56; ч. II. стр. 4, 8, 141; ч. IV, стр. 189, 200. Симеон Н. Б. Μ. Р. ор. cit., c. XXV, соl. 563 А; ср. Слова в. II, стр. 558.
Симеон Н. Б. Μ. Р. ор. cit., с. XXI, coll. 554В; с. XXIX, coll. 571 С, 373 BС.
Григорий Б. твор. ч. II. стр. 212: ч IV. стр. 192 217. 220, 223.
Когда души наши, но словам Симеона, бывают девственны и чисты, тогда Бог Слово Отчее входит в нас, как в утробу Присно-девы. Слова в. I, стр. 395. Тогда обоженный человек, нося в себе всего Христа (Слова в. II, стр. 10; в. I, стр. 305) и являясь обителью Пресв. Троицы (Слова в. II, стр. 59, 395). бывает так тесно соединён со Христом, как Сын Божий с Отцом, и Отец с Сыном, или по другому сравнению, как муж с женой, и жена с мужем. Слова в. I, стр. 387, 229, 385. Это учение об единении душ человеческих со Христом прев. Симеон называет „таинством браков“. Слова в. I, стр. 394. 399.
Григорий Б. твор. ч. I, стр. 8; ч. II, стр. 119: ч. III, стр. 66; ч. V. стр. 26, 50 и др. Симеон Η. В. Слова в. I. стр. 174. 375–376; в. II, стр. 48, 67; 419, 369; Μ. Р. ор. cit с. XXI. coll. 555 АВС, 556 D–557 А: с. XXXVI coll. 590 D–591 А.
Григорий Б. твор. ч. I, стр. 12–67. в особенности стр. 19, 24, 49, Симеон Н. Б. Слова в. II, стр. 321–323, 378–380, 459–470; М, Р. ор. cit., с. XIV, coll. 528А–529А.
Слова в. I, стр. 206–207; в. II, стр. 5–7; Μ. Р. ор. cit. c. XVII, coll. 537А, 538СD, 540D и др.
См. особенно Слова в. I. стр. 229, 247, 384, 482–485; в. II, стр. 70, 448–449 и др. Некоторые оригинальные мысли преп. Симеона: о том, например, что пришествие дня Господня и суд будут только для грешников, а не для праведников, что одно явление божественного Света будет уже судом для первых и прославлением для последних (Слова в. II, стр. 35–37, 53, 319–320; в. I, стр. 412), что греховно-падший человек утратил образ Божий и начал быть по образу и подобию диавола (Слова в. I, стр. 251, 45), и пр. являются не чем иным, как проникновенным комментарием и последовательным развитием соответствующих мест главным образом из Евангелия Иоанна. См. Ин.3:18–21, 36; 5:24; 8:41,44; ср. 1Ин.3:8,10. Недаром поэтому некий панегирист Василий, говоря о Симеоне, восклицает: Ὁ ποῖος δ’ ἅλλος βροντῆς υὶὸς ὸράϑη μετὰ τὸν πρῶτον τὸν μέγαν Ἰωάννην. Μ. Ρ. gr. t. CXX, Notitia, col. 308D.
См. Богословск. Энциклоп. т. VI. столб. 821.
См. Архиеп. Филарета цит. соч. т. II, стр. 190.
В двух выпусках Слов преп. Симеона мы насчитали восемь случаев, когда Новый Богослов ссылается на Григория Богослова, напр., в. I, стр. 55, 399, 429–430; в. II, стр. 27, 53 и др. Тогда как Василия Великого и Иоанна Златоуста Симеон цитирует только по два раза, всех же почти других упоминаемых им Отцов – только по разу.
Григорий Б. написал до 408 стихотворений (Виноградов цит. соч., стр. 157; см. ещё исследование Говорова: Св. Григорий Б., как христиавск. поэт), представляющих собой, по словам Фаррара, „исповедь прекрасного духа, вздохи святой души, которая ни в чём не может находить себе удовлетворения, кроме как в своём Боге“. Цит. соч., стр. 557–558. И преп. Симеон, по свидетельству упомянутого панегириста, сложил стихов числом 10752. Μ. Р. Notitia. col. 309С. Это стихи политические, ямбические и Анакреонтические. Ими главным образом и написаны те божественные гимны Симеона (ibid., col. 303А), которые, мы весьма часто цитируем здесь по изданию Миня (в лат. перев. надписанные: Divin. amorum...). Эти гимны полны высоких созерцаний и самых чистых и возвышенных излияний святой и пламенно любящей Бога души.
См. исследование иеромонаха (ныне епископа) Евдокима: Св. ап. и. еванг. Иоанн Богослов, Сергиев Посад 1898, стр. II, 125.
Говоров цит. соч. стр. 6.
См. Виноградова цит. соч.. стр. 109, 166–168.
Kurtz Handbuch der allgem. Kirchengeschichte, Mitau 1858, B. J. Abth. 3, s. 132; Holl Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechisch. Mönchtum, Leipzig 1898, s. 36; Krumbacher Geschichte der Byzantinischen Litteratur, München 1897, s. 152; Аникиев Мистика преп. Симеона Н. Б., стр. 126–127, 132.
Иоанн Златоуст говорит об Апостоле любви: „вещает муж с небес, и издаёт глас сильнее грома“. Твор. т. VIII, стр. 6; ср. стр. 8. Ср. бл. Августина твор. ч. X, стр. 6, 9. См. также Муретова Подлинность бесед и речей Господа в 4-м Евангелии, оттиск из „Правосл. Обозрения“ за 1881 г., стр. 22–24; еп. Евдокима цит. соч., стр. II–IV, 140. В последней книге между прочим говорится об Иоанне Богослове: „Он как бы был на самом небе и с неба, как бы небожитель, вещал о Боге и жизни небесной“. Стр. 144. См. ещё Богосл. Энциклоп. т. VI, столб. 821. Такими же чертами обладал и Григорий Богослов, что видно из его твор. ч. II, стр. 115, 133, 202; ч. III, стр. 145; ч. VI, стр. 58; см. Виноградова цит. соч., стр. 171–172. „Моя жизнь в ином мире“, говорит однажды Григорий. Твор. ч. IV, стр. 234. Что и преп. Симеон отличался теми же качествами, ясно уже из того, что он ушёл из мира и, предавшись полному уединению, был в истинном смысле слова монахом См. в I в. Слов Симеона житие его, стр. 4–6. 9, 14, 19; см. ещё Μ. Р. ор. cit, с. XIX, coll. 545 BСD–546 А. Монах Иерофей говорит, что Симеон поставил себя выше земного ... Ἀνώτερον ϑέντα σε τῶν ἐγκοσμίων... Μ. Ρ. Notitia, col. 307 Β. А по словам другого панегириста, вышеупомянутого Василия, он, совершенно удалившись умом от вещественного пристрастия к земному, представил себя Богу в жилище. Καὶ τῆς προσύλου προσπαϑείας τῶν κάτω τὸ τον νοὸς φρόνημα ηάντη χωρίσας, Θεῷ παρέσχες σαντὸν εὶς κατοικιαν. Ibid. col. 309 А.
Характеристику Иоанна Богослова с этой стороны см. в цит. соч. Муретова, стр. 26–27; в Богослов. Энцикл. т. VI, столб. 820. Церковное предание и литургическая письменность вместе с другими наименованиями усваивают Апостолу любви и наименование девственника. См., напр., службу на 26 сент., стихиру после Евангелия и др. Чистота и девственность для Григория Богослова были особенно излюбленными и часто восхваляемыми им добродетелями. Они же, конечно, осуществлены были им и в жизни. См. твор. его ч, I, стр. 221; ч. III, стр. 183–184; ч. IV, стр. 256; ч. V, стр. 44–67 и др. По словам церковных песнопений, Григорий избрал себе супружницей и споспешницей боговидную чистоту и целомудрие, которыми он был украшен в жизни. См. службу на 25 янв., 2 й тропарь 3-й песни второго канона и 4 й троп. 6-й песни перв. канона. О преп. же Симеоие мы читаем у его панегиристон, что он, поставив целью своих подвигов всесовершенное очищение чувств (Μ. Р. Notitia, col. 309 С), действительно очистился душой, разумом, умом и мыслями. Ibid. col. 307 D.
Цит. соч. его, стр. 27. „Из всех апостолов“, читаем мы там же, „только один Иоанн с первого момента знакомства с Иисусом на берегах Иордана и до Голгофы и вознесения Христа на небо ни на минуту не сомневался в своём Учителе и ни разу не колебался в своей вере в Него“.
Твор. ч. II. стр. 203.
Твор. ч. IV. стр. 269; ср. ч. V, стр. 12; ч. VI, стр. 10. Или вот ещё замечательные фразы св. Пастыря: „забота моя о Тебе единственно, моя Троица!“... „Которой и неясные тени приводят меня в восторг“. Твор. ч. VI, стр. 57, 60; ср. ч. IV, стр. 289 и др. Уже в двух этих словах: „моя Троица“ выражена вся несокрушимость веры св. Григория, его беззаветная преданность и любовь к Богу.
Μ. Р. ор. cit, с. XVI, соl. 533 С: ср. с. XXI, соl. 556 А; с. XXIX. сol. 572 D.
Ibid. с. XX, соl. 552 AB; ср. с. XXVI, соl. 563 D.
lbid. с. XIX, соll. 545 BD–546 А.
Твор. ч. III, стр. 5.
Твор. ч. II. стр. 134.
Твор. ч. III, стр. 10.
Твор. ч. II, стр. 152.
Твор. ч. III, стр. 4.
Ibid. стр. 8.
Твор. ч. II. стр. 142.
Ibid.
Твор. ч. III, стр. 134.
Ibid. стр. 5.
Ibid. стр. 12; ср. ч. II, стр. 135.
Твор. ч. III, стр. 109.
Твор. ч. I, стр. 31.
Твор. ч. II. стр. 142.
Твор. ч. III, стр. 149.
Термин „богословие“ имеет у Григория, как и у многих других Отцов Церкви, весьма узкий смысл. Св. Назианзин обозначает им учение о Боге в тесном смысле, не включая сюда даже и учения о домостроительстве нашего спасения. См. твор. Григория ч. III, стр. 104, 198 др. Кстати сказать, в этом отношении и нам необходимо возвратиться поближе ко временам Григория Богослова, потому что в настоящее время и понятие „богословия“ и само звание „богослова“ сделались настолько расплывчатыми и неопределёнными, что ими означаются часто вещи и лица, совершенно далёкие от истинного значения этих слов.
Св. отец говорит, например, о „слове благочестия“, о „речениях благочестия“ и пр. Твор. ч. I, стр. 33; ч. III, стр. 13; ср. ч. I, стр. 30; ч. II, стр. 136 и др.
Твор. ч. II, стр. 169.
ibid. стр. 151.
Ibid стр. 142.
Твор. ч. III, стр. 215.
Твор. ч. II, стр. 183.
Μ. Р. ор. cit., с. III, с. I, 515 B.
Слова в. II, стр. 552.
Ibid. стр. 92; ср. Μ. Р. ор. cit., с. XXXVII, соl. 593 С и след.
Слова в. II, стр. 85.
ibid. стр. 76, 79.
Если мы не разорим между вами и Богом стену грехов наших, говорит Симеон, то не только Бога не возможем познать, но не познаем даже и того, что мы человеки“. Слова в. II, стр. 84.
Ibid. стр. 86.
Слова в. I. стр. 89; ср. в. II, стр. 329–330, 560–561. Сын Божий не для того пришёл, учит св. Отец, чтобы богословствовали, но „да разрушит дела диаволя“, т. е. грехи. В ком они будут разрушены, „тому можно вверять и тайны богословия и православных догматов“. Слова в. I, стр. 89–90.
Слова в. II, стр. 82.
„Иного способа к тому, чтобы Бог открылся в ком-либо“, говорит св. Отец, „не может быть, кроме точного исполнения заповедей Его“· Слова в. II. стр. 101.
Слова в. I, стр. 444; ср. Ibid. стр. 446–447; Μ. Р. ор. cit.. с. XX, соl. 551А и др.
Слова в. II, стр. 343.
Слова в. I, стр. 91.
Ibid. стр. 173–174. Путь для получения благодати Св. Духа более подробно описывается у преп. Симеона в таких чертах: вера, возрастая, восходит в любовь (Слова в. II, стр. 82–83); также и добродетели приводят к любви, потому что, когда они бывают все вместе, тогда, по словам Симеона, среди них, как древо, произрастает страх Божий, который приносит иной, совершенно новый плод – любовь. Μ. Р. ор. cit, с. XVII. соl. 535 BСD. А любовь уже и есть Божественный Дух и Христос. Ibid. соl. 536 В: с. VI, col. 518 D. Таким образом страх Божий, как начало премудрости, является одним из посредствующих условий для стяжания боговедения. То же мы видим и у Григория Богослова. Симеон Н. Б. Слова в. I, стр. 322; в. II, стр. 27; Μ. Р. ор. cit., с. V, соl. 517 В и др. Григорий Б. твор. ч. II, стр. 147; ч. III, стр. 213.
Слова в. II, стр. 70: Μ. Р. ор. cit., с. XXXI. соl. 579 А; ср. Слова в. II, стр. 83: Μ. Р. ор. cit., с. XX, coll. 550 D–551 А.
Слова в. I, стр. 83, 222–223: ср. Μ. Р. ор. cit, с. XXI, соl. 558 B.
Слова в. I, стр. 75, 76.
Слова в. I, стр. 147–148, 174. Не обладающие же здравым умом по словам Симеона, „не имеют чувств и рассуждения для различения даже дел человеческих.“ Слова в. II, стр. 326.
Слова в. I, стр. 173; ср. Ibid. стр. 89.
Ibid. стр. 307. Истина, – говорит здесь Симеон, – утерянная нами через грехопадение, „в слове Божием содержится и благодатью Христовой постигается. Благодать во Христе Иисусе своей недомыслимой силой раздробленные и многосплетённые воззрения упростила, исправила и объединила некоторым, как бы физическим и непоколебимым единством, показав тем, что все другие к тому способны недейственны, непрактичны и бесполезны“.
Слова в. II, стр. 366–367.
Ibid. стр. 551.
Ibid. стр. 455.
Читать божественное Писание „в нашей состоит власти“, говорит св. Отец, „то же, чтобы понимать читаемое, есть дело благодати Божией“. Слова в. I, стр. 75. Оттого только немногие из людей могут правильно разуметь смысл божественных писаний, прочие же при толковании постоянно ошибаются. Слова в. II. стр. 525. Поэтому, предостерегает Симеон, „не следует никому, прежде причастия божественной благодати, восходить на учительскую кафедру... так как из мудрых в слове, но не приявших божественной благодати, иные сделались начальниками ересей, другие побеждены были словами еретиков“. Слова в. I, стр. 466.
Полагающие надежду своего спасения в одном научении Писания, по словам Симеона, будут осуждены ещё более других. Слова, в. I, стр. 445.
Слова в. I, стр. 442–444, 446–447. Если бы „познание истинной премудрости и боговедения“ подавалось посредством „внешней премудрости, то для чего бы“, спрашивает Симеон, „требовалась вера? или божественное крещение? Или причастие св. тайн?“ Слова в. II, стр. 328.
Слова в. II, стр. 92–93. Не просвещённым же благодатью, по строгому взгляду св. Отца, нельзя не только богословствовать и учить других, но „не позволяется даже читать божественные Писания“, тем более входить в храм и стоять с верными; по апостольским правилам им должно стоять за дверьми храма, как оглашенным. Слова в II. стр. 334–335, 453.
Богословск. Энциклоп. т. VI. столб. 820.
Ин.7:38; ср. Ин.5:38; Ин.3:36, 6:4, 17:3.
Ин.14:15, 21, 23–24; 1Ин.5:3 и др. И наоборот соблюдение заповедей является необходимым условием для пребывания в любви. Божией. Ин.15:9–10.
Религиозно-Философск. Библиотека изд. Новоселова вып. 26, Нравственные условия богопознания, стр. 44–45.
Науку и красноречие Григорий Богослов считал первым благом после первейшего и божественного, т. е. после высочайшего Блага – Бога. Твор. ч. IV, стр. 50–51; ч. I, стр. 126; см. ещё твор. ч. IV, стр. 53, 60; ч. V, стр. 228–244 и др. Об отношении Григория Богослова к образованию и науке см. в цит. соч. Виноградова стр. 166–168.
Всякая научная работа, а тем более научно-богословская слагается обыкновенно из следующего процесса: первоначально и независимо от всего, сознательно или несознательно, всякий исследователь ставит себе такие или иные, ясные или неясные, правые или неправые принципы, положения, идеалы и цели, к раскрытию, обоснованию и достижению которых он и приспособляет затем имеющийся у него научный материал, пользуется такими или иными средствами, употребляет такую или иную эрудицию. Таким образом центральный нерв научной работы, её основная идея, так сказать – душа её всегда стоит в непосредственной зависимости от внутреннего духовного существа исследователя, которое созидается и определяется главным образом верованием и нравственностью человека. Отсюда ясно, что идеал богослова никогда не может быть только теоретическим, но необходимо должен быть и религиозно-практическим. При эрудиции и отвлечённо-теоретических познаниях, богослов необходимо должен ещё обладать полнотой и целостностью духа, богатством внутренней: духовной жизни, которая давала бы надёжную опору дли его верования, действования и учения.
Что это действительно так, стоит вспомнить немецких богословов-мифологистов во главе со Штраусом, научный произвол историко-критической школы Бауэра и, наконец, новомодное Ричлианское богословие, которое есть не что иное, как „либеральный рационализм, только надевший на себя личину веры“. История христианск. церкви в XIX в., приложение к „Страннику“ за 1900 г., стр. 486. „Лютеранское богословие“, читаем мы в цитированной книге, „идя... по пути последовательного развития основных своих начал, пришло в конце его к выводам, отрицательным не только для самого лютеранства... но и для всего христианства, даже для религии вообще“ (хорошо богословие!) Стр. 488. См. ещё брошюру Лопухина: Современный запад в религиозно-нравственном отношении, где ясно изображено постепенное разложение религиозной мысли в англиканском протестантизме. Стр. 44–61. См. также специальное исследование Керенского: Школа Ричлианского богословия в лютеранстве. В самое последнее время в Германии стало возможным такое явление, как участие официальных представителей протестантской церкви и богословия – пасторов-богословов в антихристианском союзе монистов и защита ими нелепых идей Древса. См. статью свящ. Сахарова: Союз монистов и борьба с ним в Германии. Богосл. Вестн. 1911, т. III, стр. 486, 782.
Религиозно-Философск. Библ. вып. 26, стр. 43.
Присвоенное возлюбленному ученику имя Богослова указывает главным образом „на основной и существенный пункт его учения“, каковым является у Иоанна „последнее слово откровения относительно Бога-Слова“. Богослов. Энцпкл. т. VI, столб. 821. Григорий же Богослов, называемый в церковных песнопениях „другим сыном громовым“, „вторым богословом и наперсником“ (см. службу на 25 янв., 1-ю стихиру на стиховне; 1-й тропарь 1-й песни первого канона и славу стихир на хвалитех), почтен этим титулом потому, что после Богослова – Апостола он „первый постигал столько высокими и вместе точными помыслами глубины Божества, сколько постигать их можно человеку при свете откровения“. Архиеп. Филарет цит. соч. т. II, стр. 190; ср. Фаррара цит. соч., т. I. стр. 554. Что же касается до преп. Симеона, который, как говорит его жизнеописатель, богословствовал, не зная наук, как возлюбленный ученик, то по словам того же Филарета, он назван так потому, что преподавал такие глубокие тайны „о каких давно не слышали“. Цит. соч., т. III, стр. 402, 404. По замечанию же Kurtz’a, титул богослова уравнивает Симеона с Григорием Назианзиным. Ор. cit., s. 132. Вслед за немецким историком то же повторяет и наш церковный историк А. П. Лебедев. Очерки внутрен. истории византийск. церкви в IX–XI вв., изд. 2-е, стр. 212.
Об Иоанне Богослове см. твор. Василия Великого, изд. 4-е, ч. III, стр. 73; Иоанна Златоуста т. XII, стр. 330. Августин выразительно замечает о новозаветном Тайнозрителе, что „он от персей Господа“ как бы „вкусил таинство Божества“. Твор. ч. X., стр. 7. В цит. соч. еп. Евдокима читаем об Апостоле любви: „Его писание глубоко, как необъятное море, и возвышенно, как высокое звёздное небо“ (стр. 141). „Он проникает в сокровеннейший дух учения своего великого теля“·... стр. 160. О Григории Богослове Церковь поёт: „до дна испытав глубины Божия“... Служба на 25 янв., 1-й троп. (1-й песни второго канона. Или: „благодати божественныя глубино... высото небесных разумений“. Та же служба, 3-я стихира на, Господи, воззвах, на мал. вечерни. О нём же. см. цит. соч. Архиеп. Филарета, т. II. стр. 140. Преп. Симеону панегерики приписывают ведение тайных догматов и называют его посвящённым в таинства Божественного Духа. Μ. Р. Notitia, coll. 308C, 309A. Аникиев в выше упомянутой брошюре говорит, что все исследователи отмечают у Нового Богослова „глубину духовного постижения, дар исчерпывающе рассматривать самые сокровенные вопросы богословия“... стр. 126; см. также стр. 127, 132; см. ещё цит. соч. Holl’я, s. 36 и др.
Твор. т. VIII, стр. 7.
Служба на 26 сент., 2-я стихира на хвалитех.
Та же служба, слава в стихирах на Господи, воззвах. Весьма картинны и выразительны ещё эти слова: „Мудрости ты бездну почерпл еси, всемудре, возлег... на премудрости Источнице“. В той же службе 3-й троп. 3-й песни первого канона.
Служба на 25 янв., 3-я стихира на стиховне; 3-й тропарь 3-й песни первого канона.
Та же служба, слава стихир литийных; 3-й троп. 4-й песни первого канона; 2-й троп. 8-й песни того же канона.
В той же службе 1-я стихира на литии.
Кαὶ δὴ περ αὐτῶν μιᾶς ( πράξνων ἐναρέτων) οὐκ ἀπεσφάλιης Ἀλλὰ τὸσον ἒτυχες τῶν χαρισμάτων, Ὃσον περ οὐδεὶς τῶν άπ’ ἀρχῆς ἀγίων Μ. Ρ. Notitia. col. 308D.
Ἔπλασεν εὺϑὺς ἀφϑόνου μετουσίας. Τῶν ἑπταρίϑμων Πνεύματος χαρισμάτων. Ibid. col. 309В. Несколько ниже говорится о Симеоне, что он приобрёл обитающую в нём благодать всемощного Духа.
Служба на 26 сент., слава в стихирах на, Господи, воззвах.
Служба на 25 янв., слава стихир на, Господи, воззвах на малой вечерни.
Точно установить мировоззрение современных ортодоксалов и либералов в немецком протестантстве – задача весьма трудная и прежде всего потому, что обе эти враждующие между собой партии распадаются, в свою очередь, на многочисленные толки и разногласия, и нередко по самым существенным пунктам вероучения. В одном немецком журнале сделана попытка сопоставить оба мировоззрения в главных чертах; журнал – либеральный, соответствующая статья (распространённая потом в виде летучих листков) написана в разгаре выборной кампании с целью пропаганды либерализма и, конечно, не вполне беспристрастна. Тем не менее она заслуживает внимания, и если приводимые воззрения относить к крайним правым, с одной стороны, и к умеренным либералам, с другой, то сопоставление окажется довольно правдоподобно:
| Ортодоксалы говорят: | Либералы говорят: |
| Протестантская церковь основывается не только на Св. Писании, но и на исповедании веры (Bekenntniss), как на общецерковном (символы Апостольский, Афанасиев и Никео-Цареградский), так и в особенности на реформационном (символические книги). | Протестантская церковь основывается на вере, находящейся под влиянием учения Иисуса. Церковное исповедание не выражает в достаточной степени этой веры. |
| Кто не признаёт этих исповеданий, не имеет никаких прав в церкви и, по крайней мере, не может быть пастором или учителем. | Обязательность церковных исповеданий противоречит принципам реформации. Большая часть исповеданий теперь совершенно неизвестна евангелическим христианам. |
| Церкви должны быть предоставлены средства для устранения таких пасторов и учителей из среды её или для лишения их прав проповеди и обучения. | Судебные процессы по вопросам вероучения напоминают католичество. Евангелическая церковь станет в противоречие сама с собой, если будет относиться к более свободному направлению так как Рим относился к реформаторам или как нынешний папа относится к модернизму. |
| Реформаторы, как можно заключать по их писаниям, не потерпели бы нынешнего свободного направления, а реформаторы служат образцом веры в евангелической церкви. Реформация была завершением евангелического христианства. Направления, отступающие от неё, не имеют права в церкви. | Реформаторы не были непогрешимы. Они не признали бы и нынешней евангелической церкви, соединённой из лютеран и реформаторов. Свободное направление есть Детище реформаторов, хотя и отступает от них в некоторых пунктах. Наше время требует дальнейшего развития реформаций, так как в евангелической церкви ещё много католического. |
| Особенное значение имеют три члена Апостольского символа веры. Буквальное понимание их обязательно, преимущественно для пасторов и учителей, а равно должно быть преподаваемо и детям при конфирмации. | И Апостольский символ веры содержит положения, которых мы более не разделяем, напр., о воскресении плоти. Буквальное понимание и здесь противоречит принципам протестантства и не выполнимо. Детям не следует навязывать символа веры, так как они не понимают важности обязательства и могут впоследствии мучиться от угрызений совести. |
| Евангелический христианин должен верить Библии; Св. Писание Ветхого и Нового Завета должно быть для него непоколебимым авторитетом. Ортодоксальное мировоззрение согласно с Библией и потому оно одно имеет право на существование в церкви Христа. | Из Библии мы не должны делать бумажного папу. Изучение Библии как раз убеждает свободомыслящих, что ортодоксальное мировоззрение расходится с первоначальной религией Иисуса. |
| Научно-богословская критика и историческое исследование христианской религии представляет опасность для веры и для евангелической церкви. | Научное исследование исторических основ нашей религии есть благодеяние для церкви, оно освобождает религию Иисуса от мусора, образовавшегося на ней. |
| Новый Завет знает лишь одно представление об Иисусе Христе, – как о Вечном Сыне Божием, воплотившемся от Духа Святого и Девы Марии, как о Втором Лице Св. Троицы, сошедшем с неба на землю. | Учение, которое видит в Иисусе только человека, исполненного особенным образом духа Божия, сына Иосифа и Марии, также основывается на Библии (сравн. древнейшее Евангелие Марка). |
| Вера в Иисуса Христа нашла своё глубочайшее выражение в учении Ап. Павла об искупительной смерти Иисуса и о спасении через кровь Христа. | По древнейшим Евангелиям Иисус не требует от людей веры в спасительное значение Его смерти, но указывает им путь, как они могут сделаться детьми Отца небесного в царствии Божием. |
| Сущность евангелической веры заключается в том, что Иисус умер за наши грехи и воскрес нашего ради спасения. Под воскресением можно понимать только плотское воскресение, т. е. оживление тела, бывшего во гробе. | И либеральное воззрение оставляет за смертью Иисуса высокое религиозное значение и не разрушает веры в то, что в Иисусе явилась божественная жизнь, побеждающая мир и смерть. Чисто духовное понимание воскресения Христова также основывается на Библии. |
| Иисус доказал Своё Божество Своими чудесами. Нашей молитвой мы можем склонить Бога к благотворному вмешательству в наши дела. Протестантское юношество следует наставлять в церкви и в школе указанному учению, единственно – библейскому и единственно – евангелическому. Авторитетным выражением этого учения до сих пор остаётся катехизис. Катехизис, поэтому, должен составлять главную часть обучения. | Лютер был прав, когда утверждал, что евангельские чудеса ничтожны сравнительно с великим чудом, – духовной силой Иисуса. Молитва наша услышана, коль скоро мы сами изменим себя, а не когда Бог изменится по отношению к нам. Реформа религиозного обучения настоятельно необходима. Преподавание катехизиса – из-за педагогических соображений, в виду трудности понимания его, – следует ограничить и преобразовать в евангелическом духе. Только либеральная реформа религиозного обучения может помочь устранению антагонизма между современным мировоззрением и церковной верой. (Ср. Reformation, 1911, № 7). |
Символ. книгами считаются: Аугсбургское Исповедание, Шмалькальденские Члены, оба катехизиса Лютера, Большой и Малый, и Формула Согласия. Сочинения эти вместе с тремя общехристианскими символами веры соединены были в 1579 г. в одно собрание под названием: Книга Согласия (Concordienbuch, Liber concordiae); см. I. Т. Müller, Die Symbolische Bücher der evangel. lutherischen Kirchen, Gütersloh, 1886.
См. напр. Ferd. Kattenbusch, Lehrbuch der vergleichenden Confessionskunde, Freib. i. B. 1892, Band I. S. 17 и 18.
См., напр., Reformation, 1912, № 20.
Разумеются пасторы Debaranne и Heyn, оба также в Берлине.
Пруссия делится на 12 провинций: Восточная Пруссия, Западная Пруссия, Бранденбург, Померания, Силезия, Познань, Прусская Саксония, Вестфалия, Рейнская провинция, Ганновер, Гессен-Нассау и Шлезвиг-Гольштиния. Первые девять провинций называются старыми, последние три – новыми. В новых провинциях высшая церковная власть сосредоточена в „духовном“ министерстве (Kultusministerium).
Протестанты в Германии после унии между лютеранами и реформатами, происшедшей в 1817 году, называют себя евангелическими (evangelisch).
„Очерки религиозной жизни в Германии IX, Дело пастора Фишера“, Н. Сахаров (Богосл. Вестник, 1906 г. стр. 706 и след.).
Die christliche Lehre mit dem gegenwärtigen Stande der theologischen Wissenschaft und ihre Vermifflung an die Gemeinde.
Spruchkollegium–не переводимое на русский язык слово, Spruch – приговор, Kollegium – коллегия; так названо новое учреждение потому, что оно не входит в рассмотрение или исследование того или другого пункта вероучения, а лишь выносит приговор о том, как далеко отступил обвиняемый от учения протестантской церкви. Мы будем, называть Spruchkollegium – церковно-судебной коллегией.
Закон об ересях можно найти во всех немецких богословских журналах за март 1910 года. Мы имели под руками Chronik der Christlichen Welt, 1910, № 12 от 24 марта.
T. e. Прусской; в других протест. церквах коллегия пока не введена.
Следует обратить внимание на то, что слово Bekenntniss (исповедание веры,) несколькими строками выше употреблено в единственном числе.
Здесь слово Bekenntniss опять в единственном числе.
Christliche Freiheit, 1909, № 36. Трауб предлагает даже свой проект для Spruchkollegium в либеральном духе (ibid. 1908. № 28; 1909. № 27).
Chronik der Christlichen Welt., 1911, № 28.
Allgemeine Evangelisch – Lutherische Kirchengeitung, 1909, № 38.
Биографические сведения об Ято мы заимствовали из статьи Dr. В. Dias Problem des Jathoismus“ в „Evangelisch-kirchlicher Anzeiger“, Berlin, 1911, № 14.
„Zur Vorgeschichte des Falles Jatho“ в Chronik der Christliches Welt, 1911, № 26 и др.
Сами по себе, философско-богословские воззрения радикального пастора мало интересны уже потому, что несамостоятельны, а понадёрганы из разных модных систем; но на них необходимо остановиться, так как они характерны для современного состояния протестантства и так как они сыграли важную роль в процессе Ято. Чтобы полнее представить учение Ято, мы дополняем здесь его ответ некоторыми выражениями из его сочинений, а также из его устных показаний на суде.
Сведения о пасторе Ято, судебном процессе над ним, а равно и о других событиях за 1910–1912 гг. мы заимствовали, главным образом, из немецких богословских журналов, которые полны этими сведениями. Поэтому мы делаем ссылки на источники лишь в исключительных случаях; читателю же, желающему проверить наши данные или подробнее ознакомиться с сообщаемыми вами фактами, рекомендуем просмотреть любой серьёзный немецкий богословский журнал за соответствующий период времени. Кроме журнальных статей о деле Ято, можем указать несколько отдельных брошюр (разных направлений) издававшихся преимущественно в 1911 году, в период особенно сильного увлечения этим делом: 1. Dietrich „Der Fall Jatho. Aktenstücke und Beurteilungen, Berlin; Christusidce und Konfirmandenbekenntniss, Köin; Otto Zurhellen, Jathos Theologie und die religiöse Krisis der Gegemvart. Tübingen; Martin Rade. Jatho und Harnach, Tübingen; „ Zum Fall Jatho. Reine Lehre, eine Forderung des GJanbens und nicht des Rechtes, Tucingen; Der Fall jatho und unsere Kirchliche Lage, Elberfald; Kurt Delbrück, Warum wurde Pastor Jatho Seires Amtes entsetat? Halle a. S. ; G. von Rohden, Der Kölner Kirchenstreit, Berlin; Edsiek, Zum Fall Jatho, Heidrllerg... и мн. др. – Что касается самого Ято, то, будучи выдающимся церковно-практическим деятелем и блестящим оратором, он, как писатель, мало написал. Мы можем указать лишь его проповеднические труды: Predigten. Köln, 1901; Persön.iche Religion, Köln, 1905; Welche Bedeutung hat für uns Abendmahl? 1907; Fröhlicher Glaube, Köln, 1910.
Из читанного в 1908 м и 1909-м годах студентам Московской Духовной Академия курса «Введение в историю античной философии».
Ход мыслей в начальных §§ этого рассуждения возник под скрещивающимся влиянием Шеллинга, кн. С. Н. Трубецкого и М. А. Остроумова. („История философии в отношении к откровению“. Харьков 1886).
М. [А.] Остроумов, – id., стр. 18.
Можно, более формально, рассуждать и так:
А≡А(1) (I),
т. е.: либо умножение, либо А=А.1
либо потенцирование, ибо А=А1,
но не сложение ибо, A≠A+l (15)
Итак, первая формула показывает, что операция А есть или умножение, или потенцирование. Затем, обозначая наудачу взятым знаком „*“ действие какого-то сравнивания двух потенций, пишем:
Аn * Аn–1=А n–1 * Аn-2=… =А2 * А1=А1 * А0 (15)
Действие * может быть либо разностью, либо делением.
Покорнейшая просьба к иногородним медицинским изданиям присоединиться к принятому решению, о чём и сообщить по одному из следующих адресов: Л.Б. Бертенсона (Спасская, 9), С.В. Владиславлева (Ивановская, 2) и Г.И. Дембо (Суворовский, 20).
В годы преподавательской деятельности в Академии А.А. Жданова введение в круг богословских наук, по расписанию, полагалось на первом курсе, а Свящ. Писание Ветхого Завета – на втором.
Творений ч. 6-ая, Изд. 3, Μ. 1887. Стр. 150 и 162.
Полн. собр. творений св. отца нашего Иоанна Златоуста. Т. 6, кн. 1. СПб. 1900. Стр. 5.
Напр., в изд. 1758 г. см. лл. 32–49; сведения о посланиях соборных и св. Ап. Павла из Синопсиса св. Афанасия помешены перед текстом каждого послания в отдельности.
Полн. собр. твор. св. отца нашего Иоанна Златоуста. Т. VI, кн. 1. СПб. 1900. Стр. 608: „Обозрение книг Ветхого Завета“. Прим.: „в заглавии прибавляется: и Нового, в виде памятных записок. Но обозрение книг Нового Завета, и даже некоторых ветхозаветных, как то: псалмов и пяти меньших пророков, Аввакума, Софония. Аггея, Захарии и Малахии, не дошло до нас“.
Migne, ser. lat, t. LXXXI, col. 401–403.
Halle а. S., 1879. S. 73, Anm. 1; Migne. Patrologiae Cursus completus. Ser. lat., t LXXV, col. 517.
Песн. Песн.4:4, – так у Евхерия; с подл. по Синод.: шея твоя, как столп Давидов.., тысяча щитов висит на нем (LХХ и Vulg. так же).
Migne, Patrol. с. с.. ser. lat., t. L. coll. 729–733, 748–754 et 757.
См. статью проф. Вл. Рыбинского: „Юнилий Африканский и его руководство к изучению Библии“ в Т. К. Д. А. 1903 г., № 10 (статья издана и отдельной брошюрой).
Einleitung in das Alte Testament. Nördlingen, 1888.
Migne, Patrol. с. с., ser. lat., t. LXVIII, coll. 15–42.
Migne, Patrol. c. c., ser. lat., t. LХХ. coll. 1105–1150.
Migne, Patrolog. curs. compl., ser. lat., t. ХVIII, coll. 15–66. См. Прибавл. к изданию твор. свв. отцов в русском переводе за 1891 г. (ч. 48), стр. 162–183: „О правилах Тихония и их значении для современной экзегетики“ Архимандрита Антония и стр. 184–252 и 333–373; „Тихония Африканца книга о семи правилах для исследования и нахождения смысла св. Писания“ – перевод П. Б-ва.
Dr. Fr. Reusch, Lehrbuch der Einleitung in das Alte Testament. Freiburg im Br. 1870. S. 1.
W. M. L. de-Wette. Lehrb. d. histor.-krit. Einleitung in die kanonischen u. apokryphischen Bücher d. A. Testaments. Brl. 1869. Ss. 71–89.
Einleitung in das Alte Testament. Berlin. 1886. §§ 247–270.
Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in die kanonischen u. apokryphischen Schriften des Alten Testamentes. Frankfurt a/M. 1873.
Ss. 155–179.
Ss. 608–631 u. 665–677.
J.-B. Glaire, Introduction historique et critique aux livres de l’Ancien et du Nouveau Testament. Paris 1868. T. II, pp. 172–178.
Dr. Aug. Scholz, Einleitung in die heiligen Schriften des alten u. neuen Testaments. 1 Th. Köln, 1845. 1-es, 3-es u. 4-es (§§ 56–59) Hauptstücke.
Ernst Meier... Leipzig, 1856.
См. Die Geschichte der heiligen Schriften Alten Testaments entworfen von Eduard Reuss. Braunschweig, 1890.
Historisch-kritische Einleitung in die Bücher des Alten Testaments hinsichtlich ihrer Entstehung und Sammlung. Erster Teil. Erstes Stück. Leipzig 1887. Ss. 1–2.
W. Vatke’s Historisch-kritiche Einleitung in das Alte Testament. Bonn, 1888. S. 1.
Op. cit., S. 1.
Einleitung in das Alte Testament. I Teil. Halle 1889. S. 10.
Geschichte der biblischen Offenbarung, als Einleitung in’s alte und neue Testament. Regensburg. 1863.
Einleitung in die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments. Freiburg im Br. 1876; это сочинение в 1911 г. вышло пятым изданием, во Фрейбурге же.
В трудах Киевск. Дух. Академии за 1871–6 гг. помещён перевод студентов Академии, под ред. доцента А. Олесницкого, вышедший и отдельным изданием, – „Руководства к библейской археологии Карла Фридриха Кейля“, в двух частях.
S. 1.
S. 4; в 5 изд. вм. „Nachweis“ – die Rechtfertigung der kirchlicher. Lehre» (S. 5).
S. 5; вм. „in den allgemeinen oder apologetischen Abschnitt derselben“ в 5 изд: „in den allgemeinen Abschnitt derselben, in die Fundamentaltheologie“.
Keil Einl. S. IV u. 1.
