Оглавление
Рекомендуем приобрести книгу в книжном магазине «Сретение» по адресу: Б. Лубянка д. 19 или интернет-магазине «Сретение».
Часть I. Отец Стефан и иже с ним
Отец Стефан
Отец Стефан молод. И еще он целибат. Встречается такое в нашем священстве, хотя и редко, ведь традиция эта не православная по происхождению. Целибат — священнослужитель, который отказался связывать себя узами брака, монахом же стать у него или духу не хватило, или оставил на «потом». Но как бы там ни было, время, употребляемое белым священством на заботу о семействе, у отца Стефана оставалось свободным для пастырских дел.
Именно поэтому Его Высокопреосвященство издал указ, по которому под начало иерея Стефана были приписаны сразу три прихода на севере епархии. С формулировкой «настоятель храмов».
Северная часть митрополичьей вотчины в целом отвечает понятию «север», так как мало заселена, бедна и разорена за последние годы. Сюда на исправление и вразумление ссылают из богатых промышленных южных городов нерадивых клириков.
Отец Стефан нерадивым не был. Он был энергичным, все успевал: служить, как положено и когда положено, исполнять требы, вести воскресную школу и даже книжки читать.
Длинная косичка и развевающиеся фалды рясы отца Стефана постоянно видны на приходе в разных местах одновременно — столь стремительны его движения и энергичны действия. По ступеням он взлетает, возгласы произносит звонко и оглушительно, молебны и панихиды может пропеть сам, потому что клирос не всегда в состоянии исполнить ирмосы и тропари распевом казачьей походной песни, отвечающим внутренней сущности молодого батюшки.
Настоятели храмов, куда ранее причисляли иерея Стефана, через два-три месяца его служения отправлялись в епархию с просьбой вернуть приходу тишину и спокойствие, напрочь утерянные благодаря энергичному и неугомонному клирику.
Теперь, получив настоятельское назначение, отец Стефан сложил все свое нехитрое имущество в два алюминиевых ящика, которые он ласково называл «груз 200», и пошел в областное управление сельского хозяйства. За десять минут он доказал чиновнику, отвечающему за район будущего служения, что тот, хоть и не носит крестик на шее и держит в кабинете «похабный» календарь, должен все же обязательно предоставить ему транспорт для переезда к месту назначения. Машину чиновник тут же нашел и сам помог ее загрузить, а по благополучном отбытии просителя долго не мог понять, почему он это делал. Также не поддавалось объяснению, с какой стати красочный настенный ежемесячник «Мисс Украина» — порванный — покоится в урне.
Три храма, попечение о которых было теперь возложено на молодого настоятеля, располагались друг от друга в паре десятков километров. Один из них, центральный, занимал бывшее здание районной ветеринарной лечебницы, закрытой за ненадобностью по причине отсутствия пациентов. Второй храм оказался типовой церковью XIX века, сложенной из красного кирпича «царского» производства и поэтому сохранившейся, так как разбить кладку прадедов не смогли даже взрывчаткой. Этот храм был красив, солиден, намолен и историчен, но над ним не было крыши, а на оставшихся перекрытиях, над алтарем, росли кусты акации. Третий приход отца Стефана предстал пред ним в наиболее живописном виде. На берегу большого пруда, сплошь заполненного крякающей и гогочущей птицей с частной птицефабрики, были аккуратно сложены полторы сотни железобетонных блоков. Здесь же красовался вбитый в землю деревянный крест с надписью белой краской: «Борисоглебская церковь».
Обозрев владения, отец Стефан разместился в двухкомнатной квартирке, вернее, в бывшей приемной ветеринарной лечебницы, переоборудованной под жилье, и полчаса колотил в подвешенные пустые газовые баллоны, несущие послушание колоколов. Народу пришло достаточно, хотя половина — просто из любопытства: посмотреть на нового попа и остановить долгий трезвон, нарушающий тихое, размеренное течение жизни поселка городского типа.
Отец Стефан представился и звонким голосом очень подробно рассказал, что значит православный приход в жизни каждого здешнего обитателя. Посетовав на внутрихрамовую бедность и внешнецерковную убогость данного центра духовности, батюшка взял на себя обязательство быстро привести все в достойный, благообразный и эстетически цельный вид. Прихожане уже ожидали требования о пожертвовании и приготовили каждый от 25 копеек до гривны, что в сумме составило бы цену одного обеда в местном кафе. Но новый пастырь этих слов не сказал и вообще ничего не попросил. Он закончил свою проповедь-обращение очень четким заявлением: «Завтра я, староста и псаломщица начинаем обход всех домов поселка. Подряд: дом за домом, улица за улицей. Крестим тех, кто не крещен, служим молебны, освящаем жилье, подворья, огороды и скотину. Пропускать никого не будем. Со мной вместе будут ходить ваш дорогой участковый, представитель районной власти и пожарник, чтобы все делалось правильно с точки зрения светского закона и благопристойно по правилам церковным».
Народ не понял, невольно сжался, и в этом внимании было начало уважения, как, впрочем, и раздражения. Списали на молодость, пафосность и неопытность молодого да быстрого попа, но оказались неправы.
В тот же день отец Стефан явился к главе поселковой администрации и решительно доказал последнему, что избирателя надо знать в лицо, проникнувшись заботой о проблемах каждого в преддверии предстоящих выборов. Союз же власти и церкви обеспечит нынешнему руководителю небывалый рост электората, а присутствие его лично или ближайшего заместителя на поголовной миссии освящения и воцерковления выбросит местную оппозицию, конкурентов и недоброжелателей на свалку политической истории поселка городского типа. Надо сказать, что такого местный голова придумать не смог бы, поэтому охотные и радостные заверения во всемерной поддержке благого начинания отец Стефан получил немедленно.
С милицией и пожарниками было еще проще. Настоятель, посочувствовав не очень хорошей статистике правонарушений, преступлений и противопожарной безопасности, напомнил руководителям этих подразделений, что во главе угла их деятельности должна стоять профилактика. И вряд ли когда еще будет столь благоприятное время определить пожаростойкость зданий и потенциальную опасность нарушения общественного спокойствия, чем запланированное мероприятие. Тем более что, кроме священника, прибудет и местный голова. Милиция воспряла духом, предвкушая изобилие самогонных аппаратов и улик повального местного увлечения — растаскивания по домам государственного добра и прочей личной, но чужой собственности.
Вечером отец Стефан добрался и до птицефабрики. Директор оказался на месте. По-другому и быть не могло. Во-первых, фабрика принадлежала ему лично. Во-вторых, не вызывало сомнений этническое происхождение Гусарского Бориса Соломоновича. Оно накладывало особый отпечаток на его характер, резко выделяя в нем педантичность, работоспособность и предприимчивость, не присущие представителям местного национального большинства.
Зайдя в директорский кабинет, отец Стефан мгновенно понял: здесь обитает человек, который может все, если ему это нужно и выгодно.
Доказать, что птичницы фабрики Гусарского будут производительней и, главное, честнее, если рядом будет стоять церковь, молодой иерей смог без труда. Причем при помощи одного-единственного довода: «Борис Соломонович, вы же прекрасно знаете, как кристально чисты и трудолюбивы ортодоксальные евреи, а во мне вы видите консервативного ортодокса!»
Когда же, расписав все преимущества православных работников перед безбожниками, отец Стефан сообщил ошарашенному директору, что помощь в строительстве храма скостит часть его непомерных налогов, вопрос был решен. Окончательно.
Через полгода отец Стефан сидел в приемной епархиального секретаря с прошением. Он требовал выделить на его приходы двух священников. Ведь не может же он один служить литургию в трех храмах одновременно!
Архиерей батюшку принял, благосклонно выслушал, похвалил за труды, пожурил за лохматость и запыленный подрясник, рассказал, что лишних пастырей у него в наличии не наблюдается, но одного он все же к отцу Стефану направит.
— Ты, батюшечка, не расстраивайся. Пока силы молодые никуда не ушли, с двумя приходами справишься, да и к местным ребятишкам, которые тебе в алтаре помогают, присмотрись. Даст Бог, найдется среди них священник будущий…
Восьмая заповедь
Как известно, отец Стефан является целибатом.
Мнения о данном житейском состоянии у народа православного разнятся, но как бы там ни было, сочувственных вздохов и взглядов целибат, особенно в возрасте сугубо продуктивном, слышит намного больше, чем отказавшийся от всего мирского монах.
Чего с монаха взять-то? Он ведь в подчинении постоянном, под приглядом начальства монастырского и духовника собственного. У него и забот-то: молись да с грехом борись. Даже те, которые в миру, вне обителей живут, все едино ни на кого не похожи. И для народа понятнее: монах, он и есть монах.
А тут целибат… Пока отец Стефан на приход свой добирался, верующие и неверующие поселка и так и этак слово это склоняли, спрягали и обсуждали, пытаясь в нем тайный смысл найти. И не смогли. Остановились на двух вариантах.
Первый от деда Архипа:
— Целибат — это, девки, цельный батальон заменяющий!
Девки возраста деда Архипа и постарше вначале оторопели от подобного определения, а потом разом все налетели на старика с эпитетами всякими, для литературного изложения малоподходящими.
Второе обоснование, от местного церковного умельца (которого в свое время метили на должность поповскую), было принято с большим доверием. Да и как не принять?! Сергей Иванович слыл человеком сведущим в делах церковных и религиозных. Он даже участвовал в съезде тщательно законспирированного православного объединения, а также подписывал почти все обращения и петиции насчет масонских происков, штрихкодов и канонизации Иоанна Грозного.
— Целибат есть священник, занимающийся исцелениями, — подвел итог диспута Сергей Иванович, чем сначала вверг в огорчение бабку Фросю, известную своими «врачебными» способностями, а затем не на шутку встревожил местного костоправа — знаменитого на всю округу дядю Васю.
Баба Фрося вскоре успокоилась, так как у нее был хороший и очень сильный заговор супротив конкурентов, а вот костоправ Василий технике литья воска в заговоренную воду обучен не был, поэтому серьезно опасался уменьшения доходных статей по вправке вывихов и установке на место позвоночных дисков.
Как бы там ни было, приезда нового священника ожидали с любопытством и волнением. Готовились.
Первая служба прошла на редкость слаженно и, по меркам поселка городского типа, многолюдно. Ожидаемых речей о грядущем конце света, НЛО и тайных старцах от отца Стефана не услышали, как и призывов к введению десятины не дождались.
Батюшка только в проповеди попросил соседей любить, домочадцев не обижать, да силой внуков и внучек в церковь не тащить… Никаких исцелений и чудес не произошло, да и на исповеди отец Стефан лишь вздыхал, «спаси Господи» раз за разом повторял и просил говорить не за всех, а только за себя.
Хотя одно смущение произошло, но его отнесли к отсутствию у нового священника навыков поселковой жизни. Дело в том, что отец Стефан после четкой, по брошюре «Как нужно каяться» построенной исповеди Сергея Ивановича спросил у отрапортовавшего грешника:
— Чужое брали?
Сергей Иванович совершенно искренне возмутился:
— Батюшка, я же православный! Как же можно?!
— А где вы работали до пенсии? — не отставал священник.
— Как где? В совхозе овощеводом, — ответствовал Сергей Иванович. — Пока он не развалился из-за этой власти антихристовой.
— И что же, — продолжал спрашивать настырный священник, — домой ни огурца, ни помидора с капустой не брали?
Тут Сергей Иванович изумился:
— Как это не брал? Оно же совхозное, а вот чужого, Боже упаси…
«Странный какой-то поп», — подумал Сергей Иванович, но все же серьезностью исповеди остался доволен, а разговор о грядущем на днях апокалипсисе отложил на ближайшее будущее.
Других изъянов за новым батюшкой православный и просто пришедший посмотреть на нового священника поселковый люд не обнаружил и даже дивился, что отец Стефан был со всеми уважителен, внимателен и на «вы».
Сложность произошла через пару недель, когда отец Стефан, вечно спешащий по приходским делам, совершенно не в соответствии с саном споткнулся о притворную ступеньку и растянулся во весь свой богатырский рост в церковном дворе. По мнению приходского люда, священник должен быть степенным и немного важным, а не прыгать по двору и лесам строительным, как молодой прораб. Несолидно это для пастыря душ человеческих.
Но батюшка не только упал, он еще и ногу умудрился подвернуть. Подняться без посторонней помощи ему удалось, а вот дальше бежать он уже не смог, впрочем, и просто идти ему тоже никак не удавалось.
Тут же появилась прилучившаяся именно в это время на данном месте баба Фрося, которая, мелко-мелко крестя полулежащего на ступеньках священника, затараторила:
— Лом, лом, выйди вон изо всех жил и полужил, изо всех пальчиков и суставчиков. Лом колючий, лом могучий и стрелючий, и денной, и полуденной, и ночной, и полуночной, часовой, глазной и куриный, и лом серединный. Ступай, лом, в чистое поле, в синее море, в темный лес под гнилую колоду. Не я хожу, не я помогаю, ходит Мать Божья Пресвятая Богородица…
До отца Стефана дошло, чем его потчуют, и, вспомнив семинарские годы, он рявкнул:
— Изыди!
Ефросинья сгинула с глаз настоятельских, как будто ее и не было, лишь слышались ее причитания и сетования.
Сергей Иванович оказался более практичным и рассудительным:
— Вам, отче, к нашему костоправу надо. Он тут рядом живет…
— Я лучше в больницу, — кривясь от боли, выдавил из себя отец Стефан. — А то и там мне начнут «как на море-океяне бесы кости собирали».
— Нет, батюшка, — уверил Сергей Иванович, — наш костоправ читать ничего не будет, а вот ногу на место поставит. Да и больница далеко…
Настоятель по причине полного отсутствия возможности двигаться согласился. Сергей Иванович тут же подогнал свою, купленную во времена советские, «копейку», усадил в нее вздыхающего батюшку, а затем спросил:
— Бутылку в лавке возьмем или благословите церковного из кладовой принести?
— Какую бутылку? — не понял отец Стефан.
— А рассчитываться с костоправом вы чем будете, отче? — удивился Сергей Иванович.
Настоятель благословил взять «церковного».
Василий, с утра вставив диски на пояснице очередного, «из городу» приехавшего клиента, пребывал в настроении отдохновительном и философском. Это значит, что сидел он на скамейке в обществе соседа в собственном палисаднике, дымил «Примой» и рассуждал на околомедицинские и философские темы.
Сосед внимательно слушал. Да ему больше ничего и не оставалось, так как еще сто грамм из васильевского гонорара за лечение горожанина он мог получить только при условии полного консенсуса с мыслями и идеями костоправа.
Тут и подкатил видавший виды жигуленок Сергея Ивановича.
— Вот видишь, сосед, — прервав философские изыски, сказал Василий, — мне сам Бог помогает. Ко мне служителя Своего направил… Ты пойди, соседушка, помоги попу дошкандыбать до хаты, вишь, на нем лица нет, и в юбке своей он путается.
Пока Сергей Иванович с соседом вели отца Стефана в дом, Василий успел снять затертый пиджак периода позднего брежневизма и надеть белый халат того же времени и той же кондиции, на кармане которого было вышито: «МТФ 1 смена».
— Что случилось, отец святой? — приняв профессорский вид, спросил костоправ.
— Да вот, крыльцо… ступенька… — только и мог ответить священник.
Усадив больного на стул, Василий склонился над ногой батюшки, ловко расшнуровал ботинок и так же профессионально стащил его.
Нога заметно распухла.
— Ты, отец святой, какого года будешь? — продолжил задавать вопросы Василий, ловко и сноровисто ощупывая ногу сельского пастыря.
— Шестьдесят пятого, — ответствовал отец Стефан.
— А чего ж жены не завел, деток не заимел?
— Так целибат я.
— Это как? Целитель, что ли? — не отставал костоправ, продолжая свои непонятные манипуляции над конечностью батюшки.
— Да нет, — смутился отец Стефан, — это просто если до того, как стал священником, не женился и монашество не принял, то становишься целибатом. Уже матушку иметь нельзя.
— Вот как?! — изумился Василий. — И как же ты с этим горем справляешься, без бабы мужику ведь никак нельзя?
Отец Стефан, дабы уйти от совершенно ненужной и не нравящейся ему темы, решил перевести разговор в иную плоскость. Тем более что ему тяжело было думать над правильностью и доходчивостью своих ответов и одновременно следить за манипуляциями рук костоправа.
— Скажите, Василий, а что это за обозначение у вас на халате: «МТФ 1 смена»?
— Это, отец святой, баба моя на молочной ферме работала, в первой смене и… — В этот момент Василий резко сжал руками ногу священника и со всей силы крутанул стопу, в которой что-то резко щелкнуло.
Батюшка взвыл.
— И вот оттуда халат и принесла, — закончил, улыбаясь, местный костоправ.
Отец Стефан, вытирая со лба, усов и бороды обильный пот, по инерции произнес:
— Чужое грех брать. Восьмая заповедь Божия — «Не укради».
— Какое чужое, отец святой? — абсолютно искренне огорчился Василий. — Совхозный это халат, с фермы, а чужого я отродясь не брал!
И в сердцах обидчиво закончил:
— Нет чтоб за ногу поблагодарить, так он мне грехи выдумывает.
Отец Стефан только теперь понял, что боль утихает и, главное, нога точно в соответствии с анатомией расположена, а не наперекосяк.
— Да вы меня простите, Василий, может, я не понимаю чего. Не знаю, как вас и благодарить. Век молиться буду! — запричитал батюшка.
Василий с полностью поддерживающим его Сергеем Ивановичем сменили гнев на милость и ответствовали, что со священника они денег никогда не возьмут, а вот если по стопочке за его здоровье, то с превеликим удовольствием…
Давно зажила вывихнутая священническая нога, раскаялась и забросила свое ремесло после внушений, бесед и проповедей бабка Фрося, но трудно и сложно отцу Стефану по сей день объяснить, где заканчивается «мое» и начинается «чужое». Видно, как Моисею, лет сорок придется ждать и учить. Пока не выветрится…
Таможенный эксклюзив
Как известно, у отца Стефана было под началом два прихода. Один в поселке, носящем гордое определение «городского типа», а другой — в забытой людьми и районной администрацией деревеньке.
В деревеньку эту батюшка заглядывал регулярно, но не часто, так как особой надобности в службах не было по причине отсутствия на них молящихся. Да и вести богослужение с единственным деревенским пономарем-помощником было сложновато. Диалог какой-то выходил, а не богослужение. Поэтому небольшой старенький домик, переоборудованный под церквушку, все называли молельней, тем более что отец Стефан в ней молебны и пел, да водичку освящал, а еще панихиды служил.
Панихида и водосвятный молебен — обычно наиглавнейшие службы в провинциальной глубинке, хотя богословы с этим и не согласны. Наш настоятель двух храмов изначально мыслил одинаково с богословами, но постепенно богословие отца Стефана интегрировалось с местными требованиями и условиями.
Нет, он прекрасно понимал и даже постоянно проповедовал, что выше литургии нет моления, но, как ни кивали утвердительно бабушкины платочки на слова настоятеля, на литургию являлся лишь пономарь.
Родственников же помянуть да водичку освятить приходили все, кто еще мог до церквушки дойти. Причем не просто приходили, а вместе с тарелочками и блюдечками вареного риса (кануном, по-местному), приносили также продукты «на церкву», то есть батюшке. Отец Стефан сутяжным и меркантильным не был, но даже его целибатную сущность чем-то кормить было надобно, да и на главном его приходе, в поселке городского типа, продукты эти были насущно необходимы по причине регулярных церковных обедов для причта и неимущих.
Смущало отца настоятеля это преимущество «второстепенных» служб над основной и главной, и он постоянно занимался самоукорением, а также поиском нужных слов, примеров и доказательств, чтобы побороть доморощенную, местечковую богословскую мысль.
После долгих размышлений и раздумий решил батюшка собранные на два подсвечника деньги потратить на книжки, брошюрки, иконки, видео- и аудиодиски и прочие церковно-лавочные принадлежности, которые, по его мнению, должны были все же освежить увядшие богословские познания прихожан.
Нельзя сказать, что в церковной лавке подобных изданий и изделий не было. Были. Но в то время на епархиальном складе данный «товар» имел столь неказистый и непривлекательный вид, что особого любопытства ни у кого не вызывал, да и цены на него были отнюдь не для поселков и деревень.
Практически рядом с приходом отца Стефана проходила недавно появившаяся граница между двумя крайне независимыми государствами[1], за которой располагалась уже иная православная епархия. В деле снабжения церковной утварью, свечами, облачениями, книгами и прочим товаром церковно-приходского свойства соседи были в полном превосходстве, поэтому местные настоятели потихоньку подкармливались у соседей, за что периодически получали нагоняи от собственного архиерея… Впрочем, недовольство родного владыки всегда покрывалось его любовью к им же рукоположенным чадам, а соседний архиерей, видя наплыв из-за кордона, тут же издал негласный указ: «Хохлам на 20 % дороже», чем несказанно улучшил благосостояние собственной епархии.
Как бы там ни было, на межгосударственных отношениях данный прецедент никак не сказался, а вот таможня встала перед дилеммой: с одной стороны, Церковь одна, но с другой — государства разные. Прописывать же законы по перемещению церковных принадлежностей никто не решался ни с той, ни с другой стороны, поэтому все зависело от понимания таможенниками принципа: «Вас накажешь — Бог накажет».
Большинство понимало верно, по-православному, но встречались и эксклюзивы, твердившие о подрыве национальных экономик, интересов и культурных ценностей.
Отец Стефан был абсолютно уверен, что заграничные миссионерские приобретения не могут подлежать никакому таможенному контролю, тем паче что как по одной, так и по другой стороне границы обличья граждан абсолютно одинаковые, языки схожие, менталитет ничем не отличается.
К сожалению, батюшка ошибся. Ему именно эксклюзив в фуражке с зеленым околышком и попался, причем как на той, так и на этой стороне.
Дело в том, что нашему настоятелю двух храмов, как он сам решил, несказанно повезло. Наряду с иконками, крестиками и разнообразной красиво изданной литературой, он приобрел парочку ящиков местного и потому дешевого кагора и упаковку покрывал, которыми в последний путь укрывают усопших.
До края загруженный жигуленок, вытребованный батюшкой у председателя поселкового совета, урча и пыхтя, въехал под таможенную арку и замер, ожидаючи пропуска в родное государство.
Таможенник попался молодой, крайне выглаженный и выбритый, с лицом государственной ответственности и международной значимости. Мельком оглянув пакеты с книгами и иконами, он, указывая на ящики с вином, заявил:
— Провоз разрешен не более двух литров.
— Так это же вино не для питья, а для причастия! — возмутился отец Стефан. — Оно и за вино считаться не должно.
— Да хоть в бензобак его используй! Нельзя более двух литров, — отрезал таможенник и добавил: — Давайте машину на штрафплощадку и идите к начальству разбирайтесь.
Пылая праведным гневом, поднимался отец Стефан на второй этаж таможенного стеклянного корпуса, сочиняя по дороге пламенную речь, обличающую недопустимость подобного отношения к Церкви вообще и к священнику в частности. Сочинить практически успел, но главный таможенник, видимо уже предупрежденный по рации о злостном нарушении государственной границы, смиренно выложил перед оторопевшим батюшкой красную папку «Ограничений и запрещений».
— Видишь, отче, тут написано: «Алкоголь (вино, водка, коньячные изделия) — не более двух литров». Я ничего сделать не могу…
— Да как же не можете! — возмутился батюшка. — Мы же — Церковь одна, да и не алкоголь это.
— Как это не алкоголь, отец святой? Вино отродясь алкоголем было и есть.
«Помоги, Господи!» — взмолился в уме отец настоятель и тут же выдал:
— А я вам докажу… — и почти бегом ринулся к машине. Быстро достал бутылку и, развевая-разбрасывая по сторонам полами рясы ошеломленных таможенников, взлетел к начальнику. — Вот смотрите. Количество градусов — восемнадцать, сахара восемнадцать процентов и на свет, — отец Стефан поднял бутылку к висевшей лампочке, — не просматривается.
— Ну и что? — уже с неподдельным интересом спросил главный таможенник данной местности.
— А то, — ответствовал батюшка, — что если бы это было лишь вино, то была бы разница в градусах и сахаре, и лампочка бы сквозь бутылку просвечивалась.
Начальник пристально посмотрел на священника, а затем нажал кнопку селектора:
— Миш, возьми мой мотоцикл и смотайся в универсам. Купи бутылку кагора и мигом ко мне.
На другом конце селектора хмыкнули и задали вопрос:
— А закусь?
— Я те дам «закусь»! Делай, что говорю.
Минут через пятнадцать в дверях начальственного кабинета появился взлохмаченный Мишка с бутылкой кагора.
Начальник молча забрал у него бутылку и уставился на этикетку, затем поднял бутылку вверх к электрической лампочке.
Во время этих манипуляций отец Стефан шептал молитву, а Мишка, ничего не понимая, изумленно смотрел распахнутыми глазами на начальника.
— Слушай, батюшка, — обратился к священнику главный таможенник, — а ведь ты прав. Тут и свет видно, и цифры разные.
При этих словах отец Стефан выдохнул и перекрестился, у Мишки же челюсть поползла вниз, чтобы так и остаться. Священник благодарил Бога за удачную мысль, а Мишка был уверен, что поп начальника с ума совратил…
Руководитель таможни лично проводил священника к машине, поблагодарил за подаренную бутылку настоящего кагора и… открыл границу.
Выруливая с одной таможни и заруливая на другую, которая присоседилась рядышком, отец Стефан улыбался во весь рот и радостно пел песнь Амвросия Медиоланского «Тебе, Бога, хвалим…».
Как оказалось, рано пел. Родные таможенники приготовили батюшке сюрприз, о котором он до сих пор рассказывает с придыханием и только тогда, когда попросят.
Наша граница была обустроена скромнее, без двухэтажных излишеств, турникетов и телекамер. Тех, кто въезжал в страну родную, как правило, лишь окидывали взглядом и пропускали без обычной для иностранцев строгой проверки. Чем отец Стефан не угодил, непонятно до дня нынешнего, но как он думает, — слишком широко улыбался.
Таможенник приказал открыть багажник и, полностью проигнорировав два ящика с настоящим кагором, указал на пакет с сотней покрывал, столь необходимых для последнего пути батюшкиных прихожан.
— Это что?
— Покрывала.
— Почему так много?
— Так спрос большой.
Таможенник пожевал губами и четко, отделяя слово от слова, выдал следующее:
— Вы, гражданин отец священник, своим торгашеством наносите урон экономике государства, в котором живете.
Отец Стефан даже слова молитв позабыл. Он ошарашенно смотрел на местного Карацупу и не знал, что ответить.
— Вам, как работнику культа, должно быть стыдно заниматься спекуляцией, — продолжал таможенник, постепенно повышая голос, так как вокруг стали собираться прочие стражи порядка.
Отец Стефан молчал.
— Вот скажите, зачем вам в церкви столько покрывал? — вопрошал таможенник. — Каждый день банкеты устраивать?
Тут батюшкин голос и прорезался…
— Банкеты?! Да это покрывала покойников в гробу покрывать.
На таможне установилась тишина. Было слышно, как со стороны сопредельного государства летело, нарушая границу, три комара, как квакали лягушки в заграничном пруду, казалось, если еще прислушаться, то можно явственно услышать, как меняется время в разницу «один час» на рубежах родной Отчизны…
— Кого накрывать? — полушепотом вопросил таможенник.
— Покойников, — громко сказал отец Стефан и, вытащив из пакета несколько изделий для усопших, предложил стражам рубежей: — Вам надо? Возьмите!
Тишина грозила взорваться чем-то страшным и непредсказуемым. Все вольно или невольно отступили от стоявшего с покрывалами в протянутой руке священника и насупленно недобро смотрели на него.
Сзади послышалось:
— Так ты что, поп, всех нас похоронить решил?
Отец Стефан ответить не успел, тут к нему быстро подошел уже немолодой офицер и тихонько, подталкивая его к машине, вполголоса затараторил:
— Батюшка, езжай с Богом! Езжай, дорогой, дай нам еще пожить немного… Езжай, Христа ради.
Отец Стефан не упирался.
Машина, чрезвычайно внимательно провожаемая несколькими парами глаз, шустро поехала в сторону родных приходов.
Когда таможенные постройки и рубежи остались за горизонтом, батюшка остановился и долго ходил по обочине, повторяя одну и ту же фразу: «Слава Богу за всё!»
Книжки же помогли. Бабушки, правда, как считали панихиду и водосвятие «главным делом», так и продолжают считать, но вот, начитавшись привезенных отцом Стефаном духовных произведений, два семейства переехали жить в заброшенную деревеньку и с Божией помощью строят настоящую типовую церковь, где уже совершается литургийное чудо.
Указ владыки
Незапланированного вызова в епархию отец Стефан ожидал. Ожидание началось с той поры, как к священническому домику, что расположился рядом с храмом, подкатил микроавтобус с разрисованными рекламой боками. Выскочившие из него ловкие молодцы быстренько приладили к священнической крыше спутниковую тарелку. Пока привинчивали, прикручивали и настраивали, у калитки появился местный знаток православных истин Сергей Иванович с недремлющей ревнительницей поселкового благочестия теткой Ганной. Они молча взирали на работников современной связи и коммуникаций и крутившегося рядом пастыря их собственных душ. Смотрели и вздыхали. Тускло смотрели и тяжко вздыхали. Да и как не вздыхать, если совсем недавно на воскресной проповеди корил отец Стефан любительниц слезоточивых сериалов и поклонников кровавых боевиков, которые за телевизионным экраном икон не видят и времени на молитву не оставляют. И вот на тебе! Сам себе ящик этот бесовский устанавливает! Да не простой с пятью местными программами, а такой, который всех закордонных антихристов по спутнику принимает.
Когда батюшка, проводив мастеров, подошел к огорченному приходскому активу, у Сергея Ивановича уже сложилось разоблачительно-обвинительное заключение с необходимыми цитатами из Библии и нравственными указаниями святых отцов. Сложиться-то сложилось, но не выговорилось. То, что сообщил отец Стефан, повергло в шок не только борца за истинное православие, но и блюстительницу нравственных устоев.
— Вот, поставил антенну на спутник, буду из интернета материал для проповедей брать и с другими христианами общаться, — сообщил довольный священник.
— Из чего брать? — не поняла Ганна. — Из какого тырнета?
Сергей Иванович охнул и даже присел от неожиданности.
— Так у вас что, батюшка, и компьютер в хате стоит?
Отец Стефан, не замечая настроения своих пасомых, весь еще в мыслях об интернете, радостно подтвердил:
— Есть компьютер. Небольшой. Ноутбук. Благодетель расщедрился…
Сергей Иванович с Ганной не могли найти слов. Да и где взять слова, когда их родной священник напрямую с бесами на связь выходить хочет? Правильно старцы говорят: времена последние на дворе, все опоганились.
Махнул рукой Сергей Иванович, запричитала Ганна: «Ох, Боженька, да что же это делается-то!» И пошли они восвояси, оставив своего пастыря в полном недоумении.
На следующей службе заметил отец Стефан, что на приходе неладно. Вокруг местных ревнителей веры собрались несколько человек, разговаривающих о чем-то полушепотом и поглядывающих на него, отца Стефана, с тоской и осуждением. Даже во время литургии они так и стояли кучкой, как бы невидимой стеной отделяя себя и от священника, и от остальных прихожан.
Дальше — больше.
По четвергам на еженедельных молебнах в храме всегда бывало людно, особенно когда дождь или непогода и огородные заботы можно отложить. Акафисты с водосвятием прихожане уважают, с терпением их выстаивают и истово молятся, да и запасы воды освященной пополняют. Отец Стефан даже удивлялся сначала, куда можно употреблять такую пропасть святой воды? Но в очередной акафистный день из группы Сергея Ивановича в церковь пришел лишь сам лидер православной общественности. В руках он держал красную папку. После того как акафисты были прочитаны, а вода освящена, Сергей Иванович подошел к настоятелю и, раскрыв папку со стопочкой напечатанных листов, во всеуслышание произнес:
— Здесь, отче, новый покаянный акафист, современными старцами написанный. Против глобализации, кодов, чипов и компьютеров. Надобно отслужить…
Отец Стефан полистал странички, выхватывая глазами строки текста:
«Покайся, в мире антихристовых кодов и чипов живущий… Покайся, духовное противление вызову безбожного времени не оказавший… Покайся, заветы святых отцов отвергший… Покайся, в бесовские технологии впавший».
Об этом «покаянии с акафистом» отец Стефан уже был наслышан и даже знал, откуда оно берет свое начало, поэтому, отдавая распечатанное творчество современных «старцев», с вызовом ответствовал вглядывающемуся в него Сергею Ивановичу:
— Этот «акафист» в нашем храме мы служить не будем!
— Это почему же? — тут же возмутился приходской ревнитель. — Вы, батюшка, в угоду миру не хотите заветы старцев выполнять?!
— Нет, Сергей Иванович, — скромно ответствовал священник. — Не буду потому, что текст этот на компьютере набран, на нем же его выровняли и на принтере распечатали.
Сергею Ивановичу сказать было нечего. Но стало ясно, что неожиданный аргумент настоятеля к приходскому умиротворению не приведет.
Понимал это и отец Стефан, поэтому не удивился, когда на следующей неделе позвонили из епархии и сказали, что через день его очень хочет видеть владыка.
Должно заметить, что епархиальное начальство у отца Стефана было строгим, но добрым, то есть крайне благожелательным к настоятелям, однако не любившим, чтобы из прихода приходили жалобы. Есть еще одна характерная черта епархиальной жизни, которая, впрочем, присутствует практически во всех владычных канцеляриях. Раздается на приходе звонок с предложением прибыть в епархию через пару дней, а на совершенно естественный вопрос: «Что случилось?» — следует неопределенное междометие или дежурное: «Владыка зовет». Естественно, у настоятеля все эти два дня все валится из рук, так как «кто без греха?». В результате, передумав все, что возможно, и разложив по полочкам все мыслимые и немыслимые причины, священник оказывается перед архиерейскими дверьми далеко не в лучшей морально-психической форме…
К счастью, отец Стефан пребывал в ранге целибата, поэтому, кроме него самого, переживать было некому. Но все же пока он дождался назначенной даты и добрался до областного центра, всякое-разное передумалось, все больше негативного свойства.
Епархия располагалась в старом купеческом особняке, недалеко от оживленного центра. Рядом город шумит, страсти бушуют, а здесь тихо, умиротворенно. Небольшой однокупольный храм над жилыми и административными зданиями, беседки в зелени, птички поют и народ весь в рясах да подрясниках с негромким разговором, вздохами и размышлениями.
Владыка находился во дворе, на лавочке в беседке. Тут и встретил отца Стефана, благословил и напротив усадил. Позвал секретаря, а тот ему услужливо подает конвертик почтовый, уже вскрытый, с выглядывающими из него листочками письма. Архиерей вынул листки, посмотрел на них внимательно и говорит:
— Ну, рассказывай, батюшка, как же ты дослужился до того, что мне на тебя телега пришла на четыре страницы.
— И что там пишут, владыка святый? — стараясь быть невозмутимым, вопросил отец Стефан.
— Так это я у тебя спрашиваю! — удивился владыка. — Что ты на приходе натворил, что меня письмами мучат?
— Служу, владыка, как положено. Просфорню строим, колокол купили, с детишками занимаюсь… — Отец Стефан хотел продолжать перечислять все позитивы, но архиерей не дал.
Он смотрел в строчки пришедшего письма и продолжал строго вопрошать:
— С кем это ты там связь наладил через спутник? И какие циркуляры от врага нашего против народа православного получаешь?
Отец Стефан растерялся. Он не знал, что и, главное, как объяснять.
— Понимаете, владыка, благодетель мне компьютер подарил… — Тут батюшка поднял глаза на архиерея, и от сердца отлегло. Владыка ласково, как только он и умеет, улыбался и по-отечески, дружелюбно взирал на нашего целибата.
— Что, батюшечка, Сергей Иванович решил уму-разуму тебя учить?
— Да вроде того, владыка, — немного успокоившись, начал рассказывать отец Стефан. — Собрал вокруг себя шестерку единомышленников и объявил меня агентом масонов.
Архиерей рассмеялся, отложил в сторону письмо и, обратившись к секретарю, попросил:
— Принеси-ка мне последние документы из митрополии.
Секретарь принес.
Владыка достал из папки фирменный бланк с большим крестом вверху и не менее большой печатью внизу. Посмотрел на убористый текст между символами высшей церковной власти и сказал:
— Ну, давай, отче, вместе решать, как нам с тобой себя вести, чтобы Сергей Иванович и меня в масоны не записал да на приходе раскол не учинил. Здесь из митрополии бумага как раз по интернету пришла…
В очередное воскресенье в храме прихожан было намного больше, чем обычно. Помощники Сергея Ивановича во главе с теткой Ганной оповестили весь поселок, что настоятеля будут снимать или накажут примерно. Ведь негоже православному попу в «тырнете» сидеть и беса тешить.
Литургию вместе с отцом Стефаном служил епархиальный секретарь. Именно он и зачитал по окончании обедни указ правящего архиерея. В указе говорилось:
«В то время, когда на нашу Православную веру и Церковь во всех средствах массовой информации возносятся хула, клевета и недостойные измышления, наши священнослужители и верные чада прихожане попустительно относятся к возможности достойно ответить на эти вызовы современного безбожного мира. Исходя из вышесказанного, определяю священника Стефана главой епархиальной миссии в интернете, а также редактором и администратором епархиального сайта, где ответы на злободневные вопросы, касающиеся православия и церковной жизни, должны найти не только верующие нашей епархии, но и все православные христиане».
После службы секретарь с отцом Стефаном обедали в приходской трапезной, беседовали и наблюдали в окошко, как Сергей Иванович и тетка Ганна, размахивая руками, красочно рассказывали окружающим о том, что именно они наставили настоятеля на путь истинный:
— Сам владыка по письму нашему указ написал!..
Детективная история
Отец Стефан регулярно пребывал в детективном раздумье. Причем раздумье это приходило к нему периодически: один раз в год и всегда в начале лета. Батюшка не обладал необходимой в данном случае дедукцией, хотя томик с похождениями Шерлока Холмса во втором ряду утрамбованного книжного шкафа не пылился — любил отец Стефан иногда о знаменитом сыщике почитать, да и мисс Марпл с господином Мегрэ регулярно удостаивались его внимания.
Английская и французская методы к данному раздумью никак не подходили, ибо восточно-украинская лесостепь мало имеет схожести с туманным Альбионом и Елисейскими полями. Здесь все было просто, откровенно и видимо, но вот в данном случае ответа на вопросы «почему?» и «отчего?» отец Стефан не находил.
Дело в том, что на вверенном ему приходе подвизались две неразлучные прихожанки: баба Маня, Мария по-правильному, и баба Глаша, Гликерией то есть крещеная. Всё у них дружно выходило: и молитва, и исповедь (всегда друг за другом исповедовались), и за храмом они на пару любили ухаживать — лампадки помыть, подсвечники почистить или цветник приходской облагородить. На службе они тоже рядышком у иконы Серафима Саровского молились. «Где Маша, там и Глаша», — говорили на приходе. Но вот только в июньские дни, аккурат между Пасхой и Троицей, между двумя подружками пробегала черная кошка, в которую они верить ну никак не должны, ибо вопросам суеверий настоятель посвящал почти все свои проповеди.
Они и не верили ни в кошку, ни в ведра пустые, ни в подсыпанную под порог «заговоренную» кладбищенскую землю, ни в прочие происки лукавого. Такое неверие козням «врага рода человеческого» подкрепляли у Марии и Гликерии входные кресты на косяках дверных, мелом нарисованные, да постоянно горящая лампадка на божнице. Существенную роль в крепости православного бастиона от сил нечистых играли и ветки освященной вербы, примощенные за иконами, и набор бутылей и бутылок со святой водой: богоявленской, крещенской, сретенской и преображенской. Было еще маслице от мощей святых, земелька с Гроба Господня, а также камушки с гор почаевских, афонских и иерусалимских. К этому необходимому набору присовокуплялась толстая книжка «Щит православного христианина» с молитвами каноническими и не очень понятно откуда взявшимися, а также черные толстые, от руки написанные общие тетради с распевами «псальмов», оставшиеся со времен советского безцерковья.
Видя данный православный арсенал и потенциал, отец Стефан в очередной раз впал в недоумение, когда после второй пасхальной недели Мария и Гликерия опять, как и в прошлом и позапрошлом годах, разошлись по разным сторонам храма. Мария осталась у киота с преподобным Серафимом, а Гликерия переместилась за угол к великомученику Пантелеимону. Так стояли и молились, чтобы друг дружку даже не видеть…
«Что за оказия? — размышлял настоятель. — Может, у них какой другой духовник имеется, что каждый год заставляет между собой во дни пения Цветной Триоди не общаться? Хотя вряд ли. Они сказали бы на исповеди».
Кольнула мысль эта батюшку. Нет, не из-за ревности, из-за беспокойства.
Дело в том, что два искушения недалеко от его прихода обитало. Первое — в соседнем селе. Жил там священник бывший, за грех, повсеместно среди нашего народа распространенный, под запрет попавший. Рассказывали настоятелю, что принимает бывший батюшка людей и советы раздает. Второе же искушение практически рядом, за селом, на каменном бугре расположилось. Объявился там «монах восьми посвящений», вырубивший в скале дом-пещеру и соорудивший рядышком костел римский, часовню православную, пагоду и синагогу и по очереди в них богам многочисленным поклонявшийся. «Монах» этот приезжую городскую и областную богему окормлял, все об аскетике и воздержании рассуждал, попутно любуясь двумя своими женами и детишками, от сурового аскетического «подвига» появившимися.
«Неужто туда ходят?» — гнал от себя беспокойную мысль настоятель. Гнать-то гнал, а не гналось. Решил на исповеди спросить, благо подружки-старушки всегда вместе каждый праздник причащались, а тут Вознесение через несколько дней.
Решил и спросил на всенощной накануне праздника, когда первой баба Глаша под епитрахиль батюшкину подошла:
— Что это у вас, Гликерия, с Марией за раздоры, что и не смотрите друг на дружку?
И заплакала бабушка.
— Да все она, тютина.
— Кто? — не понял отец Стефан.
— Да шелковица, отец-батюшка-а-а, — совсем разрыдалась баба Глаша.
И ушла, сморкаясь в платочек и заливаясь слезами, от аналоя исповедального. Даже молитвы разрешительной не дождалась.
В недоуменной растерянности пребывая, невидящими глазами смотрел отец Стефан на направляющуюся к нему от иконы старца Серафима бабу Машу. Когда же та подошла, крест с Евангелием поцеловала и начала излагать сокрушения и признания об осуждении, небрежной молитве, скоромной еде в день рождения внука и прочие повседневные прегрешения, батюшка неожиданно для себя спросил:
— А что там с шелковицей-то случилось?
Мария запнулась на полуслове и, теребя сморщенными заскорузлыми пальцами край выходного, только в церковь надеваемого платка, тихо выдавила из себя:
— Горе с ней, батюшка.
И заплакала…
Ситуация сложилась — врагу не пожелаешь, хотя их у батюшки отродясь не водилось, врагов этих.
Гликерия с Марией сморкались и хлюпали каждая в своем углу, а отец Стефан столпом стоял у аналоя.
Теперь он вообще ничего не понимал. Он даже не знал, с какого края надо начинать мыслить. В центре недоумения была шелковица, тютина по-местному, а вокруг нее две плачущие старушки и один ничего не понимающий поп.
Вечером, благо они уже светлые были, летние, отец Стефан решил данное недоумение кардинальным способом разрешить. Обычно по вечерам он прогуливался от церковного двора через кладбище к сельскому пруду. Как раз хватало времени неторопливо вечернее правило вычитать, концерт лягушачий послушать и о вечном подумать. Сегодня маршрут был противоположный — в другой край села, где рядышком расположились два небольших флигеля со спускающимися к речушке огородами. Именно здесь и жили столь знакомые, любимые и теперь уже таинственно непонятные Гликерия с Марией.
«Пойду-ка я в гости схожу, — подумал батюшка. — Надо же когда-то ребус этот разгадать». И пошел по балочке, по-над узенькой речкой, где как раз заканчивались огороды старушек.
По краям огородов, засеянных картошкой, тыквами и подсолнухом, в качестве разделительной изгороди росла кукуруза, а между ними шла тропинка к усадьбам. Не доходя до огурцов с помидорами, кабачками и прочей петрушкой, что всегда поближе к дому сажают, батюшка наткнулся на громадную старую шелковицу, усыпанную черными кисточками ягод. Причем ствол ее располагался на одном огороде, а большая часть веток тянулась к речке и соответственно нависала над другим огородом…
Что-то мелькнуло в мыслях отца Стефана, догадка почти осенила его, но до логического завершения он дойти не смог, так как все мысли перекрыл доносившийся с двух сторон стереофонический детский рев. Трое ревели у Гликерии и четверо — у Марии. По возрасту практически одинаковая четверка доказывала бабе Маше, что «те первые начали», а бабе Глаше вообще неразличимая друг от друга тройня вопила, что «те первые полезли».
Откуда прорезался у отца Стефана громовой голос, трудно сказать, но после его протяжного, с вибрацией и иерихонской силой «Во-о-онмем!» все замолчали и уставились недоуменно на неизвестно откуда взявшегося священника.
Глядя на облупленные носы, поцарапанные животы и ободранные детские коленки, а также на засмущавшихся старушек, отец Стефан произнес поучение:
— Шелковица — дерево святое. Под таким деревом Сам Господь отдыхал и плоды его вкушал. Поэтому это дерево к церкви относится и тютину с него рвать только по благословению священника можно. Понятно?
— Да! — почти хором ответили ребятишки.
— Вот и слава Богу. Утром проснетесь, умоетесь, молитву прочитаете и ко мне за благословением. Кому собирать, а кому и попоститься — тем, кто с вечера бабушку не слушал или друг на друга сердился. Тоже понятно?
Головки согласно закивали, а старушки…
Старушки улыбаться начали и на праздник Вознесения уже вместе у Серафима преподобного стояли, как испокон веку повелось.
Живица
Отец Стефан прекрасно знал, что такое ладан. Более того, он даже помнил, как древние святые отцы каждение определяли: огонь кадильных углей знаменует Божественную природу Христа, сам же уголь — Его человеческую природу, а ладан — молитвы людей, приносимые Богу. Знать-то знал, да что толку, если ладана как такового в те годы начального его священства хоть с огнем, хоть без огня найти было невозможно?
Те же серо-белые гранулы, которые на епархиальном складе для приходов продавали да раздавали, дымили не положенным фимиамом, а чем-то средним между запахом железнодорожных шпал и прогорклым подсолнечным маслом доперестроечного урожая. Данному ладану священники даже два наименования определили: СС-1, то бишь «смерть старушкам», и СС-2 — «смерть священникам». Умельцы, конечно, находились, пытались самостоятельно сделать гранулы, приятный запах издающие, но толку было мало. Кадишь храм, а прихожане шепчутся, что сегодня «фимиам» ну точно как одеколон «Шипр» пахнет или лосьоном «Ландыш» отдает. Какое уж тут «благоухание духовное»?
Как-то привезли нашему настоятелю коробочку достойного, молитвой пахнущего ладана афонского, так отец Стефан им только по праздникам большим пользовался, да и то по грануле одной за всю службу на уголь кадильный клал.
Уголь, правда, тоже самодельный был. Осенью староста приходской пару мешков кочерыжек кукурузных в котельную принесет, в печи их обожжет, вот тебе и кадильное топливо. Но уголь не ладан, проблемы не решает. А кадить-то чем-то надо. Да и троицкие праздники приближались.
Решил настоятель разобраться, откуда этот ладан берется, где производится. Не может же быть такого, чтобы на родных просторах, где для всех и вся заменители находятся, не было бы чего-то подобного. У нас, конечно, не Аравия и Восточная Африка, где данный продукт произрастает, но если земля наша даже «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» рождать умудряется, то что-то подобное ладанному дереву обязательно должно быть.
Первое, что на ум пришло, — вишня. Вспомнил отец Стефан, как в детстве они с вишен смолу отколупывали и благополучно ее ели. Вишни прямо в приходском дворе были, так что эксперимент не заставил себя долго ждать. Отковырнул несколько кусочков смолы священник, да на раскрасневшуюся печку в сторожке немножко бросил. Задымилась смола, но запах слабенький, на метр отойдешь — и ничего не слышно. Пришлось остальной клей (так в детстве они вишневую смолу называли) по старой привычке съесть.
За манипуляциями отца настоятеля староста со стороны наблюдал. Молча. Но когда от сгорающей на плите смолы уже черный дым потянулся и жженым запахло, подошел, тряпкой золу смахнул и выдал:
— Живица нужна!
— Кто? — не понял отец Стефан.
— Живица, — повторил староста. — С сосны или елки смола. Она хорошо пахнет.
«Действительно, — подумал отец Стефан, — еще только подъезжаешь к сосновому лесу — и уже запах слышно. Вот только нет рядом леса хвойного…»
Староста помог:
— Ты, батюшка, в город езжай, там в парке у реки сосен да елок много. И отдохнешь от нас, и к празднику кадить будет чем.
На следующий день, после обеда, отец Стефан надел спортивный костюм, кроссовки и взял увезенный из советской армии штык-нож. Завел свой видавший виды жигуленок и отправился в город, в двадцати пяти километрах от его прихода располагавшийся. Каждый новый десяток километров пути машина настоятеля ломалась, а уже перед самым въездом в объятия цивилизации батюшка умудрился пробить заднее колесо.
Пока менял да качал камеру, день потихоньку подошел к вечеру и к большому городскому парку, на берегу Донца находящемуся, отец Стефан приехал, когда начало смеркаться. Естественно, у уже уставшего священника после столь «дальнего» маршрута с автодорожными приключениями вид был немного босяцкий: спортивный костюм в пятнах, кроссовки грязные, борода, хоть и небольшая, всклокочена. Неординарный вид пастыря овец православных дополняли раздраженное голодное лицо и лохматые длинные волосы.
Машину батюшка оставил у въезда в парк, достал свой внушительный нож и быстрым шагом направился к соснам и елкам, чтобы успеть до темноты смолы наковырять. Зря он торопился. Да и то плохо было, что не заметил батюшка, как влюбленную парочку со скамейки парковой словно ветром сдуло, когда они запыленного косматого верзилу с ножом увидели…
Минут двадцать ковырял отец Стефан стволы и ветки хвойные, смолу с них добывая и в пакетик целлофановый складывая, пока не услышал оклик:
— Молодой человек, вы что тут делаете?
Обернулся батюшка. В отдалении, там, где света от заходящего солнца было больше, стояли два милиционера. Стояли, пока батюшка всей статью к ним не повернулся.
Вздрогнули и замельтешили стражи порядка, увидев пред собой лохматого верзилу с огромным ножом. Один дубинку сразу же выхватил и перед собою выставил, а второй рвал с пояса рацию, дабы помощь вызвать… Да и как не вызывать, если уже и до отца Стефана дошло, что с таким ножом его как минимум за преступника принимают. Чтобы объясниться, батюшка сделал шаг навстречу представителям силовых структур. Те отпрянули, но, видимо, решили сражаться до победного конца.
— Брось нож! — крикнул тот, что с дубинкой.
— Стоять! — срывающимся криком приказал второй, так и не сумев отцепить рацию.
Настоятель двух приходов понял, что сейчас он может оказаться в наручниках, а затем и в камере. Такого расклада никак допускать было нельзя, так как бумажка из милиции на архиерейском столе в епархии была бы четким приговором.
— Братцы, — затараторил виноватым голосом отец Стефан, — да священник же я. Смолы хвойной для службы нарезать приехал.
— Поп? — недоверчиво спросил страж порядка с дубинкой.
— Поп, поп! — заверил священник.
— Точно батюшка, — вглядевшись, сказал милиционер с неотцепляющейся рацией. — Я его на крестном ходу видел.
Отец Стефан облегченно вздохнул, а милиционеры пока еще осторожно поближе подошли.
— И зачем тебе живица, отец поп? — все еще недоверчиво вопросил первый страж.
— Как зачем? — ответил отец Стефан. — Вместо ладана будет.
— А, для работы, значит… — уже успокоившись, резюмировал тот, который с рацией, и добавил: — Ты бы, батюшка, поостерегся с таким ножом и в таком виде по лесу шастать, нам ведь уже двое позвонили, что здесь в парке маньяк с тесаком ходит.
— Виноват, братцы, уж простите! Не подумал, — только и повторял отец Стефан.
Довели милиционеры священника до машины и для порядка документы проверили, а потом в отдел свой позвонили и долго объясняли, что попа в парке поймали, а он хоть и с ножом, но человек понятливый, скромный и даже в чем-то добрый.
Когда прощались, милиционер с дубинкой отцу Стефану сто купонов протянул:
— Ты это, отец, не сердись и о нас помолись, только ножичек этот подальше убери.
А живица неплохим ладаном оказалась, правда, батюшка, когда ее растопил, ванилина все же добавил. Для благоухания.
Прогрессивный батюшка
Отношение к телевизору у отца Стефана безразлично-деловое. Он у него на полу стоит и в качестве подставки для вороха бумаг используется, так как книжный шкаф с письменным столом уже давно заполнены книжками, брошюрами и прочей полиграфией, а с появлением принтера — кипой распечаток всяческих.
То, что надобно побыстрее прочитать, складывается на телевизоре, а так как время имеет свойство с каждым годом ускоряться, а личные силы уменьшаться, стопа над электронным аппаратом растет все выше и периодически падает. Падение бумаг с телевизора заставляет отца Стефана их разобрать и в процессе сортировки на «надо» — «не надо» данную электронную подставку включить; может быть, в мире что стряслось, из-за чего бумаги попадали.
Свою основную функцию телевизор все же иногда выполняет. Обычно это происходит в трех случаях. Первое условие его включения — какое-нибудь экстраординарное событие в любимом государстве. Второе — когда кто-то из коллег-священников позвонит и о хорошей программе или передаче предупредит. Ну и третья причина включения, о чем отец Стефан распространяться не любит, — это футбольные матчи команды, к которой когда-то он сам в качестве голкипера приписан был, или игра сборной. Но команда, в которой батюшка ворота защищал, в последние годы все норовит из высшей лиги вылететь, а сборная играет так, что и смотреть не хочется, поэтому о данной страсти отец Стефан уже и духовнику не докладывает…
Так что можно сказать, что телевизор у отца Стефана в сугубом аскетизме пребывает, что, естественно, очень даже поддерживается приходской группой радетелей за чистоту священнических и православных рядов, возглавляемой неусыпным Сергеем Ивановичем.
Сергей Иванович — фигура на приходе известная по причине постоянной и неустанной борьбы с кодами, чипами, ИНН и прочими технологиями современности, которые, по словам самого борца, есть предтечи грядущего на днях антихриста. Боролся Сергей Иванович и с компьютерным засильем, но как только узнал, что богослужебные книги на них верстаются и что по электронной почте письма с протестами и воззваниями до властей и священноначалия быстрей доходят, смирился, хотя и относился к этому «бесовскому порождению» с опаской и недоверием.
Отец Стефан приходской мир и согласие всемерно поддерживал, ненавязчиво примеры и контраргументы убедительные приводил, но иногда и власть священническую проявлял, когда борцы слишком воинственно настроены были и очередную разоблачительную акцию разрабатывали.
* * *
Звонок из епархии всегда тревогу вызывает, особенно для священников приходов дальних, куда епархиальное начальство заглядывает и обращается редко по причине сложности привлечения их настоятелей к многочисленным общественным мероприятиям в областном центре. Добираться трудно, да и неизвестно, как эти «дальние» себя поведут, оказавшись пред телекамерами и микрофонами, да еще рядом с представителями властей предержащих. От греха подальше епархия обходилась своим контингентом проверенных священников.
Отца Стефана тоже обычно не трогали. Да вот искушение — прославился батюшка в интернете: блог ведет, в форумах участвует, сайт приходской завел, писем в ящике электронном столько, что отвечать не успевает. Изначально в епархии с усмешкой к этому относились, мол, нечего на приходах дальних попу делать, вот он в интернетах и обретается, но со временем иронию пришлось поубавить. Да и как не убавить, если самого епархиального архиерея в митрополии на очередном совещании похвалили, что он такого активного миссионера взрастил? Поэтому, когда с телевидения позвонили и попросили прислать священника на передачу, современным технологиям посвященную, епархиальное начальство решило все же вызвать отца Стефана, а не дежурного, увенчанного всеми регалиями и званиями областного протоиерея под телекамеры отправлять.
Хмурый отец Стефан возился с лысыми колесами своей видавшей все виды последних трех десятилетий машины, раз за разом повторяя страшные определения собственного настроения, а именно: «искушение», «юродство» и «наваждение бесовское». За этим сердитым делом со стороны наблюдал Сергей Иванович и, в конце концов поняв, что настоятель самостоятельно резину на колесах не поменяет, решил ему помочь и заодно толком узнать, куда это его пастырь засобирался.
— В епархию еду рано утром, — сообщил отец Стефан и добавил: — В телепрограмме буду участвовать.
У церковного правдолюбца выпала из рук монтировка, которой он помогал священнику шины на место устанавливать, и он на миг даже дара речи лишился. По мере обретения способности мыслить и говорить выражение лица Сергея Ивановича менялось от недоуменного, затем расстроенного до окончательно несогласного.
— Бесу служить едете, — сделал он окончательный вывод и, не прощаясь, пошел к приходским воротам, вслух рассуждая о временах последних, апостасийных[2].
В телестудии собрался цвет областного интернета. Асы блогов и завсегдатаи социальных сетей, мастера сайтов и вездесущие журналисты. Среди этих довольно молодых, пестро-разнообразно одетых участников программы отец Стефан был белой вороной в черной рясе. На него удивленно смотрели, пожимали плечами и пытались понять, что данный архаичный тип будет делать среди самых продвинутых и современных?
Большинство, естественно, решило, что священника пригласили по причине моды последних дней — везде их приглашать и что этот поп обязательно будет рассказывать им о Боге, вразумлять о грехах, учить нравственности и звать в церковь. Иного объяснения не находилось.
Включились софиты, телекамеры хищно нацелились на звезд областного интернета. Молоденькая ведущая непрестанно тараторила и старалась не смотреть на сидевшего с краю священника, так как ей было неловко за свое платье, больше напоминающее купальник. Операторы выискивали лучшие ракурсы, но почему-то им все время хотелось показать неожиданного для них гостя с блестящим наперсным крестом.
Отец Стефан слушал внимательно, но глаз от лежащего пред ним листа бумаги с тремя пунктами тезисов своего грядущего телеслова не поднимал. Он бы так молча и просидел до конца передачи, но ведущая регламент телешоу соблюдала четко. Заглянув для верности в свой плоский блокнотик и одернув из скромности то, что нужно называть платьем, все же направилась к батюшке и зачитала заранее приготовленный вопрос:
— Скажите, святой отец, вы тоже пользуетесь интернетом?
Отец Стефан поднял взгляд, перекрестился и абсолютно уверенным, неожиданно даже для себя спокойным голосом ответил:
— До святости мне далековато, так не принято к священнику обращаться, а вот во всемирную сеть захожу регулярно, даже можно сказать, работаю там…
— И что это вы там делаете? — ироничным тоном спросили с противоположной стороны студии. — Проповеди читаете?
— Проповеди, молодой человек, с амвона церковного возглашают, а в интернете я на вопросы отвечаю, сайт приходской да блог веду, форум модерирую…
Пока отец Стефан свои заботы в интернете перечислял, атмосфера в студии переменилась. Рты не раскрылись, но явное удивление, переходящее в неявное потрясение, было в полном наличии. Когда же священник сообщил, что его дневник на очень популярном ресурсе читают около двух тысяч интернет-друзей, центр всей передачи переместился на отца Стефана. Да и как иначе, если у самого «продвинутого» аса-блогера областного масштаба читателей было в два раза меньше?
Рассуждения о преимуществах браузеров, медийной активности, фандрайзинге[3] и общественно-социальных проектах были напрочь забыты. Отца Стефана атаковали ворохом вопросов. Он спокойно отвечал, объяснял, возражал, но когда спросили: «А что, вам позволительно компьютер иметь и в интернет заходить?» — эмоции сдержать не смог.
— Да что же за искушение такое! — с пылом ответил батюшка. — Вы на нас как на ходячий анахронизм смотрите, консерваторами замшелыми нарекаете, а сами-то в эпохе динозавров находитесь! Мой Сергей Иванович и тот прогрессивней будет…
Кто такой Сергей Иванович, блогеры не знали, а за динозавров немного обиделись.
На следующий день отец Стефан рано утром включил компьютер и обнаружил у себя в интернет-друзьях всех тех, кто участвовал в передаче, а потом пришел Сергей Иванович. Взял благословение, о делах приходских рассказал и, уже уходя, добавил:
— А хорошо вы, батюшка, в телевизоре-то говорили. Прогрессивно.
Запечатал
С утра день не задался. Солнышко, весело светившее, пока отец Стефан читал утренние молитвы, скоро затянулось насупленными тучами. Заморосил мелкий дождик, обещая не прекращаться весь день. Плюс ко всему к паперти храма опять подбросили двух котят, решив, что в церкви найдут им поселение.
Староста, планировавший сегодня вместе с отцом настоятелем заделать перед зимой заморской строительной пеной прохудившуюся крышу, бурчал что-то насчет грехов, которые испортили погоду, и бесцельно-хмуро ходил по приходскому двору. На крышу при такой погоде лезть было никак невозможно, да и пена эта заморская требовала сухого применения.
Батюшка напоил пищащих котят молоком и решил съездить в район, к благочинному. Налог епархиальный заплатить, отчет по воскресной школе отдать, да новости церковные последние разузнать.
В автобусе по причине дождя и будничного дня пассажиров было мало, и он быстро добежал до города. Водитель притормозил и высадил отца Стефана аккурат напротив ворот городского храма. У колокольни стояла машина отца благочинного, что немного ободрило нашего батюшку, так как обычно застать на месте главу районных церквей было непросто. Он был всегда занят, потому что постоянно что-то строил.
Со спешившим на очередную стройку благочинным быстро и благополучно разрешили проблему с епархиальным взносом, но оказалось, что надобно еще пару отчетов составить.
— Батюшка, вы же не торопитесь, может быть, пару часов подежурите в храме? — попросил благочинный. — Нам к собору новому бетон привезти должны, надо бы присмотреть, а тут никого нет. Один священник приболел, а второй соборовать да причащать уехал, а это надолго.
Отцу Стефану предложение даже понравилось. Во-первых, доверяют, а во-вторых, ждать на автовокзале долгих три часа следующего рейса автобуса ему никак не хотелось.
— Конечно, отче, подежурю, как раз и бланки эти отчетные до ума доведу.
Уже садясь в машину, благочинный вспомнил:
— Да, отче, тут из ДАИ[4] звонили, просили заочно отпеть кого-то. Если приедут, вы, пожалуйста, отслужите.
Отец Стефан заверил, что все сделает, как положено.
* * *
Из-за хмурой погоды, непрекращающегося дождя, регулярных областных требований, реформирований и смен руководителей после очередных выборов настроение у начальника ДАИ майора Фесенко было отвратительным. Плюс ко всему накануне два его подчиненных, арестовав у пьяного водителя машину, не поставили ее на стоянку, а уехали на ней на дежурство. На беду, нарушитель оказался сыном «крутого» начальника, наобещавшего майору массу бед и неприятностей.
Утром, после развода, майор вызвал к себе двух проштрафившихся милиционеров и потребовал писать объяснительные, где изложить все факты случившегося. На грозные указания подчиненные никак не реагировали, прощения не просили, да и смотрели на начальника не с подобострастием и сокрушением, а, как показалось майору, с ухмылкой.
— Не утрясете за полдня ситуацию, подам документы на разжалование, — закончил в сердцах майор.
Время было обеденное, «крутой» начальник уже дважды звонил с требованиями объяснений, а сказать майору было нечего.
* * *
Отец Стефан листал книжки в церковной лавке, когда на приходской двор заехала темная Audi, из которой вышли два упитанных офицера милиции в форме ДАИ.
— Святой отец, — обратился один из приехавших к отцу Стефану, — нам тут запечатать покойника надо.
— Не запечатать, а отпеть, — поправил священник и хотел еще добавить замечание насчет непринятого в православии обращения «святой отец», да воздержался. Сколько ни говори, все едино на католический манер переправят. — А где свидетельство о смерти? — спросил отец Стефан, раскладывая на панихидном столике Евангелие, крест и Требник.
— Ох, батюшка, забыли мы его. Вот земельку с могилки привезли, а свидетельство забыли. Да и благочинный ваш все знает. Мы с ним договаривались.
— Договорились так договорились, — сказал отец Стефан и возгласил: — Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
Подошла певчая. Голос ее умело вторил священнику. Милиционеры истово крестились, правда, один из них все путал правое плечо с левым. Кадило благоухало иерусалимским благочинническим ладаном. Служба шла торжественно, чинно и молитвенно.
По окончании богослужения окропил батюшка водой святой земельку с кладбища, возгласил «Вечную память» новопреставленному Николаю и обратился к пришедшим стражам наших дорог с пламенным, но кратким наставлением о том, что надобно всемерно молиться об усопшем, дорожить памятью о нем, и тогда в будущем веке Господь дарует новую встречу с дорогим человеком.
— Дорог он нам, святой отец, очень мы его любили, — сказал старший из офицеров, усиленно вытирая рукой глаза.
— Да, батюшка, может, и встретимся скоро, — добавил второй, опустив голову.
Это «скоро» было сказано с таким тихим придыханием, что отец Стефан тоже расчувствовался, и песня ему вспомнилась милиционерская: «Наша служба и опасна, и трудна…».
Проводил батюшка до машины офицеров, благословил их на дорожку и распрощался. Вскоре и благочинный материализовался, отца Стефана поблагодарил и домой отпустил.
* * *
Перед майором Фесенко с нераскаявшимися лицами предстояли два его собственных сотрудника, которые, откровенно ухмыляясь, выслушивали начальственный крик:
— Где вас носит?! Где объяснительные? Почему до сих пор с извинениями не съездили? Погон лишиться хотите?
— Да вы не орите на нас, товарищ майор, и угрожать не надо, — отвечал один из обвиняемых.
А второй тут же добавил:
— И разжаловать нас не получится. Вам от силы всего дня три жить осталось.
Глаза майора в неестественно распахнутом виде выровнялись на уровне лба.
— Это как понимать? — взревел начальник.
— Да очень просто, товарищ майор. Отпели мы вас в храме нашем Ильинском. Вот и земельку запечатали.
На стол начальника ДАИ был выложен мешочек с землей. И пока майор Фесенко обретал дар речи, один из стражей дорожной службы завершил:
— Это сколько же можно терпеть ваши издевательства?..
* * *
Отец благочинный, уставший от забот и обязанностей, к концу дня наконец-то первый раз за день поел и решил полчасика передохнуть.
Не получилось.
Ревя мотором, к приходскому домику отца благочинного подкатил громадный джип Mitsubishi, в просторечии — «гардероб». Из «гардероба» вылез крайне упитанный милиционер в майорских погонах и с узелком (земли) в руках.
— Где тут ваш самый главный поп? — громогласно вопросил страж местных дорог и улиц.
Майора Фесенко сопроводили к отцу благочинному, на которого и был обрушен весь поток профессиональных и не очень слов и предложений, смысл которых был краток:
— Ты зачем, такой-сякой, меня на кладбище отправил?!
Благочинный все понял. Винить некого. Сам виноват. Было ясно и то, что рассвирепевший майор никаких объяснений о суевериях не примет и ссылки на языческие традиции отвергнет. Выход был только один.
Виновато и смиренно выслушивая грозные причитания милиционера, отец благочинный взял его под руку и повел в храм, приговаривая:
— Вот же искушение какое! Да как же так…
Торжественно поставил гневного, но испуганного стража местных дорог у центрального аналоя, облачился и начал служить молебен о здравии раба Божия Николая.
В конце молебна благочинный высыпал земельку из узелка в горшочки с цветами, стоящие на храмовых подоконниках, а затем громогласно пропел «Многая лета», усердно окропил майора святой водой и убедительно заверил, что жить он будет.
«Это, братцы, не беда, а череда смирения»
Поселок городского типа, где отец Стефан настоятельствовал вот уже десятый год, по утрам покрывался сверкающим инеем арктического мороза, третью неделю испытывающего как местных прихожан, так и захожан вкупе с атеистами. Старики, кряхтя, вспоминали 50-е годы, когда, по их мнению, были такие зимы, что птицы от холода падали, а молодежь, рожденная во времена развитого социализма, сочиняла петиции в международные организации с просьбой отправить к ним на постоянное место жительства тех ученых, которые в последнее десятилетие предсказывали глобальное потепление.
Настоятель прекрасно понимал, что заготовленного на зиму угля катастрофически не хватает, поэтому практически ежедневно обивал пороги начальственных кабинетов на двух соседних шахтах. Главных аргументов отца Стефана в этих просительных переговорах было два. Первый — практический: «мы о вас, шахтерах, молимся, а вы нас заморозить хотите», а второй — мистический: «у нас в церкви знаменитый Шубин обитает, и если вы нам угля не дадите, мы ему об этом скажем».
Легенду о Шубине знают все горняки. Однажды в шахте проходчики под обвал попали. Горный мастер Шубин спустился их спасать, но не спас никого и себя погубил. С тех пор по штрекам ходит его дух. Он кашляет по-стариковски, у него ярко горящие глаза и волосатые ноги. Шубин любит шутить: пугает шахтеров, внезапно разразившись во тьме смехом, или хватает за ногу. Обитает он в дальних или в давно заброшенных выработках. Шубин — настоящий хозяин шахты. Он отличается добротой, щедростью и в то же время чрезвычайной раздражительностью, злобностью. Любит честных тружеников, но жесток и мстителен по отношению к наглым людям, особенно к угнетателям шахтеров. Помогает попавшим под завалы, но может под землей и сбивать людей с дороги.
Хоть и знал отец Стефан, что Шубин — особь от лукавого и поминать его не надо было бы, да из-за горестного предположения, что воду отопления церковного придется слить и храм до тепла прикрыть, пришлось ему данное суеверие вспомнить.
К священнику прислушивались, но с углем не торопились по причине того, что раньше уголек был государственный, и тонн десять батюшке не составляло труда отсыпать, а теперь за черным золотом акционер присматривает и не то что тонну, ведра дать затруднительно.
Пребывая в горестном раздумье, после молебна с искренней просьбой «Помоги, Господи!» подался отец Стефан в угольник приходской прикинуть, сколько топлива осталось. Мало осталось. Почти ничего. Дней на пять-шесть, не больше.
Кочегара церковной котельной батюшка еще на прошлой неделе рассчитал. Да тот и сам порывался уйти: мол, я топить должен, а не огонь поддерживать. Теперь за котлом, чтобы не потух, они вдвоем со сторожем следили.
Грустно разделил священник на «дневные порции» оставшееся черное золото и собрался уже уходить, как услышал странный хруст снега. Валенки и теплые сапоги прихожан так не хрустели; зверья, кроме приходского пса, не казавшего носа из будки по причине мороза, на территории отродясь не водилось, поэтому батюшка обернулся навстречу звуку в тревожном недоумении.
Обернулся и чуть не вскрикнул.
Пред отцом Стефаном стоял человек, повыше его ростом, голову и туловище которого покрывало байковое одеяло, придерживаемое впереди огромными красными руками. Ниже одеяла шли штаны, заканчивающиеся такими же огромными красными босыми ногами. Батюшка и сам был не маленький, но сейчас он почувствовал себя лилипутом пред лицом новоявленного Гулливера.
— Отец святой, — обратился Гулливер, — мне сказали, у вас тут кочегар уволился. Поставь меня на эту должность. Порядок будет.
Батюшка сначала даже не понял, о чем его просят, так экзотичен был вид невесть откуда взявшегося великана на босу ногу при тридцатиградусном морозе. Потом уразумел, с мыслями собрался и с горечью ответил:
— Взял бы. Топить есть чего, только вот нечем, — и горестно махнул рукой в сторону пустого угольного сарая.
— Найдем, чем топить, — без промедления ответил Гулливер и добавил, вернее, пропел на какой-то странный мотив: — Это, братцы, не беда, а череда смирения.
«Да он еще и блаженный, — подумал священник. — Юродивых мне только для полноты не хватало!» Подумать-то подумал, но решил Гулливера не гнать. Замерзнет ведь человек. Босой и в одном одеяле.
Пригласил незнакомца в сторожку, у плиты усадил, чая ему горячего налил, а сам в кладовку пошел, там у отца Стефана много всякой одежды хранилось. Родственники умерших от незнания, куда обувь и одежду почивших девать, в церковь ее приносили, так что выбор богатый был. Нашел батюшка громадные войлочные ботинки и пальто размера богатырского. Обрадовался, что нашел и христианское правило «одеть и обуть» выполнил, осталось только накормить.
Рано радовался. Незнакомец пальто с благодарностью принял, так как под одеялом у него оказалась только простая тонкая рубашка, да крест старообрядческой формы на гайтане в палец толщиной, а ботинки своими громадными ногами в сторону отодвинул.
— Я, отец священник, босиком всегда. Обет мой такой и правило такое, — и тут же спросил: — Ну что, возьмешь в кочегары?
Батюшка колебался. Всякое в голову лезло: «Уж не последователь ли Порфирия Иванова? А может, из больницы для сумасшедших сбежал? Или из милиции, а то и из тюрьмы?»
В ответ на эти мысленные сомнения Гулливер достал из штанов полиэтиленовый кулек, размотал его и положил на стол перед отцом Стефаном паспорт. Затем встал, перекрестился на иконы трижды, сказал «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешного» и степенно уселся напротив священника.
— Андрей, — священник прочитал в паспорте имя пришедшего, — да я не против кочегара и жить у нас можно. Тут ведь вся печаль в том, что уголь у нас заканчивается, топить нечем. Прихожане вон из своих домов по ведру таскают.
Андрей смотрел на священника с печалью и сокрушением, на каждое слово говорил «да, да, да», а потом опять повторил непонятное:
— Это, братцы, не беда, а череда смирения…
«Пусть живет», — решил отец Стефан. Показал новому жильцу и работнику, где инструмент, продукты и посуда находятся, рассказал, чем приходского Шарика кормить, и пошел собираться на шахту ехать. Уголь просить.
На следующий день родительская суббота была. Заупокойные службы прихожане любят, в храм много людей пришло, так что холодно не было, хотя трубы чуть теплые.
После панихиды отец настоятель попросил прихожан еще уголька пожертвовать, на завтрашний день воскресный, а там, глядишь, и привезут обещанный. Прихожане сочувственно головами кивали, но больше на нового большого и босого сомолитвенника смотрели. Андрей молча, справа, у иконы преподобного Серафима возвышался. Крестился да вздыхал.
— И откуда пришел этот страхолюдный? — спрашивали у батюшки, а тому и ответить-то нечего было; кроме паспортных данных он о своем кочегаре и не знал ничего.
Не расходились прихожанки долго, с крыльца смотрели, как Андрей босиком дрова на улице рубил, Шарика кормил, затем воду из колодца набирал. И еще бы стояли, перешептывались, да мороз сильный по домам разогнал. Единственное, что сообща верующие бабоньки решили, что этот юродивый одно из двух: или прозорливый, или урка какой-нибудь. Других вариантов у них не придумывалось.
В воскресное утро отец Стефан, еще когда только двери церковные открывал, что-то непонятное почувствовал. И точно, из распахнутых дверей на батюшку дохнуло уютным теплом, о котором прихожане после Рождества уже забыть успели. Трубы отопления были горячими, а на храмовых окнах даже прогалины появились. Настоятель бросился к угольнику с одной только мыслью: «Всё, последний уголь спалил, Гулливер несчастный!»
Зря грех на душу батюшка взял. В угольном сарае лежали все те же распределенные по дням «порции» топлива. «Может, принес угля кто?» — подумал священник, но в котельной было чисто, подметено и жертвенного топлива не обреталось. На вопрос настоятеля «Чем топил?» Андрей лишь хмыкнул, что-то пробурчал невнятно и в храм пошел.
Люди постепенно наполняли храм. Некоторые из них в санках уголек привезли, чтобы церковь протопить, и теперь недоумевали:
— Или отец Стефан за ночь где угля выпросил?
На следующий день в храме опять было тепло, в угольнике все на месте, а в кочегарке прибрано. Андрей, не говоря ни слова и ничего не спрашивая, справлялся с нехитрыми обязанностями сторожа, да по двору ходил, шепча что-то непонятное.
Разное за время священнического служения у отца Стефана случалось, но чтобы с приходом этого неизвестно откуда взявшегося человека в храме вдруг само по себе тепло появилось, такому действу объяснения в голове у настоятеля никак не находилось.
Через три дня отец Стефан не выдержал. Решил ночью в храм прийти, задачку с теплом церковным разгадать. Хоть и верил он в чудеса, но чтобы они каждую ночь повторялись, такого быть не могло.
Ночь лунная была. Мороз крепкий. Деревья потрескивали. Церковный двор пуст. На сторожке висел замок, котельная тоже заперта, и, самое главное, не было приходского Шарика. Собаку ночью отвязывали, но чтобы она куда-то с церковного двора уходила, да еще по такой стуже, подобного отродясь не случалось.
Отец Стефан обошел двор и около небольшой задней калитки увидел в свете полной луны ведущие в сторону кладбища следы санных полозьев, громадных человеческих ног и собачьих лап.
«Опять я в детектив какой-то попал», — решил отец Стефан. Перекрестился и пошел по четко видным ориентирам.
За кладбищем следы сворачивали влево, к лесопосадке, а за ней маршрут резко уходил вправо, к балке с промерзшим насквозь прудом.
Здесь-то чудо и стало обыкновенной реальностью. На крутом склоне, спускавшемся к водоему, под лунным светом размахивал громадной киркой великан и рубил уголек, пласт которого испокон века выходил здесь из глубины земной. Сухое лето воду сильно в пруду убавило, а суровая зима ее заморозила, вот и вышел уголек на поверхность.
Рядом с великаном находились громадный пес и большая телега. Лишь подойдя поближе, отец Стефан понял, что это полнолуние превратило Андрея в исполина, приходского Шарика в фантастическую собаку, а небольшие сани во внушительную повозку.
С первым теплом засобирался Андрей. На вопрос настоятеля «Куда идешь?» махнул рукой в сторону дороги и благословения попросил. Его все прихожане провожали, а некоторые, по секрету скажу, даже у Андрея благословения просили. Тот же мелко их щепотью крестил да раз за разом повторял: «Это, братцы, не беда, а череда смирения».
Экзамен с псевдонимом
Отца Стефана вызвали в епархию, и сам митрополит вручил ему направление на учебу в духовную академию. Выдавая бумагу с большой печатью, увенчанную крестом и заканчивающуюся размашистой, на весь низ страницы архиерейской подписью, владыка лишь добавил:
— Быстро собрать документы и чтобы завтра был в поезде.
Возражения о том, что колокольня не достроена, художник сбежал вместе с авансом, а Сергей Иванович продолжает создавать приходскую оппозицию, во внимание не принимались.
— Не выдумывай, — отрезал любимый владыка и, сменив строгий самодержавный взгляд на более знакомую и привычную улыбку, заключил: — Это же надо, пресс-центр епархиальный возглавляет, все про всех знает, а в академии учиться не желает… Всё. Разговор окончен. — И, размашисто перекрестив удрученного настоятеля, владыка выпроводил его из кабинета.
На следующий день хмурый отец Стефан возлежал на второй полке купейного вагона и пытался уснуть под равномерный перестук колес скорого поезда.
Не удавалось. Сначала все мысли не выходили за пределы собственного прихода. Затем ниже расположившиеся попутчики упорно приглашали разделить с ними трапезу и поговорить о Боге, Который у них есть в душе. Батюшка ласково, но наотрез отказался, за что и был наказан слушанием двухчасовой беседы о современном состоянии Церкви и моральном облике разъезжающих на мерседесах попов. Наконец, допив последние сто грамм, соседи угомонились и захрапели. Именно под этот храп отец Стефан с ужасом сообразил, что для поступления в академию надобно вообще-то экзамены сдать. Причем поступить надо без сомнений и строго обязательно. Иного варианта просто не существует. Представить себе недоумение архиерея и его стандартную характеристику, в подобных случаях всегда заканчивающуюся разочарованным взмахом руки и определением «пенек», отец Стефан еще мог, но вот реакция на приходе при подобном плачевном развитии событий будет куда страшнее.
Дело в том, что местный сельский богослов и ревнитель благочестия Сергей Иванович, которому когда-то пророчили священнический сан и настоятельство, чего он так и не удостоился по прозаической, но канонической причине первого и второго неудачного опыта семейной жизни, всегда подчеркивал, что отец Стефан к последним временам относится наплевательски, всеобщей апостасии не видит и святых отцов не знает.
Остаться в ранге провалившегося абитуриента отцу Стефану никак нельзя, ибо это станет главным аргументом Сергея Ивановича в их постоянном приходском богословском диалоге, свидетелями которого, а часто и участниками, были все прихожане, включая девяностолетнюю, плохо видевшую и практически ничего не слышавшую бабу Марфу.
Семинарию батюшка окончил давненько, да и последний год заочно учился, так что многое уже подзабыл. Хоть и говорят, что у священника целибата времени «воз с прицепом», но за приходской стройкой, воскресной школой, хозяйственными заботами и постоянными епархиальными заданиями книжки по догматике вкупе с нетленками святых отцов открывались крайне редко. Правда, пару лет назад наладил себе отец Стефан интернет, но там у православных все больше новости обсуждают, да споры спорят, кто благодатней и спасительней.
Часам к двум ночи батюшка сообразил, что он ничего не знает, как сдавать экзамены, не понимает, и вообще, что он не только «попал», но и, по всей видимости, «пропал». В голове крутились Миланский эдикт, Непорочное Зачатие, апокатастасис[5] и владычное определение «пенек». Более умных мыслей не возникало.
Документы в заочном секторе приняли быстро, хотя и посетовали, что можно было бы и раньше их принести, а не в последний день перед экзаменами. На вопрос отца Стефана, по каким предметам экзаменовать будут, последовал быстрый ответ: «По всем. Готовьтесь, батюшка. На первый курс только пятьдесят душ примем, а вы уже семьдесят шестой по счету…»
Этот «семьдесят шестой» окончательно расстроил новоявленного абитуриента, и, пребывая в состоянии полного пессимизма и уныния, отправился отец Стефан искать место, где главу преклонить в последнюю ночь перед нежданным испытанием.
Место нашлось в священнической гостинице, где в каждом номере выстроились в два ряда десять коек, разделенных тумбочками и столом с электрочайником. Батюшке показалось, что он бывал здесь раньше. По давней привычке, начал отыскивать тумбу с дневальным, но на положенном ей месте увидел киот с иконами, аналой с епитрахилью и понял, что это не знакомый кубрик во флотской казарме, в котором он провел когда-то три года, а гостиница.
К вечеру комната заполнилась иными соискателями академического места, причем каждый из них неизменно вопрошал:
— Чего сдавать будем?
И получал стандартный ответ:
— Всё!
В книжной лавке купил отец Стефан тоненькую книжицу с избранными лекциями по догматике, решив, что на больший фолиант времени все равно не хватит, да и вообще неизвестно, о чем спрашивать будут. Лекции не читались, мысли отсутствовали, да и в комнате священническая рать гоняла чаи с вечными поповскими разговорами о том, кто и где служит, кого куда перевели и где подешевле облачение приобрести.
Утром желающие получить гордое звание «академик» собрались у крыльца семинарско-академического корпуса и выслушали напутственное слово епископа-ректора, который объявил, что в трех аудиториях на втором этаже их с нетерпением ждет преподавательский состав. Именно там, в обстановке христианской любви и взаимопонимания, гранды академического богословия побеседуют с ними на темы догматики, литургики и церковной истории и определят тех, с кем им придется часто встречаться в ближайшие четыре года.
Отец Стефан откровенно нервничал. Впрочем, было заметно, что и собратья его по экзаменационному испытанию тоже волновались.
В первой аудитории, куда зашел батюшка, проверяли знания по догматическому богословию, что, по мнению всех без исключения абитуриентов, было самым непредсказуемым и тяжелым испытанием. Мнение мнением, но реальность оказалась вполне приемлемой для нашего священника. Спросили у него то, что когда-то в семинарские годы ему четко и на всю жизнь втолковал старенький, переживший все церковные перипетии последних пятидесяти лет протоиерей.
Окрыленный успешным началом, батюшка без задержки перешел в следующую аудиторию, где беседовали о литургике. Для отца Стефана, который вот уже десятый год служил, часто исполняя не только обязанности священника, но и регента с псаломщиком одновременно, ответить на вопросы о расположении кондаков, порядке тропарей и последовательности литургии труда не составило. Можно сказать, что испытание на знание богослужения закончилось к взаимному удовлетворению спрашивающих и отвечающего.
Экзамен по церковной истории отца Стефана не волновал. Любил он историю как таковую вообще, а церковную особенно, да и на форумских баталиях в интернете обсуждения всех исторических тем не проходили без его участия. Более того, именно там, в историческом разделе самого крупного православного форума, был отец Стефан модератором — тем, кто за порядком в дискуссиях следил, нарушителей правил гонял, а случалось, и «банил», то есть вход на форум закрывал.
Окрыленным и уверенным предстал батюшка перед тремя преподавателями, один из которых показался ему знакомым, но, заметив на рясе экзаменатора епископскую панагию, отец Стефан решил, что видел молодого архиерея в прессе или на телевидении. С него-то, епископа этого, вся катаклизма и началась…
Внимательно посмотрев на отца Стефана, епископ открыл папку с его документами, чему-то улыбнулся и задал первый вопрос, потом второй, третий… десятый. Казалось, это испытание никогда не прекратится. Остальные члены экзаменационной комиссии недоуменно смотрели на своего коллегу, который гонял опешившего священника по всему разделу, начиная от первых апостольских времен и заканчивая современной историей африканских Церквей. Он не только гонял, но еще и сокрушенно вздыхал, победоносно констатируя: «И вот такие неподготовленные священники окормляют нашу боголюбивую паству!» Отец Стефан пытался отвечать, но когда амплитуда вопросов стала раскачиваться от альфы до омеги всех исторических знаний, растерялся, стушевался и замолчал…
Последним словам епископа о том, что надобно знать церковную историю не на уровне форумных интернет-баталий, отец Стефан не придал значения. Он просто понял, что положительной оценки, как и духовной академии, ему не видать.
В большом актовом зале академического корпуса собрались все кандидаты в студенты. В предпоследнем ряду, в углу сидел насупленный отец Стефан. Сидел и сочинял формы объяснения своего непоступления. Для владыки, для соседей-священников, для прихожан с Сергеем Ивановичем.
После вступительного слова начали зачитывать список пятидесяти зачисленных, предупредив, что все, кто не вошел в число поступивших, должны покинуть помещение.
Батюшка застегнул свою походную сумку, надел скуфейку и приготовился уйти, тем более что его фамилия была по алфавиту одной из первых.
Одной из первых она стала и в списке студентов духовной академии. Ничего не понимающий отец Стефан на автопилоте слушал информацию о консультациях, сочинениях и семинарах… В голове был ворох несогласных между собой мыслей: «Ведь я же не сдал историю! Мне ведь сказали, что такому, как я, даже опасно быть священником».
В деканате заочного отделения отцу Стефану выдали вопросы на будущие экзамены первого семестра, разъяснили, когда приезжать, где жить и кому сдавать, а затем отправили в соседнюю комнату к ректору.
Вместе с главой семинарии и академии сидел за столом и архиерей, столь «полюбивший» нашего батюшку на экзамене по церковной истории. Мирно сидел. Улыбаясь. А затем, повернувшись к отцу Стефану всей своей епископской сущностью, дружелюбно сказал:
— Позвольте представиться, отец Стефан. Участник вашего форума Глеб.
— Глеб? — Глаза батюшки не только стали круглыми, они вообще отказывались четко передавать происходящее. — Так это я вас…
— Именно, именно, — продолжил епископ. — Именно вы и закрыли мне вход на форум, то есть «забанили» по-вашему, из-за спора византийского.
Как библейский соляной столп, молча возвышался над двумя хохочущими епископами отец Стефан. Да и что он мог произнести? Лишь одни междометия.
Вместо отца Стефана владыка ректор слова последние молвил:
— Поздравляю, отче, с зачислением. Надеюсь видеть в вашем лице не только принципиального модератора форума, но и достойного студента. А вам, ваше преосвященство, — добавил с улыбкой ректор, обращаясь к епископу-историку, — все же надобно под своим именем в интернет выходить, а не псевдонимы использовать.
Историческое открытие
Отец Стефан своего правящего архиерея видел нечасто и не потому, что придерживался старого солдатского (и поповского тоже) правила «подальше от начальства, поближе к кухне», а из-за того, что из родных палестин до епархиального управления было без малого полторы сотни километров, из которых половина грунтовка. В прошлом году летом владыка приезжал на престольный праздник. Литургию отслужил, слово свое святительское сказал и каждого прихожанина расцеловал. Да и как не расцеловать, если прихожан в наличии на архиерейской службе было всего двадцать две души?
В алтаре, конечно, многолюдно. Окрестные священники съехались, да свита архиерейская к числу служащих прибавилась. В храме же свободно. Бабушки да дедушки с тремя представителями молодого поколения, непонятно почему из села не уехавшими, много места не занимают.
В соседнем с храмом доме приготовили для владыки и гостей трапезу. Как вспоминают старожилы, в последний раз такой богатый стол еще при советской власти накрывали. Аккурат на майские праздники, когда высокое начальство им знамя победителей социалистического соревнования вручало. Сегодня областные чиновники вкупе с районными о наличии данного села вспоминали редко, и если бы не храм с его воскресными и праздничными службами, да неугомонным настоятелем, обивающим пороги местных государственных учреждений, забыли бы о нем напрочь.
На обеде праздничном рассказали прихожане своему «владыченьке», что в километре от храма криница[6] есть. Вода в ней удивительная, целебная и святая.
— Это почему же святая? — удивился архиерей.
— Так там еще до колхозов часовня была, к ней вся округа ездила, — разъяснил дед Федор, исправляющий на приходе все должности, кроме настоятельской. — В той балочке, дорогой владыка, — продолжил дед, — на Пасху да на Преполовение всегда служилось, и архиереи туда частенько заезжали. Я-то еще мальцом был несмышленым, плохо помню, а вот отец мой рассказывал, что воду эту даже в столицу самому царю возили.
— Так уж и самому царю? — засомневался архиерей, но, подумав, обратился к настоятелю: — Ты, батюшка, разузнай, что это за родничок такой знаменитый. Смотришь, и у тебя источник духовный расцветет.
Отец Стефан благословение архиерейское на «потом» откладывать не стал, по окрестным селам целый розыск учинил и в конце концов на местного краеведа-архивариуса вышел. В отличие от районного музея, где, кроме каменных скифских баб, фотографий времен прошлой войны, а также орденов и биографий передовиков сельского хозяйства, никаких документов не осталось, в домашней коллекции краеведа батюшка почти все нужное нашел. Была тут и карта, где место криницы крестиком помечено с надписью «Святой источник».
Видя, как искренне радуется священник, краевед, отнесшийся изначально к его визиту скептически и с опаской, удивленно хмыкнул и сказал: «Счас, погоди».
Это «счас» длилось минут десять, и перед опешившим отцом Стефаном оказалось несколько пожелтевших, наклеенных на картон фотографий его собственного приходского храма. Под снимками ясно читалось: «1912 год». Нашлось среди них и изображение небольшой беседки с крестом вверху, рядом с которой стояли несколько офицеров и светских дам.
На батюшкин вопрос «Это что, наш источник?» краевед утвердительно кивнул и, видя сомнение в глазах собеседника, еще раз сказал: «Счас».
Сил для нового удивления у отца Стефана уже практически не осталось, и когда перед ним появилась подшивка «Клировых ведомостей» начала прошлого века и метрическая книга его родного прихода тех же лет, он лишь смог произнести банальное: «Ух ты!». По документам выходило, что дед Федор был прав во всем, даже в том, что по благословению архиерейскому воду из этой криницы в Санкт-Петербург действительно отсылали.
Батюшка тут же засобирался в епархию. Да вот беда — краевед, несмотря на уговоры священника, съездить вместе с этими находками к владыке наотрез отказался, а копии сделать не разрешал. Пришлось прибегнуть к главному аргументу. Отец Стефан заверил местного историка и хранителя фактов и артефактов, что это историческое открытие будет обязательно обнародовано с указанием имени первооткрывателя во всех СМИ, включая интернет. Данное заявление подействовало неотразимо. В областной центр батюшка и краевед с документально-историческими сокровищами отправились вместе.
Пришел черед удивляться правящему архиерею. Правда, удивление владыки сочеталось с сугубым прагматизмом административно-пастырского характера. Изначально он поинтересовался, отслужил ли отец Стефан благодарственный молебен после столь грандиозного открытия. Объяснение, что не было времени, так как сразу в епархию поехал, владыка воспринял скептически и объяснил настоятелю, что Бога благодарить надобно за всякую милость, пусть даже самую незначительную, и одного «спаси Господи» никак не достаточно.
Пока в домовом епархиальном храме батюшка с архиерейским келейником служили молебен, владыка поил краеведа чаем с вареньем и пирогом. Местный архивариус и хранитель артефактов был настолько поражен необычностью обстановки и уважительным отношением к его персоне, что внутренне уже согласился предположить, что Бог все же существует. Это предположение начало переходить в уверенность, когда архиерей легко разобрался в предоставленной карте и стал бегло читать записи в метрической и приходской книгах, которые сам краевед расшифровывал с трудом.
В архиерейской приемной перед возвратившимся с молебна отцом Стефаном предстала невиданная картина: во всю длину и ширину стола, за которым обычно собирался епархиальный совет, были расстелены две карты — архивная и современная; над ними склонились две головы, горячо доказывающие друг другу свое видение данной местности в ракурсе только что совершенных исторических открытий. Причем обладатели этих голов обращались друг к другу на «ты», позволяли себе горячо спорить и давать определения типа «Ничего ты не понимаешь!». Если бы не разные одеяния и прически, батюшке трудно было бы и определить, кому доложить о выполненном послушании.
Архиерей поднял голову и жестом пригласил отца Стефана присоединиться к окончательному разрешению архивных коллизий. Оказывается, на источнике действительно была часовня, к которой когда-то шел и стар и млад. Это неоспоримо доказывалось документами и свидетельствами. Вот только не на Пасху собирались там священники и верующие, а в Лазареву субботу, потому что сохранилось предание, будто воскресила та удивительная родниковая вода единственного сына вдовы, когда везли его на телеге уже на кладбище… Вырос тот сын и, испросив благословения у тогдашнего епископа, поставил на месте криницы часовню, освященную в честь праведного Лазаря Четверодневного.
Года лихие военные да голод советских времен жителей тех мест — свидетелей прошлого — практически всех уничтожили. Предания забылись, факты растерялись, а храмы порушились.
— Видишь, батюшка, — обратился владыка к отцу Стефану, — кабы не тот мой приезд, да служба на приходе вашем, да обед, которым меня старики твои угостили, так бы и не узнали мы о святыне этой. Согласен со мной?
— Согласен, владыка святый, — ответствовал священник. — Промысл Божий.
За их диалогом внимательно наблюдал краевед, пытаясь понять, о каком таком обеде идет речь и что это за штука такая «промысл». Впрочем, удивляться он уже перестал по причине того, что все происходящее никак не укладывалось в его сугубо материалистическое сознание, давшее в этот день внушительный крен в сторону религиозного идеализма православного толка. Краевед пока понял только то, что его многолетний труд, от которого отмахивались все, начиная с жены и заканчивая местной властью, не только нужен, но просто необходим, востребован и будет сохранен.
Да и как не понять, если архиерей сказал, что все эти исторические материалы будут опубликованы, а батюшка должен добиться, чтобы церковная земля у святого родника была возвращена законному владельцу. Документы, как говорится, к этому требованию прилагаются.
В следующий свой приезд в областной центр отец Стефан направился в самый главный и большой государственный дом с колоннами. В доме этом последние сто лет при любой власти всегда всякие руководители обретались. Флаги над домом менялись, гимны разные в нем звучали, в кабинетах счеты заменились арифмометрами, затем компьютерами, а начальство как сидело по комнатам и залам, так и нынче сидит, даже в большем количестве. Долго бродил священник от одной двери к другой, читал солидные и грозные наименования руководителей и отделов, размышляя, куда же ему обратиться.
Все разъяснила пожилая женщина, которой батюшка вкратце объяснил, в чем собственно состоит его дело.
— Так это в земельный отдел, — подсказала она и указала нужную дверь.
В земельном отделе все были заняты рассматриванием бумаг и компьютерных мониторов, но все же длинноволосый священник в рясе никак не вписывался в чисто светский конторский интерьер, поэтому вскоре раздалось стандартное:
— Вы по какому вопросу, святой отец?
— По земельному, — откликнулся батюшка, обернувшись к молодому человеку.
— Какой район? — спросил чиновник.
Батюшка назвал район и село.
Молодой клерк долго выстукивал на клавиатуре дробь данных, а потом странно посмотрел на пришедшего попа и, поняв, что тот не шутит, ответил:
— Такого поселения в вашем районе нет.
Пришел черед удивляться батюшке:
— Это как же нет?
Дальше события развивались по сценарию, который в данном кабинете никто предположить не мог. Отец Стефан решительно придвинул к клерку стоявший рядом пустующий стул, уселся на него и так же безапелляционно взял у обомлевшего чиновника бразды управления компьютером. Быстро набрал в поисковой строке «Яндекс-карты», перешел в спутниковый режим, приблизил картинку и указал на две родные улочки с тремя десятками хат:
— Вот мое село! А вот это храм!
У стола с восседающим перед компьютером священником собрались все областные земельные ресурсы в лице начальников и их помощников. Да и как не собраться? Если, во-первых, поп за компьютером, а во-вторых, нашлось село в области, которого по документам не существует…
История с получением документов на землю рядом с поселением, которое нигде не значится, могла перейти в стадию долгой переписки, согласований и разбирательств, но на очередном областном празднике, куда пригласили и правящего архиерея, владыка взял и рассказал областному начальству об истории с криницей. Дело сразу приняло позитивное направление. И не только направление.
В областной газете появилась статья о новом удивительном историческом месте родного края; на телевидении батюшкин краевед дал интервью о своих находках и открытиях, а на месте криницы была быстро построена часовенка — такая же, как на архивном фото.
В Великий пост отец Стефан пригласил владыку к себе на приход в Лазареву субботу.
— Приезжайте, владыка, литургию отслужим и часовню на кринице освятим.
— Приеду, — с улыбкой пообещал архиерей, — готовься.
— Вот только, владыка, немного распорядок вашей службы изменить придется, — продолжил священник.
— Это почему же? — не понял архиерей.
— Так вы в прошлый раз расцеловали всех молящихся, а теперь их много, не получится…
Батюшкин сон
Верующим людям известно, что каждый наш сон из трех источников происходить может. Первый — нечастый, добрый, раздумья вызывающий и лишь со временем понимаемый, — от Бога; второй, регулярно нас беспокоящий, со страхами и ужастиками, — от лукавого; третий же, как святые отцы свидетельствуют, от «любезного для всех и лукавого владыки чрева»[7], то есть от желудка, исходит.
Отец Стефан данный богословский изыск знал, всецело его поддерживал и частенько в приходских беседах использовал, так как милые сердцу прихожанки вопросы типа: «Ох, батюшечка, сон мне приснился непонятный» — задавали чуть ли не по графику. Причем количество подобных вопрошений всегда строго от календаря церковного зависело. Как только пост Великий в полную меру вступал, так сны имели свойство преумножаться.
Священник для себя такую закономерность следующей теоремой определил: днем за собой сами присматриваем, грешить стараемся поменьше, да и молимся в пост больше, чем в дни скоромные. То есть лукавого от себя отгоняем и силы ему на пакости всякие не даем. Ночью же это отродье, видя нашу постельную беспомощность, нас и атакует смущениями разными да картинами прелестными.
Теорема, конечно, неплохая и вполне правдоподобная получалась, да вот только в этом году никак она с самим отцом Стефаном не согласовывалась. Дело в том, что не успел пост начаться, как стал батюшку сон донимать, причем один и тот же, только с деталями разными.
Знал отец Стефан, что подвижники веры и благочестия советуют сны свои при себе держать, никому о них не рассказывать, чтобы окружающих в смущение не вводить, но когда в очередную ночь опять тот же сонный ролик повторился, не выдержал батюшка. Решил к духовнику поехать.
Духовник жил далековато. Почти у границы с сопредельным восточным государством приход его располагался. Село небольшое, но с храмом. Церковь во времена не столь далекие выстояла по причине того, что местному колхозу лень было новый амбар для хранения зерна и прочих сельхозпродуктов сооружать, а просторный каменный храм все в себя вмещал. Как только времена изменились и под крышей церковной молитва зазвучала, колхоз приказал долго жить, и вскоре энергичный, хотя и немолодой уже настоятель первоначальный вид храму вернул и рядом церковный домик соорудил с крестильней и трапезной.
Энергичного делателя на ниве духовной в епархии приметили, в сане повысили, а вскоре и в духовники его местное священство избрало. Именно к нему, в село дальнее отец Стефан и направился.
Духовник был в храме. С двумя прихожанками беседовал. Увидел отца Стефана и обрадовался. После того как поздоровались да расцеловались, пригласил духовник и нашего батюшку к разговору.
— Ты вот послушай, чего мне тут рассказывают.
Грустный отец Стефан, весь в мыслях о своих непонятных и настырных снах, не сразу переключился на иную тему, но когда разобрался, о чем толкуют женщины, немного от грустных раздумий отвлекся.
Просили прихожанки у духовника ветки вербы, которые, по их мнению, с прошлого Вербного воскресенья в церкви должны целый год неукоснительно храниться. На утверждение отца Петра (так духовника величают), что не осталось у него данных веток годичной давности, женщины внимания не обращали, вернее, словам священника абсолютно не верили.
— Батюшка, — категорично заявила старшая из них, — вы нам тут сказки-то не рассказывайте. Грех это! Во всех канонах давным-давно прописано, что верба эта год после Входа Господнего храниться в церкви должна. Вам ли, старому священнику, не знать! Видно, вы себе бережете…
Младшая из просящих была менее радикальна. Она просто умиленно смотрела на настоятеля и раз за разом повторяла:
— Дайте хоть пару веточек, батюшечка! Жалко вам, что ли? Мы их в общий пучок вложим и дело сделаем.
Отец Стефан никак не мог взять в толк смысл необычной просьбы, но в разговор все-таки встрял:
— И зачем вам эти праздничные старые ветки? Через три недели, даст Бог, доживем и новые освятим…
Старшая укоризненно посмотрела на чужого священника, взглядом оценила его молодость и, решив, что не перед кем ей тут объясняться, отмахнулась, мол, вы тут еще мешаете…
Разъяснил сам духовник.
— Понимаешь, отец, кур они решили на Благовещение вербой этой погонять.
— Каких кур? — не понял отец Стефан.
— Своих да соседских, — продолжил духовник. — Доказывают мне, что если вербой, которую мы в прошлом году освящали, утром на Благовещение куриц вместе с петухами погонять хорошенько, то они к Пасхе яиц нанесут несметное количество.
— Вот именно, отец Петр, много нанесут, — констатировала старшая прихожанка и добавила: — Вам же да детишкам вашим разговляться принесем.
Отец Стефан уже намеревался сказать горячую проповедь о языческом происхождении данных верований, но был остановлен властным взглядом духовника.
— Так, сестры мои дорогие, — решительно ответствовал духовник, — помните, в прошлом году после службы на праздник к нам целый автобус детишек из детского дома привозили?
— Помним, как не помнить? — затараторили обе женщины. — Обед мы им тут при храме готовили.
— Вот, — продолжил отец Петр, — им-то я все, что осталось с освящения, и раздал. Ничего не оставил. Уж простите.
Данное объяснение подействовало. Переглянулись прихожанки, головами покивали, повздыхали. Видно, ребятишек этих горемычных вспомнили. Попросили благословения, да и ушли…
— Вот, отец Стефан, двадцать пять лет при этом приходе, и как ни пытаюсь эти поверья искоренить, не получается, — посетовал духовник. — То ветки им вербные подавай, то сны расшифруй.
Отец Стефан даже ойкнул от неожиданности и покраснел:
— Так я это, отец Петр, тоже ведь со сном собственным.
Пришел черед удивляться духовнику. Не ожидал он, похоже, такого коленкора. Знал священник, что отец Стефан человек образованный, начитанный, проповеди говорить умеющий и к приметам всяким, поверьям и прочему сугубо народному околоправославному творчеству непримиримый.
— Это как же, отче, со сном-то? — сокрушенно глядя на отца Стефана, спросил духовник. — За шестьдесят километров приехал мне сон рассказать? И чего же такое тебе приснилось?
— Да я уже, батюшка, спать ложиться боюсь, — начал рассказывать отец Стефан. — Каждую ночь снится, что еду я на машине на службу, но по другой дороге. Храм мой в стороне остается. Понимаю, что не туда еду, но повернуть не могу. Забор какой-то длинный каменный по левую сторону, а потом здание большое, на церковь непохожее, но с большим крестом на крыше. Встречают меня люди незнакомые, вовнутрь ведут, в зал большой, а в конце зала возвышение какое-то. Я туда захожу, а там за ширмой престол стоит с крестом и Евангелием. Понимаю, что это алтарь, и ищу место, где жертвенник должен стоять. Нахожу, но он далеко-далеко, к нему идти надо долго, а пол под ногами гнется и проваливается. Понимаю, что надо мне службу начинать, а ни алтарника, ни пономаря — никого нет. Да и в голове постоянно вертится мысль: «Чего я тут делаю, меня же на приходе ждут?» И вот так, отче, каждую ночь одно и то же, — закончил отец Стефан.
— Да, батюшка, интересно рассказываешь, — задумчиво произнес духовник. — Тут тебе и крест, и алтарь, и Евангелие, и службу творить надобно.
— Да в том-то и дело, отец Петр! — искренне воскликнул священник. — Отмахнулся бы я от сна этого, мало ли что снится, но ведь одно и то же, постоянно. Я уже и бояться начал.
Духовник решительно надел на рясу епитрахиль и пригласил отца Стефана в алтарь.
— Давай-ка, отче, грехи твои вспомним. Хоть и исповедовался ты недавно, но может, что запамятовал или в чем неискренен был.
Встал на колени пред престолом отец Стефан, руки на Евангелие положил и голову на них склонил. Постарался припомнить все греховное, что в себе находил.
После исповеди, уже за чаем с сушками сказал духовник и слово свое, к проблеме отца Стефана относящееся:
— Ты, батюшка, постарайся все же о сне меньше думать. Бога об этом попроси. Дни сейчас постовые, нелегкие, на искушения богатые, так что к молитве почаще прибегай. Думаю, что разъяснится все вскоре.
Затем, подумав немного, добавил:
— И все же крест тебе снится, Евангелие, алтарь… Ох, на всё воля Божия.
На этом и распрощались. Хоть и не сказал духовник ничего конкретного, но как-то спокойнее стало на душе отца Стефана, да и сон с того дня прекратился.
В службах и заботах весенних пребывал священник, к светлому Христову Воскресению вместе с приходом готовился. Неожиданно перед самым вербным праздником, который Входом Господним в Иерусалим правильно именуется, вызвали отца Стефана в епархию. Обычно в дни эти к архиерейскому оку не приглашают. Страстная седмица да сама Пасха административные епархиальные заботы в сторонку отодвигают. Поэтому с волнением ехал отец Стефан в областной центр, перебирая в голове все возможные и невозможные причины данного вызова. Кажется, все по полочкам разложил, все варианты обдумал, но никак не предполагал, что едет развеять свою недавнюю тревогу.
В епархии ждать долго не пришлось. Отца Стефана тут же в кабинет архиерейский пригласили. Владыка встретил с улыбкой доброжелательной. О делах приходских расспросил, за усердие поблагодарил, а затем и главное сказал:
— Я понимаю, отец Стефан, что перед Пасхой хлопот предостаточно, но я тебе еще добавлю. Недалеко от твоего прихода завод был кирпичный и поселок при нем. Просят меня жители поселка этого, чтобы на Христово Воскресение служба там была. Они клуб под храм уже приспособили. Ты, пожалуйста, туда съезди, престол там освяти на Страстной седмице, а на Пасху и службу соверши.
Отец Стефан растерялся:
— Владыка святый, а как же у меня на приходе? Там-то кто будет? Вы меня навсегда переводите?
Архиерей подошел к совершенно расстроенному священнику, руку ему на плечо положил и успокоил:
— Ты, батюшка, не печалься. Никто у тебя приход не забирает, а вот помощника дельного, служить умеющего и тебя любящего, ты получишь.
И архиерей назвал священника, которого отец Стефан не то что знал, а сам его лет пять-шесть назад в семинарию рекомендовал.
* * *
Дорога в поселок, где некогда работало громадное строительное предприятие, была вся в ямах и колдобинах. По левую сторону долго тянулся серый длинный каменный заводской забор. На центральной площади, за дежурным памятником Ленина, простирающего руку в сторону брошенного завода, стояло здание бывшего клуба, на фасаде которого был сооружен большой, покрашенный зеленой краской деревянный крест.
Священника обрадованно встретили. Повели вовнутрь. Просторный зал, где раньше показывали фильмы, проводили собрания и смотрели концерты художественной самодеятельности, заканчивался, естественно, возвышением — сценой с занавесом.
Батюшка поднялся наверх, отодвинул занавес и обомлел. В центре сцены стоял престол. На нем лежали крест и Евангелие. В дальнем левом углу расположилась тумбочка, приспособленная под жертвенник.
Когда отец Стефан направился от престола к жертвеннику, доски пола под ногами прогибались и потрескивали…
Хорошо, что один батюшка в алтаре был. Никто не видел, как он плакал. Хотя и радостными эти слезы были.
Козлиная история
От Кузьминок до шахты 2-бис автобус редко ходит. Два раза в день. Да и кого возить? Кузьминки почти вымерли, а шахта после очередных экспериментов с реформированием угольной промышленности на честном слове держится.
Известно, что чем беднее сельский народ живет, тем больше в его хозяйстве коз обретается. Животное нетребовательное, можно сказать, даже маловредное по причине своей неприхотливости и полного отсутствия претензий на комфортное жилищное обеспечение. Оно везде жить может. Есть, правда, два негатива: лезет вечно туда, куда не надо, да воняет изрядно. Но пользы от коз все же несравнимо больше, чем вреда.
К козам, естественно, козел нужен. Иначе стадо не увеличишь. Поэтому хороший козел всегда в цене и постоянно востребован. Такой у бабы Анны в Кузьминках был. Обычно его сами «на дело» забирали, но нынче попросили привезти из-за неимения транспортного средства и дороговизны бензина. Именно поэтому и стояла баба Анна с козлом на поводке на автобусной остановке, ожидая с немногочисленными попутчиками положенного рейса.
Водитель автобуса, увидев бабку с бородатым и рогатым козлом, изначально наотрез отказался от данного пассажира, но затем, ввиду слез старушки и народного заступничества, сменил гнев на милость.
Баба Анна, получив согласие, скромно, но с достоинством уселась на сиденье, предварительно запихав под него козла. Козел вел себя вполне прилично. Он тут же уснул, и если бы не амбре, струящееся из-под сиденья, о нем бы скоро забыли.
Да, видно, день такой выдался, что забыть не удалось. По пути к шахте автобус еще несколько остановок сделал и пассажирами окончательно заполнился. За бабой Анной уселся не кто иной, как отец Стефан, настоятель поселка городского типа и окрестных деревень. Батюшка направлялся на шахту выпрашивать очередную шефскую помощь, поэтому был не в своем обычном рабочем, выцветшем на солнце подряснике, а в недавно приобретенной рясе, на которой красовался новый, золотом блестящий наперсный крест.
С отцом Стефаном уважительно здоровались, а некоторые, увидев рясу с крестом, и крестились, чем несказанно смущали батюшку. Это смущение он относил к своей пастырской недоработке: не объяснил людям, что, видя священника, крестом себя осенять не надобно — он не икона и далеко не образец святости.
Автобус, произведенный во времена развитого социализма, на многочисленных дорожных ухабах тарахтел всеми своими составными частями и к пункту назначения ехал долго. Пассажиры, как обычно, рассуждали о дороговизне, никчемных местных руководителях и непутевой молодежи, причем говорили громко, с желанием, чтобы и попутчик-священник в разговор вступил.
Отец Стефан решил помолчать и ограничиться вздохами и сочувственным видом. Не будешь же в автобусе нравственным богословием заниматься, да еще таким, при котором обязательно кого-то осудить надо и чье-то мнение поддержать. Агрессивное миссионерство в нынешние планы батюшки никак не входило, тем более что в кабинеты ему сегодня стучаться, где эти самые молодые руководители сидят; без них зимой в храме топить будет нечем.
Вовремя вспомнилось священнику, что в кармане подрясника книжица недочитанная лежит. Ее и раскрыл…
Автобусные диалоги отошли в сторону, дорожные ухабы стали мягче, и даже грохочущие миноры умирающих рессор не резали слух. Священник погрузился в интересное, доброе и размеренное повествование о византийских древностях и богобоязненных подвижниках. Как на вечерне «Свете тихий» утихомиривает пришедший на службу народ, создает иную, неотмирную реальность, так и книга увела отца Стефана из душного полуразбитого автобуса в другое время, где начальство благочестивое, молодежь послушная, и вопрос цен никого не волнует.
Вот только стал донимать батюшку запах странный. Нечеловеческий. Стойкий и крайне неприятный. Если бы в книге рассказывалось об адских муках или гоголевских рогатых сущностях, то отец Стефан и не удивился бы, но тут ведь все о мудрости старцев да о помощи святых говорится. Откуда же такие ассоциации?
Батюшка огляделся. Впереди в чистеньких платочках сидели две старушки, которых он прекрасно знал, сбоку и сзади расположились едущие на работу горняки, от которых до работы подобным ароматом никак пахнуть не может. Источник устойчивого запаха, однозначно и четко определяющегося как адский, не обнаруживался. «Странно», — подумал священник и попытался опять уйти в мир книжный. Не удалось.
Один из сидевших сзади шахтеров, поняв, что отец Стефан не сообразит, откуда идут волны неприятного содержания, громко произнес, указывая под сиденье:
— Батюшка, козел!
Отец Стефан слова услышал, а указующий перст увидеть никак не мог, поэтому утверждение преобразовал в определение. Ошарашенно и растерянно задумался и не нашел ничего лучшего, как повернуться и спросить у горняка:
— Почему козел?
— Так к козе везут, — разъяснил шахтер, чем ввел отца Стефана в окончательный ступор.
Первое, что пришло в голову, это форма собственной бороды, которая в начальные дни священства действительно походила на козлиную. Но ведь сейчас, по прошествии почти десятка лет настоятельства, его облик украшала ухоженная профессорская борода, никак не сопоставимая с этой тварью.
Пока соображал, как же выходить из данной ситуации, как ответить на незаслуженное оскорбление, впереди встрепенулась баба Анна. Повернулась к священнику и старушечьим фальцетом выдала на весь автобус.
— Батюшка! Козел наш. Воняет!
Отец Стефан замер огорошенно. Он потерял дар речи. Опустил голову и… с ужасом вскрикнул. Из-под сиденья смиренно и уныло на него смотрела философским взглядом бородатая и рогатая козлиная морда…
Православный Дед Мороз
Расстроенным возвращался на приход отец Стефан. Да и как не расстроиться, если на последнем священническом собрании потребовали запретить Деда Мороза как такового? Не православный, видишь ли, персонаж. Языческий и нам не нужный. Именно такими определениями наградил Деда отец благочинный, испытывавший к любым светским праздникам полное неприятие и отвержение.
Благочинный вообще-то — толковый священник, в делах церковных постоянно пребывающий и все время что-нибудь строящий, но к любым нововведениям, отличным от того, чему в семинариях в советские годы обучали, испытывал он крайнее неприятие. В первые годы после того, как «Бога разрешили», в храмах светлые платочки бабушек преобладали, и им такая принципиальность даже нравилась. Да и не приучены они были возражать по причине того, что для них священник — тоже начальник. Сказано «не положено», значит, нельзя.
Годы шли, старушки, веру сохранившие и Бога чтившие, ушли к Тому, в Кого верили, а храмы заполнили иные прихожане, кто войны не знал, в советское время воспитан был, утренники, субботники посещал и к праздникам прошлых времен привык. Новый год для них всегда с конфетами, мандаринами, конфетти и подарками от Деда Мороза сочетался. Отказаться от обильного новогоднего стола по причине поста Рождественского они могли, но вот стереть в своей памяти радостное «Это, дети, Дед Мороз, он подарки нам принес!» никак не получалось.
Пытался отец Стефан объяснить, что запрет запрету рознь, что можно Деда Мороза вкупе со Снегурочкой вполне православными сделать и на Рождество их пригласить, но в ответ услышал, что он интерната насмотрелся (так отец благочинный интернет называл) и язычеством заразился. В завершение столь глубокого богословского спора отцу Стефану было сказано: «Деда Мороза вместе с девкой его Снегуркой из сценария рождественского утренника изъять и обновленчеством не заниматься».
Спорить смысла не было, оставалось лишь подчиниться да придумать, как Николаю Степановичу данное благословение объяснить.
Николай Степанович на приходе у отца Стефана был незаменимый человек. Все мероприятия в праздники, будь то Пасха, Рождество или день рождения кого-то из прихожан, он всегда по-особому украшал. То стих сочинит, то с детишками здравицу споет, то сценку придумает добрую и веселую. Да что там говорить, детвора от семи до пятнадцати без Степаныча свою воскресную школу и не представляла.
Когда-то Николай Степанович клубом заведовал, самодеятельностью колхозной руководил, вместе со своими артистами призы и грамоты на разнообразных конкурсах завоевывал.
Колхоз приказал долго жить, власть пришла прагматичная, к талантам сельским безразличная, а клуб с забитыми окнами и огромным амбарным замком на двери постепенно разрушался. Здание вообще бы по кирпичику растащили, кабы не отец Стефан, уговоривший районную власть под церковь его отдать. Власть немного поартачилась, посомневалась, но поняв, что денег все едино никто на бывший очаг культуры не выделит, отдала здание, радуясь, что от упреков избавилась, но тайно надеясь когда-нибудь его вернуть.
Зря надеялась. За год настоятель купол с крестом на крыше водрузил, крыльцо под колокольню преобразовал, на месте сцены алтарь соорудил, а в подсобных помещениях трапезная появилась и воскресная школа открылась.
Николай Степанович к месту своей бывшей работы часто приходил. На скамеечку под ивой садился и наблюдал за изменениями происходящими. Сначала с горькой усмешкой, затем с иронией, но скоро ирония сменилась неподдельным удивлением. Начал уже подумывать, что надо бы в церковь сходить, да все неловко как-то было и боялся, что внутри воспоминания нахлынут, расстроится. Сколько бы еще на скамеечке пребывал Степаныч, неизвестно, но подсел к нему как-то батюшка и совета попросил. Уж и не помнит сегодня Николай Степанович, о чем речь шла и что священника интересовало, но пошел он с ним вдвоем в здание клуба, которое через некоторое время стало и для него храмом Божиим.
Отец Стефан не находил слов, как объяснить Степанычу, что из сценария надобно убрать не только Деда Мороза и Снегурочку, но и все с ними связанное. Да ладно Николаю Степановичу! Как детям сказать? Настеньке, которая назубок роль Снегурки выучила и вместе с матерью так долго костюм готовила, или Димке, переделавшему старое пальто отца в красную шубу Деда Мороза, соорудившему посох и целыми днями тренировавшемуся говорить громогласно.
Оставалось только вздыхать да как-то оправдываться…
Рождественские дни быстротечны. Службы, поздравления и всепокрывающая радость о Младенце Христе. В церкви многолюдно, на концерт рождественский практически все село пришло. Да и как не прийти, если тут дети и внуки сельчан Христа славят, песни поют и даже спектакль разыгрывают.
Поздравил отец Стефан сельчан с праздником, подарки раздал и объявил, что поедет их воскресная школа на Рождественские встречи в областной центр, где в театре лучшие коллективы со всей епархии собираются, и будут они перед самим владыкой митрополитом и областным начальством свое искусство показывать.
Большой город, импозантное здание театра, сцена, смотрящая в огромный зал, украшенный рождественскими снежинками, серпантином и разноцветными шарами, ребят поразили, но, к удивлению отца Стефана и Николая Степановича, не испугали. Их небольшой спектакль с колядками и рассказом, как маленький Христос освободил всех ребят от холода и чар ледяной Снежной Королевы, всем понравился. Даже «браво!» кричали и долго-долго детишек не отпускали.
На сцену, чтобы поблагодарить молодых артистов и вручить им подарки, поднялся сам митрополит.
Надобно заметить, что митрополит отца Стефана имеет стать богатырскую, плечи, как у Ильи Муромца, а борода — самому дядьке Черномору на зависть. Причем борода у митрополита белая, а ряса на нем, как и отороченная мехом скуфья, темно-бордовые, праздничные. Завершает образ тяжелый, блестящий золотым цветом, внушительный посох, который гулко стучал по деревянным ступеням и сцене.
Звонкий голос маленького Вани, исполнявшего роль ангела и одетого в белый костюм с крыльями, буквально пронзил весь зал:
— Дед Мороз!
— Дед Мороз! — подхватили дети и бросились к владыке.
Девочка в костюме снежинки обхватила ноги митрополита и, заглядывая снизу ему в глаза, тараторила:
— Дедушка Мороз, а ты своими ножками пришел?
Да и как не спросишь, если ноги архиерея не видны?
Суетится отец Стефан, пытается порядок навести, смотрит на владыку извинительно, а тот улыбается.
Лишь Николай Степанович не растерялся, старшим участникам представления рождественского что-то сказал, а те хором и запели:
Наш владыка — Дед Мороз,
Он подарки нам привез…
Заполненный зал улыбался и аплодировал.
Прослезившийся владыка раздавал подарки, целовал детишек, гладил их по головкам и приговаривал:
— Вот и слава Богу, до Деда Мороза дожил.
Во втором ряду сидел благочинный отца Стефана и тоже аплодировал. Для него в этот день Дед Мороз каноническим стал…
Пожертвование
В последние дни отец Стефан пребывал в ежедневной задумчивости. Даже во время службы паузы делал. Да и как не останавливать себя, если молиться надо, а не механически возглашения и просьбы к Богу проговаривать? И настраивал себя на молитвенный лад, и головой тряс, чтобы от навязчивых мыслей освободиться, но все едино — как ни старался, иное в голову проникало и от главной священнической обязанности — службу Божию с умом править — отвлекало. Когда же батюшка понял, что и исповедовать уже толком не в состоянии, он просто испугался. Нельзя не испугаться, если тебе о грехах своих рассказывают, совета пастырского ожидают, а ты лишь, как робот бездушный, выслушиваешь, да общие, обыденные фразы изрекаешь.
Благо духовник рядом. Собрался вечером, таратайку свою завел и поехал в то село, где знаток всех священнических тайн и искушений проживал и служил, о горе своем рассказывать.
Духовник был дома, городил будку для старого и чем-то на него похожего Барсика. Неловко сравнивать умудренного опытом седовласого старца с дворнягой, но то, что все священники это сходство находили, подтверждало: если в любви к окружающим тебя пребываешь, то окружающие твои свойства и черты воспринимают.
Знаток, носитель и разрешитель всех окрестных поповских грехов и житейских бед вкупе с соблазнами приезду отца Стефана не удивился и сразу с ним в храм направился.
— Ты, отче, без предисловий, с главной страницы начинай, — приказал духовник.
— Так это главное мне уже вторую неделю спать не дает, — тут же ответствовал отец Стефан и продолжил: — Я уже и служить толком не могу.
— И что же за зверь такой тебя мучает?
— Понимаете, отче, — начал свой рассказ отец Стефан, — пожертвовали мне православные из соседней российской области деньги. По нашим меркам сельским, сумму очень приличную, для прихода, можно сказать, сказочную. Собрались мы после службы почти всем приходом, чтобы решить, как их правильно использовать да за любвеобильных жертвователей молиться. Долго рассуждали, судили, рядили и всё согласия не находили. Да и как найти, если на приходе дыра на дыре после войны этой нежданной. Купол снарядом насквозь пробит, ограда вся как решето от пуль и осколков, а в караулке вообще крыша сгорела. Стараемся, конечно, поправить, но по временам нынешним и безденежью сплошному на годы ремонт затянется. И тут деньги эти нежданные…
— И не договорились? — спросил, улыбнувшись, духовник.
— Да нет, батюшка, — продолжил отец Стефан, — к решению пришли. Как раз когда спорили, металл или доски покупать, бабулька из соседнего с церковью дома с просьбой пришла. Плачет. Говорит, что в аптеку лекарство от давления привезли, но если она его купит, то и на хлеб не останется. Пенсий уже ведь который месяц не платят. Тут и все остальные загомонили, загалдели, что скоро по домам не то что анальгина, простого йода не останется.
Духовник даже остановился после этих слов священника. Остановился, перекрестился, за руку отца Стефана взял:
— Видишь, отче, как Сам Бог вам решение подсказал?
— Что подсказал? — не понял батюшка. — На лекарства деньги потратить или как? И где я их возьму?
— Да там и возьми, откуда тебе денег дали.
— В России, что ли?
— В ней, в ней, — утвердительно указал духовник.
— А граница, отче? Ведь не пропускают медикаменты! Там воз документов оформлять надобно. У меня всё пожертвование на эти согласования, печати и формы таможенные уйдет! — не унимался отец Стефан.
Духовник же сменил милость на строгость:
— А молитва твоя на что? Или не веришь, что Бог помочь может? И, кстати, мне от ревматизма мазь привезешь, утром разогнуться не могу, так и топаю до храма буквой «зю».
В сомнениях возвращался на приход батюшка. Да и как не тревожиться? И в мирные времена на таможнях вечно проблемы возникали, а теперь, когда с одной стороны в камуфляже да с автоматами, а с другой — строгости документальные и осмотр доскональный, тем паче задумаешься.
Сомневайся не сомневайся, а ехать придется. Духовник благословил, никуда не денешься.
Через день пересекал отец Стефан «священные рубежи» непризнанной республики и границу сопредельного государства Российского. Грустно пересекал. Во-первых, в очереди пришлось долго простоять, а во-вторых, когда документ на провоз транспортного средства заполнял, увидел на российской таможне стенд, а на стенде — грозный перечень того, что вывозить категорически запрещено. Предпоследним пунктом, после оружия, антиквариата, наркотиков и прочих грозных «нельзя», значилось: «медикаменты».
Успокаивал себя настоятель ностальгическими воспоминаниями, как во времена не столь давние пропустили же целых два ящика кагора, хотя не больше двух литров в правилах таможенных оговорено было, и многое иное, для прихода необходимое, провозилось большими партиями, хотя и не положено было…
Понимали служивые, что дело не торговое, а богоугодное, да и практически у каждого стража рубежей священных, что там, что здесь, крестики под формой присутствовали.
Но сейчас, когда с одной стороны еще громыхает и бои не столь давно прямо по границе прошли, строгости не просто усилились, они преумножились.
Уныние — дело нехорошее, по христианским понятиям грешное, но и после пересечения границы, направляясь по непривычно ровной асфальтированной трассе в областной центр сопредельного государства, отец Стефан в сплошных унылых раздумьях пребывал. Не выходил из головы запрещающий перечень таможенный.
«Куплю, и отберут, да еще и накажут», — только так и думалось. Чтобы хоть как-то отвлечься от тоскливых мыслей, батюшка решил магнитофон послушать, где у него рассуждения Паисия Святогорца записаны были. Может, старец приснопоминаемый, подвижник времен наших чего подскажет?
Не зря включил. Тут же и услышал: «Благий Бог примет во внимание и особенности нашей эпохи, и условия, в которых нам приходится жить, и спросит с нас в соответствии с этим. И если мы предпримем хотя бы малый подвиг, то увенчаемся больше, чем христиане древней эпохи».
Повеселел батюшка от наставлений подвижнических. Как не возрадуешься, если на «малый подвиг» направляешься?
Подъезжая в нескончаемой колонне машин к городу, отец Стефан, конечно, своих гордых мыслей устыдился, да и новая проблема определилась: где эти медикаменты закупить, если через каждый квартал сплошные вывески аптек в глаза бросаются? Слава Богу, троллейбус подсказал, который батюшка обогнать решил. На боку машины зеленым по желтому было выведено: «Лекарства для вас. Дешевая аптека». Пришлось притормозить, чтобы адреса под крупными буквами рекламы прочесть. Один из адресов рядышком оказался. Именно туда священник и покатил.
Через час жигуленок отца Стефана напоминал торговую повозку времен перестроечных челночников. Медицинско-фармацевтический характер груза был мгновенно определяем не только по наличию коробок с лекарствами на заднем сиденье и в багажнике, но и по вполне ощутимым запахам валерьянки, корвалола и прочих лечебных ингредиентов.
Сердобольные работницы аптеки, узнав, откуда прибыл священник, не только сбросили цену, но еще и добавили свое пожертвование больным прихожанам. Батюшкино «Спаси Господи» хоть и было многократным и сердечно-искренним, все же звучало печально. Да и как не печалиться, если каждая упаковка лекарств вызывала в воображении отца Стефана не видение вылеченного духовного чада, а строгое лицо таможенника вкупе с пограничником? Предпоследний пункт таможенных правил покоя не давал и превращался в грозное, громадное, непреодолимое препятствие из колючего слова «запрещено».
Перекрестился батюшка, иконку на стекле лобовом поправил, крест на подряснике рукавом протер, дабы сверкал позолотой, молитву прочел и поехал. К границе.
Над таможней, на каждом из пятнадцати высоких металлических столбов горело по пять-шесть прожекторов. Отец Стефан за два часа их уже несколько раз пересчитал. А что еще было делать? На штрафплощадке книжку не почитаешь; буковки из-за мыслей в слова не складываются. Не до чтения при тревожной неизвестности. Даже подумалось «зря духовника послушался». Данное смущение батюшка все же быстренько отогнал и решил усиленно и непрестанно молиться. Благо для этого пособий не требуется. Да вот беда приключилась, о которой и в молитвах говорится «ум мой о лукавствии мира сего подвижеся», — мысли мирские одолевали. Не шла молитва…
И немудрено, если в голове только молодой таможенник, который, увидев дюжину заполненных медикаментами коробок, полностью занявших заднее сиденье жигуленка, тут же потребовал декларацию, а ее не было и быть не могло. На все объяснения отца Стефана следовало лишь стандартное: «Без разрешительных документов провоз запрещен!»
Растерялся батюшка, замельтешил, даже возмущаться начал, но, слава Богу, сумел себя остановить. Остановить-то остановил, а что делать, не знал, не понимал и не представлял.
— Скажите, — обратился отец Стефан к непреклонному стражу российских рубежей, — а могу я с вашим начальством поговорить? Где оно находится?
— Можете, но идти к нему не надо, оно сейчас само сюда придет.
И действительно, спустя несколько минут к машине контрабандиста в священном сане подошел более представительный по годам и по званию таможенник. Заглянул в машину и в багажник. Покачал головой. Сказал глубокомысленное «м-да», а затем обратился к священнику:
— Куда везете?
— На приход, — начал объяснять отец Стефан. — Пенсий у стариков нет, зарплаты тоже задерживают. Болеют люди. Вот земляки ваши православные помогли.
Таможенный начальник еще раз сказал: «м-да». Покачался с ноги на ногу, зачем-то постучал по колесу священнической колесницы ботинком и задал новый вопрос:
— А счет из аптеки есть с полным перечнем лекарств?
— Конечно, конечно, есть, — затараторил батюшка. — Сейчас, сейчас покажу.
Начальник внимательно рассмотрел бумаги с печатью, еще немного на ногах покачался и сказал в третий раз: «м-да». Затем добавил:
— На штрафплошадку машину. А вас, — главный таможенник обратился к священнику, — мы скоро позовем.
Это «скоро» длилось уже больше двух часов. Прожектора над таможней постепенно меркли. Рассвет, хмурый, как и отец Стефан, начался строго по положенному ему графику. От неопределенности и усталости батюшку все сильнее клонило ко сну, но поспать не дали. Молодой таможенник, который изначально границу перекрыл, в стекло ветровое постучал:
— Святой отец, вам нужно на второй этаж подняться, там кабинет начальника. Вас ждут.
Перекрестился священник, сказал свое любимое: «Пусть будет, как будет, а будет так, как Бог даст» — и пошел в главный кабинет силовой структуры за приговором.
В кабинете главного таможенника за столом сидели двое. Представительные, в форме, но тоже невыспавшиеся. Кроме бумаг и чая, перед ними на столе стояла приличного размера картонная коробка.
Разговор начался со стандартного: «м-да». После паузы последовало продолжение:
— Значит, так, отец-батюшка, больше так поступать не рекомендую и очень настоятельно советую, прежде чем к нам заезжать с таким грузом, все надлежащим образом оформлять. — Затем, обращаясь к напарнику, начальник с улыбкой посетовал: — Не, ты представляешь, я в полпятого утра в окружную звонил из-за этого нарушителя…
Напарник сочувственно покачал головой, а глава таможни, удовлетворенно взглянув на отца Стефана, завершил свою мысль:
— …которое разрешило вам, отец-батюшка, провезти медикаменты.
Отец Стефан вспомнил ворону крыловскую, у которой «от радости в зобу дыханье сперло», — он ничего не мог произнести.
— А вот это, — продолжил главный таможенник, указывая на стоящий пред ним коробок, — наши ребята из таможни и пограничники для детей ваших приходских передают. Вы там держитесь.
— Спаси Господи! — только и смог вымолвить священник.
И заплакал.
Часть II. Рассказы
Господь управит
Между покрытыми мхом нижними рядами старого церковного сруба была незаметная со стороны маленькая дверца, прикрытая позеленевшей от времени печной заслонкой. О ней все забыли, ведь узенький проход, служивший когда-то для доставки угля и дров к церковной печи, по назначению уже давно не использовался. Печь разобрали за ненадобностью, а три года назад и храм закрыли. Он пока еще стоял, храня от непогоды и растаскивания колхозное добро: немного посевного зерна, конскую упряжь да ведра с лопатами и метлами.
Сельские ребятишки потайной вход отыскали и, устраивая свои незамысловатые игры, определили здесь место для штаба. Прошедшая война хоть и закончилась более пятнадцати лет назад, но была еще рядом. Живы отцы-фронтовики, каждый день вольно или невольно вспоминающие лихую годину; в школе рассказывают о победе и подвигах; старушки в вечерних скамеечных разговорах всё войну поминают неладную; да и немецкая каска, из которой хлебают свою собачью пищу Шарики и Барсики, — обычная вещь в дворовом хозяйстве.
Перед закрытием церкви службы изредка проводились. Присылали из епархии на месяц-другой очередного священника, но как только тот начинал обживаться и с народом знакомиться, тут же убирали. Печальник и молитвенник постоянный никак не вписывался в идеологическую составляющую пятилеток социализма. Не нужен священник передовому колхозному крестьянству, да и сельсоветское начальство он раздражает. Как-никак уже Гагарин в космосе побывал и никакого Бога там не видел, а бабушки с дедушками всё не успокоятся…
Последним священником был худенький, неказистый, немощный мужичок, который службу вел тихо, невнятно и на первых порах казалось, что в алтаре никого нет. Лишь застиранное белое облачение, мелькавшее за царскими вратами, свидетельствовало о наличии в храме священнослужителя. Батюшка со всеми соглашался, всех молча выслушивал и только кивал своей маленькой головкой с седеющей бородкой, да раз за разом мелко поспешно крестился, повторяя постоянно:
«Господь управит, Господь управит»…
Что и как управит, было непонятно, но областное религиозное начальство — Совет по делам религий — никакой угрозы в этом «служителе культа» не находило, поэтому как-то само собой решилось священника никуда не переводить до тех пор, пока не будет на сельском сходе зачитано письмо от имени интеллигенции и трудовых колхозников с просьбой закрыть «очаг мракобесия и предрассудков».
Так и служил батюшка свои воскресные да праздничные службы, незаметно приезжая и так же невидимо для всех уезжая. Где его семья, дом, родные, никто толком не знал. Знали только одно: в городе живет. Впрочем, по существу это никого из властей предержащих в данном селе не интересовало.
Весна выдалась в тот год засушливой. Хоть и было много снега на полях, но он сошел за несколько дней одним половодьем, затопив спускающиеся к речушке огороды и напрочь снеся деревянный мосток, соединявший две стороны села. Когда вода в одночасье схлынула, только несколько раз прошел дождь, а после Пасхи небо стало забывать, что такое тучи. Ни облачка с утра до вечера.
Старички пошли в сельсовет с просьбой разрешить в поле с иконами и батюшкой выйти, упросить Бога дождик даровать. Куда там! Взашей вытолкали, отправили внуков нянчить или по хозяйству справляться. Да оно и понятно: как тебе власть советская подобное разрешение даст, если Бога никогда не было и нет? Тогда и не власть она вовсе.
В воскресенье после службы устроили прихожане сход, чтобы придумать, как же все-таки отслужить молебен о дождике не в храме, а там, где пшеница и кукуруза с подсолнечником посеяны. Судили да рядили, но без разрешения выходить — значит не только на священника беду накликать, но и семьям своим, детям прежде всего навредить.
Батюшка во время этого церковного совета в уголочке сидел и вздыхал горестно. А что еще он мог? Только молиться и вздыхать, да свое «Господь управит» повторять — вот и все имеющиеся возможности. По тогдашним законам, наемник он был при приходе. Всё староста решал, да двадцатка определяла вместе с начальством областным, к слугам Божьим неласковым.
Пригорюнились прихожане. И было отчего. От урожая все зависели и года голодные послевоенные хорошо помнили. Страшное время. Не дай Бог повторится.
Уже почти решили на приходском дворе молебен отслужить в среду ближайшую, как раз на Преполовение — середину срока между Пасхой и Троицей, но тут вдруг заговорил священник, причем решительно, никто и не ожидал от него такой властности в речи:
— Вы тут посидите, а я к председателю схожу.
Все как-то разом молча согласились.
Староста было за ним подался, но батюшка его остановил и от помощи отказался. Причем сделал это хоть и вежливо, но утвердительно и настойчиво:
— Здесь посиди, мое это дело.
Староста вдруг даже в росте уменьшился и голос командный потерял. Чудеса, да и только.
Председатель колхоза был на тракторном дворе. Да и где еще ему быть? Теперь тут главная забота председательская: думать, как и чем влагу сохранить. А где ее возьмешь, влагу эту живительную, если третью неделю суховей дует и солнце печет? Впрочем, председатель всегда сюда, к технике поближе приходил, когда трудно было, да звонки с бумагами из района и области одолевали. Только тут и забудешься, у любимых с детства механизмов да тракторов, напоминавших главе колхоза своим урчанием и запахами любимый Т-34, на котором он от Ковеля до самой Праги дошел.
В конторе не работалось. Да и о какой работе могла идти речь, когда чем дольше стояла жара, тем больше поступало директив, указаний и безотлагательных бумаг с требованиями и приказами? Жалоб на погоду никто и слышать не желал. Председатель прекрасно понимал, что ссылки на жару его никак не оправдают. Виноват — и все.
Пребывая в таком невеселом настроении, сидел глава колхозный за столом и тупо смотрел на палочки выходов, стоявшие напротив механизаторских фамилий. Работали много, как положено на селе. Трудились не покладая рук, от зорьки до зорьки. Но что они получат при такой засухе? Детворы в каждой хате после войны народилось множество. Чем кормить будут?
Грустные размышления прервало тихое приветствие:
— Здравствуйте, Василь Петрович!
Перед председателем стоял священник в сереньком, не по погоде надетом пиджачке, теребивший в руках вылинявшую поповскую шапочку-скуфейку.
Попа на механизаторском дворе Василий Петрович никак не ожидал встретить, да и вообще лишь пару раз его мельком видел и даже не знал, как зовут.
Тот, как бы понимая затруднение председателя, представился:
— Меня отец Михаил именуют, служу я при церкви вашей…
— Ну и?.. — буркнул Василий Петрович.
— Да вот, дождика нет, надобно в поле выйти помолиться.
— Молись не молись, — раздраженно ответил председатель, — а синоптики из города сказали, что до конца месяца дождя не будет.
— Так то синоптики, — ответствовал отец Михаил, — а то Бог.
Василий Петрович от подобного утверждения отмахнуться хотел, уже и воздуха в грудь набрал, чтобы отправить попа куда-нибудь подальше, но тот тихо и умиротворяюще продолжил:
— Бог, Он все управить может.
То ли это «управить» живительной прохладой председательского сердца коснулось, то ли ветерок так подул, но что-то остановило Василия Петровича, и он неожиданно для себя спросил:
— И что, дождь пойдет?
— Должен пойти, — ответствовал священник. — Бог-то видит, что хлеб насущный не для богатства и наживы, а для жизни своей и для детишек просить будем. Как не помочь? Поможет.
Председатель долго смотрел на маленького неказистого священника и не мог понять, откуда уверенность такая у того, кто по всем параметрам — сплошной, никому не нужный пережиток. Но даже не это смущало главу колхоза. Дело в том, что сам Василий Петрович вдруг осознал, что дождь пойдет, если они помолятся.
— И куда ты со своим приходом идти собрался? — вместо окрика-отказа вопросил председатель.
— На криницу, в балку, через поля. По дороге слово Божие почитаем, да помолимся усердно, а на кринице водичку освятим.
— Когда собрались?
— Да в среду эту, на Преполовение, — ответил отец Михаил.
Если бы председателю полчаса назад сказали, что он разрешит крестный ход ради дождя, он бы в лучшем случае рассмеялся, но сейчас лишь произнес:
— Идите.
И пошел в сторону стоявшей неподалеку техники. Потом обернулся, еще раз внимательно посмотрел на священника и добавил:
— Не дай Бог, если дождя не будет!
— Как не будет? Пойдет дождичек, Господь управит, — заверил батюшка.
В среду после литургии из церкви с крестом и хоругвями вышло полсотни прихожан, сопровождаемых гурьбой только что распущенной на каникулы детворы. Они двигались по центральной улице села с пением: «Воздуха растворение повелением Твоим прелагаяй, Господи, вольный дождь с благорастворенными воздухи даруй земли…» Их было бы больше, но день-то рабочий. Впрочем, и этот немногочисленный крестный ход переполошил сельсовет; на крыльцо выбежали и землемер, и паспортистка, и секретарь, а из открытого окна доносился крик: «Я не разрешал, это Василь Петрович добро дал!»
Крестный ход еще не успел дойти до полевой дороги, как, нещадно тарахтя и поднимая клубы пыли, со стороны города прикатил участковый. Бросив на обочине трофейное средство передвижения, он подбежал к священнику, торжественно шествовавшему за крестом, иконой и хоругвями, и, сорвав с головы фуражку, выставил ее перед собой, как запрещающий жезл:
— Стой! Куда?! Кто позволил?
— Тихо, милиция, не кричи, — ответствовал церковный староста. — Видишь, молятся люди. Нельзя кричать. А на крестный ход нам председатель согласие дал.
Милиционеру после подобного объяснения осталось только размышлять о том, кому и как докладывать, а крестный ход все шел и шел через поля, останавливаясь на поворотах и пересечениях дорог. Даже издалека были слышны песнопения и голос священника, читавшего молитвы. Странно это… Голос отца Михаила и в церкви не всегда различали, а здесь батюшку уже не видно, а голос его слышно.
Перед тем как выйти к балке, где была известная всей округе криница, дорога запетляла в гору, где стояла геологическая вышка. Опустился люд православный на колени, а священник всё руки к небу воздевал, молитвы произнося. Умолкли ребятишки, даже ветер затих. Среди вздохов, всхлипов и просьб «помоги, Господи» слышалось лишь пение жаворонка.
Крестный ход спустился в заросшую лесом балку, и пока священник не спеша водосвятный молебен служил, а хор «Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благочестия напой водами…» распевал, посвежело в полях, тучки появились, а вечером… вечером дождь пошел.
Он долго шел, до пятницы, иногда прерываясь, чтобы сельчанам дать время по хозяйству управиться. В пятницу же в городе, в малом зале райкома, исключали из партии Василия Петровича (с председательского поста его еще в четверг прогнали).
— Как же ты, фронтовик, орденоносец, и так на руку попам сыграл? — вопрошал партийный секретарь. — Когда весь народ советский к коммунизму стремится, ты мракобесие поддерживаешь!
Грозно смотрели на Василия Петровича глаза секретаря и портрета, висящего над его головой.
— Вот скажи нам, — потребовал секретарь, — зачем ты это сделал?
Ничего не ответил фронтовик. Он просто подошел к окну и открыл его. В зал хлынул прохладный, мокрый воздух, наполнивший всех и вся шелестом спасительного дождя.
* * *
Через темный лаз церковного сруба пролезли несколько мальчишек, все как на подбор с выгоревшими за жаркое лето волосами и облупленными носами…
В церкви было прохладно, сухо, пахло зерном и чем-то еще, чем — мальчишки не ведали. Да и откуда они могли знать церковный запах? Вдруг заскрипела и приоткрылась большая церковная дверь, и в храмовый сумрак вошел Василий Петрович.
Деревенская ребятня в своем невидимом со стороны уголке притихла, уткнувшись в ладошки и плечи друг друга. Испугались они сторожа колхозного, вдруг застукает и не будет у них такого не известного никому «штаба».
Василий Петрович их не видел. Да и не по сторожевым своим делам он в церковь зашел. Дверь прикрыл и к заброшенному алтарю направился. Там вверху, под бывшим куполом, икона сохранилась. Василий Петрович не знал чья. Просто стоял, подняв голову вверх, смотрел на образ святой и тихонько так повторял: «Управь, Господи!»
А настоятель молится…
Рядом со строительным вагончиком, приспособленным под маленькую церквушку с небольшим куполом и крестом над ним, строился обширный каменный храм. Долго строился. Да и как можно было его быстро возвести, если жителей в поселке и полтысячи душ не наберется, а прихожан точно по статистике лишь десятая часть?
Вот и мерзли зимой, и парились летом в железном вагоне полсотни верующих, но затеи своей — типовой храм построить — не оставляли. Более того, добились у архиерея, чтобы он им постоянного священника дал, а не приезжающего по праздникам очередного пастыря из немногочисленного и постоянно занятого своими приходскими делами священства благочиния, к которому этот поселковый храм относился.
Архиерей от просьбы прихожан церковного вагончика особой радости не испытал по одной простой причине: он прекрасно понимал, что семейного батюшку данный приход никак не прокормит, а лишних монахов, в миру служащих, у него в свободном наличии не было.
Прихожане же проявили не только настойчивость, но и изобретательность. В небольшом монастыре неподалеку от епархиального центра среди братии их земляк-иеромонах подвизался, вот они его и сагитировали, а затем архиепископу готовое решение преподнесли.
Архиерей, по крохам этот монастырь собиравший и каждого тамошнего насельника лично знавший, вынужден был просьбу уважить. Понравилась владыке настойчивость прихожан «из вагончика», хотя на их обещание, что данный иеромонах будет у них как сыр в масле кататься, архиерей с улыбкой возразил: «У монахов в году постов больше, чем дней скоромных. Вы там, родные, с сыром и маслом не усердствуйте особо…»
Должно заметить, что иеромонах, приняв на себя настоятельские обязанности, оказался молитвенником к себе строгим, к прихожанам снисходительным, к службам всегда готовым, а строителем… неважным. На все сетования о том, что надобно по «начальствам» походить и на новый храм стройматериалов выпросить, он никак не реагировал, лопату в руки не брал и на лесах строительных замечен не был.
Удручала эта особенность пастыря приходского старосту со звучной фамилией Соловей. Не выдержав таких смущений, Никита (так Соловья звали) собрал как-то раз весь актив приходской и после воскресной службы к настоятелю обратился:
— Ты, батюшка наш дорогой, молишься много и служишь исправно, но надобно все же и стройкой заниматься! Одно дело, когда мы пороги кабинетов начальственных обиваем, а другое, когда ты — в рясе да с крестом. Храм-то строить надобно…
Иеромонах, взор потупив, выслушал нарекания, вздохнул сокрушенно и ответил неожиданно:
— Я, братия и сестры, присягу священническую приносил, когда меня в сан возводили, и стараюсь ее неукоснительно соблюдать. Ничего в той присяге ставленнической про стройку не прописано, лишь о молитве, богослужениях, проповеди и нравственности священника говорится. Да и вы меня сюда звали служить и молиться поболее. Об этом речь была и передо мной, и перед владыкой нашим. — Подумал еще иеромонах и заключил: — Видно, молимся мало, что Бог нам не помогает…
— Как же мало? — изумился староста. — И субботы, и воскресенья служим, все праздники не пропускаем. Мало того, вы еще и молебны каждый Божий день поете. Такого отродясь у нас не было!
— Мало просим Бога… — тихо повторил настоятель.
Это тихое «мало» даже возмутило Никиту Соловья.
— Да что вы говорите такое, отец-батюшка! Вон на соседнего настоятеля посмотрите. Воскресенье отслужил и целую неделю по шахтам да организациям. Так у него уже и храм стоит утварью полным-полнехонек, и колокольня почти готова. Давеча, рассказали, колокола ездил заказывать. Он что, за одно воскресенье успевает Бога уговорить, чтобы Тот ему благодетелей да жертвователей присылал?
На том и закончилось непредвиденное приходское собрание. Каждый при своем остался. Огорченный староста, пребывая в смятении, заставил внука найти в своем интернете присягу, которую будущие священники приносят. Внук нашел, распечатал и деду Никите предоставил.
Как ни вчитывался староста в текст, перед ним лежащий, не нашел в нем обязательства будущего пастыря храм строить. Было, конечно, там обещание во всем правящего архиерея слушать, но ведь они и в самом деле у владыки настоятеля себе просили, чтобы службу Божию служить, а не благодетелей искать и кирпичи класть.
Ехать же опять в епархию и уговаривать владыку, чтобы он такое послушание на их иеромонаха возложил, староста поостерегся. И было от чего. Видя, как искренне служит монах, как ласково с людьми обходится — выслушает, посочувствует, совет даст, — радоваться следует, а не новыми просьбами владыке докучать. Ведь как ни рассуждай, а полюбили своего настоятеля прихожане. Да что там говорить! Душ на тридцать молящихся больше стало, Никита даже решил крыльцо к вагончику пристроить.
В следующее после приходского общего разговора воскресенье, перед тем как крест к целованию преподнести, иеромонах поблагодарил всех за молитву, а потом и объявил:
— Все вы, молитвенники наши, знаете, что есть у нас на клиросе Евдокия, службу на зубок знающая. И хоть слаба глазами она по годам своим, но и споет правильно, и прочитает как нужно. Поговорил я с ней давеча, чтобы мы каждый вечер да утро полную службу Богу служили, пока храм наш строится. Пусть и не велика копейка доходная будет, но знаю я точно, что Господь не может не благословить Свой храм построить… Вы же, кто сильно по хозяйству не занят да работами обязательными не связан, приходите помолиться и помочь чем можете.
Огорчился Никита. Это где же такое видано, чтобы в поселке захудалом будто в монастыре служили? Чудит иеромонах. Тут вот цемента тонну надо, деньги-то насобирали, слава Богу, а машины привезти нет. Лучше бы на шахту сходил, транспорт какой-никакой выпросил.
С понедельника настоятель начал служить ежедневно, причем так же усердно, как и в дни воскресные да праздничные. К удивлению Никиты, в вагончик всегда хоть несколько человек, но приходили, причем часто те, кого он здесь раньше в глаза не видел.
Не учел староста того, что в их местности поселки друг от друга недалеко расположены, и слух о странном попе-монахе, который только и делает, что службы служит, быстро окрестные веси облетел.
Стали к вагончику машины подъезжать, да не простые, а целые джипы-«гардеробы». Из черных да белых «гардеробов» выходили лица начальственные, холеные, лощеные.
Приедут, в храм-вагончик зайдут, батарею свечей расставят, так что два имевшихся подсвечника все не вмещают, а потом ждут, когда служба окончится, чтобы со священником побеседовать. О чем, Никита не ведал, но только после бесед этих новые посетители вагончика заладили к старосте подходить с одним и тем же вопросом: «Дед, что для стройки надо?»
Что надо, Соловей знал точно и ответственно, у него даже списочек был, длинный такой, на две тетрадные страницы. И месяца не прошло, как начал Никита крестики напротив нужных материалов ставить, а со временем в тетради своей вместо «нужно найти» стал писать «необходимо сделать».
Службы в храме так и совершались ежедневно. Староста обеспокоился, решил купить новую духовку электрическую, чтобы просфоры печь. Раньше ведь двух десятков просфор на всю неделю хватало, а теперь одних служебных требуется почти пятьдесят штук и маленьких четыре сотни…
Выделил Никита почти тысячу гривен на новую печку, да купить не успел; жена директора соседней хлебопекарни печь пожертвовала вкупе с громадным чаном для замеса теста, который тут же под крещенскую купель приспособили. В купель такую даже самого директора этой пекарни можно окунать, несмотря на его вес восьмипудовый.
Вот так и идут дела приходские. Храм новый уже оштукатуренный стоит, купола позолотой покрывают, прихожане о колокольне рассуждать начали. В том, что соорудят они звонницу Божию, сомнений нет. В ином проблема: где колокола заказывать. Владыку пригласили на Покров освятить церковь новую. Обещался приехать.
А батюшка-то что? Да ничего. Как обычно.
Молится.
Постовые особенности провинциальной епархии
Утро. Весна. Великий пост. Городской рынок епархиального центра, насчитывающего чуть более пятидесяти тысяч жителей. В молочных рядах под дырявой алюминиевой крышей покупателей не больше, чем продающих.
Слякотно. Серо. Сквозняк.
Аккуратно, боясь поскользнуться на не успевшем растаять грязном льду, приподнимая полы подрясника, дабы его не выпачкать, к рядам с молоком, маслом и сметаной подходит священник. Достает из пакета банку с пластмассовой крышкой и покупает литр скоромного питательного продукта.
— Что так мало берешь, святой отец? — интересуется лукаво улыбающийся продавец из ближайшего поселка, где еще живут коровы.
— Так мне больше и не надо, — скромно отвечает священник и осторожно движется к рыночным воротам.
Настроение у батюшки, несмотря на окружающую промозглую серость, хорошее, доброе, постовое, как и быть должно. Хорошо, что молока Черчиллю купил, доволен котенок будет.
Почему Черчилль? Да прихожане аккурат перед постом котенка ему английской масти подарили. Как его иначе назвать-то, если он первые три дня привыкания к новым реалиям бытия орал, как Черчилль в Фултоне? Сейчас уже успокоился, но молока требует. «Не знал печали, Черчилля прихожане дали», — перефразировал батюшка известное идиоматическое выражение, но подарку был рад.
Не успел священник покинуть торгующих, как молочник, успевший «для сугреву» принять стопку домашней, теплом обволакивающей жидкости, обратился к соседке по бизнесу:
— Вишь, Нюра, а вчера этот же поп в телевизоре распинался, что молоко в пост нельзя пить.
Нюра, расстроенная, что молоко купили не у нее, пересилила недовольство и, поправляя выложенные на прилавке банки с ряженкой, яйца и куриные потрошки, громогласно на все ряды заявила:
— Все они, попы, одинаковые! Дурят народ, а мы тут мерзнем без покупателей.
Малочисленность покупателей была в эти дни темой злободневной, поэтому отклик нашла и до завершения рыночного дня обсуждалась активно, пространно, с прибавлением «а я вот чего про них знаю»…
Вечером батюшка исповедовал. Постовые исповеди многословные и подробные. Священник к ним особенно настраивается. Выслушать надобно, понять, подсказать, а часто и посоветовать.
Настрой сбила вездесущая баба Люба. Она обычно в собор на службы ходит, но во всех приходах ее знают, потому что только у нее можно выяснить, кому когда годовщина, кого как звали, кто где умер и куда пойти на ближайший благотворительный обед.
— Ох, искушение великое, батюшечка, — затараторила баба Люба, не успев даже подойти к исповедальному аналою.
— Что случилось с вами, Любовь? — спросил священник.
— Да не со мной, отец родной, не со мной…
— А с кем же?
— Так видели сегодня вас, дорогой вы мой, как вы и молочко, и сметанку покупали. Наверное, приболели, что пост нарушить решили?
Объяснять бабе Любе священник ничего не стал, но ему начало казаться, что все, кто пришел к исповеди, смотрят на него с сожалением и непониманием.
После службы батюшку дома встретил вопросительно смотрящий на него Черчилль. Священник налил домашнему питомцу молока и сел готовить воскресную проповедь. Котенок, довольно мурча, вылакал предложенное, благодарно посмотрел на хозяина и улегся к нему на колени.
Идиллию постового вечера нарушил телефон. Звонил благочинный.
— Со святым вечером, отче! — радостно поприветствовал батюшка своего духовного начальника. — Благословите!
— Бог благословит, — сухо ответил благочинный и тут же не вызывающим духовного подъема голосом резко спросил: — Объясните мне, пожалуйста, для чего вы сегодня на рынке покупали мясо, молоко и яйца?
— Я Черчиллю молоко покупал… — только и смог сказать священник.
— Какому Черчиллю?! — взорвался благочинный. — Завтра же после службы — с объяснительной!
И прервал разговор. Перезванивать священник не стал. Решил, что утро вечера мудренее, страсти утихнут, ложь откроется. Ведь пост без искушений не бывает.
На следующий день батюшка пошел к благочинному объясняться. Не дошел. По дороге его обогнал на машине епархиальный секретарь. Остановился и указал на сиденье рядом:
— Садись, отче. Тебя владыка вызывает. Прослышали уже про твои шашлыки.
Батюшка вздохнул и успокоился. Он теперь точно знал, почему у нас с Англией всегда напряженные отношения.
Рождественский гость
Крыши на храме еще не было. Не успели до холодного ноябрьского северо-восточного ветра привезти шифер. Справились бы в срок, да все собранные по трем селам деньги ушли на расчет с каменщиками из далекого Закарпатья, которые день и ночь не слезали с лесов, чтобы успеть к холодам закончить свою работу. Они-то все сделали и расчет получили, а вот у старосты Петра Филипповича в кармане остались лишь копейки. Не давала ему покоя самая главная проблема: пост к завершению идет, а крыши нет, значит, и Рождество опять по хатам да домам встречать придется.
Просить священника в епархии? А где служить? Под открытым небом? Вопросы оставались без ответов.
Староста зашел в храм. Слева от алтаря, прямо на голой кирпичной стене висела икона Рождества Христова, под ней стоял старый сундук с большим навесным замком. Ключ долго не желал проворачиваться, наконец механизм щелкнул, и Филиппыч поднял тяжелую крышку. На ее внутренней стороне, рядом с портретом последнего царя-батюшки, были приклеены две полосы неразрезанных керенок и плакат, призывающий на выборы в Верховный Совет. Обрамляли сундучную галерею новогодние и первомайские открытки послевоенных годов.
Филиппыч перекрестился и откинул край толстого лоскутного одеяла. Под ним лежали церковные книги, два креста, дискос, немного погнутый потир и несколько больших икон — все, что осталось от разрушенного старого храма. Что сумели сохранить…
Развернул староста видавшую виды, но еще крепкую Псалтирь в кожаном переплете, перекрестился и начал с обычного: «Святый Боже, Святый крепкий…» В храме хотя и прохладно, но сквозняка нет — успели окна затянуть толстой пленкой. Только сверху падали еще не оформившиеся снежинки.
Уже заканчивая кафизму, Филиппыч услышал сзади шорох. Оглянулся. В проеме двери притвора стоял высокий человек в кожаной куртке и кожаной фуражке.
— Молишься, дед? — спросил незнакомец.
— Молюсь. А ты решил помочь псалмы почитать? — тут же откликнулся Филиппыч. — Так давай вдвоем, Богу слышнее будет.
Гость улыбнулся:
— Можно и вдвоем, да только неуютно как-то книжку твою читать, когда за шиворот капает…
Хотелось старику ответить, что слова говорить все могут, а вот помолиться или помочь чем-нибудь не всякий горазд. Но промолчал. Показалось старосте, что видел он где-то этого незнакомца. Одет солидно, уверен в себе, но на начальника не похож. Начальники, они всегда торопятся, псалмы читать не соглашаются и советы дают. Этот не такой.
— Скажи, дед, а зима холодная будет?
— Я тебе не гадалка, — буркнул Филиппыч, но потом, подумав, ответил: — По всем приметам холодная. Мыши по хатам толпами ходят — коты не справляются, листья рано облетели, да и худоба[8] из сараев выходить не желает.
Филиппыч собрался еще добавить, что местный дед-травник тоже морозную зиму предрекает, да и бабка Евдоха, предсказательница сельская, только и талдычит, что холод будет, какого после войны еще не было, но не стал. Оно ему надо, чужаку этому?
Пока раздумывал, как правильнее и ловчее объяснить приезжему необходимость пожертвования на храм, тот внимательно осматривал стены. И только староста решился начать свое вступительное слово о том, как церковь строилась и каким большим трудом обошлась, незнакомец спросил:
— Дедушка, а вы через пару часов сможете сюда подойти?
Староста удивился «выканью», а затем обрадовался — наверное, толк для храма от разговора этого все же выйдет.
— Смогу, чего же не смочь. Живу недалеко.
Пока Филиппыч Псалтирь на место определил да сундук закрывал, стоявшая неподалеку машина с незнакомцем уехала, но тут же появилась вездесущая Евдоха.
Главной особенностью Евдокии была разговорчивость, причем говорила она всегда, независимо от наличия слушателей. Рассуждения ее касались всех и вся, поэтому если требовалось узнать, что было, отчего произошло и какие ожидаются последствия в жизни того или иного сельчанина, спрашивали у Евдохи.
Дело в том, что старушка эта хранила в своей памяти все события, произошедшие в селе с каждым в отдельности и со всеми вместе оптом. Кроме того, она помнила предания старины глубокой, поведанные ей ее бабкой. За божницей в хате Евдокии лежали три толстые тетради. Первая исписана была еще по-старорежимному; вторая, похожая на амбарную книгу, заканчивалась 1942 годом; третья заполнялась уже ныне живущим автором, то есть самой Евдокией. Прочесть что-то там было практически невозможно. По причине слабограмотности, писала Евдоха одной ей ведомыми закорючками и загогулинами, что отнюдь не мешало ей оперативно определить, когда проросла редиска в 1953-м или прогремел первый гром в 1965-м.
Был у Евдохи «коллега» в соседнем селе, дед Иван, но он угорел несколько лет назад, поэтому она осталась единственным «архивариусом» для всех сельчан. Да только страшновато к ней обращаться, потому что ответит бабуля на вопрос, а потом возьмет да и добавит что-нибудь такое, чего сам о себе не знаешь или о чем вспоминать не хочется, а то еще скажет, что тебя в будущем ожидает…
С Филиппычем у Евдокии отношения были сложные, так как староста все на Бога уповал да его угодников почитал, а бабуля непонятно кому крестилась и с кем шепотом разговаривала.
— Здравствуй, Петро! — обратилась к старосте Евдокия и, не дождавшись ответа, тут же скороговоркой добавила: — Ты бы не стоял как пень, а место у церкви подготовил!
— Какое место? — не понял Филиппыч.
— Да под железо на крышу.
Евдоха развернулась и пошла, бурча что-то себе под нос, а Филиппыч начал убирать лежавшие у церковной стены обрезки досок и горбыли. Осознание того, что он выполняет наряд Евдохи, пришло к старосте тогда, когда все было сделано.
Разогревая в сторожке чай, староста вздыхал и повторял раз за разом: «Вот же напасть какая — Евдоха командует. Искушение».
Чай еще не допил, как услышал гул большой чужой машины. В том, что она чужая, сомнений не было. Из тех, что остались в постепенно разваливающемся колхозе, транспорта с таким гулом никак не могло быть. Не те времена.
Изумлению старосты не было предела: к северной стороне церкви, как раз к тому месту, которое он только что расчистил от строительных остатков, подруливал большой желтый кран. Пока крановщик с помощником устанавливали крановые лапы, из проулка появился грузовик с торчащими из кузова шахтными арочными балками. Зачем эта арка, Филиппыч не спрашивал. Он все понял. И не только понял, но и вспомнил… Вспомнил, где видел того незнакомца, который неполных три часа тому назад помешал ему читать Псалтирь и попросил не уходить.
Еще недели не прошло, как ездил староста в город к главному шахтерскому начальнику — «генералу», по-местному. Денег на крышу просил. Денег ему не дали, но помочь чем-нибудь пообещали. В это «чем-нибудь» Филиппыч не верил и вернулся из города окончательно расстроенный. Вот там, на том приеме у генерального директора, и видел староста своего сегодняшнего гостя. За столом он с главным начальником рядом сидел.
На третий день крыша храма была готова: вместо деревянных стропил стояла шахтная арка, а шифер заменяла отслужившая свой шахтный век транспортерная лента. Суетились вокруг церкви прихожане, помогая заделывать оставшиеся щели и радуясь тому, что все время, пока крышу сооружали, солнышко выглядывало и из туч снежком не сыпало. К обеду приковыляла и Евдокия, как всегда о чем-то сама с собой рассуждавшая. Вокруг храма обошла, клюкой своей зачем-то по углам церковным да ступенькам притвора постучала и к Филиппычу обратилась:
— Ты, Петро, здесь не крутись, а езжай в область попа выписывать. Рождество-то через девять дней. Или опять, как раньше, в город на службу идти?
Староста, уже кардинально изменивший свое мнение о Евдохе, все-таки хотел возразить сердито, мол, не командуй здесь, да промолчал. Ведь действительно церковь есть, просфоры будут, книги главные богослужебные в наличии, надо священника звать.
* * *
Архиерейский секретарь долго объяснял Филиппычу, что приход сначала надо зарегистрировать, а только потом на него священника посылать. Знал староста закон этот советский, за нарушение которого когда-то и сам пострадал, но ведь Рождество Христово через несколько дней, оно законам земным, а тем паче начальникам никак не подчиняется.
Перекрестился дед и решительно вопросил:
— Вот если к вам, батюшка-секретарь, детки ваши на день рождения не придут, каково вам будет? А вы волхвов к Христу Младенцу не пускаете!
— Каких это волхвов? — не понял главный епархиальный священник.
— Да нас, прихожан. Мы ведь дары приготовили уже, как раз к Рождеству Спасовому и храм построили, и вертеп сделали, и помолиться хотим…
Секретарю от такого сравнения стало как-то не по себе. Пока он искал ответ, приоткрылась дверь, и из своего кабинета вышел улыбающийся епископ (кабинет правящего архиерея за тонкой стеночкой находился, и владыка слышал разговор во всех подробностях).
— Что, Петр Филиппович, вразумляешь секретаря моего? — обратился архиерей к старосте.
— Да что вы, владыко святый! — смутился тот, испрашивая благословения. — Я прошу только…
— Правильно просите, — заключил епископ. — Будет вам священник. Мы уж как-нибудь с властями сами все решим. Езжайте, готовьтесь к празднику.
* * *
Рождественская служба в новом храме началась в два часа ночи. Хоть и боялись прихожане сельские, что мало кто придет в столь поздний час, но от традиции старого, порушенного в годы лихолетья прихода отступать не пожелали. «Так деды наши служили» — этот аргумент победил все страхи.
Напрасно боялись. Уже с полуночи церковь стала наполняться, а к тому времени, как запели на Великом повечерии «С нами Бог, разумейте языцы…», храм был полон.
И не беда, что еще нет полов, что вокруг неоштукатуренные стены, что иконостас лишь условно обозначен. В воссозданном из, казалось бы, окончательного небытия храме служилась служба Божия. Христа Рожденного славили и началу собственного спасения радовались.
За престолом, облаченным в белую парчу, возносил молитвы приехавший накануне молодой священник в таком же белом, блестящем облачении.
После службы, наскоро попив горячего чаю, батюшка с детворой и прихожанами отправился по селу «Христа славить». Плакали бабушки, украдкой вытирали слезы старики, удивленно смотрели на эту радость те, кто вырос без храма…
На краю села, возле маслобойни, у калитки своего небольшого домика стояла Евдокия с иконой Христа в руках, украшенной рушником. Пропели трижды «Рождество Твое, Христе Боже наш…» и в дом зашли.
К столу приглашал средних лет мужчина в красивом дорогом костюме. Откуда такой гость, никто понять не мог. Вот только Филиппыч признал незнакомца. Это он заезжал неполные две недели назад в храм и попросил задержаться ненадолго…
Вопросительно глянул староста на Евдокию, а та, смахивая невидимую пыль с длинной скамейки у праздничного стола, просто сказала:
— Вот правнучек мой на Рождество приехал…
Архиерейское благословение
— Так, говоришь, тяжко жить стало, отец?
— Ох тяжко, владыченька святый, — затараторил отец Николай. — Прихожане только по праздникам, треб мало, за коммуналку платим, сторожам платим, а где этих грошей наберешься?
Владыка подошел к окну, приоткрыл штору и стал внимательно рассматривать епархиальную ограду, за которой стоял новенький Nissan отца Николая.
— И сколько же у тебя крещений было с начала года? — спросил архиерей.
— Да какие крещения, владыченька? Я уж и забыл, когда крестильный ящичек открывал, — слезно ответствовал батюшка. — Если пять-шесть младенцев окрещу за год — и то радость. Да где их взять-то, младенцев? Не рожают, владыка.
— И не помирают? — продолжал допытываться епископ.
— Бывают покойники. Куда же им деваться, владыка святый? Но я ведь добрый, поплачу с родственниками усопшего и ничего с них не беру, — слезливым голосом отвечал священник.
— Да, дорогой мой отец, нелегко тебе, ох нелегко… Понимаю, никак нельзя с тебя епархиальные взносы брать…
— Нельзя, владыченька дорогой, никак нельзя, — воспрянул отец Николай.
Владыка же, шагая по кабинету мимо подобострастно улыбающегося и сидящего на краешке диванчика священника, продолжал рассуждать:
— Архиерей должен заботиться о своих подопечных, помогать им всемерно, заботы и нужды их знать. Верно, дорогой мой батюшка?
— Ох верно, владыченька! Вы ведь всегда помогаете и все знаете…
— Сколько, говоришь, в городке твоем жителей, отец Николай? — уже деловым голосом спросил епископ, усаживаясь за стол и рассматривая личное дело священника.
— Да тысяч двадцать, владыченька.
— И так мало в храм ходят?
— Ой мало, владыка, почти никого. Одни сектанты и атеисты. Что с них возьмешь-то? — опять затараторил священник.
Архиерей решительно захлопнул папку, в которой на второй странице красовалась улыбающаяся физиономия отца Николая десятилетней давности, и решительно сказал:
— Помогу я тебе, отче, помогу!
— Спаси Господи, владыка святый! — воскликнул священник, умиленно глядя на архиерея и прижимая руки к груди.
— Ну так вот, — продолжал епископ, — есть тут у меня приход. Недалеко. Километров сто пятьдесят от епархии. Там село сплошь православное. Маленькое, правда. Душ пятьсот-шестьсот. Крещений в год два десятка, не меньше. Венчания бывают, да и на службе по воскресеньям всегда человек сорок набирается. Прошлый настоятель и семью свою кормил, и храм содержал, и на епархиальные взносы у него копейки находились. Так что кончится твоя бедность, дорогой мой батюшка. — И, поднявшись во всю свою архиерейскую стать, поправил на себе панагию и грозно приказал: — Подходи под благословение!
Не удержался
Кабинет отца наместника располагался на втором этаже здания, восстановленного по сохранившимся архивным чертежам и рисункам. Поэтому и лестничный пролет в нем изготовили деревянный, «как раньше было».
Архимандрит, он же «отец наместник», в своей полувековой жизни столько времени провел перед закрытыми дверями начальственных кабинетов, что, переселившись в собственное присутственное место, благословил входную дверь не закрывать: «У меня секретов нет и скрывать нам в обители нечего».
В результате этого, непонятного для многих распоряжения через некоторое время отец наместник по скрипу деревянных ступеней мог точно сказать, кто к нему поднимается, а спустя год безошибочно определял и состояние духа очередного посетителя. На этот раз он даже из-за стола навстречу посетителю вышел. Ступеньки сообщили, что весть будет неожиданная, неприятная и несет ее не кто иной, как отец эконом. Так оно и оказалось.
Отец эконом — монах особенный. И не только потому, что дороден и громогласен. Отличительные его черты — постоянная занятость, деловитость и умение все видеть, замечать и исправлять. Он и монахом-то стал по этой причине. Приехал в монастырь вместе со студенческим отрядом помощь в реставрации оказывать, да так проникся заботами монастырскими, что академотпуск взял. Когда же заметил, что утром без молитвы не работается и не думается, а вечером без «Свете тихий» не засыпается, написал прошение о приеме в братию. Постригли. Нарекли Михаилом, да тут же и должность экономскую дали, как само собой разумеющуюся, только ему и предназначенную.
Отец наместник никогда не видел эконома столь расстроенным.
— Что там случилось, отец Михаил? — обеспокоился он.
— Саня пропал.
— Велика новость! — в сердцах ответил архимандрит. — Он все время куда-то пропадает и так же всегда находится.
— Да нет, батюшка. Он всерьез пропал.
— Как это «всерьез»?
Пришлось отцу Михаилу поведать архимандриту, что давеча, то есть вчера вечером, уже после ужина пришел к нему Саня и попросил благословения на речку пойти рыбу ловить. Зная, что из этой затеи, как и вообще из всех затей монастырского чудака, ничего толкового не выйдет, но не находя запретительных поводов, эконом благословил, но разрешил взять лишь одну удочку…
Тут надобно немного рассказать о человеке, который являлся и, надеюсь, по сей день является неотъемлемой частью монастыря, хотя никто его в братию не принимал, в сан не возводил и вообще толком не представлял, откуда он взялся. Все звали его Саня.
Сам он считал себя «православным хиппи», хотя, если бы не нательный крест на толстом гайтане, его можно было бы принять за современного дзен-буддиста. В рассуждениях Сани иногда слышались столь мудреные философские обороты и изыски, что собеседник замирал в ожидании интересного вывода или определения, но так их и не дождавшись, пожимал плечами и уходил в сторону. Саня вообще не следил за логикой своей речи, как, впрочем, и за собой. Однако определение «юродивый» к нему никак нельзя было отнести, потому что в окружающем мире он видел только красивое, удивительное и неповторимое. Прилипший к обуви комок грязи мог вызывать у него аллегорическое рассуждение о несопоставимости праха земного и красоты человеческой, которую даже духовная нечистота не может превозмочь, а прилипший к этому комку лепесток одуванчика вводил Саню в трансцендентальное состояние, не прерываемое даже голодом.
Саню любили все, и не за что-то конкретное, а просто за сам факт его существования; всегда чем-то угощали, но у него никогда ничего не было — все раздавалось или где-нибудь благополучно забывалось.
Внешний вид у монастырского сокровища был бродяжный. Но после первых Саниных слов, произнесенных с хипповской утонченностью, и кроткого, чистого взгляда его одеяние утрачивало значение, поэтому не всякий мог ответить, во что Саня одет и как толком выглядит.
Испросив благословение на «улов рыбы», Саня получил у отца эконома удочку и краюху хлеба для наживки, так как накопать червей, а затем насаживать их на крючок новоявленный рыбак был не в состоянии ни физически, ни нравственно. Еще отец Михаил хотел рассказать о том, где лучше поймать карася или плотвичку, на что Саня ответил рассуждением об апостолах, которые рыбу ловили сетью, а не палкой с ниткой и гвоздем согнутым.
Как бы там ни было, вооруженный орудием лова, Саня направился к нижним воротам, где почти вплотную к стене обители текла быстрая речка с пологим «монастырским» берегом и обрывистым противоположным.
С башни обители сначала было видно лысоватую Санину голову, но затем она скрылась в зарослях берегового лозняка. Специально за ним никто не наблюдал, да и рыбаков у монастырских стен всегда не менее десятка располагалось. Рыба, она в душе паломница; во всей округе не клюет, а около монашеского пристанища в любое время поймать можно. Среди кустов с рыбачьими прогалинами и затерялся наш хиппи.
На вечерней службе Саня не показался, но этому не придали особого значения. На ужине о нем и не вспомнили, так как он трапезные не различал: мог и в братской подкрепиться, и в паломнической его всегда кормили.
Всполошились рано утром.
Дело в том, что будильщика с колотушкой, как в иных обителях, здесь не было, и на полунощницу братию будил дежурный по монастырю, который, случалось, задерживался по причине сонливости. Зато Саня никогда не опаздывал, он всегда минут за двадцать до начала самой ранней службы обходил обитель, громко распевая: «Се жених грядет в полунощи…».
В этот раз Саниного «будильного гласа» не дождались, поэтому многие припозднились, резонно и недоуменно спрашивая друг друга: «Куда делся Саня?»
К окончанию полунощницы, когда вся братия пред мощами преподобного старца поклоны бьет, у отца эконома уже вполне определилось все растущее беспокойство. Получалось, что он последним видел монастырского поселенца, которого, казалось бы, всерьез не воспринимают, но при его отсутствии все чувствуют, что в обители неблагополучно.
«Может, простыл на рыбалке и в келье лежит?» — подумалось эконому. Однако, спускаясь с паперти храма, он понял, что проверить свою догадку не сможет, потому что совершенно не знает, где находится Санина «келья». Не знал и благочинный, также обеспокоенно вышедший из храма. На вопрос: «Где Саня ночует?» — братия лишь плечами пожимала, толком ответить смог только глава монастырских паломников…
Оказалась Санина келья на скитской колокольне, за лестницей. Но там, кроме старого дивана без спинки да одеяла с табуретом, ничего не нашлось; непохоже было, что в прошедшую ночь здесь кто-то спал.
Больше не рассуждая, отец Михаил, прихватив с собой двух паломников, пошел на реку. Искали долго. Рыбаки были, Сани не было. На все расспросы — лишь недоуменные взгляды и отрицательные ответы. Да и не оставался никто у реки ночью…
Узнав подробности, отец наместник снарядил целую поисковую экспедицию, а дежурным иеромонахам приказал служить молебен сорока Севастийским мученикам и преподобным старцам, дабы они указали, куда монастырское сокровище запропастилось.
Не найти Саню было нельзя. И не только потому, что, как выяснилось, без него монастырь сиротствует, но еще и оттого, что в милицию обращаться не с руки. Ведь фамилию Санину никто не знал, биографии не ведал и паспорта у него не видели. Если Саня не найдется, неприятностей было не избежать. Зачем Саня нужен монастырю, толком никто сказать не мог, но все понимали, что без него никак нельзя.
В обители уже заканчивалась поздняя литургия, когда самое страшное предположение, о котором и думать не хотелось, начало подтверждаться. Недалеко от угловой монастырской башни, у самой воды, в зарослях прибрежного камыша лежала аккуратно сложенная стопка одежды. Это было Санино одеяние… В карманах и монашеские четки, которые он всегда носил на шее, и разноцветные фенечки хиппи.
Отец архимандрит, окончательно расстроенный этой вестью, раз за разом сокрушенно вздыхал да крестом себя осенял. После трапезы, прошедшей приглушенно и сумрачно, он обреченно пошел к себе в кабинет звонить в милицию.
Через час по монастырю ходили хмурые милиционеры, пристававшие практически к каждому с вопросами, в которых слышались откровенное подозрение и раздражение. Водолазы же обещались приехать в течение двух-трех недель. Отец наместник, рассудив, что надежды больше нет, разрешил отслужить заупокойную литию…
Служили в левом приделе. Тихо, скорбно, сердечно. Когда иеродиакон возгласил «Во блаженном успении…», все — и монахи, и послушники, и паломники — со слезами запели «Вечную память».
Только допеть с сердечным умилением не вышло. С правой стороны храма, с клироса, послышалось столь тоскливое и страшное завывание, что хор поперхнулся, а отец эконом ринулся узнавать, что там еще случилось.
В темном углу за клиросным аналоем сидел Саня и, заливаясь горючими слезами, пел «Вечную память». Немая сцена из гоголевского «Ревизора» — ничто по сравнению с остолбенением отца эконома вкупе с монахами. Саня не только пел, он еще и был одет в блестящий пуговицами, погонами и значками железнодорожный китель.
Всеобщее молчание прервал запыхавшийся послушник, прибежавший с требованием к эконому и благочинному срочно прийти в кабинет отца наместника. Отец Михаил схватил покорного Саню за руку и, забыв о священнической и должностной стати, развевая мантийными фалдами, почти бегом ринулся к архимандриту.
На этот раз ступеньки, ведущие в приемную архимандрита, скрипели так, что тот не просто встал навстречу, а даже выбежал к лестничному пролету.
— Вот! — только и мог сказать отец эконом, указывая перстом на Саню.
— Слав Те, Господи! — охнул наместник, затем замолчал и, указывая на сидевшего в кабинете незнакомого мужика, добавил: — И вот!
Жалостливое выражение лица незнакомца, уставившегося на Саню, медленно менялось на гневное, а потом он заорал:
— Вот он! Вор!
Когда эмоции улеглись, все прояснилось.
Вернувшись из рейса, железнодорожник с коллегами изрядно выпил. Дома по этой причине случился скандал. В сердцах машинист первого класса и ударник труда хлопнул дверью и ушел на речку, прихватив для успокоения бутылку самогона.
Нужен был напарник, так как без «поговорить» бутылка никак не пилась. Тут и увидел работник железных дорог странного человека, который, поймав рыбку, очень внимательно ее рассматривал, гладил по головке и отпускал обратно.
Присев рядом, водитель паровозов и тепловозов обрел в Сане удивительного слушателя. И не только слушателя; Саня своими короткими репликами, вздохами и междометиями доказал собеседнику, что его жена только о нем и заботится и что Сам Бог ее ему определил. К концу бутылки ударник железнодорожного труда окончательно решил вернуться к семейному очагу, но прежде надо было искупаться, потому что в таком виде его дома не приняли бы.
Разделся и прыгнул в отрезвляющую воду. Пока доплыл до вроде бы близкого противоположного берега, сильное течение довольно далеко отнесло его от Саниного рыбного места. Железнодорожник позволил себе немного передохнуть, да и уснул…
Тут-то Саня и обратил внимание на китель своего собеседника. Блестящие пуговицы, мерцающие под лунным светом погоны и разноцветные значки не оставили православного хиппи равнодушным. Не мог Саня красоту эту монахам не показать, но те уже по кельям разошлись. Лишь в храме кто-то заунывно читал Псалтирь. Саня примостился за правым клиросом и задремал. День-то долгим был, еще и железнодорожник уговорил рюмочку выпить.
Когда проснулся, иеродиакон «Вечную память» возглашал. Надо же было поддержать. Монахи так красиво поют — не удержишься…
Отец, товарищ старшина…
Уже заканчивался январь, а крещенские морозы ослабевать не желали. В паломнической гостинице Оптиной пустыни[9] среди тех, кто приехал в монастырь на длительное время, уныния как такового не наблюдалось, но просьбы — и молитвенные, и житейские — о хотя бы небольшом потеплении звучали все явственней. Дров в разжигание скромного ропота и невыговоренных вслух пожеланий о прекращении стужи крещенской подбрасывал дед Иван.
Старик в ту зиму зачастил из своего Белёва (есть такой небольшой городок недалеко от Оптиной) в монастырь. Да и как не зачастить, если более благодарных слушателей ему найти было просто негде? Дело в том, что он, имея сугубо православную сущность, был, по собственному его определению, «травником» и «знатоком душ человеческих». Насколько помогали его травы, а он их привозил полный рюкзак в маленьких мешочках, пучочках и свертках из районной газеты «Путь к коммунизму», неведомо, но в подготовке паломников к исповеди у деда равных не было. Умел Иван грехи у спрашивающих выискивать, группировать и по важности распределять, а также советы давать, кому и как исповедоваться должно. В общем, нужная для продуктивного и качественного покаяния личность.
К деду прислушивались многие, и когда он на очередное сетование о жестоком морозе, открыв свою старую, толстую, шпагатом переплетенную тетрадь, заявил, что в этом году за крещенскими грядут сретенские лютые холода, многие приуныли.
Однако не оправдалось предсказание.
Сретение Господне Оптина встречала снежно, но рыхлый снег, чирикающие воробьи и черные каркающие галки на пути из скита в обитель отчетливо напоминали всему окружающему миру, что грядет весна с ее Великим постом и Светлым Христовым Воскресением.
* * *
Павел с осени был при монастыре. Приехал посмотреть, да и остался. Изначально даже сам себе объяснить не мог, что его тут держит, а когда в очередной раз отодвинул на «потом» дату отъезда, понял, что уезжать ему не только не хочется, но и не нужно. Почему? Словами не объяснялось. Не нужно, и всё тут.
После праздничной литургии Павел увидел подходящего к кресту деда Ивана, но утренней решимости поставить ему на вид неудачный прогноз уже не было, даже немного посочувствовал старичку за его ошибку.
Трапеза обеденная в тот день из-за обилия паломников, туристов и местных верующих затянулась, да и уходить от радостных знакомых и незнакомых лиц не хотелось. Сретение[10] — особое торжество, его даже сомневающаяся во всем и вся личность невольно признает. Как не признать, если радость житейская и тем более духовная у нас всегда со встречами связана?
До вечерни еще оставалось время, можно было передохнуть, книжку почитать. Современный паломник или трудник монастырский литературой духовной всегда конкретно и всесторонне интересуется. Павел не исключение, но он в те дни «Братьев Карамазовых» перечитывал, что определенную часть его соседей по келье смущало.
— Все от страстей не отойдешь, брат? — спрашивали некоторые.
Обычно Павел не отвечал, но когда надоедливо доставали рассуждениями и советами о том, как и что читать надобно, молча брал под руку ретивого «аскета», выводил его за порог храма и объяснял:
— Вот в этой келье жил старец Зосима, а тут ночевал Алешка Карамазов, а вон в том домике и сам писатель время свое проводил.
Радетели «кондового православия» и непрестанного повседневного исихазма после подобного толкования всегда становились тише, вдумчивей и на вид красивей.
Рядом со скитом до дня нынешнего есть колодец. Все его «амвросиевским» называют, хотя мнения историков и архивариусов по поводу того, имеет он какое-нибудь отношение к преподобному старцу оптинскому или нет, расходятся. Но как иначе этот колодец определить, если он по дороге к келье старца располагается?
Павел не спеша, гремя колодезной цепью, достал воды, набрал ее в прикованную к срубу кружку, напился и решил умыться. В прошедшие дни морозные не каждый раз на это смелости хватало. Пока ополаскивал свое уже обросшее небольшой бородкой лицо, услышал сзади шаги, а затем знакомый, но почти забытый голос:
— Как вода святая, сержант?
Обернулся. За спиной стоял священник. На подрясник с ярким на темном фоне иерейским крестом была надета синяя меховая офицерская авиационная куртка.
— Благословите, отче! — только и смог ответить Павел, лихорадочно пытаясь сообразить, откуда этот священник знает его армейское звание и почему у него такой знакомый голос.
— Бог благословит! — Батюшка широко, уверенно осенил Павла крестным знамением, а затем с улыбкой спросил: — Думаешь? Ну думай, сержант, думай.
Попил незнакомец в сане иерейском воды святой, крякнул, губы отер и утверждающе произнес:
— Эх, жизнь моя еловая, голова садовая!
— Отец старшина, ой, товарищ старшина! — только и смог выговорить Павел.
Именно эта присказка-поговорка о голове садовой и жизни еловой помогла Павлу сообразить, что перед ним в реальном времени и собственной персоной предстал армейский старшина. Тот самый, который в степях казахских спас Павла, когда он без разрешения отправился на полигон посмотреть мишени для самолетов и попал под бомбежку; тот самый, который полтора года учил молодого бойца премудростям авиационного мастерства и армейской жизни.
В первые секунды встречи Павел сразу на себе прочувствовал сущность двух определений: «застыть как соляной столб» и «от радости в зобу дыханье сперло». Он не знал, что сказать, какой вопрос задать. Одно лишь молвилось:
— Господи, да как же это?!
Отец старшина, то бишь батюшка, приобнял своего бывшего сержанта и как в давние годы службы жизнеутверждающе произнес:
— Держись, парень, будем жить! — а затем перекрестился и добавил: — Видишь, как Господь-то распорядился. Одно слово — встреча, Сретение!
Операция «Карацупа»
У Петра Алексеевича радость. Внук приехал. Издалека. Из России. По километрам до степного донского городка совсем ничего, по прямой грунтовой дороге и пятидесяти не наберется, но граница нынче это расстояние утроила. Раньше Петр Алексеевич на мотоцикле почти каждую неделю к дочкиной семье ездил и думать не думал, что между ними канаву межгосударственную пророют. Первые годы болело сердце по этому поводу и в уме не укладывалось, что дети теперь иностранцы. Но куда денешься? «Значит, Богу так угодно», — успокаивал себя Петр Алексеевич, но все равно, когда ходил к пасеке и видел зарастающую бурьяном прямую дорогу к детям, горько вздыхал и немного ругался.
Спросил у местного священника, грех ли это, что он власти раз за разом попрекает, а батюшка и сам в ответ вздохнул, да пожаловался: «Алексеич, мои родители тоже там, “за рубежом” пребывают».
Решили они с батюшкой вместе о вразумлении властей молиться. Какая от обид и обвинений польза? Одно расстройство да осуждение.
И месяца не прошло с того дня, как дочка приехала и привезла телефон мобильный с российской «пропиской». Из дому поговорить не получается, а если за ферму на курган выйти, то свободно позвонить можно. Так что теперь Петр Алексеевич в нарушители государственной границы себя зачислил. А как иначе? Разрешения ведь на телефонную международную связь у него нет, да и соседка Клавдия все попрекает: «Ты, Петька, шпиён. Каждый день на курган ходишь и секреты наши за бугор передаешь».
Впрочем, на Клавдию Петр Алексеевич не обижается. Она хоть и с детства такая вредная, но сейчас без ее помощи тяжело бы старику пришлось. Уже почти десять лет, как Ганну свою Алексеич похоронил и один остался. В первый год, когда за тот же курган на кладбище жену отнесли, засобирался и он вслед за ней. Не мила ему жизнь стала, в дом без детей и супруги даже заходить не хотелось.
Вот тут-то Клавдия из горести и безразличия старика вывела. Пришла как-то утром, порядок в хате навела и на него накричала, что пасеку забросил, а это грех великий такую полезную для людей тварь Божию оставлять.
Что такое грех, Петр Алексеевич знал, так как в Бога верил, в церковь ходил, дома всегда вечером лампадку у иконы зажигал и «Отче наш» вместе с «Да воскреснет Бог» обязательно читал.
На сороковины, после панихиды по супруге Петра Алексеевича к нему священник подошел, попросил за церковным хозяйством приглядеть. Так потихоньку и стал Алексеич не только образцовым пчеловодом, но и незаменимым церковным завхозом. Сегодня каждый день у старика занят. И на пасеку поспеть надобно, и дома по хозяйству управиться, и в храм Божий наведаться, да и на курган подняться с детьми поговорить тоже нужно. Благо Клавдия помогает. Раз в неделю придет, в хате порядок наведет и борща наварит.
В этом году весна ранняя. Пчела рано вылетела, Пасха уже в жаркую погоду подоспела, а к Петрову посту и гречка отцвела. Второй раз Петр Алексеевич вместе с приохотившимся к пчелам батюшкой мед на пасеке качал и на выстроившиеся на полках кладовой трехлитровые банки с медом с радостью поглядывал да Бога благодарил.
После Духова дня долго беседовал Алексеич со священником на очень злободневную тему: как бы родственникам своим в соседнюю Ростовскую область медку передать. Снаряжать машину через таможню, брать справки и страховки, платить за взлетевший в цене бензин — дело, конечно, возможное, но золотым тогда мед этот станет. Думали они с батюшкой, думали и пришли к выводу, что надо проблему эту решить по-иному. Сомнения, естественно, одолевали, но когда Петр Алексеевич заявил, что на помощь внука из России вызовет, священник согласился.
Наметили мероприятие на первое воскресенье поста по причине того, что в этот день память всех святых, в земле Русской просиявших, празднуется. Решили, что никак не могут в этот день, когда по обе стороны границы праздник общий, какие-то казусы случиться и препятствия возникнуть.
Дед забрался на курган и долго по телефону рассказывал зятю, что и как делать надобно. Аргументы заграничного тестя по передислокации украинского меда на российскую территорию хоть и с колебаниями, но были приняты. Более того, дочка с зятем согласились на помощь старику сына отправить.
Внук Петра Алексеевича — парень видный, статный и самостоятельный, но пока еще неженатый — прикатил к деду на новой красной машине. С недоверием осмотрел дед японскую колесницу внука, хмуро постучал костяшками пальцев по ее дверцам и капоту, заглянул под днище и с сожалением констатировал:
— Не наша тачанка. Не годится…
Внук даже поперхнулся:
— Дед, ты что?! Это же «Мицубиси» настоящая! Знаешь, какой у нее мотор?
— Говорю, не годится, значит, не годится, — повторил дед и добавил, кивая в сторону заброшенной дороги: — Твоя «пицуписи» на первой колдобине на пузо станет, а в балочке за посадкой застрянет наглухо. На «Паннонии» поедем.
— На чем? — выдохнули вместе внук со священником.
— На мотоцикле моем, — ответствовал Петр Алексеевич и пошел открывать сарай, в котором в целости и сохранности пребывал трехколесный мотоцикл с коляской времен развитого социализма.
Нашлись у деда и пара канистр с бензином марки А-72, сбереженные с тех пор, когда граница отсутствовала как таковая.
— Дед, ты как в «Операции “Ы”» готовишься, — резюмировал внук.
Алексеич фильм тот с Шуриком и Никулиным помнил, но с выводом внука не согласился и поправил:
— Не «Ы», а операция «Карацупа».
— Чего? — не понял молодой человек.
Дед с сожалением посмотрел на любимого зарубежного родственника, хотел даже отругать его, что не знает, кто такой Никита Карацупа, но потом передумал. Да и правильно. Откуда современная молодежь об этом легендарном пограничнике, Герое Советского Союза может знать, если и страны уже той нет?
Вечером в люльку загрузили четыре десятка трехлитровых баллонов с медом. Сверху на коляску взгромоздился Петр Алексеевич. За руль аппарата был усажен внук, сзади сидел батюшка в подряснике.
Вообще-то священника отговаривали ехать, мол, не поповское это дело рубежи Отчизны нарушать, но батюшка был непреклонен:
— Поеду вместе с вами. Если чего не так, то заступлюсь и объяснюсь, да и молиться всю дорогу буду.
С этим аргументом дед с внуком были вполне согласны. Со священником спокойней. Перекрестились, «Царю Небесный» прочитали и поехали…
«Паннония» как будто молодость вспомнила. Равномерно тарахтя, легко взбиралась на горки, без труда преодолела довольно крутую балку, а колдобины дороги, заросшие высокой травой, казалось, вообще не замечала. И часа не прошло, как мотоцикл с тремя потенциальными нарушителями государственной границы стоял у неширокого рва, разделяющего два государства.
Солнышко уже село, с восточной, российской, стороны потихоньку подступала ночь, и вместе с первыми появившимися звездами прикатили «Жигули» с дочкой и зятем Петра Алексеевича.
Пока внук с зятем занимались конкретной контрабандой, то есть перегружали банки с медом из украинского мотоцикла в российский автомобиль, Петр Алексеевич с дочкой и батюшкой о жизни беседовали.
Вокруг тихо. Кузнечики стрекочут. Из пруда лягушачий концерт слышится. Чабрецом с полынью пахнет. К этому аромату медовый добавился, а рядом абрикосы дикие спеют. Воздух — кисель благоуханный…
Вдыхает Петр Алексеевич благодать эту, дочку слушает и радуется:
— Слава Тебе, Господи. Вся премудростию сотворил еси…
Тут и зять с внуком подошли. Присели на травку, к разговору присоединились. Родные такие, любимые. Лепота…
Пограничники появились неожиданно. Причем с двух сторон. Российские подъехали на украинском ЛуАЗе, а украинские на российской «Ниве». Осветили друг друга фарами, поздоровались и окружили нарушителей…
В урегулирование международного конфликта первым вступил батюшка, успевший до начала переговоров со стражами государственной границы прочесть: «В море житейстем обуреваемии, треволнению подпадаем страстей и искушений. Подаждь убо нам, Госпоже, руку помощи, якоже Петрови Сын Твой, и ускори от бед избавити ны, да зовем Ти: радуйся, Всеблагая Скоропослушнице».
Священник с великим почтением поздоровался и радостно поздравил пограничников с праздником всех русских святых. Затем достал из кармана подрясника иконки и вручил каждому, приговаривая:
— Да хранит вас Господь от бед и искушений!
Те удивленно смотрели на длинного, как жердь, попа, иконки брали и, по всей видимости, искали подходящие слова.
Переговоры продолжила российская сторона, успевшая заглянуть в жигуленок и увидевшая там батарею банок:
— Нарушаем, граждане?!
— Нет, служивые, не нарушаем. Просто проводим операцию «Карацупа», — вступил в разговор Петр Алексеевич.
Российская сторона спросила «чего?», а украинская — «кого?». Но, судя по миролюбивым лицам, и те и другие были настроены доброжелательно.
— Да вы, ребята, присаживайтесь к нам. Сейчас медку отведаем. Папка только вчера накачал, — захлопотала дочь.
Кто его знает, почему и отчего, но пограничники не отказались.
Присели. Меду отведали, благо и хлеб нашелся. Петр Алексеевич им о Никите Карацупе рассказал, а батюшка разъяснил, как молиться.
Старший пограничник с украинской стороны старику свой номер телефона дал и успокоил его насчет переговоров с кургана, а командир с российской стороны пообещал помочь мед отправить батюшкиным родителям.
Когда прощались, стражи рубежей улыбались, но просили не нарушать… или хотя бы их предупреждать.
Дома Петр Алексеевич со священником первым делом в церковь заехали; лампадку зажгли, Бога поблагодарили, всем святым русским спасибо сказали да и Карацупу не забыли.
Церковный сторож
В небольшом шахтерском поселке, пережившем свой расцвет три десятилетия назад, а ныне постепенно умирающем вместе с выработанной угольной шахтой, открылась, на радость старушкам и немногочисленным в донбасских краях старикам, церковь.
Обосновался приход в бывшей столовой, где когда-то питались и горняки, и работники небольшой обувной фабрики, и довольно многочисленные местные жители. Сюда забегали за коржиками и пирожками детишки из средней школы, здесь играли свадьбы, устраивали поминки, провожали в армию и организовывали молодежные вечера.
Было… когда-то.
Пять лет назад, приехав на погребение, увидел местный благочинный брошенное здание с массивным замком на дверях, разбитыми окнами и захламленным двором. Походил вокруг, Богу помолился, шагами размеры определил и пошел в местный поселковый совет.
На предложение священника отдать разрушающуюся столовую под храм изначально возмутились, категорически не согласились и даже предположили, что поп желает всю власть вкупе с поселком пораньше похоронить. Когда же протестное настроение прошло, а в поссовет в очередной раз прибежали женщины с жалобой, что в «столовке» их мужики самогонку пьют, подростки иными непотребностями занимаются, а местный участковый туда вообще заходить боится, решили все же бывший очаг общепита под церковь отдать.
Пока постановление поссовета по инстанциям ходило и законную силу набирало, столовую начали рушить более интенсивно и последовательно: двери снимать, оконные рамы выдирать и закрытые кладовки в поисках металлолома взламывать. Растащили бы все вчистую, да внезапно сторож объявился. Незнакомый мужичок, на вид тихий и скромный, на вечернем автобусе приезжал и до утра будущий храм охранял. Не было у него берданки, свистка и форменной фуражки с околышком, но отчего-то местные экспроприаторы неохраняемого добра угомонились, хулиганистые подростки утихомирились, вездесущие потребители местного зелья нашли иное пристанище, а участковый отрапортовал высшему начальству о ликвидации очага потенциальной преступности и улучшении криминогенной обстановки.
По поселку быстро распространилось утверждение, что сторож этот, церковью нанятый, — бывший десантник, в горячих точках воевавший, героизмом прославившийся. Под руку ему попадаться — себе дороже.
Обо всем этом первые поселковые прихожанки в лице десятка бабушек поведали своему настоятелю, только что рукоположенному и на данный приход назначенному иерею Андрею, чем чрезвычайно его озадачили. «Пора познакомиться», — решил батюшка, но прежде позвонил благочинному, чтобы выразить благодарность за его пастырскую и отцовскую заботу о новом приходе. Благочинный на слова благодарности отреагировал крайне доброжелательно, но должен был признаться, что никакого десантника он на новый приход не посылал и знать его не знает.
Заявление благочинного еще больше озадачило священника и укрепило в решимости разобраться, что же за неведомый подвижник добро приходское охраняет и порядок на окрестных поселковых улицах поддерживает.
Дождался отец Андрей вечернего позднего автобуса и увидел Михаила, не спеша зашедшего в еще не огороженный церковный двор, по-хозяйски открывшего каморку у сарая и усевшегося на вынесенную из нее табуретку. Это был именно тот Михаил, который с первых служебных воскресных и праздничных дней всегда у окна с правой стороны храма стоял, сосредоточенно молился и очень внимательно, не отрывая глаз от священника, чем иногда его смущал, проповеди слушал. Батюшка уже привык, что Михаил первый встречал его утром и практически всегда провожал после службы. Да и в делах приходских, в первый год заключавшихся большей частью в вывозе из многочисленных каморок, кладовок и комнат бывшей горняцкой столовой бутылок, ящиков и прочего хлама, Михаил почти всегда был рядом.
Вот только одно настоятеля и прихожан в Михаиле смущало — слишком он молчаливый был. Скажет пару слов, благословения попросит и молчит. На исповеди всегда записочку подавал, в которой каллиграфическим почерком пронумерованные согрешения записаны. Ни тебе дополнительных вопросов, ни откровений под священнической епитрахилью, ни жалоб. Лишь вздохи нелицемерные, да взгляд сокрушенный и покаянный.
Не было более внимательного слушателя во время субботних бесед настоятеля с прихожанами; не существовало такой книжки, в церковной лавке продающейся, которую бы Михаил не купил. Лишь прихожанки перешептывались: «И чего он молчит? Небось, худое что задумал…» Но потом привыкли и успокоились.
Прошло почти четыре года. Отец Андрей бывшую столовую с помощью прихожан и горняков с соседней работающей шахты в порядок привел, купол на нее установил, крест водрузил, а под колокола баллоны газовые приспособил. В поселке уже начали забывать определение «столовка», а растущая детвора, услышав звон, с пониманием спрашивала: «Мам, а ты в церковь сегодня идешь?»
Со временем у настоятеля появилась еще одна забота. В трех километрах от поселка, в балке с маленькой речушкой, доживала свой век деревенька из трех десятков домов. Уже бы забыли о ней, да появился фермер, который ручеек жизни в этом поселении восстановил, хотя пустующих хат оставалось в этой некогда большой деревне много. Вот и надумал отец Андрей занять один из сохранившихся флигельков. Устроил в нем алтарь и на Казанскую решил там первую службу служить.
Своих поселковых прихожан предупредил: «На хуторе будет литургия». Прихожане послушно потянулись в недалекую и с детства им знакомую деревню, тем более что многие в ней родились, а на тамошнем кладбище их многочисленная родня похоронена.
В сам день праздника заехал настоятель в поселковый храм за утварью церковной, набором евхаристическим. Без него литургию служить никак не получится. Приобретение же нового — задача для поселкового храма, по нынешним временам и ценам, нереальная.
Как всегда, рано утром у церковного крыльца отца Андрея встретил Михаил. Поздоровался, благословения попросил и вслед за священником в храм пошел, на свое место стал.
На слова священника, что служит он нынче в деревне, Михаил внимания не обратил, а когда тот вынес из алтаря чемоданчик с чашей и дискосом и начал объяснять своему верному прихожанину, что храм он сейчас закроет и уедет, лишь недоуменно на батюшку смотрел.
Отец Андрей ничего не понимал. Он еще раз объяснил, что служба сегодня в другом месте. В ответ — молчание и внимательный, даже виноватый взгляд Михаила, без попыток сдвинуться с места. После третьего, развернутого объяснения с обоснованием необходимости службы в дальней деревне ради заботы о верующих старушках, там находящихся, Михаил произнес:
— Батюшка, вы служить не будете?
И пока отец Андрей соображал, как еще растолковать Михаилу, что он будет служить, но в ином месте, сторож добавил:
— Понимаете, я не слышу ничего. Глухой я.
И заплакал.
Сначала сам, а потом вместе с настоятелем…
Слепой
Первый раз Сашка просыпался от гула сепаратора и тихих голосов бабушкиных соседок. Они всегда по утрам собирались и молоко на сливки да обрат перегоняли. Что такое «обрат», Сашка знал точно, так как самолично пробовал — не понравилось. Было даже непонятно, как это теленок с таким удовольствием его пьет, а выпив, начинает ведро бодать, требуя добавки.
Если до ветру бежать было не нужно, Сашка снова засыпал и просыпался лишь тогда, когда скрипела калитка, расположенная как раз около окна, где стояла Сашкина кровать. Калитка, вообще-то, утром часто скрипела, но не будила до тех пор, пока не входил ОН.
Сашка еще до скрипа слышал постукивание палочки по сухой утоптанной дорожке, затем палка стучала по самой калитке, и та с особенным, пугающим звуком открывалась. Сердце у Сашки замирало, но он все равно, сделав в накинутом на голову одеяле маленькую дырочку, приподнимался и осторожно выглядывал в окно у изголовья кровати.
Высокая фигура слепого уже была видна только со спины, но Сашка все же боялся, что он возьмет и свернет к двери их хаты, а не пойдет, как обычно, через сад. Слепой не сворачивал, стук удалялся, страх уменьшался, а осмелевший Сашка шел в переднюю комнату, где на столе под темной иконой всегда стоял глиняный кувшин утреннего молока с большой кружкой и лежала горбушка бабушкиного домашнего хлеба.
Бабушки с утра в хате никогда не было, она ходила управляться по хозяйству. Хозяйство состояло из большого огорода с кукурузой, картошкой, кабачками и прочими овощами, которые надобно было заготавливать на зиму, и всякой живности, из которой Сашка уважительно относился лишь к корове и ее теленку. Гусей с индюками он не любил. Гуси вечно шипели и пытались ущипнуть его за ногу, а индюки, с грозным шорохом распустив хвост, клокотали, всем видом показывая, что они Сашку за своего не признают.
— Ба, — как-то вечером спросил Сашка, — а слепой, правда, страшный?
— Чего он страшный, онучек? Ему просто Бог глаза не открыл. Но он по-своему все видит и все про всех знает, — ответила бабушка.
Сашка такого объяснения понять никак не мог. Во-первых, было непонятно, почему Бог всем глаза открыл, а слепому нет, а во-вторых, как это можно видеть с закрытыми глазами и все про всех знать? Сашка даже пытался сам с закрытыми глазами ходить, постукивая перед собой бабушкиной палкой, но как ни стучал, все равно о порог споткнулся и больно набил коленку.
Сашка приезжал в деревню почти каждое лето. Для бабушки он рос быстро, для себя — не очень заметно, а вот деревенский слепой в своих серых брюках и таком же сером пиджаке, казалось, совсем не менялся. Как всегда, в одно и то же время по утрам все так же скрипела калитка и раздавался знакомый стук его палочки.
Сашка уже знал, что зовут его дядя Коля, но как ни старался, почти никогда первым поздороваться со слепым у него не получалось. Только соберется сказать: «Здрасьте, дядь Коль», а слепой уже говорит: «Здравствуй, Саша».
И как он узнавал, что мимо Сашки проходит? Чудеса.
Впрочем, Сашкины деревенские друзья-мальчишки рассказывали, что когда они на речку или на курган пойдут, то их матери всегда у слепого спрашивают: «Николай, ты не знаешь, куда мой запропастился?» И тот всегда отвечает, с кем и куда чадо искомое убежало.
Прошли годы. После окончания школы Сашка собрался поступать в университет, да вот только силенок не хватило. По конкурсу не прошел. Огорчаться было некогда, так как вскоре вызвали в военкомат и вручили две бумажки с большими печатями. Первая — о призыве в армию, а вторая для прохождения медицинской комиссии, чтобы определить, в какие войска неудачника-абитуриента направить. Когда со сроками призыва определились, поехал Сашка к бабушке в деревню попрощаться.
В те времена от армии не прятались, горя в двухгодичной службе не видели, даже поздравляли будущего солдата с тем, что он настоящим мужчиной станет.
Бабушка же была грустной. Она часто присаживалась на древний табурет под иконой, перебирала сухонькими руками неизменный, всегда надеваемый фартук и все повторяла:
— Ох, не дождусь, наверное, я тебя, онучек.
Вечером раздался знакомый стук палки. Дверь в хату отворилась, и вошел слепой. Дядя Коля был все такой же, может быть, лишь чуточку погрузнел. Все так же вверх смотрели его невидящие глаза, и по-прежнему на лице его была улыбка, любящая всех и вся.
— Ну, здравствуй, Саша! — обратился слепой к будущему солдату, одновременно определив своим деревянным поводырем, где находится еще один свободный табурет.
Дядя Коля присел и, еще не дождавшись ответа, продолжил:
— Я тут тебе для армии очень полезную вещь принес.
Сашка точно знал, что бабушка еще никому не успела рассказать о том, что внука в армию забирают, да и сам он никого из старых знакомых не встречал и о своей будущности не распространялся.
— Дядь Коль, а ты как узнал, что я здесь и в армию меня забирают? — не удержался от вопроса Сашка.
— Ну, что ты приехал, я услышал по шагам твоим, да и калитку ты так же открываешь, как и лет десять назад, а вот что в армию забирают… — тут слепой задумался, — наверное, Бог подсказал.
У Сашки в те годы отношение к Богу было сложное. Интерес к Нему был, но вот чтобы верить и, как нынче говорят, исповедовать — это нет. Вернее, когда Сашка на икону смотрел, Бог становился реальностью, а без внешнего напоминания Он как-то в стороне находился.
— И как же Он тебе подсказал? — спросил Сашка.
Дядя Коля от ответа не ушел и отговоркой не отделался, а как бы из своей слепой темноты на Сашку посмотрел и ответил:
— У Бога свой язык. Он через сердце говорит. — И затем, как бы понимая, что Сашка тут же задаст еще один вопрос по этому поводу, быстро добавил: — Так я же тебе вот что принес для армии.
И слепой вытащил из внутреннего кармана своего серого пиджака маленькую, наклеенную на тонкую дощечку иконку с изображением какого-то святого с мечом.
— Это кто? — спросил Сашка.
Слепой удивился.
— Неужто не знаешь? Святой это твой — Александр Невский.
— Коль, так отберут же в армии, скажут, не положено, — вмешалась в разговор бабушка.
— Не отберут. Знаю, — уверенно сказал слепой.
Так и произошло.
Не отобрали, хотя покушений на образ святого было множество. И командир взвода в учебной части на Украине, и командир подразделения в Казахстане, да и сам замполит части пытались икону забрать. Не вышло. Так и осталась она у Сашки.
* * *
Прошло много лет. Очень много. Ушла в мир иной, не дождавшись внука из армии, бабушка, а несколько лет назад похоронил Сашка отца. На годовщину смерти приехал уже поседевший Сашка домой к матери, а та попросила съездить в деревню, где родился отец, привезти на его могилку земли с Родины.
Поехал Сашка.
Бабушкиной хаты уже не было. Постарел сад. Заросли бурьяном тропинки детства. Дом же слепого дяди Коли так и стоял на том же месте. Сашка решился зайти, хотя и понимал, что вряд ли найдет там того, кого знал с тех, по человеческим меркам, древних лет.
Приоткрыл калитку.
На скамейке у покосившегося от времени флигеля сидел в сереньком пиджаке старенький седой слепой… Сашка долго не мог даже слово сказать. И лишь проглотив сжавший горло комок, пару раз вздохнув, произнес:
— Здравствуй, дядь Коль!
Слепой повернулся к Сашке. Глаза его, как и тогда, в далеком далеке, смотрели вверх. Слепой некоторое время молчал, как бы задумавшись, а затем на его лице появилась все та же добрая улыбка:
— Ваня (так звали Сашкиного отца) уже помер, значит, это ты, Саша?
Грех батюшки
Кровельное железо, поржавевшее и пережившее не один десяток лет, при каждом порыве ветра жалобно напоминало, что еще одну холодную и дождливую осень оно вряд ли выдержит. Местный умелец и спец по всем крышам села дядька Пахом на очередную просьбу батюшки «подлатать» отказался даже лестницу к стене приставить: «Там, отче, латать уже нечего. Решето сплошное».
Впрочем, можно было и не говорить, священник и сам знал, что сгнило все, а ставить новую заплатку на старое само Евангелие запрещает.
Немногие благодетели прихода ныне переживали последствия кризиса, и подвигнуть их на изготовление новой крыши было проблематично, да и просить батюшка толком не умел. Стеснялся. Если бы на храм, то в любой кабинет пошел бы, а здесь ведь себе, на дом надобно.
Выход, конечно, был. Со стороны кладбища огораживал священнический дом забор, из шифера сооруженный. Шифер хоть и почернел местами и зелеными слоями мха по ребрам покрылся, но все же свою первоначальную кровельную функцию выполнить еще мог.
Взял священник молоток да гвоздодер, позвал на помощь сердобольного соседа, перекрестился и приступил к аккуратному выдергиванию гвоздей, забитых еще в эпоху позднего социализма.
Гвозди поддавались плохо. Сосед неловко рядом крутился и больше руками махал, чем помогал. Крайний лист тронулся с места лишь тогда, когда его, вросшего в землю, обкопали вокруг. Поддался и глухо, по-старчески охнув, лопнул. Аккурат посередине.
Батюшка тоже охнул и окончательно расстроился. Сел на лавочку у крайнего кладбищенского холмика и загрустил. От греховного пребывания в унынии вывел его густой женский голос:
— Ты, мил человек, случаем не поп?
Батюшка поднял глаза. Перед ним возвышалась дородная смуглая женщина в дорогом пестром одеянии, с многочисленными кольцами на руках и бусами на шее.
— Священник я, священник, — ответил батюшка, а внутри раздраженно прозвучало: «Цыганки мне только не хватало!»
— Да ты, поп, не огорчайся и забудь про меня плохо думать, — продолжила цыганка, каким-то своим чутьем читая мысли священника. — Я цыганка православная, крещеная и крест Божий на себе ношу. — Тут она выудила из глубин обширной груди золотой крест на не менее золотой цепи и показала священнику.
Батюшка глянул на крест и подумал: «Ежели его продать, то на половину моей крыши денег хватит».
Подумать-то подумал, а сам перекрестился и спросил у невесть откуда взявшейся цыганки:
— Ну и что ты хочешь, раба Божия…
— София, — подсказала цыганка.
— София? — закончил вопрос батюшка.
— Так у меня к тебе, батюшка, одно дело и один вопрос.
— Начинай с вопроса, — благословил священник, ожидая просьбу о подаянии или предложения золотишко продать-купить.
Ошибся священник. Причем кардинально.
Цыганка посмотрела на раскоряченный с краю забор, зачем-то попробовала его покачать и спросила:
— А для чего ты, служитель церковный, ограду кладбища ломаешь? Чтобы покойникам не мешала?
Батюшка даже смутился от неожиданности. Смутился так, что покраснел, а потом… Потом его прорвало. Высказал он цыганке, которой никогда раньше знать не знал, ведать не ведал, все свои страдания с этой прогнившей крышей, отсутствием денег, десятью старушками на приходе и требованием епархии собрать средства на строительство очередного собора в элитном районе областного центра…
Женщина по имени София как-то не по-цыгански молча и внимательно слушала, а потом взяла да и сказала:
— А давай, горемычный, тебе ромы помогут!
— Цыгане? — опешил священник.
— Они, поп, они, — ответствовала София. — Только чур уговор: мы тебе крышу ставим, а ты наших детей всех покрестишь да службу нам отслужишь. Так как, поп, устраивает тебя такая цыганская помощь?
— Устраивает, — махнул рукой батюшка и решил, что дальше разговора дело не пойдет.
Цыганка же развернулась и солидно, будто из офиса дорогого вышла, направилась к кладбищенским воротам.
На следующий день, только посерело тусклым осенним рассветом небо, священник открыл церковь (она напротив его дома располагалась), надел епитрахиль и принялся за утренние молитвы. До 50-го псалма лишь дочитал, как гул машинный помешал. К неказистой усадьбе деревенского батюшки подъехало около десятка легковых машин, а за ними затарахтели и две конные повозки, доверху груженные строительным материалом. Всей этой кавалькадой руководила его давешняя знакомая — цыганка София.
Дальше было то, о чем говорится: «Ни в сказке сказать, ни пером описать». Батюшка полдня крестил десятка четыре орущих, смеющихся, веселых и хмурых цыганчат возрастом от двух недель до двадцати лет, а столько же взрослых представителей этой свободолюбивой нации шустро и качественно перекрывали ему крышу новым современным шифером.
А потом был общий молебен. И «Отче наш» пели все, кто как может, и крест на себя накладывали, кто как умеет, и плакали почти все, когда батюшка имена умерших ромов вычитывал.
Закончилось все обедом. Его цыганки в летней кухоньке приготовили. На всех.
Вот только одно смущает священника по день сей. Пятница это была. Кулеш же цыганский мясной. Какой цыган без мяса? А батюшка им и не сказал, что день постный…
Может, все же Бог простит?
Рождественский Никола
Служба в Рождественскую ночь начиналась в четыре утра. Так принято было еще в том, старом храме, который сохранился лишь в памяти стариков. Они же, бабушки и дедушки, сквозь годы веру сберегшие и Бога не оставившие, своему священнику в новой церкви так и сказали: «Ты, батюшка, конечно, все уставы знаешь, но Рождество у нас завсегда рано утром начиналось, и “Кто Бог велий” мы затемно пели, и из вертепа огонек всю церкву освещал…»
На том и порешили.
Обычно отец Андрей за пару часов до службы на своем стареньком жигуленке из города приезжал, но в Сочельник, накануне Рождества, разыгралась нешуточная метель, и батюшка решил остаться на приходе. Вечером, распрощавшись с очередными колядующими, пошел он запирать церковную дверь, иначе ходоки с кутьей, узнавшие, что священник на ночь домой не уехал, до утра бы его донимали. Проходя через храм (комнатушка батюшки слева от алтаря, за пономаркой располагалась), отец Андрей в очередной раз споткнулся о взгляд с иконы, изображающей, как утверждал местный богомаз, святителя Николая. Странный взгляд. Не пугающий, не укоряющий, а какой-то останавливающий.
С иконой этой целая история приключилась. Пришел как-то в храм местный художник, вернее даже не художник, а работник шахтного клуба. Да и как ему было не прийти, если церковь новая расположилась именно в здании бывшего очага шахтерской культуры? Практически все свои работоспособные года, до самой пенсии, рисовал здесь художник афиши, писал лозунги с призывами, составлял стенгазеты и наглядные пособия по технике безопасности. Выполнял эти незамысловатые поручения шахтного руководства и профсоюзов мастер кисти и плакатного пера всегда четко и тщательно, налегая прежде всего на две краски: положительную и призывающую — красную, отрицательную и осуждающую — черную.
В церковь художник изначально практически не ходил, не мог смириться с тем, что на его рабочем месте теперь Богу молятся, и там, где раньше его мастерская была, теперь батюшкина келья. Но время шло, все вокруг менялось, да и возраст заставлял о вечном думать. После очередной, невесть откуда взявшейся болезни, когда скрутило так, что и о священнике вспомнил, и на икону, от матери оставшуюся, по-иному смотреть начал, зачастил художник в храм. Даже место себе там постоянное определил: за клиросом, в правом церковном углу, где народа поменьше.
Отец Андрей был рад новому прихожанину, а когда тот подошел к нему с предложением «нарисовать» икону Николая Чудотворца, батюшка с радостью согласился, тем более что прихожане ему не раз намекали о существовании местного мастера красок и кисти. Распечатал батюшка на цветном принтере несколько образцов иконы святительской, помог краски купить и даже место в церкви для нового образа нашел. Отслужили молебен перед началом всякого доброго дела, и принялся художник за работу. К Покрову он представил свой труд.
С гордостью и сознанием четко и в срок выполненного долга внес мастер изобразительного искусства большую, в рост написанную икону святителя Николая Чудотворца в храм, установил ее у иконостаса и сдернул полиэтиленовое покрывало…
Батюшка застыл. Надолго. Слов не было, одни междометия. С иконной доски на священника прямым, волевым взглядом смотрел широкоплечий передовик социалистического производства с необъятной шахтерской грудью и натруженными монументальными руками. Жест правой, благословляющей длани скорее напоминал призыв к новым свершениям, а левая рука держала громадный красный том с золотым крестом, на место которого напрашивалась надпись: «Моральный кодекс строителя коммунизма». Одежда святителя сверкала всеми красками радуги и была выписана тщательно и ярко, именно так, как рисовали на цирковых балаганах и на гобеленах, висевших по сельским домам в далекие пятидесятые — шестидесятые годы прошлого века. Полноту «образа» завершала надпись над нимбом: «Николай Чюдотворец».
Священник не мог подобрать слов еще и потому, что рядом с иконой стоял любующийся своим творением и ожидающий похвалы художник, а приключившиеся здесь две старушки почти хором воскликнули: «Красота-то какая!»
Раскритиковать, отругать и не принять данное «письмо» батюшка, глядя на гордого «иконописца» и прихожанок, сразу не решился. Лишь, смущаясь, смог вымолвить, что, мол, каноны иконописи нарушены, да цвета слишком яркие и подобраны неверно. Критику художник и бабушки тотчас отвергли, а силы настоять и сказать категорическое «нет» отец Андрей не нашел. Да и понимал, что не одобрили бы прихожане его решительного отрицания. Художник-то свой был, родной и понятный, вместе с ними выросший и живший.
Маялся теперь настоятель с этой «иконой». В киот не поставишь, в иконостас тем паче. Приедет благочинный или владыка заглянет — неприятностей не оберешься. Вот и переставлял отец Андрей «Николая Чюдотворца» с места на место и спотыкался раз за разом под взглядом, от него исходящим и останавливающим.
Батюшка не торопясь вычитал свое священническое правило, подсыпал угля в котел, поплотнее прикрыл форточки — метель совсем разгулялась, и отправился спать. Вставать рано, да и грядущий день рождественский всегда хоть и в приятных заботах проходил, но сил великих требовал.
Мобильный телефон уснуть не дал. Отец Андрей, уверенный, что это очередное поздравление с наступающим праздником, взглянул на дисплей — 22:30, а вместо имени набор неизвестных цифр. Ответил. Звонили из соседнего, расположенного в трех километрах от храма, умирающего по причине отсутствия работы небольшого поселка.
— Батюшка, это Сергей, фермер. Вы у нас на прошлой неделе младенца крестили. Помните?
— Конечно, помню, — ответил священник. — Мы с вами еще беседовали после крестин. Что случилось-то?
— Беда, батюшка! Температура под сорок у сыночка нашего. — Голос фермера срывался и был настолько тревожным, что тревога эта передалась и священнику.
— Врача вызывайте! — потребовал отец Андрей, но, взглянув на забитое снаружи мокрым снегом окно, понял, что совет этот невыполним.
Усадьба фермерская в балке, под горой располагалась; оттуда и без снега, в дни дождливые на машине выехать было проблемой, а сейчас, когда бушевало снежное и гололедное ненастье, ни о какой машине и речи быть не могло.
— Одевайте потеплее ребенка, — распорядился священник, — и выходите пешком наверх, к трассе. Я на шахте транспорт раздобуду.
Другого выхода батюшка не видел и решил сам отправиться на шахту на своей машине. Тщетно. Машина буквально вмерзла в снег, и даже если бы отец Андрей ее как-то освободил от обледенения, уверенности, что старый автомобиль заведется и сможет куда-то доехать, не было никакой. В отчаянии священник бросился к телефону.
Директор шахты был на месте. Выслушал. Посочувствовал и извинительным тоном окончательно расстроил: «Понимаете, отец Андрей, все три трактора дорогу чистят к городу, чтобы ночную смену на работу доставить».
Батюшка не знал, что теперь делать…
Он просто представил мать и отца со своим закутанным в одеяла первенцем, бредущих по заледенелой дороге сквозь пронизывающий снежный ветер. Идущих и ожидающих спасительную машину.
Отец Андрей зашел в храм. В центре стоял вертеп, освещенный внутри маленькой лампадой. Над Младенцем Христом склонилась Богородица, рядом опирался на посох праведный Иосиф…
Священник невольно подумал: «Они нашли убежище» — и взмолился: «Господи, ну подскажи, что мне делать! Погибнет малец. Не донесут они его до больницы».
И тут вновь этот останавливающий взгляд неканонического святителя Николая. Батюшка буквально бухнулся пред ним на колени. «Хоть ты помоги, Никола!» — кричала душа, вопило сердце.
Прошло лишь несколько мгновений, а может, больше. Бог весть. Но через окна церкви вдруг брызнул мощный свет подъезжающей машины, а потом заколотили в церковную дверь.
— Открывай, батя, кутью принесли, Рождество встречать будем! — кричало несколько голосов.
Священник отодвинул задвижку и распахнул двери. Перед ним стояли пятеро не совсем трезвых, чрезвычайно веселых незнакомых представителей молодого бизнес-поколения. За ними возвышался громадный джип, семейство которых настоятель ласково называл «гардеробы».
— Будем встречать, будем! — радостно закричал отец Андрей. — Кто водитель?
И, определив самого трезвого, распорядился:
— Всем остаться у меня в келье! В тумбочке кагор и печенье, а с водителем мы сейчас кое-куда съездим.
Закутанную и покрывшуюся ледяными сосульками семью с ребенком на руках батюшка встретил еще в начале пути, который им предстояло пройти. Через полчаса мать с хныкающим и горячим от температуры младенцем были в больничной палате.
* * *
В храме батюшку встречала иллюминация. Гости, найдя в лавке ящик со свечами, расставили их в каждое гнездо всех шести подсвечников, зажгли и хором распевали:
Добрий вечір тобі, пане господарю,
Радуйся, ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами,
Радуйся, ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Батюшка тут же присоединился:
Бо прийдуть до тебе три празники в гості,
Радуйся, ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
А перший же празник — Рождество Христове,
Радуйся, ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
А затем тихонько, чтобы гостям не мешать, подошел священник к теперь уже своему, абсолютно каноническому святителю Николаю и поцеловал его благословляющую руку…
«А можно посмотреть?»
Панихида Троицкой субботы окончилась. Разобрали прихожанки с прихожанами свои поминальные кануны, поклонились уже закрытым царским вратам и торопливо разошлись к грядущему празднику готовиться. Троица, она хоть и непонятна для многих, но торжество великое, испокон веков день знаковый и радостный.
Валентина, устало вздыхая, сидела на своем видавшем виды стульчике в церковной лавке. Да и как не устать? С раннего утра записки поминальные, свечи разнокалиберные и из года в год повторяющийся вопрос о разнице между поминанием на проскомидии и на самой литургии. Свои-то, постоянные, знают премудрости эти, а вот те, которые нечасто посещением церкви себя утруждают, смотрят недоуменно и математику приходскую с трудом понимают.
Отдыхает глава лавки приходской на скамеечке и планы строит: «Сейчас передохну маленько, и пойдем с детишками батюшкиными веток наломаем, да травы душистой накосим. Храм к празднику украсим. До всенощной еще и домой сбегать успею, по хозяйству управиться…»
Распланировала все Валентина, куда какую ветку зеленую в храме пристроить, как снопик травяной связать, на который священник книгу с молитвами троицкими положит, когда, стоя на коленях, читать их будет. Все ясно, понятно, известно и радостно. Да и как не радоваться? Только на Троицу так храм украшают. Аромат чабреца, мяты, травы всяческой, когда с ладаном кадильным перемешается, удивительный и неповторимый. В прошлом году мальчонка местный у бабушки своей спрашивал: «Ба, а в раю тоже так пахнет?»
Пора идти. Пересиливая усталость, поднялась Валентина, но тут дверь церковная приоткрылась и изначально в ней материализовалась женская голова с обильно накрашенными губами.
— Вы работаете?
— Да, — ответила Валентина, — работаем.
— Вот хорошо, а то я к вам никак не дойду, все некогда.
Голова преобразовалась в дородную фигуру, как показалось издали, средних лет, но когда женщина подошла поближе, средние года трансформировались в предпенсионные.
— Скажите, а у вас крестики серебряные есть?
— Есть.
— А можно посмотреть?
Валентина вынула из-под стекла обтянутую бархатной тканью прямоугольную фанерку, которая лет десять использовалась в алтаре в качестве подставки для просфор, а теперь стала держателем драгоценностей. На черной мохнатой плоскости в три ряда располагались нательные крестики различных видов и размеров.
Женщина, которую Валентина тут же нарекла «дамочкой», внимательно осмотрела каждое изделие, даже пальцами их потрогала. Затем последовал стандартный вопрос, связанный с серебром:
— А они не темнеют?
— Нет, не темнеют, — ответствовала Валентина.
Дамочка скептически усмехнулась и продолжила:
— Да знаю я, что они на тех темнеют, у кого грехов много.
— Глупости это, — возразила Валентина.
— Как это глупости? — резко встрепенулась дамочка. — Вы же в церкви работаете, а таких элементарных вещей не знаете!
Валентина решила не возражать, тем более что процесс осмотра и выбора крестика затягивался, а трава с ветками оставались в поле и лесопосадке.
Крестик был выбран. Глава церковной лавки облегченно вздохнула. Рано обрадовалась. Последовало неожиданное:
— А цепочки серебряные у вас есть?
— Есть, — выдохнула Валентина.
— А можно посмотреть?
Валентина достала иную «плоскость» в бархатном облачении, на которой покоилось полтора десятка разнокалиберных цепочек. Последовал неторопливый выбор, причем дамочка решила почти каждую примерить и недовольно отвергла весь ассортимент, потому что те, которые ей нравились, на мощной шее превращались в драгоценный удавливающий обруч, а длинные прятались в расщелине могучей груди.
Без комментариев не обошлось.
— Мне надо, чтобы крестик все видели, — рассуждала дамочка, — а здесь или маленькие, или длинные. А укоротить нельзя?
— Нельзя, — кротко ответила Валентина.
— Безобразие, — констатировала дамочка, отодвигая от себя набор цепочек.
У входа в храм уже почти полчаса ожидали тетю Валю батюшкины дети. Они собирались помогать украшать к Троице храм и теперь раз за разом призывно заглядывали в церковь.
В кои веки Валентина была не рада потенциальному покупателю и даже облегченно вздохнула, когда дама, рассчитавшись за крестик, начала укладывать его в сумку.
— Я скоро выйду, — крикнула Валентина ребятишкам и тут же осеклась.
Дамочка обратила свой взгляд на полки церковной лавки, где расположились многочисленные разноликие иконы. После неторопливого осмотра последовал вопрос:
— Скажите, а у вас икона Девы Марии есть?
— Есть… — обреченно ответила Валентина.
— А можно посмотреть?
— Так смотрите! — сдерживая раздражение, промолвила обреченно Валентина. — Вот Казанская, вот Донская, вот «Всех скорбящих Радость», вот Смоленская.
— Это всё Дева Мария? — недоверчиво спросила привередливая покупательница.
— Да, все эти и другие, на этой полке стоящие иконы, — образы Божией Матери.
— Милочка, я ведь у вас прошу икону Девы Марии, а вы мне Мать Бога предлагаете! — возмутилась дама. — Если нет, так и скажите!
Здесь Валентина не выдержала и минут пять втолковывала пришедшей, что Дева Мария и Богородица есть одно и то же.
Дама внимательно слушала и даже руками всплескивала, а по окончании катехизаторского спича Валентины выдала удивленный возглас:
— Да не может быть! — И, указав на весь Богородичный ряд, в очередной раз задала сакраментальный вопрос: — А можно посмотреть?
Валентина уже ничего не ответила; она с невесть откуда взявшимся тоскливым безразличием снимала с полки иконы Божией Матери. Выбор был длительный, с рассматриванием, расспросами, репликами и комментариями.
Помощники Валентины куда-то убежали, часы неумолимо доказывали, что времени на визит домой у работника церковной лавки уже не осталось, а храм терпеливо ожидал троицких зеленых украшений.
Покупательница, перебрав более дюжины образов, остановила свой выбор на Серафимо-Дивеевской иконе «Умиление».
— Вот эту возьму, — протянула она икону Валентине и добавила: — Эта больше всего на Деву похожа. Без ребенка на руках, по крайней мере.
Валентина молча отсчитала сдачу, проводила дамочку горестным взглядом и как три часа назад устало присела на старенькую приходскую скамеечку.
Слов не было. Мыслей тоже.
Во время этой православной нирваны церковная дверь вновь приоткрылась, и в храм заглянул настоятель. Не только заглянул, он еще и спросил:
— А можно посмотреть, как вы храм украсили?
О павлине
На второй день Пасхи возвращался наш приходской сторож, он же староста, он же глава всего приходского хозяйства, он же мой давний друг, после ночного дежурства к себе домой.
Май. Раннее утро. Время, как пишут все подростки в школьных сочинениях, когда «солнце освещало верхушки деревьев», то бишь часов пять.
Город в это время пуст, лишь шахтерские автобусы рыскают по остановкам и, игнорируя комендантский час, собирают горняков на работу.
Тихо вокруг. Даже птицы еще толком не проснулись.
Староста у нас человек благочестивый, в привидения, миражи мысленные и инопланетян не верит, но то, что он увидел на бордюре перед своим подъездом, из духовного равновесия определенно вывело.
Да и как не вывести, если у родной квартиры его встречала неизвестная крупная птица с длинным хвостом, разноцветными перьями и головой, украшенной красивым хохолком?
Староста вспомнил сказки «Тысяча и одна ночь», Ходжу Насреддина и даже одну суру из Корана. Птица не исчезла. Она вопросительно смотрела на верного прихожанина нашей церкви, причем в ее взгляде прочитывалось далекое от мистицизма, явственное указание-вопрос: «Поклевать чего-то дашь?»
Староста смутился, так как все зерно было полчаса назад скормлено родным приходским голубям, а павлин — это был именно павлин — развернулся и направился в соседний переулок. Лишь когда дивное создание, невесть откуда у нас взявшееся, начало удаляться, Олег (так зовут нашего старосту) вспомнил о фотоаппарате в смартфоне. Птица истолковала его лихорадочные движения в поисках мобильного по-своему и иноходью рванула по переулку, который носит название Армянский, хотя ни одного армянина там не наблюдается.
Староста роста видного, телосложения спортивного, любопытства немереного пустился в преследование, одновременно пытаясь провести фотосессию. Это селфи делать удобно и просто, а вот бежать по городу за Божьей тварью, которую жители Донбасса видели только по телевизору, и фотографировать — дело тонкое, как говорят на родине данного создания.
Павлин, наверное, все же очень хотел есть, поэтому уже перед одной из центральных улиц свернул к контейнерам с мусором в надежде чем-то поживиться.
Если бы вы видели глаза самых злющих в городе мусорных котов при виде этого существа птичьего племени! В ужасе и с мяуканьем в диапазоне первой октавы они бросились врассыпную, безоговорочно оставив свое прикормленное место пернатому созданию из азиатской глубинки.
Павлин меланхолично перебирал остатки кошачьей трапезы, грациозно выклевывая только нравящиеся ему деликатесы.
А староста пошел искать хозяина данного чуда, но это уже другая история…
Батюшка и батя
В храме по вечерам тихо. Горит лишь одна лампадка у распятия, а в левом углу, где стоит поминальный стол, как всегда скребется церковная мышь, которую отец Федор, после долгих попыток ее извести, признал приходской тварью и приказал «не чипать».
Так было всегда.
Последние четыре года батюшка каждый вечер объезжал на своей инвалидной коляске храм, прикладывался к иконам, наизусть вычитывая молитвы на сон грядущий. Дело в том, что он — почетный настоятель прихода, а службу правит и церковным хозяйством занимается уже молодой священник, воспитанник отца Федора.
Годы служения у почетного настоятеля непростые были, многое пришлось за веру и верность претерпеть. На здоровье сказались времена, когда священника за человека не считали, издевались, преследовали. Правая рука отца Федора и сегодня былую силу и крепость помнит, а вот левая вкупе с ногой отказали.
Горевал священник изначально, что литургию служить полноценно не может, да прихожане успокоили нескончаемой чередой к исповеди и за советом.
Все шло к завершению жизненного пути у отца Федора благополучно, размеренно и знакомо, да вот беда — война нагрянула. Устроил лукавый пляску в крае шахтерском, да не просто искушениями жизненными, а снарядами, бомбами, ракетами, блокпостами и рьяным озлоблением друг на друга.
Никогда даже в мыслях батюшка не допускал, что возможно такое горе, а оно пришло. Сокрушался поначалу: «Как же так, в войну родился и помирать в войну придется?» — а затем смирился, понял, что и этот крест понести надобно. Не искал отец Федор виноватых, молился лишь об умиротворении, да чтобы Бог вразумил и тех, и этих.
Даже когда снаряды над храмом курсировать начали, когда сыпались оконные стекла соседних хат, когда минометная мина взорвалась в церковном дворе, ранив сторожа, и в большом селе остались только сидящие по подвалам старики и старухи, священник о мире Бога просил да о погибших молитвы возносил.
Вот и сегодня до обеда грохотало недалече, со стороны большой автотрассы. Потом стихло. Батюшка даже приободрился немного, но вскоре понял, что не к добру эта тишина, когда с улицы ни звука. Даже собаки голоса не подавали, и храмовая дверь за полдня так ни разу и не скрипнула.
«Господи, вот так к концу дней своих и узнаешь, что такое зловещая тишина и давящая пустота», — подумал отец Федор, перекрестился да и поехал к себе в келью, которая рядом с храмом в бывшей сторожке располагалась.
Не удалось священнику добраться до своего маленького домика. Гость помешал. Да еще какой! Таких на приходе отродясь не бывало.
Прямо у церковных ворот, прогрохотав гусеницами и подняв облако пыли, остановился военный бронетранспортер с двумя белыми полосками на броне.
«Украинская армия», — произнес про себя отец Федор, развернул коляску и покатил навстречу вылезавшему из военной «черепахи» офицеру. В том, что это именно офицер, батюшка не сомневался, хотя на новых формах рассмотреть звездочки на погонах издали невозможно. Властность и начальственность сразу видны, да и немалые годы армейские себя выдают и манерой, и взглядом. Даже говорить ничего не надобно…
— И зачем же ты, воин, прикатил к храму на этой бесовской телеге? — начал с вопроса отец Федор и продолжил: — Свечку поставить или молебен отслужить? Так в храм с оружием никак нельзя.
Офицер подошел к коляске священника и по-военному представился:
— Подполковник Сидорчук.
А затем сложил руки лодочкой и, пригнув голову, добавил:
— Благословите, батюшка.
Отец Федор, сменив суровый взгляд на более ему присущий, осенил подполковника крестным знамением, но вопросы задавать продолжил:
— Так чего на ночь глядя прикатил? Какая нужда?
— Так просьба у меня, батюшка, — смиренно ответил офицер, — очень серьезная просьба. Помощь ваша необходима.
— Тогда пошли в келью, — предложил священник. — Или в храме поговорим?
— В храме тяжко будет об этом говорить, пойдемте к вам, — сказал подполковник.
— В келью так в келью. И чайку попьем, к разговору он всегда надобен.
Пока отец Федор готовил чай, подполковник рассказывал:
— Я, отче, командую батальоном, причем батальоном срочников. Пацаны одни, по восемнадцать-девятнадцать годков каждому. Не хочу сказать, что не обучены солдатики, но опыт боевой у них на нуле, да и жизни они еще не видели. Нам же приказано к границе выходить, а на пути три села, где ваши «сепары» стоят и, насколько мне известно, пропускать нас не собираются.
— Ты мне вот что скажи, — прервал офицера священник, — зачем вы вообще сюда пришли? Кто вас звал?
— У меня приказ, отче, я военный человек, присягу принимал и приказ должен выполнять.
— А если тот, кто приказы отдает, не в своем уме? — не унимался священник. — Если им лукавый правит? Это надо же — свои своих убивать пришли!
— Батюшка, — взмолился офицер, — давайте хоть с вами не будем политиков обсуждать! Тут иное, сегодняшнее и страшное намечается. Помогите! Политики уже натворили, ребят спасать надо. Ведь ваши сорокалетние мужики перещелкают их, как курчат. Они ведь местные. Каждый кустик знают и все овражки им знакомы, да и мотивация…
— Это так, — подумав, согласился священник. — И чем же я помочь могу? Молитвой? Так молитвой приказ сатанинский вряд ли остановлю, тем паче исполнители уже начали его исполнять.
Подполковник встал из-за стола, повернулся к иконам, перекрестился и, глядя в глаза отцу Федору, попросил:
— Отче, Христа ради съездите сегодня к командиру местных военных, поговорите с ними. Пусть мое предложение обсудят.
— Какое предложение? — не понял священник.
— Вот карта, я здесь все обозначил. Мы повоюем пару дней, но в разные стороны, а потом… Я найду способ увести батальон из этого района. Это уже мои проблемы.
Отец Федор долго молчал. Размышлял, насколько искренен его нынешний посетитель, но сердце подсказывало: честный человек пред ним. И все же…
— Пойдем-ка, служивый, в храм. Помолимся и решим, — подвел итог разговору священник.
После молитвы позвонил батюшка своему молодому преемнику, и поехали они в соседнее село к командиру местного ополчения…
* * *
Два дня грохотало в полях, балках и посадках. Военные лупили во всю мощь по юго-востоку, а «сепары» — по северо-западу. Кроме расплодившихся этим военным летом зайцев, фазанов и кабанов, никто не пострадал.
А подполковник слово сдержал. Увел своих молоденьких солдат на третий день…
Забор
Надежда красила забор. Старенькие, серые, покрытые трещинами-морщинами деревянные рейки преображались под зеленой краской и как будто молодели…
Всегда находились дела домашние. Казалось бы, управься утром с небольшим хозяйством в количестве десяти кур с петухом и козой, да и отдыхай, но не привыкла Надежда на скамейке сидеть, когда день на улице.
Как это, ничего не делать? Тогда жить-то зачем? Вот забор краской обновляет и мужа вспомнила покойного, как он его городил и, разгибая старые проржавелые гвозди, себя по пальцу ударил. Год потом ноготь у него синий был.
На кладбище бы сходить могилку поправить, да нельзя — вокруг погоста мин понаставили вояки. Греха натворили, а сами сбежали. Сосед дед Сашка к своей жене на Димитровскую субботу решил сходить, проведать, да и остался на старости лет без ноги. Слава Богу, что живой. Хорошо, хоть детишек всех из села развезли по родственникам и знакомым. Туда, где не стреляют. Выживут и, может быть, когда все закончится, вернутся.
Хотя куда возвращаться-то?
На улице, где всю жизнь прожила, целых домов почти не осталось. Это ее хатынку Бог сохранил. Осколками только крышу посекло, да стекла в прихожей вылетели и разбились.
Одно окно Надежда кирпичами заложила и глиной замазала, а второе пленкой затянула полиэтиленовой. Хватит и одного. Да и староста из церкви пообещал вставить шибку[11]. Сказал, как только армию отгонят, затихнет хоть немного, и вставит, дай Бог ему здоровья.
Вчера вот пересчитали, сколько душ в селе осталось, оказалось, и двух десятков не наберется… Ох, горе.
Надеждины размышления крик с огорода оборвал: «Надя, заканчивай! Скоро стрелять начнут».
И действительно, что-то она о времени забыла. Как чуть смеркнется, так и начинает грохотать, свистеть и взрываться. Слава Богу, хоть подвал в церкви хороший, там и отсиживаются все. Вот только плохо, что батюшки сейчас нет, но ничего, акафисты прихожане и сами читают да псалмы поют.
Надежда отерла кисть травой, положила ее в чугунок с водой, руки ополоснула и пошла в церковь.
Оглянулась, когда за угол заворачивала, и улыбнулась. Забор красивый стал, как на Троицу.
А с запада уже загудело, загромыхало…
О войне, бесе и страусе
Село это, как, впрочем, и окрестные поселения, по балочке растянулось. Точно посередине его рассекает трасса, ведущая в областной центр. Можно разогнать машину километра за три до первых сельских строений и катиться с горки до самого центра с магазином, памятником, клубом, школой и церковью. Дальше небольшая речушка, поросшая лозой с ивняком, и опять вверх, на новый бугор.
Половина села в огородах да в «колхозе» (сколько не меняй форму собственности, название старое, привычное осталось) трудилась, хлеб насущный зарабатывая, другая же половина на недалекую шахту ездила уголек рубать. Наглядный пример смычки крестьянства и рабочего класса.
Мирное село, безобидное, но со всеми полагающимися деревенскими особенностями, то есть в обязательном порядке есть авторитет, официальной властью не наделенный, но все по полочкам раскладывающий и всех примиряющий; в наличии местный юродивый, которого все гонят, но почему-то кормят и одевают; в любой год имеется умеющий лечить травник, а также творящая заговоры и снимающая сглазы ведьма, которую даже недавно построенная церковь из обихода не вывела. В общем, всё, как положено и из века в век расставлено.
Как известно и исторически доказано, все беды к нам с запада приходят, начиная с коммунизма, нравственной грязи, называемой «демократическими ценностями», и заканчивая колорадским жуком. Вот и война эта, неожиданная и никому не нужная, оттуда же притопала.
Не верили изначально сельчане, что такое вообще возможно. Даже когда грохотать вдали начало и земля под ногами подрагивала, а ночью стало видно зарево горящих полей, гнали они от себя мысль, что и на их подворья придут разорение и смерть. И лишь когда украинский самолет по-хозяйски в клочья разнес сельскую подстанцию, оставив пять окрестных сел без света, поняли, что беда близка.
Потянулись вереницы пожилых людей в дальние от дороги хутора, а молодежь с маленькими детьми, погрузив в легковые машины самый необходимый скарб, — в Россию. В селе осталась пара сотен жителей, решивших «как Бог даст, так и будет».
Еще за день до того, как противоположные бугры заняли ополченцы и украинская армия, оставшиеся сельчане проснулись от рева коров, блеянья коз, утиного кряканья и гусиного гогота. Да и немудрено, кормить и доить их надобно, ведь в безопасный тыл худобу вкупе с пернатыми не забрали. Просто открыли сараи и птичники: гуляй не хочу. Птица приспособилась быстро, июль на дворе. В огородах все спеет, зеленеет и произрастает. Утки с гусями к местному ставку[12] подались, да там и поселились, а вот коровы с козами…
Бедные сердобольные старушки, село свое покидать отказавшиеся, целыми днями с «молочной» скамеечкой по подворьям ходили, коз и коров доили, а вечером, когда вместе собирались, не могли решить, куда эту прорву молока девать.
Дворняги местные, с цепи спущенные, сначала погрызлись между собой немного, а потом лучшее занятие нашли. Дело в том, что украинский летчик, трансформаторную будку уничтоживший и отчитавшийся, что разгромил бронетанковую колонну российско-сепаратистских войск, стрелять, видимо, прицельно не умел, поэтому попутно уничтожил крольчатник сельского фермера. Кролики, оглохшие от взрывов, нежданно обрели неведомую им свободу и, не зная, что с ней делать, жались к дымящимся остаткам собственного жилья, не понимая, что любимое ими сено и капуста растут рядышком и в большом количестве.
Стадный рефлекс, как всегда, везде и для всех, стал для данных зверьков гибельным. Их заметили и учуяли собаки. Кроличье сафари продолжалось даже тогда, когда военные украинцы вступили в боевое соприкосновение с военными ополченцами. Ни автоматные очереди, ни минометные обстрелы, ни пакеты «Градов» истребления кроличьего поголовья не прекратили.
На третий день после исхода основного населения над селом загрохотало. Окопавшиеся на противоположных буграх военные нещадно обстреливали друг друга из всего оружия, которое было у них в наличии, а так как зброя данная у обеих сторон была образца хрущевских семилеток, артиллерийские снаряды летели как попало и куда попало, а пулеметы, как у незабвенного Попандопуло, «в своих пуляли».
От непрекращающихся целыми днями обстрелов, разрывов и свиста летящих над селом снарядов и ракет шевелилась под ногами земля, вздрагивали деревья, загорелись уже поспевшие поля с ячменем и пшеницей.
В первый, да и второй вечер огненного противостояния, когда залпы немного утихали, пробирались по-над заборами и плетнями оставшиеся в селе старики друг к другу.
— Семен, ты живой там? — кричит старушка в сторону соседского погреба и боится, что не услышит ответа, потому что рядом с подвалом, где был сенник и стояла скамейка, зияет большая земляная дыра от прилетевшего неизвестно откуда снаряда.
— Живой, Фрося, живой, — слышится в ответ.
— Ой, слава Тебе, Господи! — крестится старушка.
И так по всему селу. Зовут друг друга, заглядывают в окна, боясь не услышать и не увидеть. И хоть понимают, что лучше в разных подвалах и погребах лихо это смертельное пережидать, чтобы не всех снарядом или ракетой накрыло, но одному или одной еще страшней, еще горестней. Вот и сформировалось в селе несколько «подвальных», как дед Семен говорит, «подпольных» группировок. Как только загрохочет с любой стороны, так и семенят старики к ближайшему подвалу.
— Страшно было? — спрашиваю у нашей прихожанки, которая еще немецкую войну помнит.
— Да как же не страшно, батюшка? Как и в ту войну, германскую, боязно. Смертушка и так не радостна, а когда безвременная, да свои в своих стреляют, ох как страшно. Сидим в погребе, друг ко дружке прижмемся и всё молимся да рассуждаем, как же Бог попустил нам горе такое?
— Ну и почему попустил? — не удерживаюсь от вопроса.
— Как почему? Ясно тут все, не слушали мы Его, — отвечает старушка. — Сначала народ один разделили, теперь пучочками делят и переламывают, а дальше стебельки останутся, их просто согнут, и будут они не Богу кланяться, а тем, кто богами себя считают.
Но это уже позже разговоры разговаривали да дни грохочущие смертью вспоминали, а сельское прошедшее лето, которое теперь последующие поколения не иначе как военным называть будут, еще одним событием запомнилось.
Дело в том, что рядом с кроликами аккурат перед приходом «освободителей», которых жители исключительно карателями величают, приобрел местный фермер трех страусов, которых и поселил рядом с крольчатником. На кой ляд они были нужны, до дня нынешнего непонятно. Сельчане решили, что купил он их лишь для того, чтобы перед друзьями своими похвастаться. Не перевелись ведь в селах наших оригиналы: один свиней вьетнамских растит, другой петухов заморских коллекционирует, ну и третий решил свою неординарность изобразить — страусиную ферму основать.
Страусов отродясь никто в селе не видел, ведь завезли их незадолго до того, как со стороны, откуда жалкие пенсии и зарплаты к нам приходили, пушки на гусеницах приехали, да машины с трубами, из которых пакетами смерть грохочет, пожаловали.
Первая артиллерийская пристрелка «освободителей» окончательно уничтожила не только остатки крольчатника и бывшую ферму вкупе с ремонтными мастерскими, но и зацепила несколько подворий. Досталось и страусиному жилью: в щепки сарай и высокую изгородь разнесло. Самый младший страус сложил свою африканскую голову на земле донбасской, а два его собрата остались целы и, естественно, очутившись на воле, пошли знакомиться с окружающей действительностью, чем и спасли оставшуюся часть кроличьего поголовья.
С визгом разбегались от этой невидали собаки, тревожно отпрыгивали в стороны козы, свиньи и телята. Да и как не испугаться, если на тебя страшилище роста великого, с глазами как блюдца, с шеей неестественно длинной, ногами костлявыми, да еще и в клочьях перьев стремглав несется?
«Освободители» убрались восвояси несолоно хлебавши. Когда ополченцы прогнали их, предварительно отобрав практически все, что стреляло и на гусеницах ездило, поделилась со мной одна старушка своим переживанием. Тихонько рассказала, чтобы никто не слышал. Боялась, наверное, что не поверят ей или скажут, что с глузду бабка съехала.
— Батюшка, а ты знаешь, я ведь беса бачила.
— Когда? — спрашиваю.
— Да когда нас убивать пришли.
— Может, показалось вам?
— Да нет, батюшечка. Точно бачила. С погреба вылезаю, как стрелять прекратили, а он стоит и на меня смотрит.
— Кто?
— Так бес же, отче! Здоровый, шея длинная, облезлый весь, очи черные, вместо рта клюв с зубами и лапы страшнючие, как у онука в книжке дракон… Может, грех на мне какой большой? Так я, кажись, уже обо всех рассказала. Теперь страх на мне великий, чем же я так Бога прогневала, что Он ко мне беса попустил?..
Бабушку я успокоил, да и односельчане, наверное, ей объяснили, что это за бесяка был на дракона похожий.
А страусы куда-то ушли. Видели ополченцы, как они по балке перемещались, а вот куда делись, неизвестно. Может быть, в Африку к себе убежали, туда, где войны нет?
Часть III. Воспоминания, размышлизмы
Господь привёл…
Наверное, большинство из нас, в священном сане находящихся, на вопрос «Как ты стал священником?» ответят неопределенным «Господь привел». Вот только неопределенность эта лишь для вопрошающего, а для нас — абсолютная уверенность. Ведь случайностей априори не бывает, и когда начинаешь составлять лесенку событий, по ступенькам которой взбирался к удивительным и непередаваемым минутам рукоположения, становится совершенно ясно, что тебя вели к нынешнему служению…
Поэтому и ответ такой: «Господь привел».
Ступеньки эти вспомнить можно, но не все. Были и такие, которые без твоей воли преодолевались и казались не очень обязательными, но сегодня, с опытом прожитых лет, видишь, что все в единстве и четкой последовательности происходило.
Первый религиозный опыт, вернее, апологетический спор вышел у меня с бабушкой, матерью отца.
— Ба, — допытывался я, — почему у тебя на кухне Бог злой, а в зале добрый?
— Нельзя так говорить! — сердилась бабушка. — Ишь чего надумал!
— Сама посмотри! — указывал я на иконы.
На кухне образ Спасителя был старым, темным, одни глаза и лоб видны. Ночью проснешься, и если лампадка не погасла, то глаза на тебя смотрят из темноты. Страшно.
В зале же, в самом светлом углу между маленькими окнами, Бог, обрамленный рушником, добрый и радостный. В блестящей одежде с цветами. Да и не один Он там — с Богородицей и с какими-то святыми.
Второй яркий «религиозный опыт» с Пасхой связан. Вернее, с милицейской дубинкой. В девятом классе после урока литературы, на котором учительница на свой страх и риск нам о Церкви и вере рассказала, решили мы в ночь пасхальную в собор ростовский сходить.
У входа в него подковой, в полуметре друг от друга стояли курсанты речного училища, а за ними, по тротуарам и трамвайным рельсам, — группы молодых милиционеров. Курсанты пропускали только старушек. Все остальные должны были объясняться с милицией, которая, как правило, отправляла обратно, за оцепление.
Кафедральный собор находится на рыночной площади города. Центр с парками и развлечениями — рядом. Неудивительно, что возле оцепления собралась внушительная толпа молодежи, оживленно обсуждающей не столь часто встречающееся действо.
Нет, о Воскресении Христовом не говорили, просто тихонько (громко тогда было не принято, да и боязно) обсуждали сам факт: «Почему не пускают». И, естественно, тут же вырабатывали планы, как «прорваться» в церковь. Зачем прорываться, было не так уж важно…
Придумали грандиозный план и мы. Неподалеку была остановка, от которой отправлялись трамваи, проходившие сквозь оцепление как раз мимо ворот собора. Открыть двери движущегося трамвая в те годы было элементарно, поэтому мы и решили выскочить из вагона как раз напротив церковной калитки и… бегом в храм.
Так и сделали. Но не рассчитали. Милиционеры оказались проворней. Тут-то мне и досталось дубинкой по шее и спине…
Наверное, именно после этой дубинки начал я искать книги, с православием связанные. Непросто это в советские годы было, но Ростов-на-Дону — город особенный, в нем всегда удавалось найти даже то, что запрещено и не поощрялось. Да и любовь к книгам, с детства мне родителями привитая, помогла. Даже в официальных изданиях, особенно у отечественных классиков, можно было отыскать повествования о Христе и вере.
В годы студенческие появилась возможность читать христианские издания «из-за бугра», моряками нашими привозимые, да и православные передачи Би-би-си и «Голоса Америки» свою роль сыграли.
Уже в зрелые годы встретился мне в небольшом белгородском поселке священник. Мой ровесник. Обладатель удивительно разнообразной по составу и богатой библиотеки, для которого вера, служение и увлечение литературой были неразделимы. Он иначе и жизнь свою не представлял.
Наша дружба имела логическое завершение. Повез меня батюшка в возрождающуюся Оптину пустынь, где я и «задержался» на целый год.
О последних ступеньках до рукоположения нужно уже не у меня, а у отца Мелхиседека (Артюхина) спрашивать, нынешнего настоятеля подворья оптинского, что в Ясеневе. Он учил, он благословил и рекомендацию на рукоположение написал. Так что Господь через тех, кто верит и служит Ему, к священству привел. Нет тут ни пафоса, ни бравады, ни ухода от вопроса…
Военная история
— Дядь Коль, а ты немцев много на войне убил?
— Убивал, наверное.
Это «наверное» меня, мальчишку, родившегося через девять лет после войны и постоянно об этой несправедливости сожалевшего, никак не устраивало.
Допрос продолжался:
— Как это «наверное»?! Ты ведь артиллеристом был, из пушки стрелял — и не знаешь?
— Да как же я знать могу, если наши орудия в ряд поставят и стреляем мы залпами по тем местам, где немец находится.
— Но ты ведь по ним целился?
— Целился, конечно.
— Значит, убивал, — делал я окончательный и удовлетворительный вывод, хотя ожидал более захватывающих рассказов о сражениях и подвигах.
Особенно же были непонятны разговоры между дядькой и его друзьями, когда они за столом или на природе вместе собирались. Мы с моими братьями двоюродными и приятелями нашими никак уразуметь не могли, за что это они свои ордена с медалями получили, если на войне только и делали, что от ран по госпиталям лечились, окопы копали и переходы по холоду и грязи совершали.
Странная война у них была. Совершенно неинтересная.
Вот друг у нас был, мы его Шохой звали, так он все о настоящей войне знал. С разведкой, пленными фрицами, дотами с пулеметами и картами секретными. Нет, Шоха не воевал, он всего лет на пять старше нас был, но историй знал много. Говорил, что ему их дед рассказывал, который был летчиком-героем.
Мы Шохе верили. Да и как не верить, если он нас водил в те места, где раньше бои шли, а там можно было не только каску немецкую найти, но и патроны отыскать.
Как-то после майских праздников собрались мы в колхозном саду в войну поиграть. Поделились на наших и немцев, о правилах «убит-ранен» договорились и только хотели начать, как Шохин свист услышали.
Шоха у речки, на бугре стоял и нам махал, к себе звал.
Сашка Забедин, самый младший в нашей компании, тут же завопил:
— Ребята, побежали! Мне Шоха говорил, что придет и мины немецкие принесет. Взрывать будем!
Гурьбой ринулись к реке.
У ног Шохи лежал видавший виды мешок, а в нем, когда Шоха мешок приоткрыл, мы увидели два продолговатых цилиндра грязного цвета.
— Мины из миномета немецкого, «кабанчиками» их называют, — разъяснил Шоха.
«Кабанчики» взрывали недалеко от речки, на краю сада, в дупле большой старой яблони. Собрали сухой травы и коры, на них положили хворост, а сверху два снаряда. Разожгли костерок и бегом прятаться за речным обрывом. Лежим тихо. Головы не высовываем. Страшно. Сжались, уши руками позакрывали. А взрыва нет и нет.
Осмелели. Сашка к краю подкрался, выглядывает, а Шоха решил вообще вылезти. Разузнать, в чем дело. Полез.
Тут и рвануло.
Шохе ничего, просто вниз отбросило, а Сашке маленький осколок в глаз попал. Живой остался, только без глаза.
Бабка Сашкина нам сказала, что его Бог спас, а мы не верили и Сашку ругали за то, что из-за него нас всех выпороли как следует, а Шоху чуть в колонию не отправили.
Прошло много лет. Был я в тех местах. Бродил по заброшенному бывшему колхозному саду. Яблоню ту искал. Не нашел. А место определил сразу. Речной обрыв никуда не делся.
И к Сашке зашел. Он там же живет. С черной, въевшейся в щеку и лоб повязкой, закрывающей потерянный глаз. Внуков растит.
Теперь мы с ним знаем, что нас Господь сохранил, и понятны нам теперь рассказы о войне наших дядек…
День Победы
Бабушкин Шарик имел собственную миску. Ею была немецкая каска. Летом приехавшие на каникулы в деревню городские внуки и внучки, к категории которых принадлежал и я, этот сервис собачьего быта у Шарика уперли и на берегу речки расстреляли как фашиста из самопалов.
Дядька Вася самодельное оружие у нас позабирал, чувствительных подзатыльников всем отвесил, не разбираясь, где свой, где чужой, и сказал, что в селе хватит одного одноглазого.
Одноглазым был сам дядька Вася. Когда немцы вместе с итальянцами в 1942-м в сторону Харькова убегали, то в хате, где всю зиму и весну обитали, они несколько гранат забыли. Вот дядька Вася их и разряжал, пока запал в руке не разорвался; выбило ему глаз и пальцы оторвало.
Самопалов было жалко. Но услышали мы, как бабушки наши, обсуждая вечером баловство своих «онуков», разговор вели о патронах, которые аккурат за колхозным подвалом в великом множестве когда-то валялись.
И правда валялись, чуть сверху дерном прикрытые. Мы их ведро наковыряли и на рельсы положили перед тем, как по ним вечерняя дрезина с мотором и будкой из райцентра в деревню должна была идти.
Очередь получилась отменная. Вся деревня всполошилась. Как дед Федот сказал, будто опять бой под курганом начался. Дед Федот врать не будет, он всю войну на передовой пробыл. Причем началась у него эта передовая именно здесь, у кургана, около дома родного…
Всыпали нам за патроны намного серьезней, чем за самопалы, но охоту «повоевать» не отбили.
Да и как без войны жить десятилетним мальчишкам, если в сарае-хлеву, где корова с теленком живут, верхняя балка крыши удерживается противотанковым ружьем без затвора, а у отца родного где-то рядышком спрятан пистолет. Точно спрятан. Сам я лично видел, как папка его разбирал да смазывал…
О войне нам рассказывали много. Но почему-то вспоминали все больше о голоде, холоде и похоронках… Ни тебе «ура» громогласного, ни засад, ни подвигов.
— Ба, — спрашиваю, — а ты что при немцах делала?
— Да в колхозе работала, онучек.
— На немцев? И тебе не стыдно?
— Так он пришел, немец этот, — рассказывает бабушка, — на майдане, в правлении и школе расположился и всю ночь топорами да молотками стучал, дерево пилил.
— Ну и что?
— Как что, онучек? Утром нас всех на майдан-то собрали, а там виселица с тремя веревками. Кто, сказали, на работу не пойдет, тот тут висеть будет.
— Я бы не пошел, — уверил я бабушку.
Разговор этот был году в 1962-м или 1963-м, то есть лет через двадцать после того, как ушла из тех родных мест война. Она коснулась семьи нашей всей своей звериной ненасытностью, и слава Богу, я пережил ее только в воспоминаниях стариков и отца. В их простых рассказах было мало пафоса. Несравнимо больше слышал я о горе, грязи, ранах, смерти и потерях. Но никогда у тех, кто воевал, не было и тени сомнения в необходимости и желанности Победы. «Наши» не могли не победить, и они сделали это.
Анчутка
В кладовке было темно, пахло топленым молоком, сушеными яблоками и вишней. В углу скреблась мышь. По всей видимости, дорогу себе в рядом расположенный курятник прокладывала. Свет тонкой полоской просачивался из-под закрытой двери, а вверху, над нашими мальчишескими головами — сплошная, густая, пугающая темень. Мы вдвоем с братом Шуркой, затаившись, ожидали, когда Наташка, моя сестра двоюродная, а Шуркина родная, придет ведро молочное на место поставить. Ей уже по возрасту полагалось в обед на луг идти, корову доить, и она вот-вот должна была вернуться.
Наташка, по нашему разумению, вредная девка: обо всех наших делах и секретах бабке или дядьке Васе, отцу своему и Шуркиному, рассказывает да вечно за нами следит. Вот и решили мы ее напугать, чтобы неповадно было…
Дверь, скрипя древними петлями, отворилась. От резкого света мы с братом зажмурились, но все же хором во всю мочь заорали. Я кричал «А-а-а!», Шурка вопил «У-у-у!». Глаза наши, солнечными бликами ослепленные, пока еще ничего не видели, но уши услышали. Правда, не то, чего хотелось.
Упало и загромыхало уроненное ведро, а затем раздался громкий бабушкин вскрик: «Ох, божечки!»
Шурка успел проскочить невредимым между бабушкой и дверью, я же хороший подзатыльник схлопотал, и возглас: «Штоб тебя анчутка стрескал, ишь как напужал!» — только ко мне относился.
Куда бежать, было ясно. Сад заканчивался колхозным терновником, где у нас с братом было «секретное место». Там с Шуркой и встретились. Сначала обсуждали, как бы бабку уговорить, чтобы дядьке Васе ничего не рассказала, и пришли к выводу, что вдвоем сходим на покаяние. Бабушка любила, когда мы после очередного озорства представали пред ней с понурыми головами и говорили: «Ба, мы покаяться пришли».
Да оно и понятно, почему любила. Она ведь Богу молиться раньше ходила, а сейчас, когда вокруг ни одного храма не осталось, ей наши «покаяния» с виноватыми лицами и обещаниями, что «никогда больше не будем», наверное, жизнь церковную напоминали.
Когда вопрос предотвращения дядькиного возмездия был решен, как-то само собой об анчутке заговорили. Вернее, я у брата разъяснения потребовал, кто это такой. Шурка — мальчишка деревенский, и он, в отличие от нас, городских, намного лучше в этих делах разбирался.
Оказывается, не надо путать анчуток домашних, водяных и полевых. Они все разные, есть очень злые, а есть такие, которые ничего с тобой не сделают, только напугают.
— А злые это какие? — спросил я Шурку.
— Водяные, — со знанием дела ответствовал брат. — Когда в речке купаешься и ногу свело, то это анчутка вцепился. Может и на дно утащить.
Это было действительно страшно, так как на речке мы пропадали целыми днями, но брат успокоил:
— Ты не боись, в нашей речке их нет.
— Это почему же? — не поверил я такому утверждению.
— У нас родники, откуда речка течет, все святые, и вода там святая, — объяснил брат, — а анчутки ее боятся.
— И полевых бояться не надо, — продолжил Шурка. — Их волки когда-то погоняли и пятки им откусили. Теперь они от всех убегают, кто по полю идет. Наверное, думают, что это волки…
Долго мы еще с братом о «страшном» говорили, но животы уже урчали, а терна и яблок есть не хотелось, зеленые они еще. Да и со двора запах шел манящий и дурманящий. На улице летняя печь была устроена, и бабушка на ней летом всегда обеды готовила. Наши мальчишеские носы четко учуяли, что в данный момент она оладьи жарила. Так и стояли перед глазами хрустящие оладушки со сметаной да с молоком. Деваться некуда, крутись не крутись, сиди в «тайном месте» не сиди, а есть хочется. Надо идти с «покаянием».
Пошли…
Бабушка показалась нам сердитой. Предстали мы пред ней с уныло опущенными головами, шмыгающими носами и даже с вытиранием сухих глаз от так и не появившихся слез раскаяния.
Шурка, как старший и уже не первый раз побывавший в подобной ситуации, скороговоркой выдал:
— Ба, мы каяться пришли. Ты нас прости, что напугали тебя, — а затем добавил мне непонятное: — Грешники мы, бабушка, окаянные.
Что такое грешники, да еще и окаянные, для меня, городского мальчишки, было загадкой, но бабушкино лицо как-то сразу изменилось; вся строгость перешла в ее всегдашнюю добрую улыбку.
Смахнула она тряпкой невидимую на скамейке пыль, заставила помыть в стоящей рядом бочке с водой руки и усадила за стол.
— Садитесь уже, грешники… Небось, изголодались с утра.
* * *
Прошло много лет. Окончил я школу и решил поступать в университет. Я-то решил, а вот университет с моим решением не согласился — заявил, что баллов экзаменационных, мною полученных, для него недостаточно. Зато армия тут же повестку прислала и безапелляционно определила, что в ближайшие два года буду я в гимнастерке и сапогах армейских пребывать.
За несколько дней до отъезда на призывной пункт отправили меня родители в село с бабушкой проститься, старенькая она уже стала, болела много.
Когда старушка узнала, что призывают меня в войско советское, расстроилась, расплакалась.
— Ба, да не волнуйся ты. Все нормально будет. Через два года вернусь и сразу приеду. Оладушки мне опять спечешь.
— Да нет, онучок, — вздохнула бабушка, — уже не дождусь.
На мои уверения, что все будет нормально, она внимания не обратила и неожиданно сказала:
— А я ведь перед тобой покаяться хочу!
— Передо мной? Это за что же? — удивился я.
— А помнишь, как я вас с Шуркой анчутками нарекла? Раз за разом теперь вспоминаю… Как же я могла онуков родных словом таким поганым обозвать? Ты уж прости меня, старую…
Больше сорока лет минуло со смерти бабушки, а я как встречу в рассказах, легендах или сказках анчутку, так и вспоминаю село, Шурку, оладьи со сметаной, но прежде всего — бабушку и ее покаяние.
Мы не могли не встретиться
Вечером мы собирались «на лавочке». Место это такое у дома Коли Малиновского. Дом старый, войну переживший, от шумной улицы высоким каменным забором отгороженный и кустами сирени прикрытый. Там стол стоял с двумя лавочками, местными доминошниками сооруженный. К вечеру пенсионеры, любители забить «козла», отдыхать расходились, уступая место молодому поколению Портянки — так наш район называли по причине его расположения вдоль не утихающей ни днем ни ночью улицы Портовой.
Иногда и мы домино баловались, но больше все же разговоры разговаривали да по приемнику «Спидола» или только что появившимся ВЭФам контру ФРГ ловили, как Высоцкий пел. Западные станции нещадно глушились, поэтому местные умельцы перестраивали нам коротковолновые диапазоны на такие частоты, где «глушилки» работали не всегда.
Политика как таковая нас интересовала постольку-поскольку, а вот музыкальные программы Севы Новгородцева из Би-би-си и рок-обзоры «Голоса Америки» были нашими. Мы их даже всеми возможными способами на ленточные магнитофоны записывали.
Сева Новгородцев из Лондона в 23:30 по субботам всегда в эфире о музыкальных новинках вещал, а в полночь после новостей какой-то священник о Боге говорил, что было, конечно, любопытно, но не столь интересно. Наверное, так и приглушали бы мы звук после Севиной передачи, но как-то он всю программу рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» посвятил и так вдохновенно сюжет пересказывал, что стало ясно — в головах наших полное отсутствие знаний библейских. Обидное открытие и досадное.
Нет, о религии нам в школе рассказывали, — естественно, как о пережитке и полной ненужности, — но то, что Христос может стать героем рок-оперы, было непонятно, а поскольку Сева пользовался безусловным авторитетом, решили мы лондонского попа слушать, авось просветит…
После двух-трех передач четко определилось: надо бы почитать Библию и Евангелие. О том, что это одна книга, мы еще не знали, как не знали и о том, что найти в начале 1970-х в Ростове Библию не так просто.
На книжной толкучке в парке, у областного драмтеатра, где не только менялись книжками, но можно было из-под полы приобрести практически все, что издавалось и в СССР, и «за бугром», на наш вопрос: «Где купить Библию?» — нас откомандировали к завсегдатаю ростовского книжного бомонда, сухонькому старичку с необычным именем Порфирий.
Порфирий благосклонно выслушал, внимательно на нас посмотрел и изрек: «Царская — пятьсот, современная — триста пятьдесят».
По тем временам подобные цены на книгу кого угодно могли ввести в ступор, а нам они вообще казались фантастическими. Да и как не казаться, если месячная зарплата у тех из нас, кто работал, не превышала 120–140 рублей, а студентам стипендии разве что на пирожок с компотом и проезд до института хватало?
Решили в церковь пойти.
В ростовском соборе было малолюдно, прохладно и тускло. Служба уже окончилась. У темных икон горели свечи. Незаметные бабушки мыли каменные плиты пола. Слева, у длинного стола с продуктами, стоял священник с каким-то парнишкой в темном облачении до пят. Священник бесконечно читал имена из маленьких книжечек, а его помощник складывал их в длинные ячейки странных ящиков, похожих на перевернутые полки.
Подойти к священнику постеснялись, да и занят он был, поэтому обратились к женщине, продающей свечи и крестики.
Она, как и Порфирий на книжном рынке, внимательно выслушала и, пристально нас рассмотрев, ответила: «Ребята, Библий мы не продаем. У бабушек своих поспрашивайте…»
Бабушек имели все. Иконы в их домах и квартирах были, а вот Библия… Уж нам ли, внукам, не знать, что у бабушки есть и чего нет?
Хотя, поразмыслив и перебрав родственников, все же решили Библию по селам и станицам поискать. Может, и сохранилась у кого.
Через неделю Витька Рыбак принес «на экспертизу» толстую книжку с крестом, написанную непонятным языком (как выяснилось позже, церковнославянским). Фолиант именовался странным названием «Трїwдь Постная». Общими усилиями разобрались, что перевернутая английская «дубль вэ» означает «о», но понять, что такое «Триодь», не смогли. Помог «Словарь атеиста», где популярно разъяснялось, что это богослужебная книга, которую поют и читают на службах во время Великого поста, а также говорилось, что во времена этих постов тысячи наших предков изнывали от голода и болезней. Еще в словаре было написано, что Триодь эта по библейским текстам составлена. Но что толку расшифровывать отрывки на непонятном языке, не зная их смысла?
Дома на вопрос, где Библию почитать, — удивленные взгляды родителей без комментариев и пожатие плечами.
Странно. Книги Солженицына вкупе с Войновичем и Аксеновым, да и прочих писателей-диссидентов, за которых из института выгоняли и на пять лет на БАМ высылали, найти для нас проблемы не составляло, а вот Библия оказалась книгой недоступной.
Приближались майские праздники, три дня выходных. Все вместе, а нас пятеро друзей было, отвертелись всеми правдами и неправдами от первомайской демонстрации и несения знамен с лозунгами и отправились по широкому после весеннего половодья Дону в дальнее село, в устье реки на острове расположенное. Мы туда всегда на рыбалку ездили. Отцы наши на это дело всегда положительно смотрели, лодку моторную выпросить у них было несложно. Там, за селом, в донских ериках[13] и заводях мы не только хорошую рыбу ловили, но еще и аборигенами себя чувствовали. Вокруг только камыши да ивы с лозняком на островах. Днем птиц разноголосье, а вечером тишина первозданная. Даже лягушки замолкают. Если бы не комары донимающие — чистый рай. Мы так и назвали свой островок — Рай. Наверное, у каждого из нас есть такое место, где кроме друзей самых близких никого видеть не хочется. Таким для нас этот Рай был.
В селе докупили продуктов. Дров у знакомого рыбака за пол-литра выменяли. Майские ночи на Дону еще прохладные, хворостом не обогреешься. Долили в лодочный мотор бензина — и в Рай…
Еще на подходе к острову услышали запах дыма, а затем и два удилища увидели. Они над камышами торчали, как признак того, что наша робинзонада приказала долго жить.
И точно. На любимом островке, который от силы сто метров в длину да тридцать в ширину, в заливчике, куда так любили на утренней зорьке донские чебаки[14] заходить, сидел пожилой мужик с небольшой окладистой бородой и читал толстую книгу. Заметив нас, он приветственно помахал рукой, мол, подходите, места хватит. Наши кислые лица, видно, ничего ему не говорили. Мы даже не поздоровались. Да и как здороваться с оккупантом?
Дело шло к вечеру, искать иной остров уже было некогда. Да и где его в этих зарослях найдешь?
Выгрузились. Палатку установили. Стали снасти разбирать да костерок разжигать. Коля Малиновский, как самый главный и ответственный, все же решил к оккупанту подойти. Ведь как ни злись, ночевать вместе придется.
— Дед, клюет рыбка-то? — вместо «здрасьте» спросил Николай.
— Да Бог весть, сынок, может, и клюет, — ответил дед и продолжил: — Я вот поймал три штуки, мне хватит на ужин.
И точно, мы сразу обратили внимание, что старик все это время на поплавки не смотрел. Уткнулся в свою книгу и головы не поднимает.
— Что, книжка интересная? — решил до конца разобраться Николай.
— Интересная, — коротко ответил старик, а затем взглянул на нас по-доброму, доверительно и добавил: — Про вас, сынки, книжка написана. Про апостолов.
Разговор получался насколько странным, настолько и интересным. Мы все к старику подошли.
— Это почему же про нас, дед? — не вытерпел Витька Рыбак.
— И чего это мы апостолы? — спросил я.
Дед усмехнулся, еще раз осмотрел нас добрыми глазами и ответил:
— Так апостолы рыбаками были. И тоже сетью рыбу ловили. Вечером в море уходили, к утру с уловом возвращались. Про это в книжке прописано, — указал дед на толстый фолиант в зеленой обложке.
— Какой еще книжке? — не унимался Витька.
— Да в Библии, — просто ответил дед.
Обычно ироничные еврейские глаза Коли Малиновского стали среднерусскими, а у остальных физиономии выражали такое ошеломление, что наш собеседник рассмеялся. Смех у него был странный. Располагающий такой смех. После него еще поговорить хочется.
Рассказали мы нашему нежданному соседу, перешедшему из ипостаси «оккупанта» в ранг интереснейшего собеседника, как долго мы в Ростове Библию искали, как ее почитать хотели.
— Почитать мало, апостолы вы мои, — ответил старик. — Ею бы жить надо.
— Это как? — не понял я.
— Долгий разговор, сынки. А мне собираться надобно, пока совсем не стемнело.
Старик вытащил из воды кукан[15] с тремя небольшими сазанчиками, смотал удочки и потянул за веревку, которую мы в траве и не приметили. Из прибрежного камыша выскользнула небольшая лодка. Погрузив свой улов и снасти, старик обернулся к нам и просто сказал:
— Возьмите, сынки, книжку. Она вам сейчас нужна, а мне, как кажется, уже без надобности.
Мы, ничего не понимая, молча провожали старика. Только спросили у него, где он живет-то, чтобы Библию после отдыха нашего завезти.
— Да тут, рядышком, — ответил старик и назвал село, куда мы заходили за продуктами.
Все три дня мы по утрам будили друг друга словами «Вставай, апостол» и по очереди вслух читали Библию. Нет, рыбу тоже ловили, но все же главной была Книга.
Возвращались через три дня. У сельского причала женщины белье полоскали. Спросили у них, где тут дед живет с бородкой, добрый такой?
Женщины удивленно на нас посмотрели, а одна из них заплакала.
— Нету уже деда вашего, ребята, в обед похоронили…
* * *
Много лет прошло с тех пор, но слова этого деда: «Возьмите, сынки, книжку. Она вам сейчас нужна, а мне, как кажется, уже без надобности» — я помню. А вот как звали его, мы так и не спросили…
Оптинское…
В сентябре 1990 года, после вечерней службы в Оптину заехала грузовая машина из Донецко-Луганской епархии. В Софрино свечами, ладаном и иконами загрузилась и в недавно открытую обитель прибыла, так как в православной среде уже все знали, что в Оптиной пустыни был самый большой выбор православной литературы.
Сегодня, когда вспоминаешь тот «выбор», невольно улыбаешься. Репринт малочисленный, местные брошюрки самиздатовского вида да молитвословы с Псалтирью. Впрочем, по тому времени это богатством считалось. Помню, как радовались небольшой книжечке Паисия Величковского «Крины сельные», которую в Минске удалось приличным тиражом выпустить.
Главой донбасского «десанта» был епархиальный секретарь Донецкой и Луганской епархии отец Анатолий Пята. Епархию же в те годы возглавлял епископ Иоанникий (ныне митрополит на покое). На монастырской привратной вахте, когда узнали, откуда эта будка алюминиевая приехала, тут же мне сообщили, так как иных трудников из степей донбасских в монастыре на тот день не просматривалось.
Встретил я секретаря епархиального, обитель ему немного показал и к нам в издательский отдел привел, где тут же получил внушение от зашедшего в отдел иеромонаха за то, что забыл об оптинском гостеприимстве, которое после поклонения святыням монастыря обязательно предполагает посещение трапезной.
До позднего вечера беседовали мы с отцом Анатолием о книгах, новостях церковных и событиях донбасских. Затем повел я его по лесной тропинке к месту отдохновения от трудов праведных.
Скитский храм Льва Катанского использовался в те годы как гостиница для паломников. На первом этаже была оборудована келья для приезжающих священников, и, хотя для отдыха и ночлега все было сделано вполне достойно, сырость времен запустения и разрухи пробивалась сквозь свежую штукатурку. Спастись от нее даже под теплым одеялом было невозможно. Поэтому, не мудрствуя лукаво, отправились мы обратно в монастырь. В издательском отделе было и уютнее, и теплее, да и диван имелся вкупе с чайником.
За чаем разговор об изданиях церковных, а их тогда можно было по пальцам перечесть, продолжился. Наши первые, «серенькие» брошюрки, напечатанные в небольших провинциальных типографиях Козельска, Белёва и Сухиничей, с объяснениями Символа веры и церковных таинств у епархиального секретаря вызывали восхищение. В Луганске в те годы опубликовать что-либо подобное было невозможно. Власть рапортовала о перестройке внутренней и внешней, но, по сути, оставалась все той же, советской.
Когда же я рассказал секретарю епархиальному, что «Душеполезные поучения» аввы Дорофея вышли в типографии Тульского обкома партии, тот сначала не поверил, а потом до самого своего отъезда все расспрашивал, как это нам удалось первую после октября 1917-го толстую монашескую книжку именно у коммунистов издать.
Надобно заметить, что в 1990 году в той тульской типографии не только авва Дорофей был напечатан. Уж не знаю, что там был за руководитель и кто его курировал, но когда мы забирали «поучения» православного подвижника, типографские станки на полную мощность выдавали книжные листы с солженицынским «Архипелагом».
Утром, когда грузили пакеты с литературой, секретарь епархиальный неожиданно предложил мне вернуться в родные края и пойти к архиерею с прошением о рукоположении: «Священников катастрофически не хватает. Приходы один за другим регистрируют, а священников нет. У нас каждый день в приемной две-три делегации с одним криком: “Батюшку дайте!”»
Нельзя сказать, что у меня не возникали мысли о священстве. Не только возникали, но с каждым днем всё крепли, однако желание стать священнослужителем определялось как далекая мечта, к которой идти и идти надобно. А здесь сразу четко и конкретно: приезжай и будь!
Проводил секретаря епархиального и целый день из-за этого предложения маялся, все из рук валилось. После вечерни остался в храме, стал у иконы благоверного князя Александра. Молюсь. Не идет молитва. Разброс, разнос и мельтешение в голове. Пошел к раке с мощами преподобного Амвросия (это уже позднее стало ясно, что там в те годы мощи преподобного старца Иосифа были). Кричу молча: «Чего делать-то? Подскажи!» Старец не отвечает.
Духовник в Москву укатил, иным насельникам монастырским в сане священническом мне как-то не с руки все предыстории и истории личные выкладывать. Вспомнил Пушкина, вернее, слова из сказки его: «А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись». Решил, что совет Александра Сергеевича вполне насущный. Отправился спать. В скит, где на самой верхотуре храма Льва Катанского была у меня келейка чердачного типа, идти не захотел, пристроился на диванчике в издательском отделе. Крутился, вертелся — не могу уснуть, хоть и устал за день изрядно. Решил сменить дислокацию, отправиться в скит. По лесу прогуляюсь, подышу, авось и сон придет под ночную службу скитскую.
Потихоньку топаю из монастыря к себе в келью. До ночной службы еще пара часов, поэтому движения монахов и паломников (тогда паломники еще допускались к скитской службе) не наблюдается. Лес. Прохладно. Воздух — нектар, причем нектар, напоенный веками истории и молитвами старцев.
Недалеко от колодца догоняю монаха, бредущего в ту же сторону, к скиту. На нем фуфайка поверх подрясника. Невольно думаю: «Ладно я, “приписанный” к монастырю, без особых служебных послушаний и молитвенных правил… Но чего этот брат в час ночи тут бродит?»
Догоняю инока и хлопаю его по плечу:
— Брате, ты чего не спишь-то?
— Да вот погулять решил. Благодать-то какая, да?
Инок поворачивается ко мне, и я понимаю, что «попал». На меня, улыбаясь, смотрит архиепископ (ныне митрополит) Калужский Климент.
Архиерею о своих проблемах я ничего не рассказывал, но, видно, встреча с владыкой равновесие душевное восстановила, и, добравшись до подушки, я сразу уснул.
Проснулся, когда уже не только полунощница монастырская отошла, но и литургия заканчивалась. Спал бы и дольше, если бы дежурный по паломнической гостинице не разбудил с укором и указанием: срочно в издательский! Отец Мелхиседек вернулся, требует.
— Спишь, брат?! — спросил игумен.
— Да сплю вот, — не нашелся я, что ответить.
Честно говоря, совесть меня никак за данный проступок не мучила. Пока до монастыря дошел, иное главным стало; прав был Пушкин — утро мудрым оказалось. Решение откристаллизовалось и укрепилось: буду просить благословения на отъезд из обители.
Не успел даже разговор на тему, меня мучившую, завести. Игумен сам, каким-то только ему присущим чутьем обо всем догадался, а может, и доложил кто, Бог весть…
— Да, брат, говоришь, из Луганска приезжали? — с улыбкой вопросил глава издательского отдела и благочинный монастыря в одном лице.
Должно отметить, что у отца игумена была в те времена определенная черта: когда он занимался проблемами благочинническими, то был сама серьезность и пунктуальность, а вот на издательском поприще умел пошутить и, так сказать, нетривиально решить то, что по всем предпосылкам никак не поддавалось разрешению. Чего я в нем никогда не видел (надеюсь, что это так и поныне), так это даже мало-мальской растерянности в, казалось бы, безвыходных ситуациях.
Помнится, во второй год восстановления монастыря, когда «народная тропа» к святыням обительским быстро преобразовалась в асфальтированную дорогу с едущими и идущими по ней многочисленными паломниками, а на козельском автовокзале срочно увеличили количество автобусов из Первопрестольной, затеяли довольно серьезные предприниматели построить гостиницу с увеселительными заведениями на берегу Жиздры рядом с монастырем.
Прекрасно знали и четко вычислили новоявленные новые русские, что окупятся затраты очень быстро и красоты, монастырь окружающие, с определением «святые» станут источником великих прибылей.
Монахи это тоже понимали и, естественно, не только обсуждали, но и молились, чтобы не попустил Господь появления рядом с их обителью развлекательного «туристического объекта» со всеми сопутствующими кощунственными ингредиентами. На одном из таких обсуждений, в котором участвовали отец наместник (ныне митрополит Владимирский и Суздальский) и отец Михаил — эконом монастыря и мой наставник, довел мне Господь присутствовать.
Наместник обозначал и разрабатывал конкретные юридические, хозяйственные и прочие аргументы, как этой агрессии противостоять, и распределял обязанности между своими помощниками. Отец эконом, который в ту пору обладал властью начальника, прораба, экономиста, механика, бухгалтера и политрука над более чем двумя сотнями трудящихся по найму и собственному желанию монастырских работников, продумывал механизмы силового противостояния. Отец Мелхиседек, как всегда, привнес в этот сугубый практицизм свое понимание:
— Не выйдет у них ничего!
Глаза духовно-хозяйственных наставников обратились к игумену.
— Так мы вчера с отцом Михаилом это дело уже обсуждали и решили, что преподобный Амвросий им провода телефонные ножницами «чик», и всё…
Совещание тут же закончилось.
Не знаю, где и как преподобный вмешался, но идея создания у стен монастырских непотребного строения была благополучно похоронена.
И со мной произошло подобным образом. Не получил я от наставника отлуп за свое сугубо самостоятельное решение, а было благословлено готовиться к Причастию и отъезду.
На следующий день, после литургии, получив положенную монастырскую зарплату, я отправился прощаться с обителью и скитом. Грустно было, а вот сомнения не одолевали. Сегодня понятно почему: реальная духовная поддержка была. Ее трудно описать и о ней рассказать, но внутренне она не просто чувствовалась — она руководила.
За прощальным чаем отец Мелхиседек, кроме характеристики-рекомендации, вручил мне двести рублей.
— Это зачем? — не понял я. — Зарплату ведь получил.
— Пригодится. Бери, бери.
И точно. Всем, кого рукополагали в Луганске, нужно было приобрести в епархии «Толковую Библию» Лопухина. Стоила она 200 рублей.
Мироносицы моей жизни
В епархию меня вызвали сразу же после Богоявления. Зима с 1990 на 1991 год была холодной и снежной. Первый утренний пассажирский автобус до областного центра выходил лишь тогда, когда шахтные трактора расчищали дорогу.
Владыка об этом, конечно, знал, но вызвал… Значит, что-то срочное.
Отслужил я к тому времени после рукоположения аккурат два месяца с небольшим хвостиком. Только азы богослужебной практики освоил, да пару литургий самостоятельно осилил.
Призыв священнический в конце 1980-х — начале 1990-х оригинальный был. Приходы по епархиям открывались десятками, а священства подготовленного нет. Три семинарии на весь СССР чуть больше пятидесяти подготовленных к служению воспитанников в год выпускали, а у дверей каждой епархии многочисленная очередь ходоков из городов и весей: «Дайте настоятеля!»
Поэтому и готовили пастырей по принципу «взлет-посадка». И ведь управил Господь: большинство в те непростые годы рукоположенных добрыми пастырями стали, хотя и исключения были. Священническое служение свои искушения и преткновения имеет. Светскому человеку часто и не понять их.
Одной из таких проблем были сельские храмы, где прихожане сами порушенную церковь восстанавливали или новую строили, а затем «с позиции силы» к правящему архиерею ехали: «Владыка, давай батюшку! Храм пустой стоит, и в совете по делам религий мы уже все документы выправили. Не дело: церковь есть, а службы нет».
Сидя в холодном автобусе, медленно пробирающемся через снежные заносы, я догадывался: перевести меня хотят. Вот только куда?
В городе я был третьим священником. Есть кому подсказать, показать и научить, да и диакон с регентом наличествовали. Если ошибешься, поправят. В общем, служи не тужи, ума-разума набирайся.
Естественно, даже перспектива получения настоятельского ранга на селе особо не радовала, а откровенно страшила.
Предчувствие меня не обмануло. Не успел зайти в кабинет архиерейский и благословение у епископа взять, как тут же секретарь епархиальный бумажку мне с указом вручает: «назначаетесь на настоятельское служение в Свято-Духов храм села Ребриково».
Пока соображал, где это Ребриково находится и что там за приход, владыка мне напутственное слово сказал, отеческое наставление дал и с настоятельским чином поздравил.
На все мои возражения, что, мол, не готов, не умею и не смогу, ответ был один:
— Там приход хороший, староста силен, книги служебные есть, и бабули службу знают.
— Владыка, — нашел я последний аргумент, — так мне говорили, что в Ребриково новый храм, его еще строить и строить, а какой я строитель?
Аргумент не сработал. Епископ был непреклонен.
— Без тебя церковь достроят. Ты служи.
И благословил на «подвиги» настоятельские.
В храме не было полов, и по земле кружилась поземка. На крыше по стропилам рубероид положили, а где его не хватило, шахтным вентиляционным брезентом небо холодное прикрыли. Алтарь был уже почти готов. В нем были настланы полы, а также наличествовали престол, жертвенник, пономарский стол и иконостас. Престол с жертвенником выглядели почти «канонично», а пономарский стол недавно исполнял кухонные обязанности в чьей-то хате. Более всего впечатлял иконостас: три простыни, растянутые на алюминиевой проволоке, причем средняя из них, с разрезом посередине, именовалась царскими вратами. На простынях, то бишь на иконостасной перегородке, были булавками приколоты бумажные иконы.
Эту картину внутреннего убранства я, видимо, рассматривал со столь трагическим выражением лица, что суетящийся рядом староста даже прекратил рассказывать о дальнейших планах строительства и начал меня уговаривать «трошки» потерпеть. Мне не хотелось терпеть ни минуты… «Да как же тут служить!» — кричало все внутри.
Сзади хлопнула дверь. Обернулся. В валенках, теплом ватнике, закутанная в большой пуховый платок, вся в снегу и инее вошла пожилая женщина. За собой она тащила санки, груженные чем-то тяжелым.
— Зоя! Я же тебе сказал, что на санях приеду и заберу! Чего ты надрываешься? — сокрушенно спросил староста и, обращаясь ко мне, добавил: — Вот, батюшка, в соседнем селе живет и по такому морозу и снегу на санках кирпич за два километра возит!
— Какой кирпич? — не понял я.
— Да старую пристройку у нас в хате разобрали, а кирпич остался, вот и вожу. Глядишь, и хватит на столбики для пола, — ответила уже Зоя и попросила: — Благословите, батюшка.
Я молча смотрел на санки. На них было двенадцать кирпичей. Больше просто не вмещалось. Как не вмещалось и у меня в сознании то, что делала эта женщина и что заставило ее по балкам, в метель тащить этот груз.
Пока складывал в голове мысли, зашла вторая заснеженная прихожанка, с мешком в руках. Поздоровалась, благословения попросила и вытащила из мешка валенки.
— Это тебе, отец Лександра. Замерзнешь ты завтра на службе в ботиночках своих.
Первую литургию служил на следующий день. Вместе с утреней. В холодном храме было человек семьдесят. Почти все исповедовались и причащались. Когда причастил народ и на престол потир ставил, рука не хотела разгибаться. Замерзла. И немудрено — в храме градусов десять мороза. Чуть не заплакал.
Вышел из алтаря, а меня бабушки окружили, чтобы спасибо сказать и уговорить:
— Ты, батюшка, не горюй. Сретение скоро, а там тепло, весна. Достроим мы церкву. Не бросай только нас…
И каждая к себе домой приглашает. Отобедать да согреться.
Вот тогда и дошло до меня, священника молодого, неопытного, что такое жены-мироносицы. По Евангелию я знал, кто это такие, но никогда не предполагал, что наяву с ними встречусь.
Спас и макитра[16]
В августе начала девяностых годов прошлого века зашел я, как обычно, к Харитоновне за молоком. Наставница моя в приходских делах житейского направления над столом склонилась и энергично так чем-то постукивает.
Заглянул через плечо и обомлел. Анна Харитоновна настоящим пестиком-макогоном в настоящей макитре мак растирает, а рядышком банка темного гречишного меда, лопухом прикрытого, стоит.
На прихожанке моей косыночка и фартук одного тона в цветочек и еще изюминка из прошлого — очки с резинкой вместо сломанной дужки. Над столом — старая темная икона с еле просматривающимся образом Спасителя. Чуть ниже иконы древняя лампадка исправно горит, не коптит. Прядь седых волос у бабы Анны из-под платочка выбилась, но она за делом не замечает. Меня она тоже не видит, так как песню поет:
Дай, Господи, нам многие лета,
Многие лета — долгие годы!
Дай долго жить, Спаса не гневить,
Спаса не гневить, Божьих пчел водить,
Божьих пчел водить, чистый воск топить —
Богу на свечку, хозяевам на прибыль,
Дому на приращение,
Малым деткам на угощение!
Я решил тихонько на лавку присесть, песню дослушать, да крышку деревянную на ведре с водой зацепил. Вздрогнула Харитоновна, ко мне повернулась:
— Напужал, батюшка! А я вот тут для маковок и блинов мак тру да мед готовлю… Спас ведь медовый завтра.
И действительно — первый Спас на дворе. Он еще с детства в памяти. Хотя тогда, в далеких шестидесятых, когда храмов открытых единицы оставались, а купола лишь в больших городах можно было увидеть, не понимали мы, ребятишки, каникулы летние у бабушек и дедушек проводящие, чего это за «Спасы» такие, до которых ни меда, ни яблок есть не положено.
Нет, яблоки мы благополучно ели, колхозных садов на всех хватало, да и в меде нам отказу не было, но вот блины с маковками, которые в мед с маком макаешь, только на Спас готовились, поэтому и особенными были.
Вот и застыл я в изумлении, когда в доме прихожанки нашей детство свое увидел. Ведь бабушка моя в таком же наряде точно так же в далеком далеке в макитре мак растирала. Только мед в глиняную кринку налит был, но тоже лопухом прикрывался.
Я решил не торопить Харитоновну и разговор о посте грядущем завел. Мол, опять две недели строгостей, а баба Анна мне в ответ:
— Так успенки разве пост? Это петровка — голодовка, а спасовка — лакомка.
И правда, сплошные лакомства на столе. Все поспело. Пока размышлял над удивительно религиозно-житейским словом «Спас», которое и праздник обозначает, и спасение утверждает, и стол плодами нового урожая покрывает, Харитоновна мне еще одну мудрость поведала.
— А знаешь, отец Лександра, зачем завтра ты воду святить будешь?
— Как не знать, знаю, — ответствовал я. — В этот день князь Владимир Русь крестил. Об этом и в предании нашем говорится.
— Может, оно, конечно, и так, — продолжала Харитоновна, — но то давно было, а вот я помню, что в день этот мы всю худобу на речку и к ставку гнали и там ее купали. Последний раз в году. Поэтому и называют Спас этот мокрым и воду освящают по церквам…
Спорить с бабой Анной не хотелось, да и объяснения ее как-то спокойно на сердце ложились и никакого богословского сопротивления не вызывали. Попробуй-ка объясни, как простой крестьянский ум взял, да и придал празднуемому в этот день, 14 августа, событию — памяти семи мучеников Маккавеев, еще за 160 лет до Рождества Христова пострадавших, — вполне практическое осмысление, связанное с уборкой и употреблением мака! Созвучие слов, конечно, присутствует, но больно уж точно праздник этот именно на самый подходящий для него день в году пришелся.
Долго слушал я рассказы Харитоновны о празднике да посте Успенском. Просто сидел, внимал, иногда реплики вставлял, а она за разговором мак весь перетерла, в стаканчик граненый переложила, макитру сполоснула и на стол поставила, словно почувствовав, что посуда эта немалое значение для моей жизни имеет…
Так оно и есть.
* * *
В старой бабушкиной хате на родине моего отца, там, где сегодня лишь густой бурьян растет да заброшенный сад умирает, стоял вросший в угол старинный шкаф с полочками, ящиками и застекленными верхними дверцами. Посуда там находилась. Праздничная. Ее только на Пасху да Рождество доставали и еще тогда, когда бабушкины дети, мои дядьки и тетка, в гости приезжали. Самую верхнюю полку этого буфета торжественно украшала глиняная, расписанная разноцветными листиками макитра, в которой лежали самые главные документы, два крестика и иконка Спасителя.
В конце 1960-х посуды прибавилось, но та макитра свое главенство не потеряла и стояла на прежнем месте, странно выделяясь среди современных рюмок и тарелок.
— Ба, а почему ты чашку глиняную не уберешь? — как-то спросил я.
Вздохнула бабушка и ответила, что если бы не неказистая на вид, сделанная и расписанная местным гончаром макитра эта, то меня и на свете бы не было.
В 1942-м пришли немцы. Аккурат к первому Спасу. Несколько дней в деревне пробыли и пошли дальше, к Сталинграду. Их сменили итальянцы, которые и подобрее, и поскромнее были. Но в бабушкиной хате, на краю села у кургана и реки, трое фрицев задержались. За союзниками приглядывать.
В саду стояло несколько ульев. За пчелами следить в тот жаркий военный и горестный год, когда немец рвался к Волге, было некогда, да и некому. Урожайное лето цвело и плоды приносило. Пчелы наполнили ульи медом до предела и начали лепить соты снаружи.
Бабушка по вечерам, распалив сырую кукурузную кочерыжку для дыма, чтобы отгонять пчел, небольшими кусками соты эти срезала и детей своих вкупе с непрошеными гостями потчевала.
В сам же день первого Спаса случилось несчастье. Напились двое немцев местного самогона и решили сверх меры медком побаловаться. День же выдался знойный, для пчел трудовой, и поэтому, когда два пьяных мужика, совершенно внешне не вписывающихся в местную пастораль, вознамерились вырезать заплывшие медом соты из самого улья, пчелы ринулись защищать свое жилище.
Бабушка рассказала, что она в жизни такого крика не слыхала, да еще на языке басурманском. Немцы выскочили из сада, преследуемые громадным жалящим роем. Один из них, видимо, больше соображавший в сельских делах, ринулся к речке, благо она неподалеку, а второй влетел в хату. Пчелы за ним. После крика, ругани и грохота опрокидываемых лавок и табуреток немец выскочил на улицу с автоматом.
Первая очередь, вырывая из земли кусочки травы, легла перед ногами бабушки, которая, прикрыв собой трех сыновей (один из них стал потом моим отцом), стояла у сложенного из камня забора.
Второй очереди он сделать не успел.
Между бабушкой и искусанным до неузнаваемости солдатом встал третий немец с макитрой в руках, из которой только что ел мед с маком. В макитру он поставил маленькую иконку, висевшую над столом, и, указывая на нее, кричал:
— Пауль! Готт! Готт! Пауль! — а потом, повернувшись к перепуганной женщине с детьми, к моей бабушке с отцом и дядьками, тихо добавил: — Киндер, Пауль, киндер… Нихт шиссен[17]…
Не стрельнул больше немец. Живы все остались.
Вот и стояла макитра эта вместе с иконкой на самом видном месте в бабушкином буфете до той поры, пока я не вырос.
Так что первый Спас для меня — это не только праздник с медом и маком. Это еще и макитра, и немец, знающий Бога.
Баба Фрося
Ефросинью Ивановну все звали бабой Фросей. Даже сынок ее, зачинатель всех приходских нововведений и участник каждого храмового события, в свои неполные шестьдесят именно так и величал родную мать.
Мужа баба Фрося похоронила еще при развитом социализме и, показывая мне его фотографию, гордо прокомментировала, что он у нее был красавец с бровями, как у Брежнева. Брежневские брови унаследовали и три ее сына. Об одном из них — неугомонном Петре — я уже упомянул, а двое иных нынче за границей проживают: один рядышком — в России, а другого в Чили занесло.
Как-то баба Фрося, подходя ко кресту, совершенно неожиданно для меня и безапелляционно сказала:
— Давайте-ка, отец-батюшка, ко мне до дому сходим, я вам старые карточки покажу. Вам оно полезно будет…
Отказывать бабе Фросе — только себе во вред, поэтому, отложив все намеченное, поплелся я после службы за ней на другой конец села, философски размышляя, что это бабкино «полезное» мне точно ни к какому боку припека, но надобно идти на глас зовущий.
Жила баба Фрося в старой «сквозной» хате, то есть в центре — коридор с двумя дверьми; одна ведет направо, в горницу, за которой располагается прикрытый шторами зал, а другая — налево, в сарай с сеном, дальше куры с гусями, а затем и свинья с коровой, друг от друга отгороженные. Все под одной крышей.
Смахнув несуществующую пыль со стула, который был старше меня по возрасту раза в два, усадила меня бабушка за накрытый плюшевой скатертью стол, в центре которого стояла вазочка с искусственными розами.
Обстановка в зале напоминала годы моего детства, своего рода дежавю. Нетрудно было предугадать, как будет выглядеть альбом с фотографиями. Он оказался именно таким, как я себе и представлял: прямоугольный, с толстыми листами в рамочках и Московским Кремлем на обложке. Пожелтевшие от времени и обрезанные под виньетку фото идут последовательно, год за годом, прерываясь советскими поздравительными открытками.
В конце альбома, в пакете от фотобумаги, лежало то, ради чего, как я подумал, и привела меня баба Фрося к себе домой, — снимки старого, разрушенного в безбожные хрущевские семилетки храма, наследником которого является наш нынешний приход.
Деревянная одноглавая церковь, закрытая в 1940 году, затем вновь открытая при немцах в 1942-м и окончательно разобранная в конце 1960-х, выглядела на сереньком фото как-то печально, неухоженно и сиротливо.
— Ее уже тогда закрыли, — пояснила баба Фрося. — Это мужик мой снимал перед тем, как зерно из нее вывезли и разобрали по бревнышкам.
На других карточках прихожане. Большинство преклонного возраста, серьезные, сосредоточенно смотрят из своего «далека». Лишь на одном снимке с ними священник, облаченный в подрясник и широкополую шляпу.
— Баб Фрось, а куда батюшку тогда отправили, когда храм прикрыли?
— Так он еще почти год тут пожил, дома крестил и к покойникам ходил отпевать. Потом его в Совет районный вызвали, а на следующий день машина подошла, погрузили вещички и увезли его, — поведала старушка. — Говорят, на родину поехал, он из-под Киева был. Бедный.
— А чего «бедный»?
— Так ему тут житья не было, — ответствовала баба Фрося. — Последние два года почти весь заработок отбирали в фонды разные да в налоги. По домам питался. Матушка-то у него, сердешная, померла, когда его по судам таскали.
— По судам?
— Эх, мало ты знаешь, отец-батюшка, — продолжила баба Фрося. — На него тогда донос написали, что он в церкви людей призывал облигации не покупать.
— Какие облигации?
— Займы были такие, государство деньги забирало, обещалось вернуть потом.
Облигации я помню. У родителей большая такая пачка была. Красные, синие, зеленые с изображением строек всяких социалистических.
— А что, батюшка действительно против был?
— Да что ты! — возмутилась баба Фрося. — Ему же просто сказали, что он должен через церковь на несколько тыщ облигаций этих распространить, а он и не выполнил. Кто ж возьмет-то?
Пока я рассматривал остальные снимки, баба Фрося, подперев кулачком седую голову, потихоньку объясняла, кто на них запечатлен, и все время внимательно на меня смотрела. Меня не покидало ощущение, что главное она еще не сказала и эти фото — лишь прелюдия к иному событию.
Так оно и случилось.
Баба Фрося вздохнула, перевязала платочек, поувереннее устроилась на стуле и спросила:
— А скажи-ка ты мне, отец-батюшка, церквы закрывать еще будут?
— Чего это вы, баб Фрось? Нынче времена не те…
— Кто его знает… Кроме Бога, никому ничего не известно, да вон и Марфа все твердит, что скоро опять гонения начнутся.
— Баб Фрось, — прервал я старушку, — у Марфы каждый день конец света. И паспорта не те, и петухи не так поют, и пшеница в клубок завивается…
— Да, я и сама ей говорила, что не надо каждый день себя хоронить.
Баба Фрося как-то решительно встала со стула и подошла к старому комоду, стоящему в углу между телевизором и сервантом. Открыла нижний ящик и вынула из него укутанный в зеленый бархат большой прямоугольный сверток. Положила на стол и развернула…
Передо мной лежала написанная на дереве икона Сошествия Святого Духа на апостолов. Наша, храмовая…
— Это что, оттуда, из старой церкви? — начал догадываться я.
— Она, отец-батюшка, она.
— Баб Фрось, что ж вы раньше ничего никому не говорили? — невольно вырвалось у меня.
— А как скажешь? Вдруг опять закроют. Ведь два раза уже закрывали, и каждый раз я ее уносила из церквы, — кивнула на икону бабушка. — Что ж, опять воровать? Так у меня и сил больше тех нет.
— Как воровать?
— А так, батюшечка. Когда в первый раз храм-то закрыли и клуб там сделали, уполномоченный с района решил эту икону забрать. Куда не знаю, но не сдавать государству. Номер на нее не проставили. А ночевать у нас остался.
— Ну и?
— Ночью я ту икону спрятала, а в сапог ему в тряпочке гнездо осиное положила. Он от боли и икону искать не захотел, матерился на все село…
— А второй раз, баб Фрось?
— Второй тяжко было. Мы с мужиком-то, когда храм опечатали уже, ночью в окно церковное, как тати, влезли и забрали икону. Окно высоко было, я зацепилась о косяк и упала наземь, руку и сломала.
— И не узнали?
— А как они узнают? — хитро усмехнулась баба Фрося. — Когда милиция к нам пришла, муж мой уже меня в район повез, в больницу, перелом-то большой был, косточки выглянули… А детишки сказали, что я два дня назад руку сломала. Вот она, милиция-то, и решила, что с поломанной рукой я в церкву не полезла бы. Хоть и думали на меня.
…Мне нечего было сказать. Я просто смотрел на бабу Фросю и на икону, спасенную ею.
Нынче в центре храма эта икона, на своем месте, где ей и положено быть, а бабушка уже на кладбище. Тело ее на погосте, а душа на приходе. У иконы обретается. Всегда там. Я это точно знаю.
Божий одуванчик
Наверное, на любом приходе можно встретить прихожанку или даже прихожанина, именуемых божьими одуванчиками. Тихие, скромные, чистенькие, очень часто они незаметны до той поры, пока не помрут. Несколько служб место в храме, где обычно стоял такой одуванчик, остается свободным, его не занимают, потому что не представляется здесь кто-то иной. Да и вообще не укладывается в сознании, как это — взял и ушел навсегда. Вернее, нет, не ушел, улетел. Вверх. Он ведь одуванчик.
И в храме стало пусто. Даже тогда, когда перекреститься и поклониться непросто из-за тесноты и многолюдья, все равно пусто.
И ведь сколько лет такой одуванчик рядышком стоял, молился, вздыхал и плакал чаще, чем смеялся, а о нем ничего толком не знаешь. Имя одно, да и то не всегда вспоминается. Только теперь становится понятно, что с одуванчиком этим божьим улетело что-то очень нужное, насущно необходимое.
Нашего приходского одуванчика звали просто — тетя Аня. Сверстницы уважительно и с умилительной улыбкой называли ее Аннушкой, а внуки и правнуки — бабулей. Да и муж ее, давно уже покинувший этот мир, помнится, отзывался о своей жене так задушевно и с такой почтительной любовью, что мне до нынешнего дня трудно похожий пример отыскать.
Супруга бабушки Анны я плохо помню. Это еще в первые годы священства было. Забылось уже. Божий же одуванчик неизгладимый след в памяти оставил. И не только благодаря своей тихой вере, невидимой помощи и всегдашней молитвенной заботе. Есть и иная причина…
Бабушка Анна мне объяснила и раскрыла один крайне актуальный, регулярно возникающий и часто повторяемый богословский вопрос.
Как-то в канун праздника Вознесения Господня или в сам праздник рассуждал я с амвона церковного о богооставленности. Причины ее определял, святоотеческие высказывания приводил, выводы формулировал и нравственно-православную оценку выставлял.
После проповеди зашел в алтарь удовлетворенный и даже отчасти восхищенный своей возросшей богословской мудростью. Хотя, как всегда, лишь после завершающего «аминь» вспомнил, что вот «то-то» не сказал, а «вот этого» не подчеркнул.
Служба закончилась. Все к кресту подошли. Затем со старостой мелкие вопросы разрешили, крупные «надо» определили, чего купить и что сделать наметили. Снял я облачение и домой засобирался. Уже выходил из храма, и вдруг меня окликают. Тихим таким, извинительным голосом.
— Батюшка Александр!
Оборачиваюсь — одуванчик наш. Я и не заметил, что она в храме осталась.
Удивился несказанно. Никогда такого не было, чтобы Анна ко мне лично, кроме как на исповеди, обращалась. А следующие ее слова ввергли меня в полный ступор:
— Хочу вам сказать, батюшка, что вы неправы были в проповеди своей.
Нет, я не хочу утверждать, что меня не поправляли и со мной всегда соглашались раньше. Среди прихожан были и есть такие, кто любое мое слово отвергает, в штыки принимает и поспорить любит по каждому поводу. Но чтобы Анна решилась со мной не только заговорить, но даже покритиковать, это было выше понимаемого.
Первая мысль, естественно: «Это чего же я такое ляпнул?» Вторая, не менее недоуменная: «Почему никто слова не сказал, а божий одуванчик в разряд ревнителей записался?»
Воззрился я потрясенным взглядом на Анну, а она ласково, сочувственно, с такой любовью в голосе, которую я ни от кого из прихожан не видел, говорит:
— Вот вы, батюшка, сказали, что оставляет нас Господь, и плакать мы все должны из-за этой богооставленности… А ведь это не так.
— Как это не так? — изумился я.
— Это он апостолов на десять дней оставил, а нас не бросает.
Пока я собирал в уме возражения и составлял предложения, Анна продолжила:
— Вот я, дорогой батюшка, всегда на Вознесение причащаюсь, то есть самого Бога принимаю, правильно?
— Конечно, правильно, — подтвердил я.
— Значит, вместе с Ним я и возношусь, — подытожила Анна.
Мне сказать было нечего. Тем более что наш божий одуванчик тут же пригорюнился и добавил:
— Мне вот апостолов жалко. Целых десять дней без Бога! Бедненькие.
«Делала, что могла…»
Баба Клава на нашем сельском приходе была единственной прихожанкой с настоящей боевой наградой. Причем не медаль у нее была, а целый орден. Но вот рассказывать о том, за что она его получила, старушка не любила. И вообще о войне редко вспоминала. Сколько ни приглашали бабу Клаву на всякие мероприятия ветеранские, сколько ни просили поведать о делах фронтовых и подвигах, она лишь рукой махала. Тихонько и незаметно в уголке сидела, внимательно всех слушала и очень часто крестилась.
На все юбилеи, военные и государственные, медали ей давали, пенсию она повышенную получала, но как только кто начинал любопытствовать: «Ты бы, Клавдия Ивановна, рассказала, за что тебе орден дали», старушка замыкалась и иногда плакала. Не надо, мол, прошлое ворошить.
Я тоже как-то не вытерпел и после исповеди спросил:
— Баб Клав, а за что у вас орден?
Она посмотрела на меня внимательно, вздохнула и ответила:
— Да ни за что, батюшка. Я на фронте выполняла то, что делать могла.
Умерла старушка. Отпели мы ее в храме всем приходом, а через месяц правнук Клавдии Ивановны большой пакет писем мне принес, которые у нее хранились. Во всех благодарности и поздравления с праздниками. Обратные адреса — практически весь бывший Союз. Это те раненые и контуженные писали, которых она с поля боя на себе вынесла.
Делала, что могла…
Баба Лида
Сегодня опять в почтовом ящике вездесущего интернета будет лежать очередное письмо от моей незримой собеседницы. Каждый понедельник она отправляет мне послание с четко пронумерованными пунктами вопрошений, без решения которых, по ее мнению, идти в храм Божий и молиться не надобно. «Вот докажите мне, что Бог точно есть и в нашей жизни участвует, тогда и пойду я в вашу церковь!»
Уже больше года объясняю, рассказываю, растолковываю. Тщетно. Ворох вопросов не уменьшается, и порой мне кажется, что испытывает мою веру и знания не симпатичная собеседница, смотрящая на меня с присланной фотографии распахнутыми карими глазами, а какая-то корпорация атеистов, иноверцев и бесенят. Да и как думать иначе, если этот непрекращающийся экзамен не имеет границ ни в светских науках, ни в богословских?
Наверное, давно надо было прекратить бесконечный диалог, в котором не может быть победителя, но каждый раз очень хочется показать и растолковать, что есть рядом с нами то, что неподвластно нашей логике и окончательному пониманию. Кажется, еще один штрих, одно предложение, один пример — и станет ясно: без веры и Бога нет полноценного человека, но то, что очевидно для меня, не понимается и не принимается.
Уже несколько раз я решал остановить эту затянувшуюся беседу и остановил бы, но последняя тема заставила продолжить. Вопрос-то от невидимой собеседницы (или собеседников?) всех касается. И меня, и моих прихожан, и каждого из вас, читающих.
Аккурат перед Троицей, когда зашла речь о поминальной родительской субботе, очередное утверждение-вопрос появился: «Какое у вас может быть человеколюбие, если вы просите Бога от смерти внезапной избавить и страдание проповедуете?»
Собрался уже целый трактат написать, по полочкам ответ разложить, да звонок из села недалекого помешал. Звали меня к бабе Лиде. Исповедать ее, причастить да соборовать. Умирать старушка собралась и священника к себе потребовала, а так как последние два десятка лет именно я у нее в качестве духовного пастыря числился, то и ехать надо было мне.
Баба Лида — человек неординарный. Особенность ее в том, что она, напрочь игнорируя свои преклонные годы и болезни, каждое утро намечала дневные планы, осуществить которые и молодице было бы не так-то просто. К вечеру, когда становилось ясно, что всего не переделаешь, она, еле волоча ноги, шла к своей корове Зорьке, которой в процессе доения и жаловалась на всевозможные обстоятельства, помешавшие ей выполнить задуманное. Корова исправно, сочувственно внимала бабушкиным рассуждениям и всегда стояла смирно, поглядывая на нее грустно-понимающими глазами.
Корове было сложнее, потому что она ежедневно выслушивала свою хозяйку, а мне проще, так как эти же сетования старушка выкладывала на исповеди раз в неделю — по субботним вечерам после всенощной. Исповедовалась и причащалась баба Лида в последнее время еженедельно, так как уже лет десять ожидала смерти, к которой у нее было особое отношение. Старушка с ней даже разговаривала, причем разговор этот всегда велся в тоне уважительном и был абсолютно конкретным: «Ох, смертушка моя, ты придешь, а у меня капуста в подвал не прибрана и бельишко не переглажено!»
Лишь перед летним приездом многочисленных внуков и внучек в ее обращении к грядущей посетительнице проскальзывали приказные интонации: «Ты, смертушка, погоди ко мне торопиться! Позже погостишь. Не надобно до смерти онуков пугать».
Своим детям и мне баба Лида давно дала распоряжения, как ее хоронить, во что одеть, чем поминать и кто все должен организовывать. Организаторы по разным причинам иногда переизбирались, но распорядок будущих похоронных действий бабушка не меняла, лишь постоянно отшлифовывала детали.
Увидев у меня разноцветный глянцевый бумажный листок с разрешительной молитвой для чтения над усопшими, баба Лида долго его рассматривала, вздохнула и, отложив в сторону, приказала:
— Ты, батюшка, с этой новой подорожной (так эту молитву в народе зовут) меня не хорони. У меня своя в сундуке лежит. Я ее еще в старом храме купила и для себя берегу.
Старый храм закрыли, а затем разрушили еще в начале 1960-х, в годы последних хрущевских гонений. Как не считай, получалось, что моей прихожанке в то время лет тридцать было, не больше. Удивился я, да и спросил старушку:
— Баб Лид, это что же получается, ты еще молодой была, а уже к смерти готовилась?
— А как же к ней не готовиться, батюшка? Она ведь никого не минует и норовит неожиданно прийти. Вот как ты себя чувствуешь, когда гости нежданные явятся? — спросила старушка и сама же ответила: — Оно хоть часто нежданный гость лучше двух жданных, но плохо, когда не прибрано и не приготовлено.
Это рассуждение бабы Лиды меня окончательно добило, потому что о нежданных гостях у меня иная поговорка в голове вертится, еще во времена татаро-монгольского ига образовавшаяся. Да и думать повседневно о собственной смерти, как отцы святые советуют, далеко не всегда получается.
Вот поэтому ехал я к позвавшей меня старушке не только службу Божию отслужить, но и взглянуть на бабушку. Что греха таить? Хотелось увидеть, как она встречает ту, с кем и нам встреча предстоит.
* * *
Баба Лида, еще более высохшая с последнего нашего свидания, лежала в «парадной» зале своей хаты, как и положено, под иконами, на высоких подушках. Моему приезду обрадовалась и все полтора часа службы пыталась мне помогать молитвословия читать да тропари петь. Когда же причастил старушку, велела она внучке стул рядом с собой поставить и меня на него усадила.
— Ты уж не торопись, батюшка. Выслушай старую. Может быть, на твоей священнической должности и пригодится то, что я тебе расскажу. Когда отец мой умер, нас у матери трое осталось. Я самая старшая. В восемнадцать Феденьку своего встретила, замуж вышла. Только начали мы с Федором жизнь семейную, как и мать к отцу отправилась, оставив нам сестричку и братика младшеньких.
А я ведь молоденькая еще была да и своего ребеночка уже ожидала, когда мама померла. Трудно было. После войны сытыми редко ходили. За трудодни в колхозе лишь продукты давали, а их на четыре рта и на месяц не хватало, только свой огород да коровка спасали.
Родился у меня мальчонка, первенец. Слабенький. Батюшка его на третий день окрестил. Иваном назвали. Боялись, что и недели не проживет, а он целых сорок дней протянул…
Обозлилась я тогда на всех. В церковь пошла и на исповеди злобу свою высказала. Всем досталось. И властям, и священнику старенькому, и даже Богу. Молодая была. Глупая.
Батюшка меня выслушал, да и говорит: «Знаешь, Лидушка, Бог, видно, посмотрел на семейство ваше, на сестру твою и брата, которые только-только в рост пошли, взрослеть начали, и помочь вам решил, чтобы сил у вас хватило, да хлеб каждый день на столе был. Вот и забрал к себе Ванечку, в ангелы Свои определил».
Я молча слушала, плакала. Хотелось мне со священником согласиться, да вот только обидно было, что сыночка моего Бог забрал, несправедливо как-то.
Батюшка же руку свою, тоненькую такую, каждую венку на ней видно, на голову мне положил и добавил: «Знаешь, дочка, Бог ведь больше всего человека любит. Он для того нас создал, чтобы мы жили в любви, радости да согласии. Он каждого бережет. Когда же видит, что сами не справляемся, то помогает. Смерть ведь тоже Он посылает, когда она необходима. Так что ты Бога не ругай и смерть не проклинай. Нарожаешь еще себе и Федору твоему детишек, а пока о брате с сестрой заботься. А еще, — батюшка заглянул мне в глаза, — ты на жизнь-то не серчай. Люби ее, Богом данную. Тогда и смерть погодит к тебе приходить и все, что нужно исполнить, ты сделаешь».
Закончила свой рассказ бабушка Лида, и хотя не окреп ее голос и остались такими же холодными руки, мне было абсолютно ясно, что выполнила моя прихожанка наказ того старого священника. Любила она жизнь, старалась беречь ее так, чтобы и Бога не гневить, и смерти не бояться.
И этот мой вывод правнук бабы Лиды подтвердил. Он неожиданно материализовался откуда-то сзади, взял меня за руку, а сам к прабабке своей обратился:
— Ба, а можно я батюшке нашего маленького теленка покажу?
И получив согласие, потащил меня в хлев теленка показывать.
Жизнь продолжалась.
Энгельс — Геннадий — Евгений
Ежедневный вечерний молебен. В храме и десятка молящихся не наберется. Все лица знакомые, лишь у входа стоит пожилая женщина, которую вижу впервые. Тех, кто нечасто в церковь заходит, определить можно быстро. Особый у них вид, примечательный и неповторимый. Если из захожанина с Божией помощью в прихожанина превратишься, такого вида уже не будет. Он единственный в своем роде.
Часто у священника спрашивают: «Что такое страх Божий?» Ответов существует множество великое и разнообразное. Кто только об этом не рассуждал, но почему-то самый простой пример не приводят. Его ведь увидеть воочию можно, этот «страх Божий». Он на лицах тех, кто впервые (даже из любопытства) в храм заглянул, очень даже отчетливо проявляется. Каким бы образованным, разносторонним и современным человеком ты ни был, как бы умно о вере и религии ни рассуждал, какими бы эпитетами православных ни определял, но входя в храм, будь то большой собор или маленькая деревенская церквушка, сразу заметен становишься. И не потому, что необычно все и незнакомо, а оттого, что страшновато…
Вот и эта женщина впервые пришла. Неловко в руке три свечи держит, куда их поставить, не знает, платье свое и платочек поправляет, а в глазах страх да беспокойство, как бы чего «не такого» не сделать.
Пока на клиросе хор в составе двух человек тропари поет и Апостол читает, перебираю записки с именами и сразу нахожу ту, которую эта женщина написала. Да и как не найти, если под словами «о здравии» все имена с отчествами написаны? Подобное только у впервые зашедших в храм может быть, когда они стесняются за консультацией к нашим всезнающим старушкам обратиться. Иногда, для верности должно быть, чтобы Бог не ошибся, еще и фамилию добавляют, но это редко случается. Смотрю в записку и тут же спотыкаюсь на имени: после Владимира Константиновича идет Энгельс Константинович. Перечитываю еще раз. Нет, не ошибся. Именно Энгельс и никак иначе.
На ектении, естественно, Энгельса пропускаю, хотя понимаю, что своим игнорированием в смущение эту женщину введу. Ведь стоит, крестом себя осенять пытается и наверняка очень внимательно слушает, когда я имена перечисляю.
После молебна сразу к ней подошел, вернее, остановил, когда она уходить собралась. Лишь вблизи увидел, что годков ей намного больше, чем изначально показалось. Подумалось, что старушка эта, по всей видимости, из рода учительского, медицинского или юридического. Они обычно к себе строго относятся, что непосредственно на внешнем виде сказывается. Не ошибся, когда познакомились. Всю жизнь наша новая неискушенная молитвенница иностранные языки по школам, техникумам и училищам преподавала.
Познакомились. Она тоже Константиновной оказалась и объяснила, что за братьев своих помолиться пришла. Болеют они в последнее время. Оба вдовцы, и она вдова. Подружек-одногодок осталось мало, дети разъехались, поплакаться некому, вот и решила к Богу сходить. Прийти-то пришла, да толком не знает, как к Нему обращаться и что делать для Него надобно…
Провожу краткий православный ликбез Константиновне, а сам все думаю, когда же она меня спросит, почему я Энгельса о здравии не помянул. Вижу, что вопрос этот она задать хочет, но стесняется. Пришлось самому:
— Скажите, а что это за имя такое Энгельс?
— Так родители младшего брата назвали.
— Что, такие рьяные марксисты-ленинцы были? — поинтересовался я.
— Да нет, батюшка, — смутилась Константиновна, — причина иная, бытовая. Как-то и рассказывать неудобно. Приспособленцами назовете.
Я все же настоял, тем более что мне еще выяснить надобно было, крещен ли данный Энгельс.
Поведала мне старушка следующее. В конце 1930-х годов, как раз перед войной, ее младший брат родился. Семья большая была, учительская. В то время к учителям, особенно к тем, кто иностранные языки знал и в больших городах жил и работал, у власти имелось предубеждение. Сказалась всеобщая шпиономания и поиски врагов народа. Знали носители «разумного, доброго, вечного», что многих их коллег уже нашла знаменитая 58-я «контрреволюционная» статья, по которой миллионы в лагеря сибирские ушли да там и сгинули. Страх за собственную жизнь, за судьбу детей всех сковывал, заставлял лицемерить, придумывать «средства» защиты от доносов и клеветы.
Когда младший в семье родился, а отец прослышал, что его персоной в органах заинтересовались и характеристику в школе затребовали, решил он патриотизм проявить и свою любовь и лояльность к власти показать. На очередном учительском собрании в городском отделе образования громогласно объявил, что назовет своего новорожденного сына в честь великого классика марксизма-ленинизма именем Энгельс, чтобы оно всегда напоминало ребенку о партии Ленина — Сталина.
Неизвестно, этот ли поступок помог отцу избавиться от НКВД, но до войны «воронок» к их дому не приехал. Скоро началась Великая Отечественная, отца сразу забрали на фронт, а через полгода похоронка пришла.
Мальчишка же со звучным именем Энгельс благополучно годы военные пережил и до старости дожил.
— Крещеный он? — спросил я у старушки после ее рассказа.
— Да кто же его крестил? — ответила она вопросом на вопрос и добавила: — Тогда и церквей-то рядом уже не было, да и не принято было в учительских семьях крестить.
Объяснил я Константиновне, что нельзя в храме Божием на богослужении имя ее некрещеного брата зачитывать, хоть и не по своей воле он его получил.
— Вы спросите у брата, — сказал я в завершении нашего разговора, — может быть, желает он святое Крещение принять? Тогда и молиться о нем мы вместе сможем.
По горестному и скептическому выражению ее лица стало мне ясно, что вряд ли Энгельс наш к купели придет, слишком далеко его жизнь от Бога проходила.
Ошиблась старушка, и я вместе с ней ошибся.
Через пару дней раздался звонок, и плачущая Константиновна сообщила мне, что брат умирать собрался, совсем плох стал.
— Он просит, чтобы священник пришел и окрестил его. Вы не сможете приехать?
Взял я все необходимое и поехал в старый двухэтажный дом в бывшем городском центре. Этот дом в городе «учительским» до дня нынешнего зовут, в нем еще в сталинские времена квартиры учителям распределяли.
Старенький, худой и болезненный Энгельс встретил меня, сидя в большом, старомодном кресле у такого же старинного круглого стола, покрытого скатертью. Перед ним на красной салфетке лежало Евангелие. Я это сразу понял, так как увидел на пожелтевших листах книги текст в два столбца. С левой стороны на русском с ятями и ерами, с правой — на церковнославянском. Так только Евангелия во времена оные издавали.
Долгий у нас разговор с Энгельсом был. Разделил он свою жизнь на этапы и о каждом подробно поведал. Видно, что готовился. Когда же я спросил, почему он только сейчас принять Крещение решил, он не задумываясь ответил:
— Вы знаете, я ведь физику преподавал, сплошная материя и силы. Бог, кажется, и ни при чем. Да вот нестыковки две определились: первая — физики великие, о чьих законах я детям рассказывал, почему-то в Творца верили, а вторая, вообще странная, — я за всю жизнь так и не сумел научно обосновать, почему вот эта вишня под окном, когда расцветет, меня радует, а когда солнце заходит, мне грустно. Оказывается, нельзя все законами обосновать… А вот книжку эту, — добавил Энгельс, указывая на Евангелие, — у сестры взял, читать ее начал, и понимание пришло. Само пришло. Без формул, расчетов и выводов. Да и до тех слов дочитал, где говорится, что творческая жизнь продолжится лишь у тех, кто крещен будет.
Вот такая у меня с Энгельсом огласительная беседа получилась.
Когда к таинству Крещения готовиться начали, я вспомнил о проблеме, ушедшей за беседой на второй план.
— Энгельс Константинович, а имя-то какое возьмете? Нет у нас в святцах Энгельсов…
— Меня, батюшка, во дворе для краткости и русскости все Генкой звали, а жена-покойница, когда еще встречались до свадьбы, Женечкой величала. Уж не знаю, отчего ей так нравилось. Может быть, и окрестите меня Евгением?
Так и порешили. Стал наш Энгельс рабом Божиим Евгением.
Нет уже Евгения Константиновича в мире этом, но как-то спокойна душа о его будущности в вечности, а в синодике поминальном так и записано: «Евгений — Геннадий — Энгельс».
Регент
Виталий Степанович сидел на ступеньках приходского домика, «караулки» по-местному (на этом месте будка сторожа когда-то стояла). Сидел и строгал немецким ножиком длинную палку, на конце которой была укреплена металлическая загогулина, чем-то напоминающая головной убор Дровосека из мультика об Изумрудном городе. Ножик был точно немецким, потому что взял его наш регент у Харитоныча, а он из тех дедов, у которых ничего никогда не пропадает и не меняется с тех пор, как с войны вернулись. Дед ножик этот трофейный берег, внукам и правнукам в руки не давал, а вот Виталию Степановичу попользоваться разрешил, так как тот тоже воевал. И хотя, по мнению Харитоныча, музыкальная рота, в которой регент провел последний год войны, и не войска вовсе, но все же к ветеранам старик Степаныча причислял.
На мой вопрос, что это за сачок с железякой, стоявший рядом с регентом Харитоныч отмахнулся, мол, не мешай, а Виталий Степанович диаконовским распевом выдал: «И заключиша врата храма, и погасиша светильники, и фимиамом не кадиша, и всесожжений не принесо-о-оша…»
Я сделал вид, что все понял, и отправился в свою келью, располагавшуюся в караулке, не с намерением подумать и узнать, что мои деды мастерят, а с желанием поспать часика два перед вечерней службой.
* * *
Нужно сказать, что Виталий Степанович не просто регент, а регент с такой жизненной историей, что по ней можно отследить всю послевоенную судьбу Православной Церкви на территории Советского Союза. Не было такой государственной деятельности в отношении тех, кто в храм ходит и лоб крестит, которая бы его не коснулась. Стал он свидетелем или участником практически всех церковных событий.
Родился Виталий Степанович в семье потомственного священника и путь ему был предрешен поповский, отказываться от которого он и не собирался, несмотря на то что ходил в советскую школу и, естественно, был мишенью всех предвоенных атеистических атак и насмешек. В Бога наш будущий регент верил и доказательств существования Всевышнего не искал, так как мир без Него не представлял.
Для маленького шустрого Виталика, как вспоминал его отец, богослужение началось с того момента, когда он только встал на ноги. Научившись дома ходить от кровати к столу и обратно, он в первое же храмовое воскресенье, увидев открытые царские врата, поднялся со ступеньки солеи, куда сажали его во время литургии, и направился прямиком к отцу, готовящемуся к великому входу. Пока спохватились остановить мальчишку, тот уже добрался до отца и уцепился, дабы не упасть, за его фелонь. Дары выносили втроем: впереди старенький пономарь со свечой, затем священник с потиром и дискосом, а в завершение ковыляющий и еще путающийся в ногах Виталий. «По-архиерейски вошел», — рассудили бабушки и предрекли малышу большое церковное будущее.
Так бы оно, наверное, и случилось, если бы не война. Она временные рамки изменила, людей повыбивала, а вот церкви, особенно на оккупированных территориях, открыла.
Нашего будущего регента в армию призвали уже в конце 1944 года. В музыкальной роте 4-го Украинского фронта он оказался не только по причине того, что мог играть на всем, что имеет струны и клавиши, но и благодаря тому, что обладал идеальным слухом. Музыкальный военный путь Виталия Степановича начался еще в «учебке» по подготовке младшего командного состава, куда зачисляли всех, имевших среднее образование. Дневалил он как-то у взводной палатки, услышал отдаленный гул приближающейся машины и тут же доложил:
— Товарищ старшина, комполка едет.
Старшина удивился. Машина из-за пригорка перед подразделением была еще не видна.
— Почему комполка?
— Потому что ре-диез, — тут же ответствовал Виталий. — Ошибки быть не может.
Держать в пехоте такое сокровище в конце войны пожалели и отправили в «музчасть», с которой он и дошел до Праги, а затем еще восемнадцать месяцев после победы играл и пел для своих и союзников.
Вернулся домой на Покров 1946 года и сразу же женился. Благо невест тогда было намного больше, чем женихов, — война свое дело сделала.
Отец Виталия отговаривал его от столь скоропалительной женитьбы. Чувствовало священническое сердце, что из бойкой, охочей до веселья и непоседливой невесты матушка никак не получится, хоть и крестик на шее присутствует. Не послушался наш будущий регент отца. Еще до поста Рождественского обвенчал их батюшка.
Военное лихолетье уходило в прошлое, но надвигалось иное бедствие, изначально не для всех заметное, а вот священнических семей непосредственно коснувшееся. Все больше требовательных бумаг присылалось на приходы из властных советов, все жестче становились требования, все конкретнее запреты. Через год после поступления Виталия Степановича на епархиальные двухгодичные богословские курсы начали настойчиво теребить в комиссиях и комитетах его жену. Просили отговорить мужа от церковной учебы и будущей священнической стези, а когда стало ясно, что убедить не получится, начали запугивать: «Ты молодая, красивая и активная, а с мракобесами связалась, с отживающим элементом нашего общества живешь… Народ коммунизм строит, а ты в стороне остаешься. Не будет ни тебе, ни твоему ребенку ожидаемому никакого счастья».
И добились своего. Не смогла молодая женщина такой натиск выдержать. Когда в роддом заявилась целая группа «активистов» с обещаниями светлых социалистических будней, ворохом дефицитных по тем временам пеленок и двумя кусками настоящего детского мыла, неокрепшая в вере (да и была ли она?!) душа молодой матери дрогнула.
«Прошу развести меня с моим мужем Виталием, так как я хочу быть активным строителем светлого будущего нашего народа и не разделяю религиозные взгляды своего супруга. Прошу помочь мне воспитать ребенка таким человеком, как требует наша партия и правительство», — именно так было написано в заявлении в поселковый совет.
Долго на столе советского начальника эта страшная бумага не пролежала. На второй день развод был оформлен.
Завернула молодая мать сына в пеленки, представителями светлого будущего подаренные, нехитрый свой скарб, у свекра находящийся, в сундук сложила и в общежитие к подругам подалась. Охал отец Виталия Степановича, умолял сына подождать, по-доброму все решить да Бога не гневить. Плакала матушка-свекруха: «Куда же ты мальца-то забираешь?..» Но под воротами церковного дома уже стояла услужливо присланная поссоветом телега, которая и доставила «мужественную мать, разорвавшую связь с отжившим миром», как писала вскоре местная газета, туда, где «живут и трудятся лучшие представители советской молодежи».
По всем правилам мог Виталий Степанович священником стать, даже в разведенном состоянии, но иначе все сложилось…
Любил он жену, которая от него отреклась, и сильно страдал от разлуки с сыном. Власть быстро позаботилась о том, чтобы получил брошенный молодой отец предписание об обязательной выплате алиментов и решение суда, запрещающее свидания с ребенком.
Не выдержал Виталий. Замелькали его выцветшая армейская гимнастерка с двумя наградными колодками и трофейный аккордеон у мест злачных. В то время на возрождение шахт Донбасса много народу в степи донецкие согнали. Кого по доброй воле, кого «добровольно-принудительно», и все больше женского пола. Да и где мужиков-то взять после войны?
Гармонист — всегда первый парень на деревне, а аккордеонист, который может играть все, что закажут, причем с такими коленцами и музыкальными вздохами, что и в филармонии не услышишь, всегда на виду и постоянно востребован. Закружила нелегкая молодого Виталия. Тут тебе и танцы, и водка, и девки бойкие…
И двух месяцев не прошло, как получил епархиальный архиерей строгую бумагу из областного комитета по делам религий. В бумаге той значилось, что учащийся епархиальных курсов такой-то ведет себя недостойно: водку пьет и аморальностью запачкан. За перечнем прегрешений следовало чуть ли не церковное определение, что в соответствии с канонами Церкви священнослужителем он быть не может…
Два года крутила Виталия Степановича нелегкая, пока не проснулся он однажды рано утром в чужой хате, куда неизвестно как попал. Пробудился от шума в соседней комнате. Женские голоса сон прервали, причем один голос, который постарше, упрекал и негодовал, а второй, помоложе, оправдывался и огрызался. Послушал Виталий эту бесконечную громкую бабью перебранку, в охапку свой аккордеон взял да тихо в утреннюю предрассветную дымку вышел.
Прохладно было. С недалекой речки тянуло сыростью, петухи пели первую зорьку. Огляделся Виталий по сторонам, попытался вспомнить, как он здесь оказался, но память отказывалась что-либо объяснять. В голове лишь стучали тяжелые молоточки боли. Или греха? Бог весть.
Опомнился Виталий Степанович только тогда, когда тропинка резко оборвалась у небольшой калитки в длинном, уходящем в мокрый туман плетне. За калиткой на фоне высоких елей стояла небольшая церковь. «Наваждение, — подумал Виталий и резюмировал: — Догулялся!»
Однако церковь не была наваждением, как не был призраком и старый седой священник, стоявший у ее дверей.
Виталий поднялся по ступенькам деревянной паперти, поставил аккордеон на лавку, поклонился священнику и попросил:
— Благословите, батюшка.
Тот размашисто перекрестил:
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, — а затем добавил: — Ну пойдем, раб Божий Виталий, утреню с тобой послужим. Чай еще не забыл, как службу править?
Почему-то Виталий не удивился. Он просто пошел за священником, поклонился и поцеловал вслед за ним две центральные аналойные иконы и свернул направо, к клиросу, который располагался рядом с солеей.
Через много лет рассказывал мне, молодому священнику, Виталий Степанович события того утра. О том, как он сам, впервые зайдя в тот храм, безошибочно взял с нужной полки требующиеся для утрени богослужебные книги, как раскрыл их именно на том дне, который служился, как читал сквозь слезы шестопсалмие и навзрыд заплакал, когда священник возгласил: «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне!»
Он плакал, а старенький, прошедший все испытания горького XX века священник по-отцовски положил руку на его кудри и молился.
После службы была долгая исповедь, а затем не менее долгий разговор. Вернее, это было наставление умудренного жизненным и духовным опытом старца, который при каждом возражении и жалобе кающегося Виталия повторял:
— Будь смелым. Ты же солдат, медальки вон получил, а здесь трусишь… Бог смелым в деле праведном всегда благоволит.
На сетования Виталия, что он все потерял, рассердился батюшка:
— У тебя Бог есть, родители дома убиваются, тебя ждут, а ты трусил и в храм зайти, и отцу родному, священнику Божьему, в ноги поклониться…
Так и состоялось возвращение в Церковь и в жизнь.
Долгая она была, жизнь эта. И архиерейским хором командовал, и в ссылку на дальние приходы отсылали за то, что говорил все, как думал (там ему одновременно и регентом, и клиросом, и пономарем с алтарником в одном лице быть доводилось), и сына своего в люди вывел и к Богу привел.
При всех же неудачах и нестроениях, когда припечет, заколет или смутит, любил Виталий Степанович слова старца-священника повторять: «Бог смелым в деле праведном всегда благоволит…»
* * *
На вечернюю службу Виталий Степанович вместе с Харитонычем разожгли в храме паникадило. Оно древнее у нас, с лампадами настоящими, не муляжом электрическим. Разжечь его — целая проблема. Надобно вниз на цепи опустить, затем аккуратно поднять, а весу в нем около восьми пудов. Только на праздники и зажигали, да и то не на все…
Здесь же, под рядовое воскресенье, настоящий полиелей и иллюминация. Уставился я вопросительно на «всезажженное» паникадило, не понимая, как эти два старика смогли его вдвоем вниз опустить и наверх поднять. Ничего разумного не придумывалось, пока Харитоныч не признался, а Виталий Степанович не похвастался. Оказывается, соорудили они длинный шест, а на него приделали палку с тем странным сооружением из железа, которое я у них давеча видел. Приспособление это могло одной стороной лампады зажигать (там свечка крепилась), а другой — тушить…
На мое восхищение смекалкой, умением и смелым решением Виталий Степанович лишь ответил: «Бог смелым в деле праведном всегда благоволит…»
Дед Алексей
Холодно в тот день было. Поземка мела. С паперти дежурный сгребет снег, а через полчаса хоть заново убирай.
Панихиду с молебном я с утра отслужил, все разошлись, и больше никого. Забежит прохожий свечу поставить да отогреться немного в храме, и опять пусто. Тишина. Решил, что до вечернего молебна никого не будет, и пошел домой. Позовут, если что. Иду и размышляю: а ведь на дворе святки — знаменитые двенадцать дней между Рождеством и Крещением. Как старики говорят, каждый день на святках свой месяц в году имеет. Этот день был пятый, то есть, если стариков слушать, май определяющий. Подумал, что никак мне не хочется, чтобы весенний май холодным и ветреным был, и тут же упрекнул себя: «Тоже еще, священник, а в приметы веришь».
Допить чай не дали. Звонок из храма: «Вас ждут».
На скамеечке в храме по-хозяйски расположился пожилой мужчина. Поднялся, когда здоровался, и уверенно уселся обратно, приглашая меня присесть рядышком. «Не иначе будет учить уму-разуму», — подумалось сразу. Практически не ошибся.
Дед (буду его так называть) вытащил из плетеной корзины — я такие лет двадцать назад в последний раз видел — нашу епархиальную газету и открыл ее на той странице, где я разъяснял читателям, что колдовство есть грех и непотребство.
— Ты написал? — без обиняков спросил дед, совершенно не заботясь о переходном этапе от «вы» к «ты».
— Мое, — подтвердил я. — Что-нибудь не так?
— Все неправильно, — твердо заявил собеседник. — Мне вот, к примеру, Бог дал талант и разум многое знать, даже такое, чего другие не знают.
— Это как? — не понял я. — Будущее видите или спрятанное находите?
— Найду и запрятанное, и о том, что с человеком скоро случится, сказать могу, а если нужно, то и направлю жизнь в лучшую сторону, — убежденно ответил дед.
И пока я соображал, с кем дело имею, — с шарлатаном или действительно передо мной маг доморощенный, — дед резко отметил заскорузлым ногтем абзац в газете и завершил:
— Ты вот тут написал, что предсказывать — грех и кощунство, а я тебе говорю, что это дар Божий!
— И у вас этот дар проявился? — уже с улыбкой спросил я.
— Он у меня есть! — парировал дед, глядя на меня с высоты своей непреклонной уверенности.
Уверенность эту надо было как-то поколебать, и вспомнился мне в эти минуты иной предсказатель судеб и событий. Тоже наш, местный. Он даже результаты футбольных матчей угадывал, а не только будущие перипетии человеческих жизней определял. Одно время, в годы моего раннего священства, спорили мы с ним насчет его удивительных способностей часами, но убедить его прекратить заниматься откровенным оккультизмом мне так и не удалось. На мои аргументы, что его «дар» далеко не из доброго источника исходит, я получал лишь усмешку и разочарованный взмах рукой. Мол, ничего ты, батюшка, не понимаешь. Погряз в своих правилах, канонах и догматах и за писанными человеками законами настоящего духовного просветления не имеешь. Наверное, так и остались бы мы каждый при своем мнении, но случилась с тем предсказателем беда: квартиру его ограбили. Воры еще не перевелись в нашей жизни. Встретил я его на второй или третий день после несчастья этого, посочувствовал искренне, а потом все же спросил: «Как же ты, друг мой, наперед все знающий и в будущее далеко заглядывающий, ограбление собственной квартиры не предусмотрел?» Не знаю, что преобразило моего знакомого, мой вопрос или постигшее его горе, но отказался он напрочь что-либо о будущем предрекать.
Вот и здесь решил я тем же способом с дедом рассуждать. Взял, да и спросил:
— Ну и когда, дедуля, вам помирать Бог срок определил? В какой день, месяц и год? Про себя вы ведь все знать должны.
Дед как-то странно себя повел: как бы ростом уменьшился, пробурчал, что Бог своим помощникам их будущее не открывает, а потом суетливо засобирался и ушел, даже лоб не перекрестив.
На том особенности дня рождественских святок закончились, а вскоре и забылись.
Прошло больше года. Готовили мы очередной выпуск епархиальной газеты. Естественно, тема суеверий, примет и вообще «сил нечистых» всегда актуальна, поэтому страницы, им посвященные, появляются в газете постоянно. Перепечатывать статьи из интернета — дело легкое, но смущающее. Да и своих примеров предостаточно. Как всегда, когда дело нужное, Господь помогает. Останавливает меня в епархиальной приемной знакомый священник и с ходу заявляет: «Погодь, бать, не торопись. Тут у меня история произошла, хоть роман пиши».
Задержался я и вот что услышал.
В городке, где служит рассказчик-священник, объявился, как в народе говорят, «целитель», который не только травами лечит, но еще и молится по-особенному, не так, как в церкви. Что-то шепчет, бумагу жжет, воду заговаривает и, самое главное, судьбу предсказывает.
Травники, они и сегодня среди мужчин старшего поколения встречаются, но вот чтобы заговаривать да судьбу определять — обычно это дело сугубо женское, как на востоке Украины говорят: «Відьми е, а відьмакив немає».
Потянулись к освободителю от телесных и душевных хворей даже те, кого местный священник своими прихожанами считал. Да и как не потянуться, если в церкви батюшка все твердит, что для получения чего-либо от Бога потрудиться духовно надо, а тут 50 или 100 гривен отнес — и все проблемы решены. Правда, стали в последнее время замечать, что неладное происходит с теми, кто исцелился у местного «чудотворца». Нет, изначально все хорошо: и не болит, и не ломит, и мужик, двадцать лет изо дня в день пивший, от водки стал как бес от ладана бегать. Но вот менялись эти люди характером, и болячки к ним какие-то странные приходили. Был человек человеком, а тут как подменили — все вокруг для него враги да нелюди.
Не обращал бы батюшка столько внимания на данного деда — много нынче по городам и весям нашим сект да чародеев всяческих развелось, но стал местный «чудотворец» жаждущих решения проблем и исцелений в храм на «процедуры» направлять. Одних присылал под куполом во время службы постоять, энергии набраться, других — к иконе старинной лбом припасть, чтобы негатив весь вышел, а третьим, с младенцами которые приходили, рекомендовал еще раз ребенка окрестить, так как, по мнению деда, прежнее крещение было неправильным.
Пришлось священнику самому к «целителю» сходить с разговором и надеждой, что прекратит тот оккультными делами заниматься. Зря пошел. Не получилось беседы.
Угрюмо смотрел дед на батюшку, на вопросы не отвечал, на просьбы не реагировал. Выслушал его монолог и закончил разговор словами: «Мне Бог говорит, как поступать. Не ваше это дело». И на дверь указал, предварительно веник в руки взяв, чтобы даже следы священнические из своего дома вымести.
Обращался настоятель и к властям местным. Да что власти? Посочувствуют, головами покивают да напомнят, что у нас свобода и слова, и веры, а дед этот закон не нарушает и общественной угрозы не представляет.
Осталось священнику только службу служить, молитву возносить да прихожанам с амвона и в разговорах рассказывать, что не с Богом их земляк дела свои творит. Так бы и продолжалось это противостояние невидимое, да вот аккурат после поминальной недели Димитровской увидел батюшка «целителя» в храме, стоящим на коленях у распятия. Буквально рыдал дед, бил себя в грудь кулаком да слезы по лицу размазывал.
«Я даже подойти к нему боялся, — рассказывал священник. — Сначала подумал, что он и в церковь шаманить пришел. А потом вижу: рыдает так, что и самому плакать захотелось…»
На следующий день дед сам к священнику пришел. Стоял в притворе и ждал, пока батюшка мимо проходить будет. Дождался. Извинился, что беспокоит, и спросил, куда ему книжки и приспособления, которые он в своих делах «целительских» использовал, деть. Батюшка подумал и напросился в гости: мол, пойдемте посмотрим, что там у вас за «приспособления» такие, да и книги разные бывают.
Полдня делали они ревизию «инструментов» и «наставлений». Ворох амулетов, камней всяческих, масок и веревок с узлами вкупе с двумя бубнами в мусорную яму отправили, а из книг оставил батюшка для чтения и вразумления лишь Библию да старые фолианты о целебных травах. Остальные наставления и практики по магии всяческой у той же ямы сгорели.
Удивлялся батюшка этому преображению, а дед молчал. Сопел только да раз за разом слезы смахивал.
На следующее утро после успешно проведенной антибесовской ревизии раздался стук в священническую дверь. На пороге стоял дед. Было ясно: пришел все рассказать. Именно рассказать, так как на предложение исповедаться он не согласился: «Не готов я пока к исповеди, батюшка».
Не готов, так не готов. Присели в палисаднике на скамейке. Было ясно, что разговор долгий предстоит. Старик опять было заплакал, но затем в руки себя взял, слезы решительно вытер и рассказывать начал.
Поведал о том, как однажды подсказал ему голос какой-то, чтобы он травой, разбираться в которой научился от своего деда, не только зубы, желудки и прочие органы соседей лечил, но еще бы их от грехов избавлял да судьбы исправлял. После голоса этого настырного в областной центр дед поехал по делам каким-то домашним, тут ему и попалась парочка книг о том, как из травника стать целителем.
Стало у деда все получаться. Через несколько месяцев к нему в очередь записываться начали, а он, осмелев, травы практически в стороне оставил, одними «коррекциями судьбы» да снятием сглазов и порчи занимался.
Жена его, Лидушка дорогая (только так дед ее и называл), ругала, уговаривала: «Брось ты это дело, старый! Помру я раньше времени из-за твоих лечений».
Не слушал ее старик. Даже больше того, говорил ей частенько: «Ты, жена, не только раньше меня не помрешь, а еще на десять годков меня переживешь». Да что говорил! Он верил в это. Верил в силу, которую дает ему уже ставший ежедневным голос. У деда к тому времени не было сомнений, что этот его советчик — не кто иной, как глас Божий.
Даже когда Лидушка дорогая заболела, дед особого внимания болезни жены не уделил. Был уверен, что только он знает, когда кому срок умирать и где болезнь смертная, а где обычная.
Лидушке дорогой становилось все хуже, а «целебные практики», дедом над ней творимые, облегчения не приносили. Внутренний голос твердил старику, что это ему враги противодействуют и с ними бороться надо. Когда же жена стала настойчиво требовать, чтобы он помог ей в церковь сходить или священника домой позвал, дед сразу же решил: «Вот кто враг!» И поехал он по храмам окрестным рассказать всем, даже «попам этим», что если бы они не мешали, к нему бы прислушались, если бы поняли «волю Божью», не болела бы Лидушка дорогая.
Однажды, вернувшись из очередной такой агитационной поездки, застал он свою уже постоянно лежащую жену с улыбкой светлой и глазами, его ждущими.
— Подойди ко мне, — попросила Лидушка дорогая.
Подошел дед, присел на край кровати, а она и рассказала, что пока его не было, священника соседка привела. Исповедовалась она, причастилась.
Разъярился дед, что-то ругательное хотел закричать, а жена высохшей слабой рукой рот его прикрыла и тихо так сказала:
— Леша, ты бы в церковь пошел, к Богу обратился. Он ведь ждет. Как же я без тебя там буду?
Сказала, вздохнула и умерла.
С той поры и стал дед иным, даже имя у него появилось — Алексей.
Икона
Икону принесли вечером. Утром позвонили, потом в храм пришли. Все уши прожужжали рассказами о древности, красоте и дороговизне этого образа.
Один из коробейников, шмыгая носом, с придыханием, пыхнув мне в лицо вечным перегаром, объяснил:
— На дереве, батя, под золотом. Бог нарисован и дом его рядом, в лесу…
— В раю, что ли, Бог?
— Да в каком раю? В лесу! Сколько стоить будет?
— Да откуда ж я знаю? Может, она ворованная.
— Да старуха моя мне оставила. Померла. Вот те крест! — Продавец попытался изобразить крестное знамение левой рукой. — Так сколько стоить будет? Семнадцатый век, отец, она у нас по наследству передавалась.
— Так уж и семнадцатый?
— Точно. Мне митрофановский поп сказал, что ей триста пятьдесят лет.
Священника из Митрофановки я знаю. В древних иконах он вряд ли разбирается, хотя… отличить старую от современных, написанных в годы хрущевские и брежневские, сможет.
— Ладно, приносите. Посмотрим.
Не прошло и двух часов, как постучали. В полосатой «базарной» сумке, завернутая в ветхое серое полотенце, уместилась большая икона. Судя по размеру, аналойная.
Разворачиваю. И… не могу сдержаться, так и выдохнулось:
— Ух ты, Серафим!
Соединенная с тыльной стороны шпонками, двухчастная, с ковчегом[18] и тонкой позолотой, созданная с соблюдением всех канонов икона преподобного Серафима Саровского была чудо как хороша.
Есть свойство у некоторых образов: они призывают не любоваться их красотой, а молиться. Так и говорят — намоленная икона. Передо мной лежала именно такая. Причем было абсолютно ясно, что храмовая; в торцах доски остались отверстия от креплений для установки в киоте.
— Так откуда икона? — сверля взглядом пришедшее трио продавцов, еще раз вопросил я. — Бабка оставила или из храма уведена?
— Ты что, батя? Обижаешь! Моя икона, — ответствовал самый «интеллигентный» коробейник. — Точно старуха оставила. Наследство. Вот уезжаем в Россию, с собой забирать не хотим, пусть на Родине останется.
Такого пафоса я не ожидал, хотя действительно, если уезжают, то с такой иконой на таможне проблемы обязательно возникнут.
— Так берешь? — требовательно спросил «хозяин». — Гляди, красивая какая. Семнадцатый век!
— Семнадцатый, точно, — подтвердил я, — только вот не век, а год. Именно 1917-й или около того.
— Да ты что! Цену сбить решил? — чуть ли не завопил продавец. — Да нам за нее в Луганске знаешь сколько забашляют? Не семнадцатый! Смотри-ка, какой спец нашелся! Она моей бабке от ее прабабки досталась, а той тоже с древности…
Гневу моего собеседника, казалось, не будет конца. Попытки объяснить, что икона никак не может быть семнадцатого века, так как преподобный вообще-то жил в девятнадцатом, а канонизирован лишь сто лет назад, были безуспешны.
— Так берешь икону? — оборвал возмущающегося поповской несправедливостью напарника его собрат.
— Эта икона храмовая и дорогая, мне посоветоваться надо.
— Дорогая! И я о том же, — поддакнул «хозяин». — Триста лет иконе.
Растолковывать, что иконе преподобного старца лет сто от роду, я больше не стал.
— Сколько хотите?
— Тысячу долларов, — вполголоса выдал продавец и икнул утверждающе.
— Нет, братцы, таких денег у нас нет, да и стоит она вполовину меньше.
Тут я говорил со знанием дела, потому что не так давно приискивал для храма подобный образ, и уровень цен был мне известен.
Спор рисковал затянуться до бесконечности. Дабы не устраивать бесполезных и никому не нужных торгов, я стал заворачивать икону в полотенце, всем своим видом показывая, что брать ее не буду.
— Поезжайте в область, в антикварный магазин и там продавайте.
Коробейники переглянулись.
— Деньги сейчас отдашь?
— Отдам половину, — заявил я. — Остальные через недельку, когда подсоберем на приходе, да и проверю я иконку, вдруг ворованная.
На «ворованная» продавцы никак не отреагировали, но стали требовать полного расчета.
Деньги, конечно, я бы нашел, тем более что мы собирались приобрести икону для храма. Но что-то мешало мне вот так просто забрать преподобного старца. Нужно было время — подумать и помолиться.
Согбенный, опирающийся на клюку батюшка Серафим как-то печально смотрел с лесной опушки, грусть в его взгляде соединялась с тревогой.
— Значит, так, братия, — решил я окончательно, — половину денег я сейчас же отдам, а вторую получите после Вознесения, то есть через пять дней. Устраивает — забираю, нет — везите в антикварный.
Коробейники помялись и согласились.
В ту ночь мне не спалось. Несколько раз я подходил к столику, на котором стояла икона. Старец из своего далека тревожно вглядывался в день сегодняшний и, как мне показалось, чего-то ждал.
Ненапрасны были его ожидания и мое беспокойство. Солнце толком еще не успело взойти, как раздался настойчивый и долгий, «аварийный» звонок в дверь.
На пороге стояла дородная дама, за ней, теряясь на ее фоне, жался один из вчерашних коробейников.
— Отдайте икону сейчас же! Да как вы посмели ее взять за такие гроши?! А еще священник называется!
Я, молча, не выслушивая дальнейшие причитания и обвинения в непорядочности и алчности, вынес икону.
— Возьмите.
Дама немного опешила от моего смирения и, возвращая деньги, сказала только:
— За эту икону я квартиру куплю и еще на машину останется. Семнадцатый век! А он (опускаю прозвучавшие враждебные определения) за такие гроши хотел нас наколоть!
Я закрыл за ней дверь, виновато посмотрел на встревоженных домочадцев и пошел в храм читать акафист преподобному Серафиму.
* * *
Примерно через неделю собрался я ехать на Родину, в Россию. Понадобилось поменять на рынке денежку: гривны на рубли. В будке местного валютчика увидел стоящий в углу образ, прикрытый рогожкой.
— Бать, икона не нужна? — спросил меняла. — Купил вот по случаю. Старец святой какой-то. По-моему, ей лет двести.
Он отбросил рогожку в сторону… на меня так же грустно смотрел преподобный Серафим!
— Да нет ей двухсот, от силы лет сто, — возразил я.
— О! Значит, не ошибся, — обрадовался местный финансист. — С меня за нее триста баксов требовали, а я им больше ста не дал. Так что, возьмешь за сто пятьдесят?
— Да нет, не буду. Ты ее в антикварку свези, толку больше будет, а греха меньше.
— Свезу, — как-то сразу согласился мой собеседник. И мне стало ясно, что обязательно отвезет.
Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас, грешных!
Современный «Отечник»
Это было дождливое осеннее воскресенье. В храме все свои. Чужие под дождем на службу не ходят, за исключением тех, кого так прижало, что о Боге вспомнили: «А вдруг поможет?» С надеждой на это «вдруг» да с воплем «Дай, Господи!» и под дождь можно, чтобы затем купить ворох свечей и, расспросив, кто тут больше всего помогает, симметрично на подсвечниках огоньки расставить.
Если дождя нет и метель не завывает, то в храме еще один тип «верующих» обретается — ходоки за душевным равновесием. Стоят с умиленным видом, печалятся о проблемах и невзгодах, даже иногда перекреститься могут, но не молятся, а просто успокаиваются и в размеренности непонятной службы умиротворение находят.
Только одной части богослужения этот тип захожан не переносит — проповеди. Даже когда не поучаешь, а просто «тему дня» излагаешь да примеры приводишь, на их лицах появляется страдальческое выражение, а через некоторое время поворачиваются эти люди к алтарю спиной и стремятся к двери — на выход…
Есть и иные. Редкие. Сегодня такой был. Бога пришел благодарить. И мне этой благодарности перепало.
На великом входе я его увидел. Статный, средних лет, прилично, вернее, модно-прилично одетый мужчина внимательно смотрел именно на меня. Было абсолютно ясно, что он останется до конца службы, а затем обязательно попросит его выслушать.
Так оно и случилось.
— Я вас поблагодарить пришел, отец.
Когда благодарят, оно всегда приятно, да и в вере укрепляешься, понимаешь, что не зря службу правишь, но здесь была какая-то неясность. Я впервые его в глаза видел, даже мельком не встречались. Городок-то наш невелик, столь солидно выглядящего человека с такой машиной (в окошко я уже успел посмотреть) я не мог бы не знать, будь он местный. Вот и спросил удивленно:
— За что же благодарность?
Рассказал мне гость историю, которая с ним недавно приключилась и к которой наш приход прямо причастен.
Три недели назад отправился этот руководитель довольно крупной областной лизинговой компании объезжать ее отделения по окрестным шахтерским городам. Заглянул и к нашим начальствующим лицам. С центральной горисполкомовской площади увидел красивый храм и решил зайти. «Свечу поставить, чтобы Бог в бизнесе помогал».
До конца дня еще пару сотен километров бизнесмен по горняцким «мегаполисам» намотал и только дома обнаружил пропажу. Значительную — портмоне, которое, видимо, выпало из кармана, когда он садился в машину. Там была очень приличная сумма денег в двух основных валютах, кредитные карточки и паспорт.
Карточки можно заблокировать, паспорт новый получить, а вот денег уже не вернуть. В том, что они утеряны безвозвратно, мой посетитель был уверен абсолютно и даже мысли не допускал, что ему их отдадут.
По прошествии нескольких дней на экране видеосторожа в особняке бизнесмена появилась неказистая пожилая женщина, которая настырно трезвонила и стучала в калитку…
Она принесла портмоне со всеми деньгами и документами.
— Я, отец, дар речи потерял, — рассказывал мне бизнесмен. — Понимаете, ведь такого не может быть! Это невозможно. Спросил у нее, где нашла, а она мне говорит, что у церкви валялся. Вот и привезла. Я ей и спасибо толком сказать не смог… Ушла.
После такого рассказа даже видавший всякие виды поп любопытству поддается.
— Так вы нашли ее? Кто она?
Назвал мне глава лизинговой компании имя нашей прихожанки и поведал о том, что в прошлое воскресенье он к храму подъехал, дождался конца службы и отыскал эту женщину. Предложил деньги в знак признательности, но она отказалась.
— Не взяла? — удивился и я.
— Не взяла, отче. Но я узнал, что у них с углем проблема. Так вчера сгрузил у их дома шесть тонн, зима-то на носу… Они с мужем чуть не плакали, благодарили.
— Ну а ко мне зачем пришли? — спросил я.
— Да вот Бога поблагодарить хочу, а как, не знаю, — ответствовал бизнесмен.
С проблемой благодарения мы с нашим гостем справились, а я все удивляюсь, как Господь умудряет и устраивает.
Но еще больше изумляет меня то, что к воскресной проповеди того дня я пример из «Отечника проповедника» изыскал и как раз перед приездом бизнесмена прихожанам его поведал. Вот он.
Некая бедная девушка-портниха, жительница одного северного города, получила известие, что мать ее при смерти и просит приехать. Девица, не имея на дорогу денег, недолго думая, отнесла в ломбард свою швейную машинку и заложила ее за 10 рублей.
К великой своей радости, она застала мать еще в живых. Та успела благословить дочь и вскоре скончалась. Девица похоронила ее по-христиански и затем вернулась восвояси.
Здесь, чтобы выкупить машинку, бедная девушка обошла всех своих знакомых, прося взаймы. Но все было тщетно, никто не откликнулся. Не имея иной надежды, кроме как на Божию Матерь, Покровительницу бедных, она пришла к Ее иконе «Знамение» в храм, который находился напротив городского вокзала, и стала со слезами просить Заступницу всех скорбящих помочь ей в нужде.
Выйдя из храма после молитвы, девица увидела, как два неизвестных, хорошо одетых господина у вокзального подъезда садятся в экипаж. Один из них случайно выронил бумажник. Между тем лошадь тронулась и карета поехала. Девушка, подняв бумажник, с криком бросилась догонять карету, но из-за конского топота ее голос не был услышан. Через несколько минут с помощью шедших впереди людей все же удалось остановить коляску. Девушка подбежала к неизвестным ездокам и отдала найденные деньги.
Владелец бумажника сказал: «Дорогая девица! Вы обладаете ангельской добротой и честностью. Здесь шесть тысяч рублей. По закону вы имеете право рассчитывать на третью часть найденных вами денег». Он тут же отсчитал четыре пятисотенные бумажки и вручил их ей со словами: «Желаю, чтобы эти деньги, приобретенные вашей честностью, помогли вам в жизни». Затем он протянул ей свою визитную карточку и сказал: «Если вам когда-нибудь нужна будет помощь, приходите ко мне, я всегда буду рад вам помочь». Девица горячо поблагодарила своего благодетеля и тут же вернулась в храм, чтобы поблагодарить за нежданного покровителя Царицу Небесную.
Солнышко
В нашем храме всегда есть Солнышко. Мы так бабушку Лиду зовем. Почему? Тут предисловие нужно.
Дело в том, что она уже давно вдовствует. Муж в пятьдесят лет, как и положено шахтеру, на пенсию вышел и, как обычно, по-горняцки, от пыли угольной, в легких оставшейся, в неполные шестьдесят ушел. Туда же, под землю. Только вот глубины ему теперь хватило намного меньшей, чем та, на которой он уголек рубал. Полтора метра.
Осталась бабушка Лида одна. Дети приезжают редко. Причина известная: живут сейчас по вине политиков в другой стране, которая с каждым годом все дальше от нас находится.
Еще когда храм наш без крыши стоял, и мы у голых кирпичных стен молебны служили, бабушка Лида к нам пришла и сроднилась с новым приходом. Когда же первые подсвечники в храм привезли, подошла она ко мне и попросила: «Батюшка, а можно я за этой красотой присматривать буду? Видишь, какие они красивые? Как солнышки».
Так и «присматривает».
Есть у нее маленький ящичек в приходском хозяйственном шкафу, где все принадлежности для чистки подсвечников лежат: тряпочки, скребочки, жидкости разные… Бабушка Лида, по одной ей ведомому графику, приводит своих подопечных в порядок. Летом на улице, под каштаном, а зимой в храме, в уголочке, у иконы Георгия Победоносца послушание свое выполняет. Почистит. Полюбуется. И обязательно скажет: «Красота-то какая! Как солнышко на Пасху».
А в этом году, в дни короткие, осенние, иное добавилось. В будни приходит наше Солнышко в храм, и когда подсвечники забот не требуют, берет скамеечку и садится у той стены, куда солнце светит. С утра это аккурат под великомученицей Варварой. К вечеру светило практически вокруг храм обходит, а за ним и бабушка наша «пешешествует», так что к вечерней службе у южной стороны оказывается. У нас там икона святителя Николая находится. «Видишь, батюшка, какая у меня дорога, — сказала мне как-то Лидия, — от заступницы к заступнику». И действительно, именно так и получается.
Старушка не просто так сидит на скамейке. Она книжку читает. Одну и ту же. Заинтересовало меня, что же это за книга такая? Аккуратно подошел и через плечо заглянул. Удивился несказанно. В руках у Лидии был старинный, лет сто назад изданный томик со стихами Пушкина.
Не вытерпел, спросил, почему именно эта книга? «Теплый он, Александр Сергеевич-то, как солнышко», — с улыбкой ответила бабушка.
Каждую службу стоит наше Солнышко на своем обычном месте, у подсвечника, и светится радостью. Вот и молюсь, как могу, чтобы свет этот еще долго не угасал. С ним жить легче: горести не так тяжки и в людях прежде всего хорошее, Божье видно.
Иначе и быть не может рядом с Солнышком…
Рассказ священника
Не столь давно ездил я освящать дом благополучного и материально обеспеченного семейства: красивый особняк с продуманной планировкой и дорогой мебелью оборудован всем необходимым для комфортной жизни солидного хозяина, вполне соответствующей ему супруги и двух взрослых чад.
Обитают они в этом доме уже не первый год, поэтому, когда пригласили отобедать, первый мой вопрос в завязавшемся за столом разговоре был о причине освящения жилища. Вопрос вполне естественный, так как среди прихожан я их никогда не видел, а с главой семейства общался лишь в его большом рабочем кабинете.
— Понимаете, батюшка, у нас год назад умер свекор, — начала повествование хозяйка. — Все было благополучно, но вот уже почти два месяца, как стал он к нам ночью приходить.
— Ко всем сразу или к кому-то конкретно? — поинтересовался я.
— Да всех он пугает, — вступила в разговор дочь. — Вот только к папе раньше не заходил никогда…
— Что, и вы его видели? — обратился я к главе дома.
— Видел. Как вас вижу, — ответил он и продолжил: — Знаете, батюшка, я не верил раньше рассказам жены и дочек. Думал, что это у них женские фантазии какие-то. Фильмов насмотрелись да книжек начитались, вот и чудится несусветное. А здесь на тебе: просыпаюсь в своей комнате три дня назад от чувства, что на меня кто-то пристально смотрит. Открываю глаза — рядом отец покойный что-то мне говорит. Голос слышу, а слов понять не могу… Даже испугаться толком не успел. Поднялся переспросить, что ему надо, он тут и пропал, словно растворился. Лишь потом до меня дошло, что отца уже год как похоронили.
— Вы его хорошо рассмотрели? — спросил я.
— Да, — ответил хозяин. — Понимаете, я когда отдыхать ложусь, телевизор включаю и засыпаю под его бормотание. Если жена не придет выключить, он у меня до утра работает. Вот и в ту ночь, когда отец появился, телевизор работал…
— Знаете, батюшка, не страшно, когда ночью его видишь, — присоединилась к разговору вторая дочь, — но вот потом, когда он пропадает, такой иногда ужас накатывает… Мы с сестрой раньше по своим комнатам отдельно спали, а теперь вместе. Боимся.
«Действительно, испугаешься», — подумал я.
Расспросил, как и от чего умер их дед и отец, отпевали ли. Оказалось, что о смерти своей он говорить начал месяца за два до кончины, хотя внешне образ его жизни ни в чем не изменился. Все думали, чудит дед. А он возьми и умри, прямо сидя в кресле после обеда с альбомом в руках. Для всех это было столь неожиданно, что и поверить не могли: только что с ними говорил — и вот уже нет его…
Священника отпеть на кладбище пригласили, но тот отказался ехать; сказал, что там, где трубы с литаврами, ему со своими псалмами делать нечего. Предложил землю с кладбища в храм принести и отпеть «заочно». Так они и поступили.
— Не молились больше о нем дома или в церкви?
— Да не научены мы молиться, батюшка. Жена ходила на сорок дней, службу заказывала, — начал объясняться хозяин, — да дочки, когда отец стал по комнатам ночью ходить, к вам в храм забегали. Свечи за упокой ставили.
Рассказал я всем им, как поминать надобно, молиться попросил об упокоении души деда, да и поехал на приход. На поминальную субботу увидел я в храме всю женскую половину того семейства. Уже после панихиды подошел к ним с мыслью, что опять неблагополучно в их доме, но, оказалось, ошибся. Вот что они мне поведали.
После моего ухода долго обсуждали в семье происходящее и неожиданно, каждый в отдельности и все месте, вспомнили, что покойный как будто что-то говорил им об альбоме с фотографиями, о том самом, с которым в руках умер. Открыли они этот альбом и среди пожелтевших листов и ветхих снимков со своими предками обнаружили конвертик, а в том конверте лежала записка к сыну, невестке и внучкам с просьбой обязательно отпеть его после смерти, но только с именем Димитрий. Оказывается, именно это имя ему когда-то при крещении дали, но так уж жизнь сложилась, что стали звать Григорием…
Отпели мы приснопоминаемого Димитрия, в синодик храмовый внесли, и не беспокоит он больше семью моих новых знакомых, да и в храм они теперь приходят, о нем и о себе молятся…
«Глаза бы мои на вас не глядели!»
Собственно, именно с этого возгласа все и началось. Да и не могло не начаться, потому что я, расстроенный очередной топорной работой нанятых шабашников, разогнал строительную бригаду и в печальной задумчивости сидел на ступеньках церковной паперти. Через неделю после заключения «договора», по которому обещали выполнить работу качественно и в срок, выяснилось, что все делалось тяп-ляп, по принципу «день с прохладкой, ночь с присядкой».
Рядом крутился Харитоныч, который бурчал себе под нос нелицеприятные определения вслед изгнанным строителям, оказывая мне тем самым, как ему казалось, моральную, духовную и вообще приходскую поддержку.
Бурчи не бурчи, но угольник необходимо срочно доложить и надеть на него крышу, так как оставлять уголь под открытым небом, по нынешним временам, значит ввести в искушение добрый десяток жаждущих выпить сельчан. Бесхозное домашнее топливо в размере одного ведра, хоть и обретаемся мы на Донбассе, как раз на пол-литру напитка местного производства тянет.
— Езжай до дому, батюшка, — что-то решив для себя, сказал Харитоныч. — Утром сподручнее думать.
Деду я верю, потому что его житейская хватка проверена на практике. Еще в первые приходские годы, когда строили храм, он смог договориться и пригнать громадный кран, чтобы купол на церковь водрузить. Я исходился весь по инстанциям, выпрашивая этот подъемный механизм с длинной нестандартной стрелой, но везде натыкался или на сочувственное «нету», или на безразличный взгляд, в котором откровенно читалось: «Тебя тут еще не хватало!» Узнав, что в соседнем городе есть нужная машина, зачастил я к начальнику этого механизма. На третий мой визит он заявил, что может дать только экскаватор с бульдозером. На мое удивленное: «Зачем?» — начальник ответствовал: «Чтобы для вас, племя поповское, яму выкопать, покидать всех туда и загорнуть».
Узнав, кто такие воинствующие атеисты, и поняв, что угроза искренняя и вполне реальная, я окончательно расстроился и в духе сокрушенном вернулся на приход.
Харитоныч же, тоже опечаленный «иродами безбожными», через день пригнал нужный кран со строительства ближайшей шахты, куда я и обращаться-то побаивался. Пригнал и за пару часов купол на церковь водрузил.
Так что упование на старичков приходских, которые что-нибудь придумают, меня не оставляло. Хотя, конечно, на зиму глядя, надо было сарайчик поменьше строить и своими силами обойтись, но уже начали, да и в хозяйстве нужно такое сооружение, чтобы и уголь, и дрова, и инструмент необходимый под крышей на своих местах находились…
На следующий день вокруг возведенного на треть сарая были чистота и порядок: леса выровнены, кирпич аккуратно сложен рядышком, песок к корыту растворному поднесен. Наверное, сторож со старичками постарались. Помолился я за тружеников храма сего, а сам все думу думаю, где каменщиков взять. Недодумал. Через день на четыре ряда кладка кирпичная выросла, причем чистенько так кирпичики лежат, под расшивочку. Старикам сие творчество никак не под силу, да и пономари не смогли бы так сложить.
Походил я вокруг, поудивлялся. Как и давеча, прибрано все чуть ли не под метелку и так положено, что хоть сейчас раствор мешай и продолжай стены класть. Странно…
Пошел к старосте. Тот говорит: «Сам удивляюсь, отец. Видно, молитесь усердно, вот ангелы и помогают».
Насчет того, что мои молитвы могли хоть часть ангельского мира в каменщиков преобразовать, я крупно засомневался, тем более что староста глаза хитро щурил. Ладно, думаю, все равно узнаю. Главное, чтобы каменщики эти невидимые по завершении стен стариков моих пенсии не лишили. Такая кладка сейчас дорого стоит.
Пробыл на приходе до вечера в надежде увидеть, кто же эти ангелы во плоти… Не дождался. Уехал.
Утром удивлению моему не было предела. Стены выгнаны до перемычек оконных, да и сами перемычки бетонные — таких у нас на приходе отродясь не было — лежали на положенном им месте, выровненные и укрепленные.
Около стройки староста с Харитонычем планировали, какую крышу соорудить и как прикрепить ее к стенам так, чтобы ветром не сдуло.
Благословив откровенно ухмыляющихся стариков, я уже с неподдельным пристрастием стал допытываться: «Кто?» и «За сколько?».
— Так, отче, мы же и говорим, что быстро да хорошо, а кто — Бог весть.
— Ангелы, батюшка, ангелы… — не унимался староста. — Вы, дорогой наш пастырь, идите служите, чтоб они нам и крышу с Божьей помощью поставили.
Сказать мне было нечего. К тому же меня откровенно выпроваживали, будто услышали последние слова архиерейские, на собрании сказанные, что священник больше о службе думать должен да править ее достойно, а заниматься стройками и хозяйственными делами Богом определены приходские подвижники.
Так больше продолжаться не могло, и я, никому не сказав, остался ночевать в своей келейке приходской. Дело уже было к осени, ночи длиннее стали, да и новолуние на те дни как раз пришлось. В общем, как стемнело, сел я на крылечке своего приходского домика и стал всматриваться в темноту. Смотрел и думал: «Если они ночью кладку делали, то как? Света во дворе церковном — два фонаря. Один у паперти, другой у домика священнического. Толку-то от них! Лишь к сараю дойти по тропке и видно, но чтобы кирпичную кладку вести — и разговора быть не может. Что-то здесь не так».
Вся эта ситуация напомнила мне ершовского «Конька-Горбунка», а так как там лишь на третью ночь Иван коней поймал, то я тоже решил, что никого сегодня не дождусь и смогу в тишине деревенской, под кваканье лягушек и на благоухающем, чистом, густом, как кисель, воздухе отоспаться за последние суетные дни.
Когда вечернюю молитву к ангелу-хранителю читал, добрую ухмылку старосты вспомнил и в спокойствии душевном, в предвкушении сна сладкого улегся под домашнее лоскутное одеяло, откровенно радуясь, что остался.
Сквозь наплывающий сон показалось, что где-то затарахтел мотоцикл. Не обратил внимания. Уснул. Сколько спал, не помню, но проснулся от приглушенного разговора и мелькания света. Причем свет этот четкими лучами с разных сторон светил и перемещался то быстро, то медленно. Щелкнул выключателем — в келье электричества не было, не гудел и холодильник в коридоре. Из окошка ничего толком не видно. Стройка, а свет там мелькал, в стороне немного, как раз за углом.
Надел подрясник и вышел на крыльцо. Над стенами сооружаемого угольника видны были три яркие точки, лучами упирающиеся в кирпичную кладку. Под лучами мелькали руки, но туловищ, голов и ног не существовало. Не было, и все тут!
Ангелы! Прав староста. Подумалось, но не поверилось, а вот испуг пришел, тем более что верхний огонек как-то резко опустился вниз и на высоте примерно двух метров направился ко мне, через мгновение выхватив из темноты мою фигуру. Фигура, должно быть, выглядела довольно странно. В надетом на голое тело, кое-как застегнутом подряснике, с взлохмаченной бородой и перепуганным лицом…
— О, батюшка! — удивленно вымолвил ангел.
«Что» это говорило, я так и не понял, потому что с двухметровой высоты в меня бил слепящий луч, под которым ничего не просматривалось, вернее, там была темнота.
Остальные два луча мгновенно обратились в мою сторону, и тут мне вспомнились гуманоиды, пришельцы и прочие «иночеловеки», о которых тогда много и повсеместно говорили. А о ком прикажете думать, ежели на меня смотрели три светящихся луча без признаков существования рук и ног?
Перекреститься я, наверное, забыл, но вот рот все же открыл чего-то там сказать, но сказать не удавалось…
Из оцепенения меня вывел знакомый голос харитоновского зятя:
— Эх, не получилось, чтобы «тайно образующе»!
Уж мне ли не знать этого голоса, если он каждое воскресенье Апостол читает!
Тут три луча согласно закивали и захохотали, выхватывая светом чумазые от угля лица. Это были наши сельчане-шахтеры. Ребята крупные, высокие, в горняцких касках с коногонками (так и по сей день светильники шахтерские именуют). Естественно, свет этот не менее чем в двух метрах над землей находился, под касками — черные шахтерки с такими же черными руками, а вокруг темнота… Вот и шагает свет сам над землей, если чуть со стороны смотреть.
Ребята, поняв мой перепуг, перешедший в тихий ужас, а затем в изумление, расположились вокруг и рассказали:
— Да тут, бать, старики попросили нас по вечерам доложить кладку, а мы не успели. Вот и решили после третьей смены закончить, чтобы вас удивить. На-гора выехали, а в баню не пошли; решили, что отмоемся после того, как закончим. Работы-то тут на пару часов осталось…
Смотрел я на них, и слезы наворачивались на глаза. Шахта, она ведь не просто работа. Тяжело там. Очень тяжело. И живут ребята не в городе, где иных забот поменьше. А тут хозяйство гогочет и мычит, огород надо сажать и убирать, а они вот еще ради того, чтобы удивить, ночью, после третьей смены раствор мешают и кирпичи таскают.
Нет, дорогие мои, только ангелы так могут. Пусть и черные от угольной пыли, да и словцо в речь свою не очень ангельское иногда вставляющие, но ангелы. Вы в их душу посмотрите, а потом и судить будете…
А за то, что напугали меня до смерти: «Глаза бы мои на вас не глядели!»
Сельское
Был в селе. На своем старом приходе. Там все по-прежнему. Коровы в положенное время идут домой, куры усаживаются на насест в соответствии с заходом солнца, собаки сначала гавкают, но потом, вспомнив меня, виляют хвостами. У бабы Фроси в палисаднике на лавочке всё те же лица, только бабы Веры нет — померла недавно.
На кладбище сплошной майдан. Взяли и порубили всю живую изгородь вокруг могилок, а на «обгородить» денег в сельсовете нет. Как бельмо на краю села погост нынешний. И кого угораздило деревья спилить? Летом в терновнике и сирени соловьи над ушедшими в последнюю хату так удивительно пели…
Кузнечики по причине поздней весны еще не стрекочут, да и лягушек со ставка не слышно, но тепло уже…
Наверное, с утра пораньше все встали и картошку пошли сажать. А после обеда дождик зарядил. Теплый и рясный. Был бы Харитоныч жив, повторил бы свое присловье: «Если, батюшка, в маю три раза дождь будет, картошка в подвал не вместится». Дай-то Бог, чтобы по его словам вышло.
Молодежи в селе почти нет, не считая детворы школьной. Все в городах работают и учатся, но живет Ребриково…
Все так же бранит в ближнем к церкви флигеле Татьяна своего Ивана: «Опять успел найти, где разговеться!» Но как только я вхожу в калитку, сразу замолкает. Улыбается. А Иван-то как рад! Еще бы, есть повод…
Татьяна уже смахивает со столика пыль, выставляет на него котлеты, соленья и, естественно, бутылку, которую, я точно знаю, Иван с утра искал, но найти не смог.
Посидели полчасика. Перебрали знакомых: кто да как. Харитоныча с Никандровной вспомнили. День Победы скоро. Это их был праздник…
Всё допытываются у меня селяне, скучаю ли я. Скучаю. Городской свой приход люблю и прирос уже к нему, но как вспомню утреннюю увертюру петухов, а вечером, после службы, кринку молока парного да воздух этот тягучий, свежий, ароматами трав напоенный, так и заноет сердце.
Да и время в селе медленнее течет. Там в конце дня всей семьей вечерять садятся и разговоры разговаривать. Без телевизора и компьютера. Вот такая архаизма…
Литературные бесы
Давеча, общаясь с лучшим четвероногим другом, то бишь с диваном, обратил я свой пытливый взор на полки с книгами и с огорчением обнаружил, что на одной из них из шести томиков Федора Михайловича Достоевского осталось лишь два.
Пришлось прервать удобное расположение, чтобы проверить, чего именно не хватает, и вспомнить, кому дал почитать.
Не вспомнилось.
Сегодня утром, собираясь на праздничное богослужение в Никольскую церковь, зашел в алтарь собственного храма, где облачался отец Павел, а три помощника усиленно делили поминальные записки.
Окинул всех проницательно-грозным взглядом и громогласно вопросил:
— У кого мой Достоевский?
Откликнулся самый молодой:
— Батюшка, у меня только ваши «Бесы».
— Чего у тебя?
— Бесы, — повторил алтарник.
Установилась тишина, грозившая взорваться неподобающим для алтаря хохотом.
Приложив палец к губам, тихонько, с трудом сдерживая смех, смог ответить:
— Бесов оставь, а книжку отдай…
Ретроспективное
Когда идет шестой десяток, то есть с чем сравнивать и можно вполне законно с высоты прожитых лет посматривать на молодежь: дескать, «проживи с мое, тогда поймешь». Хотя молодых сегодня ссылкой на возраст не впечатлишь. Давеча на мои подобные рассуждения юный подрясник с крестиком тут же ответил: «Я-то до ваших лет, батюшка, доживу, а вот вы до моих вряд ли»…
Но все же в преддверии каких-либо церковных событий, а двунадесятый праздник как для прихожанина, так и для священника — всегда событие, ретровзгляд — большой помощник.
На Рождество местная журналистка потребовала от меня четкого ответа на два вопроса: насколько отличаются рождественские дни развитого социализма от тех же праздничных дней нынешнего капиталистического бытия, а также откуда я узнал в те времена о Рождестве Христовом? Я, естественно, отправился в ретропутешествие по собственной памяти и вдруг понял, что в мои пионерские и комсомольские годы о Рождестве я узнал потому, что с соседними ребятами в сочельник кутью носил, а пытливый мальчишеский ум не мог не задаться вопросом «в честь чего кутью именно в этот день носят?».
В преддверии Крещения Господня, предвосхищая подобные разговоры, я, не мудрствуя лукаво, вновь отправился по волнам своей памяти в годы пятилеток и социалистического соревнования.
Есть в Ростовской области хуторок, Черюмкин называется. Наш студенческий строительный отряд облюбовал эту местность по причине ежегодной нужды в теплицах, в которых выращивались овощи для находившегося неподалеку комбината; там их квасили, делали консервы, а еще разливали вино по рублю с копейками за бутылку. Теплицы быстро ветшали, и каждый год на столе ректора нашего института лежала заявка из хутора Черюмкина с требованием дешевой и покладистой рабочей силы. В этом качестве студенты всегда были беспроигрышным вариантом. Селили нас по усадьбам одиноких бабушек или в спортзале местной средней школы. Первый вариант был предпочтительнее, так как сердобольные старушки еще и подкармливали, да и уют какой-никакой в их домах присутствовал.
По утрам, где-то между первыми и вторыми петухами, в нашу комнату (а спали мы в зале) потихоньку входила хозяйка, зажигала в красном углу лампадку перед тремя темными от времени иконами и шептала молитвы. Тихо шептала, а слышно в рассветной тишине было отчетливо. Мы, разумеется, подглядывали, но старались не шевелиться, потому что… А вот почему мы старались себя не выдать, сами не понимали. Нельзя, и всё. В конце молитв наша бабушка несколько раз кланялась, а затем доставала из тумбочки под иконами бутылочку и, налив чего-то в маленькую рюмку, перекрестившись, выпивала.
Эта стопка, на наш взгляд, никак не вписывалась в утреннее старушкино действо. Нет, мы не думали, что она пила что-то спиртное; предполагали, что это было лекарство, но все равно любопытство одолело. Что же пьет по утрам наша хозяйка, умудряющаяся раньше всех вставать, позже всех ложиться, да еще и ухаживать не только за полным сараем со скотиной и птицей, но и за нами, четырьмя стройбатовцами?
Согрешил я. Однажды утром, когда бабушка погнала корову, открыл тумбочку под иконами, а там батарея синих пол-литровых бутылок с наклеечками. На всех наклейках крестики стоят и года указаны: 1968, 1970, 1972… И еще непонятные надписи: «сретенская», «крещенская». Причем «крещенской» было больше. Открыл одну, другую, третью — везде вода. Никак не возьму в толк, в чем тут дело, и в то же время спокойно соглашаюсь со своим непониманием. Лишь четко осознаю, что немного страшно и очень стыдно.
За завтраком, состоявшим всегда из большой вареной картофелины, куска сала и кружки молока, не вытерпел (да и как-то не по себе было от поступка своего) — взял и спросил:
— Бабуль, а что вы утром пьете, когда молитесь?
Улыбнулась старушка, с лукавинкой посмотрела и отвечает:
— Чую я по утрам, что кто-то мне в спину смотрит, когда я молитвы читаю. Смотрит и молчит. А пью я, онучек, водичку святую, крещенскую.
И рассказала нам бабушка о том, как три-четыре раза в год ездит в далекий Ростов на службы праздничные, а зимой на Крещение всегда воду святую набирает, которая никогда не портится, в жизни помогает и даже болезни излечивает. Раньше, когда церковь в соседнем селе была, столько воды не хранила, да и не берегла так. Теперь же в воде этой освященной для нее и служба церковная, и в вере утверждение.
Слушали мы, четыре двадцатилетних студента, старушку и прекрасно понимали, что в ее рассказе есть то, что объяснить невозможно, но это так же верно, как те формулы, которые мы зубрили на студенческой скамье.
В храм я заглядывал со школьных дней, но это была еще не вера, не осознанное желание узнать Бога, а просто любопытство к неизвестному. Господь раскрывал Себя вот в таких встречах, которые только теперь постигаются как путь к вере.
Прошло с тех пор почти сорок лет, из которых двадцать я сам освящаю воду крещенскую — Великую агиасму, но вспомнил об этой, теперь уже с Богом беседующей старушке-хозяйке, совсем недавно, когда составлял жизнеописание митрополита Бориса (Вика), управлявшего нашей Луганской епархией в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого столетия.
Вот небольшой отрывок из этой книжки: «На Крещение Господне в 1949 году был епископ Борис (Вик) главой Саратовской епархии, то есть служил там, где родился и вырос. Праздник Богоявления того послевоенного года в крупнейшем городе Поволжского региона Саратове стал наглядным утверждением верности отеческой вере тех, кого тогдашняя власть считала уже безбожниками и атеистами.
Лишь Промыслом и чудом Божиим можно объяснить, как власти предержащие дали разрешение прихожанам кафедрального собора пройти крестным ходом на Волгу, где саратовский архиерей совершил чин великого освящения воды. По всей видимости, в идеологическом отделе городского комитета коммунистической партии были уверены, что в этот морозный день даже если и появятся желающие пойти на Волгу, то это будет небольшая группа старушек, что покажет действенность антицерковной политики и станет новым ярким аргументом в дальнейшей борьбе с Церковью.
Человек предполагает — Господь располагает.
По воспоминаниям свидетелей того дня Богоявления в Саратове, из кафедрального собора к Волге вышла действительно небольшая группа прихожан, численность которых вместе со священнослужителями не превышала ста пятидесяти человек. К крестному ходу по пути его следования присоединились еще около двух тысяч, а у приготовленной купели собралось более десяти тысяч горожан. Есть свидетельства, что верующих и любопытствующих было больше, но все же надобно учесть, что, осознав печальные последствия своего разрешения, власть всеми силами попыталась не пропустить стремящихся на водосвятие граждан, да и мороз в те дни был именно крещенским.
До дня нынешнего вспоминают саратовцы тот крестный ход и чин великого освящения воды на Волге. Они стали поистине торжеством православия для верных и холодным, отрезвляющим фактом для тех, кто думал, что атеистическая идеология одержала победу.
Понимал ли правящий архиерей, владыка Борис, что это событие чревато преследованием и наказанием? Конечно, понимал, как и осознавал, что не оставят его главой родной Саратовской епархии. Спокойно и с достоинством воспринял он несколько вызовов для объяснений в Совет по делам религий облисполкома и в КГБ. Зная тогдашние методы борьбы с “опиумом для народа”, можно лишь предполагать, сколько пришлось претерпеть владыке.
22 февраля последовал указ Священного Синода о переводе епископа Бориса (Вика) на Чкаловскую и Бузулукскую епархию. Вместе с переводом епископу по требованию Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР за личной подписью его главы Алексея Пузина было вынесено строгое замечание с формулировкой: “за проявленное во время крещенского водосвятия в Саратове попустительство, имевшее последствием соблазнительное нарушение общественного порядка”.
Одновременно со смещением неугодного архиерея в центральной партийной газете “Правда” и в правительственных “Известиях” были опубликованы разгромные для саратовского партийного и городского руководства статьи, где отмечалась малая эффективность атеистической работы в этом областном центре, а затем последовал указ из Москвы о замене городских руководителей».
Именно тогда, когда обрабатывал я этот исторический материал для книжки, и подумалось: когда же благодать агиасмы впервые прикоснулась ко мне? Вспомнился хуторок Черюмкин и старушка-хозяйка, которая рассказала нам о воде этой великой.
Нет, тогда я ее не попробовал, воду эту, а вот благодать Божия, от нее исходящая, уже прикоснулась к душам каждого из нас четверых…
Слово исповеди
Есть в храме Божием особое место — исповедальный аналой. Именно здесь слова о грехе, который многолик в своей изощренности, становятся объективной реальностью. Если слова эти произносятся с искренним покаянием и смирением, а грешная душа и скорбящее сердце стремятся стать «паче снега убеленными», то можно наблюдать чудо: к аналою с крестом и Евангелием подходит поникший и расстроенный грешник, а после исповеди и разрешительной молитвы уходит иной, преобразившийся человек, готовый вместить в себя Христа.
Плач о грехах заповедан Господом. Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф. 5:4). Но для утешения одних слез недостаточно. Необходимо слово покаяния и слово разрешения. Если под священнической епитрахилью слышишь лишь всхлипывания и сокрушения со скороговоркой «грешна (или грешен), батюшка, во всем», то это далеко не исповедь. Это не слезы раскаяния, а просто сожаление о содеянном, тем более когда обуревает страх наказания.
Грех конкретен и четко выражен, так же конкретно должно быть и слово о нем. Иначе миазмы толком не исповеданного греха обязательно дадут себя знать в ближайшем будущем. Именно поэтому вполне оправдана практика, если кающийся растерян, скован или не может по ряду причин вразумительно изложить свои преступления пред Богом, попросить его записать грехи на бумаге. Не надобно забывать и о том, что врагу рода человеческого крайне неприятно видеть кающегося грешника. Понимая, что лишается потенциального союзника, лукавый чинит препятствия до последнего покаянного вздоха.
Чувства и слово помогают друг другу, но все же приоритет остается за вторым, недаром в одной из молитв перед исповедью говорится: «Сам яко благ, и незлобивый Владыко, сия рабы Твоя словом разрешитися благоволи». Покаянный плач — дело хорошее, но за слезами должно быть понимание тяжести падения, решимость бороться с грехом и словесное подтверждение принятого решения.
И вот здесь, когда становится понятен приоритет слова, появляется новый камень преткновения — многословие, за которым стоит в большинстве случаев или желание оправдать свой грех, или чисто психологическое стремление выплакаться. Тем более что в лице священника исповедник часто находит молчаливого слушателя, вместе с ним вздыхающего, сочувственно кивающего да еще и успокаивающего. Избегать пастырского сочувствия, конечно, не надо, но необходимо и держать в уме евангельское: За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься (Мф. 12:36-37).
Так уж устроен человек, что, согрешив, он ищет себе оправдание. Это порок не нынешнего дня. Начало положил наш прародитель Адам, когда после собственного падения сначала обвинил в нем Еву, а затем и Бога, давшего ему эту жену.
Лишнее слово пред Евангелием на исповеди может повредить раскаянию, сделать его лишь повседневным сожалением, и душа не преобразится. За многоглаголаньем теряется четкий смысл греха и обычно из состояния «я грешен» следует невидимый переход в безликое сожаление «мы грешны».
Споры и дискуссии о степени подробности исповеди идут со времен давних и, наверное, не прекратятся до дней последних, но вывод из них можно сделать уже сейчас: исповедь должна быть подробной настолько, чтобы ее понял священник. Всё. Иного не надо.
Нередки сетования наших прихожан на то, что одних священник исповедует подолгу, а на других, казалось бы, только епитрахиль положил и уже молитву разрешительную читает.
Здесь нет ни нерадения батюшки, ни желания выделить кого-либо из кающихся. Просто одни приходят и говорят «слово» — четкое, конкретное и покаянное, а другие устраивают из таинства монолог с перечнем причин, последствий и влияния греха на всех, кого знают, любят или отвергают. Этот театр одного актера, особенно в исполнении человека, которого исповедующий священник видит первый раз в жизни, не только затягивает исповедь, но и очень часто не приводит ни к какому результату. Итог предсказуем: священник превратился в психолога, исповедующийся гордится своей смелостью и радуется, что его наконец-то выслушали, а Бог остается в стороне. Покаяния ведь не было. Вернее, слабые ростки искреннего сожаления и стыда забетонированы потоком оправданий и обстоятельств.
В сегодняшнем мире прагматизма, рациональности и современных технологий очень часто перемолвиться даже двумя искренними словами можно только с компьютером в интернете, да и то скрыв себя под псевдонимом. Но исповедальный аналой — не телевизионное шоу, куда приходят излить душу по заранее написанному сценарию. Иное это место. Страшное своей голой, неприкрытой откровенностью зла и великое по результату. Сам Господь устами священника говорит: «прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих».
Пастырь в храме, совершая Евхаристию, предстоит у престола пред Богом. Верующему чаду церковному тоже дано это право; оно реализуется именно на исповеди. Поэтому здесь, под священнической епитрахилью перед крестом и Евангелием, каждое слово должно быть правдиво, искренно и достойно Того, с Кем разговариваешь.
Надобно помнить апостольское: Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело (Иак. 3:2). Бережно, целомудренно обращаясь с бесценным даром слова, человек в результате становится родственным Самому Божественному Логосу, Воплощенному Слову — Господу нашему Иисусу Христу.
Осеннее
Каждое утро приходской дворник убирает облетающие с деревьев желтые и красные листья. Через час хоть заново мети и собирай.
Ветер кружит листопадный поток, стараясь забросить его на храмовую паперть, и в каждом уголке-закутке — яркий лоскуток опавшей одежды клена, акации и берез.
Скоро деревья вспомнят свое начало, и все ветки будут похожи на тот голенький росток, который когда-то пробился из земли, чтобы затем стать стволом с ветвями и кроной.
Но некоторые листочки задержатся. Одни до первого холодного дождя с порывистым ветром, другие до утреннего колючего заморозка, а некоторые и до снега. Даже когда станет по-настоящему холодно и деревья покроются ледяными сосульками, останутся редкие, но крепкие листья. Скукожившись, они будут упорно держаться за когда-то родившую их веточку…
В советской военной «учебке» на Виннитчине, в поселке Вапнярка, старшина роты прапорщик Опоростюк гонял нас, курсантов-срочников, по деревьям срывать упрямые листья, чтобы везде был порядок. Сказано зима — значит, зима.
Священники — тоже старшины своих рот — приходов. На исповеди они отыскивают в душах пасомых те листья греха, которые не желают отрываться. Но батюшки не прапорщики и обрывать увядшие, но яркие грехи без разрешения они не имеют права. Так что только с вашего позволения уборка возможна…
Утерянное отцовство
Глядя практически каждое утро на гору банок, бутылок и прочих отходов жизнедеятельности подрастающего поколения на аллее, ведущей к храму, и высчитывая из скромного церковного бюджета гривны на уборку, легко стать не только скептиком, но и ненавистником современной молодежи. От желания разобраться и наказать спасает лишь христианское требование — практиковать «милость к падшим». Да и совесть подсказывает, что ребята эти не кто иные, как твои собственные дети и внуки, которых ты в погоне за хлебом насущным отдал воспитывать обществу, не имеющему в течение последних двух десятилетий ни приоритетов, ни национальной идеи, ни какой-либо нравственной составляющей. Впору не только хвататься за голову, но и самому что-то предпринять, не надеясь на очередного «доброго дядю» с политического олимпа, который, как некрасовский барин в «Забытой деревне», «приедет и рассудит».
Для того чтобы ликвидировать следствие, надобно найти причину. Откуда взялось это презрение к окружающим? Почему у многих молодых людей полностью отсутствует желание созидать свое и уважать чужое? Главная причина, как мне кажется, — утрата понятия «отцовство».
Земное отечество — отцовство — образ небесного, таинственного и в то же время абсолютно духовно понятного состояния. Без этой связи «отец-сын» мы становимся потенциальными революционерами, разрушителями и маргиналами, забывая, что «есть у революции начало, нет у революции конца». Если отцовство не в чести, то нивелируется и понятие Родина. «Любви к отеческим гробам» тогда возникнуть не может, и «дым Отечества» не будет «сладок и приятен»; он будет восприниматься как раздражающий дым от костра из старого, изношенного мусора, где сгорают не только ветхие вещи, но и история твоего собственного народа.
У лукавого патологическая ненависть к отцовству, так как оно является хранителем благочестивых традиций и «преданий старины глубокой». Мироуправителю нашего времени крайне скорбно видеть даже массовое посещение храмов на Пасху и Крещение, стимул которого не осознанная и практическая вера, а лишь понимание, что все предки в этот день в церковь ходили.
Поэтому одна из форм борьбы с православным мировоззрением — всемерное поощрение заботы только о дне насущном и создание влечения к тому и зависимости от того, что было неизвестно нашим отцам или даже ими отвергалось.
Уход от традиции и собственной, веками наработанной (и намоленной!) ментальности всячески поддерживается прививкой чуждых правил и манер, в основе которых лишь удовлетворение похоти. В какие бы тоги «необычности», «эксклюзивности» или нонконформизма они не рядились, в финале лишь нега тела и низменные духовные развлечения; именно то, чего не приемлет отцовство.
Православие изначально — гимн отцовству. Здесь и сакральное, таинственное отношение Отец-Сын, и почитание святых отцов, и постоянные примеры спасительного благочестия, пронизывающие всю историю человечества.
Каждое поколение переживает и будет переживать конфликт «отцов и детей», но не он является причиной того, что пусты музеи, не читается классика, отсутствует знание истории своего народа и вырабатывается потребительское отношение к Богу. Не здесь корень инфантильности современного молодого поколения. Он в том, что у нас в домах можно увидеть все что угодно, начиная от облаченных в массивные рамы картин с изображением альковных утех и модернистских изысков и заканчивая бесовскими магическими масками, рогами и копытами.
А вот как выглядели бабушка с дедушкой, не говоря уже о предках с приставкой «пра», чем они занимались, к чему стремились, какие у них были жизненные приоритеты, не знаем ни мы, ни наши дети, ни тем паче наши внуки. Даже модное нынче увлечение — составление генеалогического древа — тут же забрасывается на антресоли, если выясняется, что прабабка была обыкновенной крестьянкой, а дед всю жизнь проработал в колхозе. Древо имеет место быть лишь тогда, когда предки во князьях, царях и полководцах ходили, а таких крайне мало во все века было.
Очень хорошо видно наше почитание отцов на заупокойных службах и в дни вселенских панихид. Синодики в большинстве случаев заканчиваются именами тех, кого видели наяву, а свою родную кровь, жившую двумя поколениями раньше, не знаем и знать не хотим.
Безусловно, для нас труднодостижим евангельский пример Христа, Который говорит: «Я живу Отцом» (Ин. 6:57), но для того, чтобы вернуть отцовство в повседневность, а значит и облагородить себя, можно и нужно начать с малого — вспомнить своих предков и хотя бы найти их фотографии. Пусть рядом с «Незнакомкой» Крамского и медведями Шишкина найдет себе место и портрет прабабки, и старая фотография деда.
Нельзя говорить, верить и проповедовать, что главными составными частями православия являются Священное Писание и Священное Предание, и вместе с тем не знать (и не желать знать!) собственную историю и традиции.
О книжках…
Перед епархиальным Днем православной книги на встрече со старшеклассниками в нашей городской гимназии разговор неожиданно изменил заранее определенный мной вектор. Случайностей, как известно, не бывает, поэтому возвращаться к намеченной последовательности беседы не захотелось, тем паче что экспромт моих молодых слушателей все едино был со словесностью связан, причем с современной.
Обсуждали, насколько часто используются библейские сюжеты в классической и современной русской литературе. Естественно, нашелся умник с последнего ряда, который заявил, что только в фэнтези и сказках все по-доброму заканчивается, а в остальных книжках, да и в самой Библии, сплошные катастрофы и переживания.
Пришлось спросить:
— Что для тебя лично является катастрофой?
— Ну… — замялся парнишка.
— Если получишь по контрольной «неуд», катастрофа?
Последовало четкое и определенное «не-а», отрицательные ответы прозвучали и на предположения о ссоре с родителями или болезни в праздничный день.
В наш диалог вмешалась девочка, сидевшая напротив меня:
— Вот если вдруг «ВКонтакте» работать перестанет…
И здесь все мои собеседники стали искренне верующими, так как почти хором прозвучало громогласное: «Не дай Бог!»
Невольно подумалось, неужели только фантастические сюжеты, выдуманные слезоточивые мелодрамы и банальные штампы вездесущего интернета есть главное, что читается и пишется нашими подрастающими наследниками?
Пришлось обратиться к любимой внучке с просьбой дать ссылки на те группы в социальных сетях, где она общается со своими сверстниками.
Полистал странички, почитал самые злободневные темы, подивился подростковому максимализму и… успокоился. Читают ребята. Многое и разнообразное. Беда лишь в том, что очень часто поэтическое или прозаическое богатство русской классики преподается без привязки ко дню нынешнему, а о современных писателях, у которых актуальный, динамичный сюжет имеет явственную православную направленность, молодежь практически ничего не знает.
Не умаляя достоинства наших школьных и университетских преподавателей, а также православных страниц, сайтов и порталов, нужно все же признать, что о литературе как таковой говорим мы немного, пишем мало, а объясняем ее христоцентричность еще меньше.
Давайте начнем с самых первых книжек, детям предлагаемых. Любая русская сказка, даже если в ней не упоминается о Христе, святых и Богородице, имеет христианскую составляющую. Тот же Буратино в интерпретации Алексея Толстого — блудный сын. А пушкинский Балда — наш современник, как, впрочем, и поп из того же поэтического сказания — не кощунство, а вполне актуальный, слава Богу, не очень распространенный тип.
Говоря о добре, источник которого Спаситель, не нужно оберегать подрастающих детей наших от знаний о зле. Меньше растеряются, когда с ним встретятся. Пусть они увидят в сказочных Элли, Дровосеке и Страшиле из «Волшебника Изумрудного города» не только придуманных героев, сражающихся со злыми персонажами, но и миссионеров добра с апостольскими чертами. Если увидят, то обязательно придут к христианскому фэнтези Льюиса и Толкиена, от которых лишь небольшой шаг к новозаветным притчам Христа.
В старших классах, изучая великих литераторов, разбирая перипетии нравственных страданий и поиски правды как писателей, так и героев их книг, обратите внимание на то, что практически все они или соответствуют евангельскому духу, или борются с ним.
Возьмем героев Достоевского. Как не отметить, что начало преображения Раскольникова, его духовное восстание происходит после чтения евангельской притчи о воскрешении Лазаря? А фамилия иного героя Федора Михайловича — Ставрогина — имеет начало в слове «ставрос», то бишь по-гречески — крест.
Русская классика — это особая литература, недаром на Западе изучают русский язык, чтобы читать ее не в переводах, а в подлиннике.
В дни поста Великого разве не полезно перечесть того же Гоголя? И не нужно будет священнику зачитывать перечень грехов тем, кто вечером кроме молитвенного правила те же «Мертвые души» почитал. Я бы всех, кого Чичиков посещает в поисках мертвых душ, по неделям постовым разделил, чтобы, глядя на этих героев, собственные недостатки увидеть.
Или пронзительная «Судьба человека» нашего донского классика. В этом небольшом рассказе Михаил Шолохов — Достоевский советского времени, вернее, советского военного времени, когда грани характеров обнажены и суть человеческая видна сразу. Не могу сказать, был ли знаком Шолохов с библейской «Книгой Иова», наверное, он все же знал эту ветхозаветную историю, но то, что герой рассказа Андрей Соколов мучительно задается вопросами о смысле жизни, о причине страданий и находит ответ, роднит его с пророком.
Когда поймет молодой человек, что в жизни книжных героев его сегодняшнее бытие отражается, преломляется и определяется, то он непременно попросит изначально Шмелева, затем Никифорова-Волгина, внепрограммным Лесковым заинтересуется, о Пастернаке заговорит. И обязательно их найдет. Даже если мы забудем ему об этом сказать… У него ведь «ВКонтакте» всё есть.
Пятая заповедь
Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, — гласит пятая заповедь Закона Божия (Исх. 20:12), а апостол Павел добавляет: Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле (Еф. 6:2-3).
Вывод из слов этих прост и очевиден: хочешь жить долго — почитай родственников, и прежде всего родителей. Всегда чти их. И когда они рядом, и когда отошли в мир иной. Ведь для Бога все живы. Кажется, все понятно и вполне выполнимо. На самом же деле далеко не так.
Практически нет такой исповеди, на которой священник не выслушивал бы сетований родителей на детей своих. Детки жалуются реже. Или вообще не жалуются. Даже за грех не считают очередную пикировку с воплями «Мама, ты ничего не понимаешь!», хлопаньем дверью и бурчанием в соседней комнате: «Когда же вы перестанете меня воспитывать?»
Я у исповедального аналоя частенько спрашиваю:
— С родителями конфликты были?
Следует удивленный взгляд и в большинстве случаев безразличное:
— Конечно, были.
На мое рассуждение (внушать — не приведи Господь!), что родители всегда правы, даже когда неправы, лишь унылое лицо («опять начинается») и вздохи («и тут учат»).
Всем понятно, что конфликт отцов и детей не имеет привязки ко времени; он постоянен и новыми поколениями не преодолевается, сколько нравственных книжек ни пиши и слезоточивых проповедей ни произноси.
Но не все так печально. Есть выход. Это почитание предков. Всех тех, без которых тебя бы не было.
Скажите, кто из вас, читающих эти строки, может сразу четко назвать имена своих прапрабабушек и прапрадедушек? У кого из вас дома на видном месте висят их портреты? Когда вы в последний раз о них молились? Боюсь, что ответы будут неутешительными.
Поэтому жаловаться на конфликт с молодым поколением не надо. Вы сами его создали.
Там, где помнят прародителей и где обязателен портрет своего прапрапредка (на который непременно укажет пальчиком ваш внук и спросит: «Деда, это кто?»), конфликтов между поколениями меньше. Если же к этому добавить регулярную молитву о бабушке с дедушкой — о здравии живых, об упокоении ушедших, — то все размолвки, определяющиеся разницей лет и жизненного опыта, будут не катастрофой с бранью, а всего лишь непониманием, при котором легче уступить и простить.
Да и родителям, прежде чем бурчать лишний раз, не следует забывать слова апостольские: Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей (2Кор. 12:14). Когда «имения» добра, памяти и уважения соберете, а также преумножать таланты научите, они, детишки ваши, тоже ваш портрет на стеночку определят и правнукам покажут. Тогда и не будет этого смешного, но по сути злого юмора: «Почему внуков любят больше, чем детей? Потому что они отомстят нашим детям».
Во времена нынешние возрождается неплохая, на мой взгляд, традиция — составление генеалогического древа своего рода. Вот только цели составления перечня собственных предков часто далеки от нравственности христианской. В забытых и найденных родственниках ищут не человека, не просто личность, которая была и жила, а знаменитость и неординарность. Составляется своего рода пантеон, где на главном месте богатство, слава и известность. Но ведь знаменитости рода нашего не имели бы места на земле без тех, кто дал им жизнь! Почему же забываются они?
И еще на одну, распространенную ныне особенность отношений между старшим и младшим поколением хочется обратить внимание. Мы забываем, что любое слово, сказанное нами в гневе и раздражении, имеет и сакральное свойство, то есть это не только звук, но и действие, реальное и неотвратимое.
Евангелие говорит: злословящий отца или мать смертью да умрет (Мф. 15:4). И можно привести массу примеров того, как родительское благословение низводит благодать и попечение Божие на души детей, а проклятие подвергает ужасным страданиям и мучениям.
Блаженный Августин, епископ Иппонийский, рассказывал такой случай. Некогда в одном из городов его епархии проклятию подверглось целое семейство. Старушка-мать, родившая девятерых сыновей, была сильно огорчена старшим из них, который не только устно ее оскорбил, но и дерзнул ударить. Возмущенная его поступком, мать обвинила и прочих своих сыновей в том, что они не удержали старшего брата и не помогли ей, не защитили. В порыве негодования она прокляла всех своих детей, без разбора. И суд Божий, суд неизбежный, свершился. Старший сын в тот же день был поражен параличом. Руки его, а затем и все члены тела стали дрожать. Он пришел в полное изнеможение, не мог даже ходить. Такая же участь постигла и всех остальных братьев в течение одного только года. Так что они, не вынеся стыда, не терпя позора от своих сограждан, ушли из родного города и скитались по всей Римской империи.
Вот наглядный пример того, как скоро cуд Божий вершится над дерзкими, непочтительными детьми. Еще эта история убеждает нас в том, что грешат и матери, которые дерзают произносить столь безрассудные проклятия на своих детей. Но вдвойне грешат дети, вынуждающие родителей на такие крайние поступки.
Сокрушаемся мы сегодня о скоротечности наших дней и малости лет, отведенных для земной жизни. Пытаемся понять, почему все больше людей умирают молодыми. Объяснений находим великое множество: и экология, и наследственность, и политическая неопределенность, и стрессовые ситуации… Одной только, главной причины не замечаем: живем мало потому, что коротка память о наших предках, не чтим мы отцов и матерей своих и впускаем зло на детей и родителей в собственное сердце.
Так что, услышав об очередной ранней смерти, не надобно искать врагов во врачах, в обществе и Чернобыле. В ином ее источник — в нарушении пятой заповеди Божией.
Плюнь и дунь на него
Недавно в одной потрепанной книжке историю прочел. Бабуля ставила по праздникам свечку перед образом Георгия Победоносца, а змию, изображенному на иконе, завсегда показывала кукиш и приговаривала: «Вот тебе, святой Егорий, свечка, а тебе, сатана, — дуля». Рассердила нечистого так, что он не вытерпел — явился к ней во сне и стращать стал: «Попадись ты только ко мне в ад, натерпишься муки! Припомню я тебе твои шиши». После сна этого пугающего начала бабушка по свечке и Егорию, и змию ставить. Прихожане недоумевают и спрашивают:
— Зачем ты это делаешь?
— Да как же, родимые? Ведь неизвестно еще, куда попадешь: в рай или в ад!
История давняя, известная, но далеко не архаичная, а абсолютно актуальная и к нашей сегодняшней церковной жизни прямое отношение имеющая.
Уж столько говорилось и писалось о том, что нельзя одновременно «налаживать отношения» и с Богом, и с теми, кто с Ним борется, а воз и ныне там. О бесах больше думаем и защиты от них ищем. Знаменитое украинское «пороблэно»[19] в лексиконе и сознании не только сельских жителей обретается. В городских храмах разговоры о порче и бесовском вселении отнюдь не редкость. Причем тут с изысками технологическими все это преподносится, с вескими современными научными доводами и рассуждениями о космических силах с приправой из восточной мистики и астрологических предсказаний. Как будто не повторяем мы практически ежедневно: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи (Мф. 4:10)…
Почему же так? Отчего проблема решается не по рекомендованному в таинстве Крещения «плюнь и дунь на него» (на сатану), а посредством «каждому по свечке»?
К сожалению, сами в этом виноваты. Не объяснили толком, что делать реверансы в сторону зла — совершенно бессмысленное занятие, так как мы, человеки, для лукавого и его клевретов представляем интерес лишь в качестве жертвы. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1Пет. 5:8).
Розовую сказочку о том, что когда-то один из святых заставил беса петь «Святый Боже» и злобная сущность с рожками на третьем повторе превратилась в ангела, продолжают рассказывать в разных вариациях. А ведь подобное невозможно! Ненависть для бесов стала единственной формой отношений, для них даже собственное существование мучительно, а мы все пытаемся их ублажить и перевоспитать.
Может быть, лучше почаще рассуждать и втолковывать людям, что бес без нашего желания и разрешения ничего сам сделать не в состоянии? Евангелие об этом четко и однозначно говорит. Давеча в храмах читали, как Господь позволил легиону нечистых духов в свиней войти. Не по своей воле они вселились, а Сын Божий этих демонов по их же просьбе туда отправил. Нет у нечисти возможности самостоятельно «вселяться», не обладает она такой силой. Мы сами бесов приглашаем, кормим и взращиваем.
Как? Стремлением все свои проблемы, искушения и неудачи приписать каким-то обстоятельствам; на любое наше «не вышло» найдем внешнюю причину, определим виновника любой собственной болячки. Оправдывать себя стало само собой разумеющимся, и нас даже не удивляет, когда ребенок, разбив чашку, не говорит «простите», а заявляет, что она на краю стояла…
Нежелание видеть собственную несуразность и неумение обрастает ворохом оправданий и претензий ко всем и вся. Тут лукавый обязательно подсуетится, постарается подсказать подходящее объяснение.
Это начало рукопожатия со злом. Далее вступает в силу артиллерия суеверий, предсказаний и гороскопов. Ведь с ними намного проще представить свой грех как вынужденный и единственно возможный выход из сложившейся ситуации. Ссылки на неприязненный взгляд соседа, пустые ведра, неблагоприятный астрологический прогноз и отвратительную карму не только убедительны для окружающих, но и собственную совесть убаюкивают.
Сотрудничество налаживается. От рукопожатия переходим к активной дружбе с теми, кто никогда не будет добр. И скоро они потребуют зажечь свечку и себе: приравнять свою нечистую сущность к Творцу, то есть нарушить первую заповедь Божию.
Почти на каждой исповеди приходится выслушивать сетования на злые силы, которые житья не дают. Они действительно очень злые и ненасытные. Избавиться от них непросто; самостоятельно, без помощи Божией практически невозможно.
Так почему же не заниматься профилактикой? Мы ведь во время эпидемии гриппа все марлевые повязки надевали, чтобы вирус не подхватить. И неудобно, и противно, и неловко, но надели. Аналогично обстоит дело и с духовной защитой. Через часто меняемую повязку покаяния, укрепленную огнем очищающего Причастия, ни один бес не проникнет… Грязное по умолчанию намного быстрее к грязному прилипает, а для чистых все чисто (Тит. 1:15).
Краткий свод Крещенских правил
«Раз в крещенский вечерок девушки гадали», — эти слова Василия Андреевича Жуковского в интернете в рейтинге великом и из года в год не желают девальвироваться. Одно лишь успокаивает: теперь вкупе с языческими приметами и советами православное толкование Крещения (Богоявления) намного чаще публикуется.
И все же!
Попытаюсь создать перечень (естественно, неполный — в каждой местности свои тараканы) того, что можно и нужно знать о крещенских днях, а чего надо бы избегать и не рекламировать:
— святая вода предкрещенского сочельника (Великая агиасма) ничем не отличается от той, которую будут освящать в сам праздник Крещения Господня 19 января;
— советы фирмы ОБС (одна бабка сказала), что дома обязательно должна быть «богоявленская» (вечерняя) и «крещенская» (дневная) вода, — суеверие;
— от того, сколько капель святой воды со священнического кропила попадет в вашу посудину, «качество святости» не зависит;
— вода там, где не произносится священническая молитва, не освящается, поэтому в кранах, колодцах, речках и водоемах даже в крещенскую ночь она остается просто водой;
— купаться на Крещение здоровому и телесно крепкому человеку можно, но далеко не обязательно (в больницах и поликлиниках и так в эти дни очереди пациентов с простудными заболеваниями);
— считать, что окунание в прорубь грехи «снимает», есть лишь прибавление еще одного греха к уже имеющимся;
— если православный человек имеет желание окунуться в Иордань (водоем, где освятили воду), следует взять на это благословение у священника;
— хранить освященную воду нужно в особом месте и потреблять понемножку (по ложечке), желательно натощак и при болезни;
— обливаться святой водой в ванне при купании, дабы выздороветь, нельзя;
— от сглаза, наговора, заговора и прочих чудачеств из ореола язычества вода крещенская не помогает, так как она святость, а не одно из суеверий;
— гадать в крещенскую ночь ради забавы, фольклора, традиции или оттого, что «так наши предки делали», можно, конечно, но только в церкви после подобного кощунства вам делать нечего — нельзя соединять вместе бесовщину и Христа;
— окроплять святой водой жилище можно и нужно, а рисовать на дверных косяках кресты — ваш личный выбор;
— вода крещенская (Великая агиасма) не портится никогда не оттого, что в нее ионы серебра с креста попадают, а оттого, что она святая;
— абсолютное суеверие и усмешка лукавого — убеждение, что нельзя святую воду наливать «от себя», «через руку», через воронку или ставить бутылку со святой водой на землю;
— считать себя окрестившимся и носить крест, если отстоял службу и окунулся в прорубь, не следует: как был нехристем, так им и остался;
— святая вода обязательно потеряет лично для тебя свои свойства, если ты не веришь во Христа и пользуешься ею как очередным магическим средством;
— крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье по вере вашей.
О бедной кукушке замолвлю я слово…
Знаете, почему кукушка свои яйца в чужие гнезда определяет? По одной простой причине: на Благовещение данная птичья особь решила гнездо изготовить. Естественно, об этом безобразии тут же доложили «наверх», и мгновенно был вынесен приговор: пока мир сей существует, кукушкам гнезда не иметь.
Жалко птичку, как жалко и тех, кто в данную галиматью верит и ее распространяет.
Один из величайших праздников христианства — Благовещение Пресвятой Богородицы — оброс такой гроздью суеверий и примет, что для человека, не отягощенного знанием основ веры, а таких у нас и по сей день великое множество, смысл события 7 апреля толком и непонятен.
Главный вывод — нельзя работать! Причем не только в день праздника, но и во все дни, на которые Благовещение выпадает в текущем году. Руководителям и всем тем, кто составляет рабочие графики, нужно объяснить, что они рискуют потерять свои гнезда (домашние, рабочие, политические), если посмеют противостоять этому преданью старины глубокой.
Другим, не менее важным «законом» этого дня является полный запрет что бы то ни было кому-нибудь давать. Ибо, как утверждают «знатоки», из-за такой расточительности в данный праздничный день ты тратишь свое здоровье и благополучие. Почему, мне и по сей день неведомо. Даже с кукушкой как-то более доказательно, но чтобы в праздник не покормить голодного, а раздетому не благословить ненужную дерюжку… Какой ты после этого христианин? Так что делаем вывод: установление это лукавое, врагом рода человеческого придуманное и исполнению не подлежит.
Хотя есть одно «указание» на Благовещение, которое мне очень даже по душе. Говорят, что если с утра до полуночи в Благовещение жена сорок раз назовет своего мужа «любимый» или, соответственно, муж жену «любимой» будет величать, то мир и согласие сохранятся в доме сем на многие и благие лета.
Наверное, если бы кукушка мужского пола (как мужика кукушкиного назвать, не соображу) свою пару «любимой» называла, а не талдычила, смущая людей, бесконечное «ку-ку», то сняли бы с нее епитимью.
И все же я кукушку не осуждаю. Даже на то, что она мне всегда меньше, чем хочется, годков кукует, внимания не обращаю. Знаете почему? Потому что ничего не значащие приметы и поверья, в грядущий день праздника нам со всех сторон внушаемые, лишь о главном напоминают — о словах: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою!»
Радоница
Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь (1Фес. 5:16-17) — эти слова апостола Павла наиболее точно передают суть праздника Радоница, который всегда во второй вторник после Пасхи бывает.
Казалось бы, зачем молиться о тех, кого уже нет, и почему воспоминание об умерших считается праздником? Ответ прост: «Христос Воскресе!» — то есть именно эти самые главные слова, которые проносятся над всей планетой, составляют суть праздника Радоница, само название которого — от слова «радость». Живые и усопшие соединяются вместе в прославлении воскресшего Христа.
Еще древние язычники считали, что умершие существуют в этом мире до того времени, пока мы их помним. Своим Воскресением Христос показал, что смерть является не конечным итогом нашей жизни, а всего лишь переходом в иное, вечное бытие. Зная это, мы ощущаем насущную необходимость общения с теми, кто уже живет вне материальной реальности. Это общение предоставляется в поминальной молитве. Наших воспоминаний о дорогих и любимых, ныне пребывающих в ином мире, в ином измерении, недостаточно. Ведь если есть любовь, то она требует заботы и соучастия. Поминальная молитва и есть то средство, которое помогает ушедшим и готовит нас к будущей встрече с ними.
Удивительная способность есть у современного человека: стараться не думать о смерти. Некоторые в этом старании столь усердствуют, что даже естественную потерю близких воспринимают как собственное жизненное крушение. Хотя ведь испокон веков известны два утверждения, не требующие доказательств: первое — все мы умрем, а второе — неизвестно когда. Отрицать неизбежное и бежать от него — значит признать отсутствие духовного начала как в себе, так и в окружающем мире. Превратиться в маленькую, по сути, никому не нужную шестеренку, которую неизвестно для чего заставляют крутиться и цепляться за жизнь.
Радоница утверждает единство Церкви небесной и Церкви земной, мира горнего и мира дольнего. Это констатация бессмертности, а также того, что каждый из нас не временная деталь бренного мира, а необходимая часть Божьего Промысла. Именно поэтому в синодике под одной обложкой и те, кто «за здравие», и те, кто «за упокой».
Я навсегда запомнил фразу одной девяностолетней женщины, до конца дней своих сумевшей сохранить светлое отношение к миру и окружающим. Пережила она все катаклизмы истории, похоронила множество родных и близких, но даже в болезненной старости не унывала. В ответ на мой вопрос, как ей удается «жить — не тужить», бабушка вытащила из видавшего виды ридикюля такой же старинный синодик еще царского тиснения и, раскрыв его, сказала: «Я вот за покойничков своих молюсь, а они меня здесь хранят, да и там встретить обещались».
Так что не тщетна наша молитва об ушедших, и Церковь своими родительскими поминальными днями об этом напоминает и просит помнить именно сейчас, не откладывая на грядущий день, о тех, кто уже предстал пред Судом Божиим. Наши молитвы об усопших — мысли о себе самих, ведь время столь скоротечно.
На Радоницу в храмах всегда многолюдно. И если внимательно всмотреться в присутствующих, то можно заметить, что не трагичны их лица, не горестны взгляды, а слезы не от неудержимой тоски. Иное явственно видно и реально происходит: радость встречи, радость общения. Поэтому неудивительно, когда слышишь: «Постояла, помолилась, как поговорила со всеми».
Еще одна особенность Радоницы — возможность вымолить грешника. Нечасто мы об этом думаем. Все больше о собственных прегрешениях, преткновениях и преступлениях рассуждаем. Может быть, это происходит потому, что мы всё прощаем тем, кто пережил самое страшное зло — смерть. Недаром на кладбищах, судя по эпитафиям, все «дорогие», «любимые» и «родные».
Радоница напоминает, что именно твоя молитва, твоя искренняя просьба к Богу способна освободить тех, кто ушел, от нераскаянного греха. Более того, видя такое старание и милосердие к усопшим ближним, Господь и твои немалые грехи в свое время не помянет. Так что, по сути, молимся об умерших, а прощается и нам.
Именно поэтому Радоница есть радость.
Покровительство Покрова
Уверен, что не будет таких светских печатных изданий, страниц в интернете и телевизионных выпусков, освещающих праздник Покрова Богородицы, в которых нам не расскажут о том, что если на Покров ветрено, то будет большой спрос на невест; Покров землю покрывает и свадьбы благословляет; в Покров девушкам спозаранку надобно в церковь бежать и свечку к празднику ставить, потому что какая раньше поставит, та и замуж скорее выйдет.
К ежегодно повторяемым особенностям этого дня синоптики добавят народные погодные приметы, которые, как ни странно, обычно сбываются в отличие от официальных прогнозов.
Послушаешь или прочитаешь подобные «объяснения» любимого нами праздника — и самому, как в старину, частушку покровскую спеть захочется:
Скоро, девушки, Покров,
Скоро нам гуляночка,
Скоро-скоро заиграет
Милого тальяночка.
Да вот беда, день этот иной в сути своей. Богородица действительно во времена далекие народ, молившийся во Влахернском храме осажденного Константинополя, омофором Своим покрыла, но чудо это не снегом на землю снизошло и не фатой невесты было, а от беды и нашествия врагов защитило.
Покров Богородицы — праздник благодарности Деве Марии за Ее заступничество и реально видимую и осязаемую помощь. Именно в покровительстве Пресвятой Богородицы смысл праздника. Все остальное, даже самое благочестивое и народом принятое, — лишь слабые отголоски главного: помощь Божию мы через молитвы и предстательство Богородицы получаем.
Почитайте многочисленные акафисты к Пречистой Деве, обращенные к Ней молитвы и песнопения, Ей посвященные. Во всех них обязательно покровительство вспоминается и о нем просится. Да и понятно. К кому, как не к матери, наши руки в младенчестве тянулись, у кого изначально каждый из нас защиту искал? И матери наши находили силы и возможности нам помочь. Сейчас же, когда повзрослели, поумнели и веру обрели, мы к Самой Матери Бога руки с надеждой простираем. Ведь если наши мамы каждую слезу нашу утереть сумели, то сколь велико может быть заступничество Самой Царицы Небесной!
Уже во времена давние, лет пятнадцать назад, вез меня из села в город старенький батюшка из соседнего прихода. Ездил он из одной деревни в другую на полуразбитом «Москвиче-408». В город же путешествовать на этой колымаге не решался, потому что не проходила она уже несколько лет техосмотров положенных. Номер на машине был старого образца, да и вид она имела чрезвычайно неблагонадежный. Меня же священник взял по той причине, что я, по его мнению, каждого дорожного стража должен знать и в случае чего смогу беду отвести.
Хоть и ехали мы путями окольными, гаишники тут как тут оказались. Первой их матушка увидела и кричит мужу:
— Пой тропарь Скоропослушнице!
А тот в ответ:
— Покрову надо петь!
И заголосили на пару. Батюшка — «Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием…», а матушка — «Богородице притецем, сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне припадем…».
Дабы не отставать, и я вслед за ними затянул: «Царице моя Преблагая, Надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице…».
Милиционер палочкой своей полосатой взмахнул, но увидев и услышав, как два бородатых попа в рясах вкупе с матушкой молитвы воспевают, лишь честь отдал и перекрестился на всякий случай.
Лишь потом я задумался, почему же все мы втроем именно к Богородице обратились? Наверное, именно потому, что помощь Ее вольно и невольно принимаем.
Часто вопрос задают: а как помощь Царицы Небесной ощутить и Ее покровительство заметить? Есть ответ. Его когда-то протоиерей Валентин Свенцицкий дал: «…не все видят Покров Божией Матери, не все его чувствуют. Для этого нужна вера, для этого нужно смотреть не на грязную дорогу, по которой мы идем, а на небо. Нужно уметь подымать свои очи горе, нужно уметь видеть глазами веры сей благодатный дар».
О празднике Покрова много говорят, пишут и чудесных историй рассказывают, но однажды мне повстречалось маленькое стихотворение со скромной подписью «Елена Семёнова», и теперь мне трудно вычеркнуть из осеннего праздничного дня и храмовой проповеди эти строки:
Покров Пресвятой Богородицы —
Кленовый, резной, золотой —
На грешную землю опустится,
Покроет своей добротой.
«О Мати, превысшая сладосте! —
К Тебе припадаем, любя: —
Не изми, Владычице, радости
У тех, кто взыскует Тебя».
Без таксометра в голове
Пришло письмо, а там вот такие строки: «Когда я не была верующей, я просто старалась делать добро, как этому меня учили родители. Мне было легко на душе. Но когда я пришла в Церковь, все стало намного сложнее. Такое впечатление, будто с Богом труднее, раньше все было как-то проще. Светлана (Киев)».
Действительно, труднее и сложнее с Богом. Ведь до прихода в Церковь наши добрые дела были сродни тем, которые совершал превращенный в медведя Иванушка в фильме-сказке «Морозко». За любование собственной красотой и гордыню стал добрый молодец зверем, а для того, чтобы вернуть облик человеческий, он должен был три добрых дела совершить. Помните рев на весь лес: «Кому доброе дело сделать?».
Вот и мы без Бога и Церкви добрые дела планируем, подготавливаем, рассчитываем и… ждем награды. Причем очень часто публичной, во всеуслышание: «Чтобы все видели и знали, какой я добрый и хороший».
Не столь давно отмечали у нас церковными наградами тех, кого мы на великом входе поминаем как «строителей, благоукрасителей и попечителей святаго храма сего». На всех орденов у архиерея не хватило, поэтому кому грамоту, а кому и «Спаси Господи!». До дня нынешнего некоторые обижаются и упрекают, что их заслуги плохо отмечены…
Требование награды за добрые дела естественно для человека вне Церкви. Для того же, кого мы называем воцерковленным, критерий иной: когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая (Мф. 6:3).
Творить дела добрые Бог призывает без ожидания награды и похвалы. Сложно это. Непривычно и изначально огорчительно. Бескорыстие не приходит само собой, путь к нему тернист и долог, да и лукавый обязательно старается смутить и на ложный маршрут направить. Недаром многие подвижники наши предупреждают: «Делаешь доброе дело — жди искушений».
По окончании литургии, после отпуста, когда к кресту прихожане подходят, довольно часто слышу просьбу: «Батюшка, благословите на дела добрые…»
Благословляю. Понимаю, что боится человек Бога огорчить непотребным делом, плохим словом или невольным грехом, и боязнь эта — уже начало доброделания. Ведь совершить какое-то одно, конкретное, угодное Богу дело не составляет труда, несравненно труднее стремиться постоянно жить в парадигме добрых дел. Здесь нужно самоотречение и неослабный внутренний контроль.
Достичь умения не делать зла можно лишь одним способом — любить. Тут надеяться только на собственные силы и ублажать себя тем, что якобы достиг каких-то совершенств в доброделании, никак нельзя. Так уж устроен наш мир, что, видя твое стремление сделать кому-то что-нибудь хорошее, «доброжелатели» обязательно тебе сообщат что-то негативное о том или той, о ком ты заботишься. Лишь любовь может покрыть мнимые и истинные недостатки. Здесь, как бы это пафосно ни звучало, мы уподобляемся Христу, Который любил и любит без условий.
Человек — создание Божие. Даже без веры и Церкви он может в главных чертах различать добро и зло, поэтому доброе дело для него вполне возможно. Вопрос в ином: почему есть желание сделать что-то хорошее для другого? Можно перевести старушку через дорогу, потому что «так поступают культурные люди», а можно сделать это как само собой разумеющееся.
К сожалению, ожидание награды и признания стало главной побудительной силой современного мира. Отношения «ты мне — я тебе» уже возведены на пьедестал совершенства и честности. Более того, когда работаешь, делаешь доброе дело не во благо чего-либо, а во Имя Бога, то есть во славу Божию, то реально рискуешь вскоре услышать колкую реплику: «Оно тебе надо?» — и отнюдь не лестную характеристику вроде «жить не умеешь».
Именно поэтому тяжелее с Богом быть. Зато есть и преимущество: когда я, как Иванушка из «Морозко», просто так, не задумываясь о награде, на плечи к себе старушку слепую с вязанкой дров посажу и домой ее без включения в голове таксометра отнесу, то в свое время, может быть, это добро и станет соломинкой моего собственного спасения в вечности. Вот только как бы этот «таксометр» не включать?
«Ты кто такой?»
Храмик мой стоит на аллее в самом центре городка. На перекрестье путей между рынком, автобусными остановками и магазинами. Да и все конторы, ателье и прочий быт рядышком.
Мимо постоянно кто-то топает. Каждому времени свой прохожий. Но есть категория проходящих, которые обязательно норовят в храм зайти и которых я никак не желаю в нем видеть, — это пьяные…
Сегодня утром снова заглянул «сильно выпивший». Забираясь по ступенькам к церковной двери, он несколько раз упал. Зайдя, тут же начал плакать, причитать и исповедоваться одновременно.
В храме литургия. Да и храм-то шесть на восемь метров; зимой максимум тридцать пять, а летом сорок прихожан вмещается. Каждое слово громогласно, каждый вздох слышен. В алтаре замечание младшему попу сделаешь, так весь приход возмущается: опять, дескать, старый молодого достает…
А тут пьяная исповедь на весь храм с междометиями непотребными, да и запах такой исходит — никакой афонский и иерусалимский ладан вместе взятые подобное амбре не урегулируют.
Вышел. За рукав взял. Попросил помолчать. Без толку. Пытаюсь выпроводить — вопит, что к Богу пришел, а я, мол, его не пускаю.
Хорошо хоть староста Олег после ночного дежурства не ушел, на литургию остался. Взял шумящего молитвенника в охапку и на снежок вынес, под дерево.
Казалось бы, все нормально завершилось, но вот уже вечер поздний, а у меня этот крик слезный в голове звенит: «Ты кто такой, что меня к Богу не пускаешь?! У меня батя умер недавно»…
Москва
Москва одна, а у меня оказалось четыре. Это я понял тогда, когда попросили написать о ней.
Пытаюсь все четыре соединить в одну. Не выходит. Но ведь есть же что-то общее? Должно быть! Ведь географически все четыре в одном месте обретаются. Красная площадь во всех в наличии вкупе с Лобным местом, собором Василия Блаженного и Мавзолеем. Но разные у меня города выходят…
1958-й. Ветер холодный со снежинками залетает под завязанную под подбородком шапку-ушанку. Я восседаю на плечах отца и завороженно смотрю на куранты Спасской башни. Жду, когда они заиграют. У меня замерз нос и хочется потереть его варежкой. Терплю. Боюсь пропустить.
Заиграли. Точно как в радио, только по-настоящему. От радости машу руками и колочу ногами по отцовской груди.
Потом мы идем в большой магазин, где мне покупают красную машину. У нее открываются дверцы, и мне хочется забраться в кабину, где даже руль есть, но машина игрушечная, так что в кабинку шоферскую только моя рука еле-еле влезает. Еще был шумный вокзал с милиционерами в красивой форме и поездом с зелеными вагонами. Москва закончилась множеством огоньков за замерзающим вагонным окном, в котором я пальцами оттаивал маленькие дырочки, чтобы сказать «до свидания».
Это моя первая Москва.
1974-й. Москва армейская. Вернее, отпускная. Возвращался в родную часть из отпуска. Самолет прилетел в Первопрестольную рано утром. Мой рейс до степного казахского Кустаная вечером. Не сидеть же в аэропорту! Поехал в город и тут же попался патрулю, которому не понравились мои не в меру отросшие волосы под фуражкой.
Долго объяснялся, что, мол, виноват, в отпуске был и в стандартный вид образцового советского солдата себя привести не успел. Пока патруль учил меня уму-разуму, рядом остановились трое ребят примерно моего возраста и стали заинтересованно следить за происходящим. Когда же меня отпустили, они тут же окликнули:
— Летун, погоди!
«Летун» потому, что в авиации я срочную служил, погоны голубые были.
Познакомились. Угадал я, что это практически ровесники. Полгода, как из армии вернулись. Объяснили мне москвичи, что на Красную площадь, куда я направлялся, нельзя и носа показывать — там патрули такие, что вместо Казахстана буду я в московской комендатуре полы драить. Растолковали и повели меня на Арбат.
До дня нынешнего этих ребят помню. Они мне Москву новую открыли. Тихую, лирическую, удивительно приветливую и немного таинственную. Уходя с арбатских улочек, я уже понимал, что каждый тамошний дворик, каждый дом да и булыжники мостовой — это не только свидетели истории, но и ее участники.
Был и храм. Небольшой, с одним куполом и маленькой колокольней без колоколов. Какой? Сейчас не могу вспомнить. В памяти остался лишь темный притвор и мерцающая лампада перед большой иконой, украшенной цветами. Мы в него только заглянули…
Это моя вторая Москва.
Весна 1990-го. В стране происходит что-то непонятное и трудно воспринимаемое. В личных делах — кризис, казалось, разрушающий все, что было и что предполагалось. Уже понимаю, что занимаюсь не тем, чем надо, и нахожусь там, где быть не должен. Только в церкви, где-нибудь в дальнем уголке небольшого храма, получается соединить реальность вокруг себя с собой внутри. Не могу понять, почему так происходит. Гнетет удручающая безысходность. Бросаюсь в крайности. И здесь Бог (теперь-то абсолютно ясно, что это был Он) посылает удивительного человека — священника небольшого поселкового прихода под Белгородом. Он вытряхивает из меня обиды и обвинения. Сначала книжками, потом беседами и, конечно, церковной службой. Целый год батюшка растолковывает мне, что в бедах своих я сам виноват, приводит удивительные примеры, которые всегда связаны или с Троице-Сергиевой Лаврой, где он учился, или с Москвой, откуда он родом. Затем везет меня в Оптину, где, как в эстафете, передает из рук в руки оптинскому благочинному, также московского происхождения.
Данный игумен вид имеет внушительно-умный, а характер — постоянно-непоседливый. У него всегда масса забот и сотни неотложных дел, в орбиту которых он включает всех вокруг находящихся, в том числе и меня. Бог весть, откуда он прознал о моей любви к книжкам и ко всему, что с ними связано, но к Пасхе я уже числился в монастырском издательском отделе, где мы выпускали первые неказистые брошюрки о вере православной.
Далее — больше и серьезней. Авва Дорофей, жития святых, документы о канонизации оптинских подвижников, тут уже без Москвы никак не обойтись. Поездки одна за другой и знакомство с Москвой православной. С людьми удивительными и в ту пору для меня абсолютно непонятными. Непонятными, наверное, потому, что потерял я веру в искренность человеческую.
Москвичи помогли мне ее вернуть.
Однажды мне надобно было поехать из Данилова монастыря на юго-запад Москвы, где версталось на компьютере (редкость по тем временам) житие преподобного Амвросия. Приехал уже вечером, долго искал нужный дом. Передал папку с бумагами, а хозяин пригласил меня поужинать. Отказался, чем искренне его огорчил. «Зря вы так, молодой человек, — сказал он, — но если не хотите, заставлять права не имею. А вот без ложки меда вы от меня не уйдете».
Эта ложка меда, которую мне вынес «на дорожку» совершенно незнакомый человек, стала своего рода точкой отсчета. Возвращалась вера в людское чистосердечие, в то, что и внутренне, и внешне можно быть одним человеком.
А далее — московские возрождающиеся храмы и монастыри.
Это моя третья Москва.
Четвертая — сегодняшняя, в которой я очень редко бываю, но и дня без нее не обхожусь, потому что из трех тысяч моих читателей в LiveJournal добрая половина — москвичи. Именно в Первопрестольной вышла моя первая книжка, именно там живут не «френды», а друзья, которые не только помогают, но еще и молятся обо мне.
Чем же соединить эти четыре Москвы в моей жизни? Не знаю. Может быть, тем, что Москва для меня — всегда столица, хоть и обретаюсь я нынче в ином государстве? Вполне возможно. Бог даст, в веке будущем станет понятно…
Об авторе
Протоиерей Александр Авдюгин родился в Ростове-на-Дону в 1954 году. После окончания средней школы служил в армии, работал на телезаводе и в шахте. Получил высшее техническое образование. Затем окончил Киевскую духовную семинарию и духовную академию. В ноябре 1990-го был рукоположен в священный сан и направлен на приход села Ребриково Луганской области, где прослужил 18 лет. С 2005 года является настоятелем храма-часовни свв. Иоакима и Анны г. Ровеньки. Автор многих публикаций в православных СМИ, ведет активную миссионерскую работу в интернете. Автор восьми книг. В настоящий сборник вошли как новые, так и уже полюбившиеся читателям произведения разных лет.
Примечания
[1] Государственная граница между Россией и Украиной формально была установлена в 1991 году после прекращения существования Советского Союза. — Примеч. ред.
[2] Апостасия (греч. αποστασία — отступничество, измена, отпадение) — вероотступничество, измена христианской вере и отпадение от нее. — Примеч. ред.
[3] Фандрайзинг (англ. fundraising) — процесс привлечения ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, осуществления определенного проекта или своей деятельности в целом. — Примеч. ред.
[4] Державная автоинспекция, аналог ГИБДД на Украине. — Примеч. ред.
[5] Апокатастасис (греч. άποκατάστασις — возвращение в прежнее состояние, восстановление) — 1) преображение мира, имеющее осуществиться по Божьему предначертанию в конце времен; 2) благодатное восстановление человека, совершаемое в лоне Православной Церкви; 3) восстановление людей Божественным действием при всеобщем воскресении мертвых; 4) частное понятие, указывающее на всеобщность будущего духовно-нравственного восстановления людей (в том числе грешников), используемое в рамках не принятой Церковью концепции о конечности адовых мук. — Примеч. ред.
[6] Криница — родник, колодец. — Примеч. ред.
[7] См.: Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слово 14. — Примеч. авт.
[8] Худоба — домашний скот. — Примеч. ред.
[9] Гостиница тогда в скиту, в храме святителя Льва Катанского располагалась. — Примеч. авт.
[10] Сретение (церковнослав.) — встреча. — Примеч. ред.
[11] Шибка (укр.) — оконное стекло. — Примеч. ред.
[12] Ставок — небольшой пруд. — Примеч. ред.
[13] Ерик — небольшой проток, соединяющий два водоема. — Примеч. ред.
[14] Чебак — рыба семейства карповых, к которому относятся лещ, елец, плотва. — Примеч. ред.
[15] Кукан — бечева, на которую нанизывают пойманную рыбу. — Примеч. ред.
[16] Макитра — на Украине широкий глиняный конусообразный горшок с шероховатой внутренней поверхностью для перетирания мака и других семян. — Примеч. ред.
[17] Gott (нем.) — Бог; Kinder (нем.) — дети; Nicht schießen (нем.) — не стреляй. — Примеч. ред.
[18] Ковчег — (в иконописи) углубленное среднее поле на лицевой стороне иконы. — Примеч. авт.
[19] Пороблэно (укр.) — заговорено, наколдовано. — Примеч. авт.
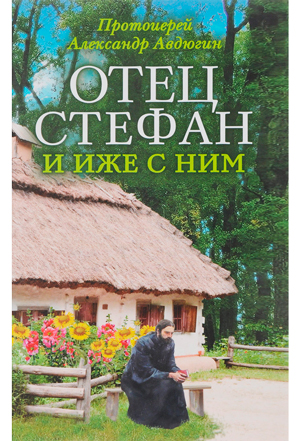
Комментировать