Цветы
В стакан поставить полевых ромашек
И маков — негустой, простой букет.
Смолисто-черный чай пить, в окнах свет
Неярко-облачный следить, и ждать домашних.
Стараться жизни медленность вернуть,
Остановить смятенья свистопляску
И вновь ступить на бесконечный путь,
Когда он снова станет виден ясно.
Я убежден, что цветы — это чудо. Не в смысле образного выражения — «Ах, чудесные туфельки, чудесные цветочки!», а вполне буквально. Чудо Божие, явление милости Божией.
И дело не только в том, что цветы концентрируют в себе тот удивительный эон бытия, который называется красотой. Который сам по себе — своей ненормированностью, неподверженностью рациональному анализу, своей резонансной созвучностью человеческой душе — является — для чуткого сердца — доказательством реальности высших планов творения. Но и в том, что цветы — это очевиднейший дар божественной любви человеку. Ибо рациональное обоснование факта существования цветов не выдерживает ни малейшей критики. Люди привыкли бездумно доверять примитивным объяснениям всего и вся положениями вульгарной биологии, физики и т.п. В частности, наличие цветов (соцветий) толкуется как результат потребности растений в размножении через опыление, через привлечение опылителей (носителей пыльцы) — насекомых, птиц. И это считается само собой разумеющимся. Но ведь существует много способов размножения растений, которые совершенно не нуждаются в наличии цветов — этих изящнейших созданий, иногда изумляющих сложностью структуры, иногда совершенством лаконизма. Не буду в этот вопрос углубляться — достаточно сказать, что самыми живучими, следовательно, самыми успешными в вопросах размножения являются наиболее неэстетичные растения: сорные травы, кустарники, растительные паразиты. В нашей местности: лебеда, осот, щирица, чертополох, агрессивная амброзия, дереза и королева живучести — повилика. То же можно сказать о деревьях — вряд ли можно найти что-то живучее айланта (называемого в народе «чумаком» и «вонючкой»)?
И не говорите о том, что по-настоящему красивые цветы — исключительно плод целенаправленной селекции цветоводов. Так утверждать может лишь тот, кто не видел цветущие луга полевых тюльпанов, диких ирисов и т.п. А орхидеи, произрастающие в том числе и на Кинбурнской косе[10] (место нашего летнего проживания), — крапчатые, болотные и другие виды? Небольшие цветки этих удивительных растений — размером не более 15-20 мм — представляют собой при близком рассмотрении замечательно сложную и изящную структуру совершенной формы и цветовой гаммы, совершенной красоты. А что у них с размножением? Оплодотворенный цветок, вызревая, выбрасывает семечко, которое может прорасти только в том случае, если попадает в почву определенного и очень сложного состава, с уникальным содержанием солей, минералов, микроэлементов. Мало того — в почве обязательно должен присутствовать также особый растительный грибок — иначе семечко не прорастет. Однако и проросшее, первый надземный побег оно даст только через семь лет! Какая уж тут выживаемость? Неудивительно, что более эффективно орхидеи размножаются не семенами, а делением клубеньков. И для чего тогда эти изящные цветы? Для чего, если они не ДАР: не дар радости, не дар любви? Можно, конечно, сказать, что плоды с семечком нужны для перемещения последнего на дальние расстояния — в желудке птиц и т.п. Но и это не является необходимостью — например, та же ядовитая амброзия и без великолепных цветков и ярких плодов расползается как чума по огромным территориям.
Так что когда мы дарим цветы любимым, друзьям — это мистический акт. Акт богоуподобления, акт повторения в малой капле нашей жизни безбрежного океана божественной любви.
И потому, если у человека не возникает желания дарить цветы любимой, это вызывает сомнение в глубине и подлинности его чувств. Или в глубине и подлинности его душевного мира.
В моей жизни цветы присутствовали всегда: иногда значимо, иногда забавно. О нескольких таких случаях я расскажу далее.
Розы
Начало лета 1975 года. Первый день рождения Аллы в нашей супружеской жизни. Тогда более всех цветов Алла любила розы. И я решил сделать ей соответствующий подарок.
Часа в два ночи я тихо встал с постели, оделся, прихватил с собой большой старый фибровый чемодан и отправился на «промысел».
В то время городские власти затеяли очередную кампанию — сделать Николаев «городом роз». Вообще власти Николаева время от времени увлекались такими «масштабными», хотя и не слишком продуктивными проектами. То собирались на бульваре, протянувшемся вдоль главной городской магистрали, проспекта Ленина, по его средней части, сделать «атмосферный» кондиционер с чуть ли не тропическим климатом.
То в другой части этого же проспекта насадили рядами ели с красными фонарями вдоль них — по образцу аэродромных ВПП. То конструировали некий плавучий суперфонтан, который должен был располагаться на Ингуле, невдалеке от здания обкома КПСС. А то — «город роз». Какой-то из областных центров УССР тогда уже получил такой «статус», а николаевские власти решили не просто повторить это достижение, но «догнать и перегнать». Город был военный, закрытый для иностранцев, в культурном и эстетическом плане весьма запущенный, на фоне чего отличаться хотелось особенно. Тем более что идею «города роз» воплотить было не так уж и сложно — это вам не фонтан соорудить с тридцатиметровой струей воды. Просто на свободных площадях и газонах следовало высадить как можно больше роз. После скольких-то тысяч можно и называться «городом роз».
Казалось бы, идея не из самых плохих. Но она совершенно не учитывала главного: роза — не газонное растение. Есть специальные газонные, ковровые растения, которые создают декоративный эффект именно при посадке площадями. Но роза не такова. Роза — индивидуальна. Подобных себе она терпит только на некотором расстоянии. Каждый куст должен быть обособлен, и любоваться им следует отдельно. При посадке же массивом сотни кустов роз совершенно теряют свою специфическую эстетику, привлекательность. Сплошное поле разноцветных роз, чаще всего плохо или вовсе не обихоженное, засаженное без всякого соблюдения цветовой гаммы, где одновременно присутствуют и молодые бутоны, и жухлые высохшие соцветия, производит крайне неряшливое впечатление. Тем не менее массовые посадки провели — перед всеми райкомами партии, в некоторых скверах и на площадях. В том числе и в сквере рядом с тогда еще новым кинотеатром «Юность» на Октябрьском проспекте.
А жили мы в то время кварталах в пяти от этого кинотеатра. Туда в ту памятную ночь я и направился. Шел дворами; выйдя на проспект, огляделся, быстро перешел его и скрылся в тени под стеной кинотеатра. Сквер был ярко освещен тогдашней новинкой — прожекторами с ксеноновыми лампами. Светло как днем. Но в отличие от дневного времени было пустынно. Я немного выждал: никого. Перебежкой подобрался к розарию и бросился на газон ничком. Чемодан открыт, в руках — ножницы, по-пластунски передвигаюсь между кустами.
Ущерба розам я, конечно, не нанес — кустов были сотни, а с каждого я срезал не более одного-двух цветков. Но чемодан наполнил доверху и плотно.
Операция заканчивалась, я так же по-пластунски, толкая чемодан, выполз с газона, опять оглянулся и перебежал проспект. Дальше было проще — несколько кварталов глухими проходными дворами.
Однако главный сюрприз ждал впереди. Уже на подходе к своему дому, расслабившись и не особенно скрываясь, я заворачиваю за угол очередной девятиэтажки. И… прямо передо мной, метрах в двадцати, в хорошо освещенной дворовыми фонарями полосе стоит милицейский УАЗик, а возле него о чем-то беседуют трое милиционеров. Меня они заметили сразу, замолчали и стали пристально разглядывать. Что было делать? Рефлекторное движение — метнуться за угол — я подавил: не уйти. И пошел вперед, стараясь сохранять максимально бесстрастный и непринужденный вид. Что подумали милиционеры — до сих пор представить не могу. Вплотную мимо них прошествовал молодой человек лет двадцати от роду, грязный, весь в кровавых царапинах, в изорванной футболке — у роз, как известно, есть шипы. И с огромным фибровым чемоданом в руках. Однако милиционеры проводили меня задумчивыми взглядами и… ничего не сказали.
Через несколько минут я был дома.
Утром Алла обнаружила у кровати ведра с сотнями роз. А в постели — основательно исцарапанного мужа.
Признаюсь — эффект от подарка оказался не совсем ожидаемым. Тогда я еще не понимал, что количество не всегда переходит в качество. Или, точнее, не всегда переходит в положительное качество. С розами Алла намучилась так, что после того случая надолго к ним охладела. Была у нее такая установка: роза — существо особенное, за ней нужен уход — двукратная в сутки смена воды и обрезка стебля. И выбрасывать розы нельзя — даже сухие. Все банки, бутылки и прочая посуда в квартире были заняты сотнями роз. Хорошо, что еще находили из чего пить чай… Так что на протяжении долгого времени Алла занималась розами, словно наемный садовник на три ставки. И вздохнула с большим облегчением, когда розы стали «отходить»…
Кстати, тогда же примерно стали «отходить» розы и в городском масштабе. Кто-то из городского начальства решил, что «догнать и перегнать» лидеров не удастся — те далеко вырвались вперед. А быть вторыми не хотелось. Кому-то эта идея, видимо, просто надоела. А кто-то увлекся чем-то новеньким (тогда как раз зародились идеи «атмосферного кондиционера» и суперфонтана — разрабатывать их поручили КБ, в котором работали мои родители). «Города роз» не получилось. Получилось просто несколько площадей, бестолково засаженных, словно капустой на огороде, розовыми кустами.
И получился урок для меня: что к добрым намерениям надо прилагать еще хоть немного рассудительности…
Хризантемы
Не всегда супружеская жизнь безоблачна. Особенно такой ранний и скорый брак, как в нашей семье. И хотя прожили мы в живой любви вместе уже более 30 лет, построили несколько домов, насадили сотни деревьев, вырастили полтора десятка сыновей и дочерей, но и до сих пор бывают минуты недопонимания, усталости, раздражения. А что уж говорить о юности, о первых годах жизни молодой семьи.
Когда в те времена случались у нас размолвки, моя и Аллина реакция на них была противоположной: я настойчиво пытался все высказать и обсудить, а Алла замолкала, а то и старалась куда-то уйти, пройтись и успокоиться. Но вот, когда родился Саша, ей уйти уже было не так просто: малыша не оставишь. Так что мы поменялись ролями: дабы не накалять атмосферу, иногда уходить «проветриться» начал я. А Алла оставалась с ребенком. Но я всегда так или иначе вскоре возвращался.
В одну из таких размолвок я вышел из дому — «остыть». Но пошел не просто гулять, а, взяв бутылку водки, отправился в гости к своей (нашей общей) доброй знакомой Оле. У Оли я лихо, по-гусарски, эту бутылку оприходовал — один, залпом. И, конечно, тут же понял, что срочно пора идти мириться. Нужно было позвонить любимой жене. Телефона у Оли дома не было, мобильников тогда не существовало, и я вышел во двор звонить из телефона-автомата. Алле я дозвонился и пригласил ее на примирительный поход в кино (в это время пришла бабушка, и Саню было с кем оставить). Как ни странно, но Алла согласилась. Назначили встречу у кинотеатра имени Ильича. Был такой кинотеатр в центре города, так именно и назывался — «Кинотеатр Ильича».
И вот тут со мной случилось то, что Шукшин описал как состояние «рога в землю, и память автоматически отключается».
Проснулся я в той же телефонной будке. Вернее, меня разбудили. Судя по часам, минут через пятнадцать. Рассерженные жители — возле автомата собралась очередь человек в семь — меня тормошили и пытались из будки извлечь. После осознания ситуации я перестал сопротивляться, дал себя вытащить и поспешил на рандеву у Ильича.
Но я знал непоколебимо — на свидание с любимой нужно идти с цветами! Благо, цветы можно было купить по дороге, на небольшом рыночке по проспекту Ленина. Честно скажу, не помню, что там произошло. Ясно только, что жене я хотел купить цветы нашей свадьбы — хризантемы. Но бабка-цветочница выставила цену, нереальную для моего облегченного покупкой водки кармана. Однако цветы были нужны, и я их купил, заплатив ту сумму, которую они, по моему мнению, стоили. И на эту сумму цветы получил. То есть получил не совсем цветы, а, как в сказке про «вершки-корешки», скорее «корешки», то бишь — стебли. Соцветия, видимо, бабка оставила себе — в момент, когда я тянул букет. Но меня это вовсе не смутило. Я гордо принес любимой отвоеванный букет нежной зелени и вручил ей перед входом в кинотеатр. И тут произошла еще одна странность — букет был принят, и мы вместе, купив билеты, чинно проследовали в зал.
Правда, фильм мне очень не понравился. Он был хоть и про русско-турецкую войну на Балканах, но какой-то патетичный, советский, идеологизированный. Смотреть было неинтересно, а для меня — и неприятно. Тогда я решил времени зря не тратить, воспользоваться случаем и перекусить. Точнее, закусить (чего так еще и не успел сделать) купленной по дороге ливерной колбасой. Колбаса была из самых дешевых и потому с резким и трудноидентифицируемым запахом. По зрительному залу концентрическими кругами поползли волны сомнительного аромата. Зрители начали проявлять беспокойство, принюхиваться, шепотом переговариваться. Алла больно лягнула меня под стулом ногой и попыталась максимально дистанцироваться, вжавшись в дальнюю часть кресла (при ее габаритах такой маневр возможен). К счастью, колбаса быстро закончилась. Но тут я стал засыпать. Причем — с храпом. Громким. Соседи, начавшие было успокаиваться, вновь заволновались. Алла несколько раз меня будила, но помогало это ненадолго. В конце концов я стал понимать, что хрупкий семейный мир может вновь пошатнуться. И решил пойти прогуляться, оставив Аллу наслаждаться кинематографическими красотами (фильм цветной, широкоформатный, видовой). Я пошел к выходу, пообещав жене ждать ее на улице.
При этом во мне кипело возмущение советчиной, навязываемой и фильмом, и вообще… Еще и кинотеатр Ильича к тому же! Уж слишком — от этого «живейшего всех живых» Ульянова и деться некуда! Надоели Ульяновы, долой! Похоже, мне повезло, что никакого Ульянова-Ленина, пригодного для свержения, так и не встретилось. Однако в фойе кинотеатра попался большой портрет другого Ульянова — Михаила, известного актера. «Ну и ладно, хоть этого Ульянова вынесу», — решил я, снял портрет со стены и потащил его из кинотеатра. Ни в кинотеатре, ни на улице меня никто не остановил. Более того, я сам втиснулся в кружок стоящих возле кинотеатра дружинников (при двух постовых милиционерах) и предложил им приобрести у меня портрет «вождя мирового пролетариата». После бдительного исследования портрет ленинским не признали и вернули мне, как органам власти не надобный. Куда я его потом пристроил, не помню. Совсем не помню. Возможно, кому-то подарил или просто прислонил к чему-либо. Помню только, что дружинники никак не могли от меня отделаться, я им все что-то горячо доказывал, а у одного милиционера даже пытался сторговать пистолет. Не знаю, к чему бы это привело, но тут, на счастье, закончился сеанс в кинотеатре, и жена, оторвав меня от полюбившейся компании, повлекла домой. Мирно и счастливо. Семейная гармония была восстановлена. Благодаря цветам — а чему же еще? Не водке ведь. И не Ульянову.
Кстати, дальнейшую судьбу того замечательного букета я не знаю.
Но не сомневаюсь, что именно он спас мою семью.
Тюльпаны
Третья история, которую я хотел бы сейчас рассказать, не о дарении цветов, но о дарах от цветов. То есть о том, как сами цветы умеют делать нам подарки. Мне они, например, подарили первые настоящие джинсы. И еще — освобождение от ответственности (может быть, и уголовной) за разрушения районной системы теплоснабжения.
А началось все с покупки тещей дачи. Она решила приобрести участок в пригородном садоводстве, и так случилось, что покупаемый участок оказался «тюльпановой фермой». Хотя и деревья, и виноград, и плодовые кустарники там произрастали, однако основные площади (впрочем, какие там площади? — три сотки, но очень плотно обустроенные) были выделены под тюльпаны. Тюльпаны ранних сортов, вполне традиционные — крупные, красные; так называемые голландские.
Оформлена покупка была зимой, а весной ожидался большой урожай тюльпанов. Почему уж предыдущая владелица так поспешила с продажей, не знаю — значит была причина. И теща, получив такое «наследство», решила дать нам подработать.
Это было закономерно. С одной стороны, семья родителей жены не была малообеспеченной: отец Аллы — морской офицер в отставке, строитель, участвовавший в сооружении многих важных объектов — от ракетных баз до правительственных санаториев в Крыму. Ее мама, Ася Александровна, тоже была инженером-проектировщиком в строительной сфере. Опыта же торговой деятельности у них не было никакого. А допустить пропажу — ведь отцветут впустую! — сотен тюльпанов было неразумно.
С другой стороны, я всегда старался найти какой-нибудь дополнительный заработок. Еще будучи студентом, а затем и инженером, я подрабатывал то сторожем, то истопником, то ночным дежурным механиком и даже организовал свою авральную бригаду по разгрузке вагонов на местном пивзаводе (работали по выходным и по ночам). Ну а когда бдительные «органы» выперли меня из секретного конструкторского бюро, то пришлось, дабы хоть как-то обеспечить семью, работать сразу на нескольких работах. В таких условиях помочь нам подзаработать было естественным добрым желанием Аллиных родителей.
В то время, весной 1986 года, я работал на три ставки в организациях теплоснабжения. Основным местом работы был куст газовых котельных Николаевтеплосети. Там я в свое время прошел обучение и получил «корочку» оператора газовых котельных.
Сама по себе работа была замечательная. К моему заведованию относились три автоматизированные газовые котельные — одна вблизи другой. Постоянно присутствовать нужно было в одной, головной (у меня — ул. Террасная, 16), остальные две нужно было обходить каждые три часа и регулировать температуру (подачу газа) в соответствии с погодой. Данные для регулировки сообщались диспетчером по телефону. Все котельные находились в подвальных помещениях. Головная была оборудована необходимыми удобствами — комната оператора, туалет и даже душ. Ночью можно было немного поспать (хотя официально и не разрешалось). Дежурных в такого рода котельных полагалось по одному, и потому никто там не мешал и не отвлекал: времени для «личной жизни» было более чем достаточно. Моя «личная жизнь» в котельных заключалась в возможности чтения и рукоделия. За несколько лет своего «истопнического поприща» я прочитал огромное количество литературы, возможно, больше, чем за всю остальную жизнь. Занимался и другими полезными делами, например, ремонтировал книги или делал с сыном уроки. Или вот — подобрал пять выброшенных хозяевами старых дубовых стульев, оттащил в котельную, разобрал на детали, привел в порядок и опять собрал, и до сегодняшнего дня (!) эти стулья — лучшие в нашем доме.
Конечно, немаловажным было и то, что платили в котельных неплохо — во всяком случае, на ставку даже в одной котельной полагался оклад больший, чем я получал инженером в КБ.
Так что работа была хорошая. Серьезных происшествий за все годы было всего два, причем оба я сам невольно и организовал. Первое из них описано в рассказе «Вероятность жизни как величина отрицательная»[11], а второе — ниже.
Итак, работал я тогда, как уже упоминал, на три ставки в трех отопительных организациях — в «Теплосети», в городском жэке и в ведомственной котельной жэка Черноморского судостроительного завода (в районе так называемого Спасского спуска). В «Теплосети» график работы был два раза по 12 часов (ночь и день) в течение четырех суток, а в ведомственных котельных — сутки через трое. Путем согласования графиков и подмен я все смены увязывал между собой. Физически было, конечно, трудно — но не нужно забывать, что работа была сезонной: с осени до весны. За это время мне удавалось скопить и отложить денег на летний сезон. А летом я или вообще был свободен, или, когда было удобно, подрабатывал сторожем, как правило, в школах. До сих пор у меня хранится домашняя «бухгалтерская книга» того времени, в которой помесячно расписаны все планируемые на текущий год доходы и расходы. Поступления: «из отложенных зимой — столько-то, из оплаты за сданную донорскую кровь — столько-то, заработаю грузчиком — столько-то»; и расходы: «на продукты на первую неделю августа», к примеру, или «на поездку в Печоры — столько»; даже такое: «на день рождения Любочке — 5 рублей 50 копеек» и т.п.
Описываемые события произошли уже в самом конце отопительного сезона, в первых числах мая. Котельные «Теплосети» были уже закрыты, а котельная жэка ЧСЗ почему-то еще функционировала. Возможно, была поздняя весна, и ведомственная котельная реагировала на погодные условия менее «централизованно». (Практически начало и конец отопительного сезона определялись по среднесуточной температуре — когда она переваливала в ту или иную сторону от +12 градусов, если не ошибаюсь.) Таким образом, я был уже почти свободен, работал только сутки через трое.
А тут и время тюльпанов пришло. Подоспели они замечательно — как раз к майским праздникам. В это время тюльпаны бывают самыми востребованными цветами — пышно, красиво, не слишком дорого. Вот тогда и мы с Аллой наладили нашу цветочную торговлю. По утрам на отцовском «жигуленке» ездили на дачу, срезали цветы и везли их продавать на ближайший к дому мини-рыночек (жили мы тогда в микрорайоне Лески). Становились за прилавок и… вполне успешно торговали. Наверное, потому что никаких особых надежд на эту торговлю мы не возлагали (что-то заработаем, и слава Богу), торговалось нам легко. Приятный товар, прекрасная погода. Цветы раскупались хорошо, покупатели были довольны — цены мы выставляли самые низкие. Заработанные деньги откладывали. Правда, «первые поступления» Алла все же сразу израсходовала — купила мне новые туфли и джинсы. Но большая часть хранилась, а торговля продолжалась.
Кстати, как ни странно, но я не помню никакого выражения неприязни со стороны наших соседей, «коллег» по цветочной торговле, «профессионалов» — а ведь мы им наверняка «перебивали» коммерцию. Но все было мирно… И так длилось не один день.
Однако при этом я еще продолжал дорабатывать сезон в жэковской котельной. Причем днем мы уже вообще не топили, а только ночью. По минимуму. И вот тут я учудил. Придя вечером на работу, разжег котлы и… ушел. Дело в том, что в то время мои родители уехали в отпуск и попросили меня ночью присматривать за больной бабушкой. Не помню, как уж я управлялся в предыдущие смены, но в этот раз я прямо с вечера пошел к бабушке и остался у нее ночевать. Видимо, посчитал, что при минимальном режиме работы котельной и теплой температуре воздуха ничего случиться не может. Но случилось… Под утро меня разбудил звонок из жэка — разыскивают в связи с аварией в котельной. Я примчался и с облегчением увидел, что все в общем-то не так уж плохо: дом и котельная целы, все живы. Однако порядком пострадала система теплоснабжения. Оказалось, что ночью выключили электричество, но при этом почему-то не сработала отсекающая газ автоматика. Естественно, вода в системе закипела, и начались гидравлические удары. Удары изрядно напугали жителей отапливаемого жилого массива. И привели к образованию многочисленных трещин — в основном в чугунных батареях. Воду пришлось срочно спускать и котельную ставить на ремонт — благо, было уже тепло.
И что-то нужно было делать со мной. Не знаю, почему руководство жэка не дало этому событию официальный ход: может быть, им самим то было по каким-то причинам невыгодно, а, может быть, просто меня пожалели. Помню, занималась этой историей очень симпатичная молодая женщина, главный инженер жэка — она и помогла все благополучно решить. Работы по ремонту котельной, трубопроводов системы отопления, замену поврежденных секций радиаторов сделали рабочие за счет жэка; я же оплатил только стоимость заменяемых деталей и изделий по госцене. Получилось не так уж и дорого — ровно 137 рублей.
Но что знаменательно и замечательно — эта сумма в точности соответствовала той, которую мы заработали на торговле цветами — за вычетом уже потраченных денег. Таким образом, цветы оплатили за меня весь причиненный государству ущерб.
Конечно, работать в этот жэк меня больше не взяли бы. Но уволили мирно — с формулировкой «по собственному желанию». Нужно было искать какой-то иной способ зарабатывать на пропитание семьи. И тут меня попросили пойти работать бухгалтером в кладбищенскую Всехсвятскую церковь города Николаева. Еще несколько лет зимой я работал на одной ставке в «Теплосети», а затем и оттуда ушел. Так начался мой путь в Церкви — не только в роли прихожанина, но уже и в качестве работника.
Спасибо цветам!
Богема
Родился я в городе, носившем тогда именование Ленинград. Но прожил там с родителями недолго, отцу по состоянию здоровья (астма) врачи рекомендовали жить на юге. Так что сознательное детство для меня началось уже в Николаеве.
Второй раз в Ленинград я попал уже взрослым человеком, семейным, — в 21 год. Осенью 1977 года поехал я по каким-то делам в Одессу и там встретился c двумя подругами своей жены — Аленой и Олей. Не таким уж и поздним вечером захотелось попить пива. Однако по совковости времен скромные питейные заведения и магазины были уже закрыты. Пришлось за пивом ехать в аэропорт. Приехали, попили. А тут объявляют посадку на рейс в Ленинград. Денег вскладчину хватило точно на три билета. Сдача — пять копеек. Но — дело молодое, полетели. В самолете противный гнусавый голос три часа пел советские песенки. Особенно доставала четыре раза прокрученная (видимо, особенно любимая экипажем) песня: «А мне опять приснился крокодил зеле-е-еный, зеленый как моя тоска-а-а-а!» Тем не менее «авиатоску» сторицей окупил вид ночного Питера с высоты птичьего полета — «Ту-154» разворачивался над городом перед заходом на Пулково.
В аэропорту я разменял драгоценную пятикопеечную монетку, нашел телефон-автомат и принялся звонить еще одной, питерской, подруге Аллы — Людмиле Гилязовой; та уже ранее побывала у нас в Николаеве в гостях. Первую монетку телефон тут же проглотил. Перешел к другому автомату. Попытка вторая и последняя. После набора цифр — тишина, потрескивание разрядов в эфире. Однако монетку автомат вернул. Еще раз набор, еще раз перемена аппарата. Результат везде одинаков. И так продолжалось довольно долго, я уже растерялся. Но вот какой-то мужчина, стоявший у соседнего телефона и некоторое время наблюдавший за нашими манипуляциями, спросил: «А вы по какому номеру звоните? Попробуйте добавить впереди цифру два». Я набрал — и аппарат сразу заработал (оказалось, что буквально в эти дни АТС Ленинграда были переведены на семизначные номера). Трубку взяла Людмила. Я объяснил ситуацию. Она все поняла и отправила мужа, Гену, нас встречать. В результате мы на несколько дней оккупировали их крошечную комнатушку в коммуналке на 4-й линии ВО (Васильевского острова). Уехали дней через пять поездом.
Помню слова Людмилы: «Как я завидую человеку, который в сознательном возрасте ПЕРВЫЙ РАЗ приезжает в Питер». Действительно, впечатление было потрясающее. До сих пор стоят перед глазами впервые увиденные ночной Исаакий, его подрагивающее отображение в темных водах Невы, строгая гармония Дворцовой площади, небо над Адмиралтейской иглой. В последующие годы в Питере я бывал часто и подолгу — приезжая и в гости, и в командировки, но первое визуальное впечатление незабываемо: «Увидеть Питер и умереть».
Впоследствии, когда в конце 70-х — начале 80-х я приезжал в Ленинград, то останавливался, как правило, опять же у Людмилы и Геннадия (к тому времени они переехали в отдельную двухкомнатную квартиру в том же дворе). Но иногда, по тем или иным причинам, и в других местах.
Среди наших с Аллой питерских друзей была и некая Татьяна, молодая художница, счастливая обладательница просторной мастерской в мансарде на шестом этаже старого дома — некогда «доходного» — близи набережной Невы, в районе 10-й линии ВО. Пару раз, приезжая в командировку, я останавливался не у Гилязовых, а у нее, в мастерской. Сама она тоже жила там, но мы друг друга не стесняли — мастерская была многокомнатная, не менее четырех-пяти помещений. Свободный угол, кушетка, плед всегда находились.
В один из таких моих приездов, теплой осенью 1979 года, я «совпал» с проходившим тогда в Ленинграде семинаром молодых «перспективных» живописцев. «Перспективных» — т.е. в меру поощряемых, но при этом жестко контролируемых. Таковым в строго отмеренной дозе позволялась некоторая фронда, и меру ту они понимали очень хорошо. А нужно сказать, что в нее (в меру вольности) прекрасно вписывались ночные попойки «на кухне» с «отчаянно смелыми» речами — как предохранительный клапан, противовес мертвенности официальных мероприятий. И вот на этот раз таковую пьянку затеяли в мастерской у Татьяны — как в месте, для того чрезвычайно удобном. Собралось человек двенадцать. Начали очень бодро, в результате чего уже часам к шести стало ясно, что источник 777-й амброзии скоро иссякнет. Но уходить в темноту никому не хотелось. Тут я и вызвался помочь. Дело в том, что мне и так необходимо было ненадолго отлучиться: я пообещал еще одной нашей доброй знакомой, Дине Сморгонской, композитору, что обязательно приду на концерт, где будут исполняться ее произведения. (Опять же какой-то смотр — на этот раз молодых «перспективных» композиторов и исполнителей.) Ехать к концертному залу было недалеко, несколько остановок через мост Шмидта. И я знал, что исполняемые в тот вечер произведения Сморгонской не слишком продолжительны. Так что часа через полтора рассчитывал вернуться. Потому и предложил свои услуги по доставке портвейна. Все скинулись, я собрался. Только нужно было еще запастись тарой, в которой бутылки нести. Не найдя ничего иного (отвлекать участников семинара от горячих дискуссий я посчитал бестактным), обнаружил рядом с сохранившейся с давних времен печью старую сетку-авоську, набитую исписанными листками и обрывками бумаги. Посчитав сие запасом для растопки, я высыпал бумаги за печь и отправился в путь.
Поскольку магазины в этом районе закрывались рано, то портвейн я решил приобрести заранее — на обратном пути мог бы не успеть. Купил десять бутылок 777-го, загрузил их в авоську и так отправился дальше. На входе в концертный зал предъявил пригласительный билет и пошел отыскивать указанное место. В фойе я увидел Дину. Она была одета в великолепное черное концертное платье со шлейфом, в руках нервно подрагивал веер. Дина о чем-то беседовала с чопорным седым дядечкой в смокинге, рядом стоял толстяк во фраке. Очевидное волнение проступало контрастной бледностью на ее лице. Я решил ее подбодрить, широко улыбнулся и помахал рукой — дескать, мы здесь, почитатели твоего таланта! Дина меня увидела, но почему-то вздрогнула, как-то совсем кривовато улыбнулась и спряталась за широкой спиной фрачника. Я растерянно посмотрел на свое отражение в огромном зеркале на стене. Ну что же: да, джинсы у меня на колене протерлись, все зашить недосуг. И куртку от того же «костюма» я стирал давненько. Зато футболка из-под куртки почти не видна. Конечно, батарея бутылок в авоське не вполне вязалась с обстановкой, но что уж делать — необходимость. Я вздохнул, решил к Дине не подходить и стал протискиваться к своему месту в середине ряда. Сел, игнорируя диковатые взгляды соседей. Ну и что же, если от меня портвейном пахнет? Я, может быть, так музыку лучше воспринимаю.
Фортепианные произведения Дины исполнялись почти в самом начале. Я благосклонно их прослушал и задумался о том, что же делать дальше. В зале стояла тишина — родственники, друзья, возлюбленные авторов и исполнителей затаив дыхание слушали представляемые опусы. Выбираться со своего места в такой обстановке было невозможно, антракт же еще не скоро. А в это время в далекой мастерской на Острове люди погибали от жажды…
Разрешить эту проблему мне помог следующий исполнитель. Видимо, в предчувствии эпохи постмодернизма свое произведение он написал для гобоя без оркестра. Протяжные глухие однообразные звуки заполнили зал. И надолго. Тут уж и чернокостюмно-белорубашечные зрители стали ерзать. Один гражданин приподнялся, повернулся спиной к гобою и, качаясь и приседая, стал пробираться к выходу. Я это расценил как разрешительный прецедент. И повторил его маневр. Авоську с портвейном я нес перед собой на вытянутой руке, благодаря чему народ подтянулся, проход стал как-то шире: перебираться через колени сидящих зрителей не пришлось.
Дину и богему музыкальную в тот день я больше не видел. Зато видел богему художественную. Войдя в подъезд Татьяниного дома, сразу услышал доносящиеся сверху крики и шум потасовки. Взбежал на площадку шестого этажа (там была дверь только в Танину мастерскую). На площадке собралась толпа. В эпицентре событий маленький лысоватый гражданин, пересидевший в «молодых дарованиях» не один лишний годок, петушком наскакивал на длинного, но какого-то вялого и блеклого сотоварища. Раздавались крики с невнятными обвинениями в адрес провокаторов, КГБ и бездарного холопского народа. Зрители активно болели. Я попытался разнять противников, растаскивая их одной рукой: правая была занята драгоценной ношей. Не помогло, лысоватый ловко уворачивался («Рабинович, почему у вас под глазом синяк?» — «А! Это мне хотели дать коленом под зад, но я увернулся!»). Тогда я поступил мудрее — вытянул вперед правую руку и поместил между противниками авоську с бутылками. Маленький замер и растерянно уставился на авоську, в его взгляде отразились какие-то смутные воспоминания и переживания. Длинный же вдруг оживился, выхватил у меня авоську и потопал с ней в глубь квартиры. Зрители, толкаясь, поспешили за ним. На площадке остались мы вдвоем с лысоватым. Тот изнеможденно ко мне привалился, повздыхал и тут же поведал очень жалобную историю. Историю страждущего таланта, трагическую историю дерзаний и предательств.
Маленький оказался не только пожилым молодым художником, но и крупным поэтом, непризнанным гением — непризнанным как совковыми чиновниками от культуры, так и коварными завистниками-конкурентами. Вот и сейчас, поверив в чистоту сердец и искренность намерений сих пьяных бездарей, посчитав их истинными служителями муз и ценителями прекрасного, принес он с собою рукописи. Но вот этот негодяй — длинный, о котором все давно знают, что он стукач и подлец, по указке КГБ выкрал сии бесценные страницы, и теперь:
1) мир лишился нового откровения духа;
2) автору грозят жестокие гонения со стороны карательных органов;
3) но, несмотря на то, автор всем мерзавцам покажет, где раки зимуют, где живет кузькина мать и всякое такое прочее…
Тут я начал что-то подозревать.
— А в чем находились ваши… эти… рукописи?
— Ах, в простой сетке-авоське. Я с ней на рынок хожу (вариации на тему Хлебникова).
Я посоветовал страдальцу заглянуть за печь и объяснил, как я там надежно укрыл его творения от происков завистников. Лысенький гений суетливо побежал к печи, заглянул за нее, засиял и растекся умилением. Свои бесценные труды пиит обвязал бечевкой и снова положил на хранение за печь. «Пьяным бездарям» своих шедевров решил на этот раз не читать.
Через несколько минут я сидел за общим столом.
— Ты чего там застрял? Что ты этого лысого слушаешь? Все давно знают, что он стукач и предатель. У него роль такая — гения играть. Не связывайся. Стихами замучает, а потом еще настучит в КГБ…
Я промолчал.
К сожалению, веселья я не застал; народ вошел в стадию раздражения и ожесточения. Оказалось, что в период моего долгого отсутствия возникли сомнения в моей добросовестности — смогу ли я за столько времени не опорожнить приобретенные бутылки? Донесу ли хоть что-нибудь? (А именно в те времена Венечка Ерофеев описывал технологию интенсивного упоя.) Подождали, поругали заочно меня и очно, за меня, Татьяну, а потом еще «доскинулись» и послали гонца. Гонец заказ принес быстро. Выпили. Посидели. Впали в ступор. Обстановку оживил лысенький, решивший, что пришло время огласить свои шедевры…
Так что бутылки, все же мною доставленные, как необходимое средство «полировки» пришлись в самое время. Однако они же в области нравственно-психологической оказались явно излишними. Веселое общение иссякло окончательно, на смену пришло желчное пикирование. В основном выясняли, кто больший бездарь. Но и эти споры затихли.
Постепенно всех сидевших за столом объединила одна тема: карьера. Оказалось, что сих нонконформистов чрезвычайно волнует вопрос, как угодить властям и пробиться в худсоюзовскую элиту. Более всего воодушевлял пример Ильи Глазунова — его путь был признан самым верным и достойным. Мои слабые возражения по поводу как художественных качеств его творений, так и морального облика, были решительно отвергнуты. Вернее, просто проигнорированы. Разговор с неизбежностью вращался вокруг тех или иных успехов Глазунова («А вот того портрет!» — «А еще и этот заказал!» — «А вот куда он едет, слышали?») и возможностей их воспроизводства.
Скоро мне стало совсем уж скучно. Я побродил по мастерской и в конце концов, открыв окно, выходящее непосредственно на соседнюю крышу, выбрался в него.
Вот сижу на коньке крыши, внизу чернеет колодец двора, воздух тепл и недвижен, безлунное небо искрится низкими звездами. Вид ночного неба всегда меня завораживал; я стал на непривычном небосклоне искать знакомые имена: Дракон, Лебедь, Лира… Вега, Денеб, Альтаир, Гемма… Неспешно и несуетливо текло время. Но вот в проеме окна показалась чья-то фигура, и через минуту рядом со мной на коньке крыши сидел молодой парень — худощавый, лицо странное, словно чрезмерно вытянутое в вертикали, но красивое, благородное. «Леня. Леня Пoляк. Тебя, кажется, Мишей зовут, да? Ты ведь тут, у Тани, живешь?» — «Ну, не совсем. Так, временно. Я здесь в командировке. А ты что сюда?» — «А, тоска там зеленая. Чушь несут. Свихнулись на своем Глазунове, другой темы для разговоров нет. Ну их…»
Так мы и сидели на крыше. И слушали имена звезд.
Тогда мы стали друзьями. А более ни с кем из той компании я никогда не виделся, и даже с Таней — очень редко…
Мамаду
По городу слоняться —
Не осень, не зима.
На мокрые скамейки
Садится полутьма.
Размашистые ветки,
Фонарик голубой.
По городу слоняться
И не идти домой.
Прощаться и таиться,
Слова припоминать.
Не ждать нежданной встречи
И вечер продлевать…
И горстку впечатлений
В кармане согревать…
В жизни время от времени происходят события, которые невольно заставляют вспомнить эпизод «Матрицы»: сбой программы, черная кошка два раза пробежала по коридору. Зачастую на это не обращаешь внимания, суета поглощает зоркость к тонким планам бытия, инстинктивный рационализм мировосприятия старается поместить абсурды жизни в слепое пятно сознания.
Но тем не менее иногда вспоминать о таких событиях необходимо, вновь и вновь убеждаясь, что наш мир вовсе не так прост, как ему хотелось бы выглядеть (дьявол не может не быть лжецом, и псевдорационализм жизни — одно из его лучших оружий).
История, которую я хотел бы сейчас рассказать, стала первым звеном в цепочке событий, в результате которых я получил статус «австралийского шпиона». Но и сама по себе она небезынтересна — своей «матричностью», намеком на то, что случайностей в нашей жизни не бывает. Очевидно, что по теории вероятности возможность возникновения описанной ниже ситуации исчезающе мала.
Шел 1979 год. Я только что защитил диплом в Николаевском кораблестроительном институте, получив специальность инженера по проектированию боевых надводных кораблей. Работать распределили в Николаевский филиал Северного ПКБ — ведущую проектную организацию по профилю «сторожевые корабли — крейсера». Головное КБ располагалось в Ленинграде, и буквально с первых дней работы в проектном отделе начались многодневные командировки в Ленинград. Слава Богу, мне было там где остановиться — у Аллы, моей жены, в Ленинграде осталось много подруг и знакомых (несколько лет до нашей встречи она прожила там). Как уже упоминал, чаще всего останавливался я у супругов Гилязовых, Геннадия и Людмилы. Жили они в хорошем месте — квартира (точнее, комната в коммуналке) располагалась во дворе Академии художеств на Васильевском, на углу 4-й линии и Большого проспекта. Место было прекрасное во всех смыслах, а теснота компенсировалась радостью дружеского общения. Так что со временем (а проводить в Ленинграде приходилось почти половину календарного года) я там вполне прижился и уже среди жильцов коммуналки считался за своего.
В Питере я, естественно, работал; там и отдыхал. Отдых бывал как «культурный», так и не очень. К «культурному» более всего относились многочасовые прогулки по Питеру и такие же многочасовые и регулярные посещения Эрмитажа.
Вообще в Эрмитаж я ходил поспать. И перекусить принесенными из дому бутербродами. Спал обычно в кресле в античном зале, в цокольном этаже. Там из кресел не выгоняли. И прохожие не мешали. Чего туда ходить? Да Винчи нет, доспехов нет… Прийти разве что поспать или покушать. Но то не всякий сообразит. Впрочем, в действительности все было вполне возвышенно — постою часок пред голландцами или Матиссом, а более душа и не воспринимает, ощущения притупляются. Тогда я вниз, вниз, тихонько сяду в кресло, умную брошюрку достану — вроде как серьезным делом занят. Ну а под это уже и подремать можно. Когда же ко мне привыкли — как к гипсовой копии «толстого юноши, читающего книгу» — то я потихоньку и бутерброды стал приносить. Ел, можно сказать, из-под полы.
«Некультурным» же отдыхом было традиционное «нашенское» времяпровождение: выпить с друзьями, пообщаться. Правда, в описываемом случае и «друг», и «общение» оказались очень специфическими.
Из двора, где мы жили, через арку есть проход в сквер Академии. Деревья, скамейки, мамаши с колясочками. Решил как-то отдохнуть там на свежем воздухе — начало лета, мягкое тепло… Пригласил Вениамина — соседа, постарше меня возрастом, притом вполне компанейского. Взяли мы несколько бутылок легендарного красного портвейна «777». Настроение отличное.
Когда же у тебя «отличное настроение», невозможно мириться с тем, что ближнему плохо. Нам с Венькой было хорошо. Однако явно плохо было высокому, худому, черному как смоль негру, который присел на пенек невдалеке от нас и с выражением вселенской печали неотрывно следил за нашими манипуляции с бутылками. Конечно, я не мог не пригласить его в компанию.
В качестве отступления поясню: нам, работникам СПКБ, вообще категорически запрещалось общаться с иностранцами. В любой ситуации. На инструктаже в 1-м отделе объясняли — вполне серьезно! — «Если к вам на Невском подойдет иностранец и спросит, как пройти к Зимнему, вы должны сказать ему буквально следующее: «Моя твоя не понимайт», — и быстро удалиться».
Но негр у меня ничего не спрашивал, а только слезно взирал. Он страдал (помните негра из «Особенностей национальной охоты»: «Трубы сушит, понэмаиш?») и выразительной мимикой взывал о помощи. Был ли негр иностранцем, я решил не выяснять — спасать нужно человека! — показал ему на нашу скамейку и сделал приглашающий жест. Тот мгновенно материализовался рядом и потянулся за бутылкой. Я, естественно, дал. Оказалось, страдалец способен, хотя и с трудом, изъясняться по-русски. Жизнь налаживалась…
Подробности этих посиделок пространны и несущественны. Помню фрагменты — несколько походов за новыми порциями «777»-го в винарню на набережной, возле моста Шмидта. Помню, как товарищ негр выстукивал ритм на пеньке, используя его вместо тамтама, и распевал «Катюшу». Пел он красиво, но сам был какой-то странный, жалкий, что ли, и словно пытался компенсировать свою недостаточность энергичными заверениями в «советском патриотизме»: «Социализмус ошень хорошо, капитализмус ошень плехо. У нас капитализмус, ми хотим делат коммунизмус» (кстати, полное вранье — Сенегал никогда и не покушался на вхождение в прогрессивный стан «социализмуса»). Причем, несмотря на нашу скептическую реакцию и заверения, что мы не из КГБ, он продолжал на том настаивать. Ладно.
По ходу дела «активист прогрессивного человечества» представился: Мамаду Сек, в исламской транскрипции — Мохаммед Сек. Сенегалец. Художник, сын художника. Приехал в СССР повышать квалификацию и вот учится в аспирантуре Академии художеств. Живет в общежитии. Мамаду сообщил, что они с отцом расписывали президентский дворец. И что он желает предъявить фотографии сего художественного шедевра. Для чего всем нам следует подняться к нему в комнату (а академическая общага для иностранцев располагалась в том же комплексе зданий). Веньку (хотя он вроде бы и учился на искусствоведа — впоследствии работал заведующим отделом Эрмитажа по приему иностранцев) росписи сенегальского президентиума не заинтересовали, зато он стал настойчиво требовать от Мамаду показать порнуху, коей, по Венькиному пониманию, у иностранца не могло не быть. Вместо порнухи Мамаду показал хранящуюся в бумажнике фотографию чернокожей красотки. Девица, хотя и была запечатлена в состоянии одетом, выглядела очень привлекательно. Дама сия оказалась модной актрисой, сыгравшей героиню популярнейшего тогда в Союзе итальянского фильма «Синьор Робинзон». Актриса, по уверению Мамаду, была его близкой подругой. Вот на встречу с ней он нас и пригласил. Со всей настойчивостью. А для оформления вызова попросил записать наши адреса. Актриса была хороша, и я решил поехать. Но… так и не смог вспомнить своего домашнего адреса (что, похоже, спасло меня от позорной участи «сенегальского шпиона»).
Однако Вениамин продолжал настаивать на просмотре «спецфотографий» (коллекцией каковых он и сам был счастливым обладателем, но хорошего, как говорится, всегда мало). Негр тяжело повздыхал и согласился вести к себе «на порнуху». Видимо, уж очень ему хотелось показать нам фотографии своих росписей и картин. Пошли…
Был какой-то боевой эпизод с вахтершей на проходной общаги, но подробностей его я не помню. Во всяком случае, в номере мы оказались. Там было довольно грязно, неприятно. С Мамаду жил «сокамерник» — высокий, белесый, немцеподобный чех, который к своему соседу относился с явной брезгливостью. После нашего прихода он вскорости куда-то испарился.
Мамаду пригласил перекусить и достал сковороду с холодной и сморщенной яичницей. Мы, несмотря на явную антисанитарию, угощением не побрезговали — «777»-й требовал закуски, при этом сам все и дезинфицировал. Затем была предоставлена пачка фотографий «порнухи», которая на поверку оказалась снимками художеств семейства Сек. Помню нечто монументальное вроде Сикейроса, но с содержательностью Кандинского. Может быть, и неплохо — не могу ничего сказать. Однако Веньке все это почему-то очень не понравилось, он стал ругаться и требовать обещанного. Хозяин номера резко перестал понимать смысл слова «порнуха». Разгорелся жаркий спор, который я наблюдал уже очень отстраненно. Кончилось все, впрочем, видимо, мирно (ибо ни о каких последствиях я не знаю): поутру я проснулся дома, с головной болью, но без повреждений.
По приезде в Николаев жене о знакомстве с Мамаду я не рассказывал — ничего особо примечательного я в этой истории не видел, да и эпизод с сенегальской красавицей мог быть неоднозначно воспринят…
Такова первая часть сей истории. Вторая же произошла через полгода. Алла тогда поехала в Ленинград — навестить подруг и побывать в любимом городе, я же в это время работал в Николаеве. Вернувшись, Алла среди прочего рассказала мне забавную историю.
Жить она остановилась у своей подруги Милки, в микрорайоне за Гаванью. И вот как-то собралась она в гости к Людмиле, причем значительную часть пути по Большому проспекту Васильевского острова решила пройти пешком — благо, погода была прекрасная. Где-то на полпути она стала замечать, что за ней бредет высокий худощавый негр с печальными глазами. При этом «преследователь» все время что-то напевал и замечательно красиво отбивал ритм шлепками ладоней. Так продолжалось на протяжении нескольких кварталов. Затем Алла решила позвонить Людмиле, подтвердить договоренность о встрече. Она зашла в будку телефона-автомата, набрала номер квартиры Гилязовых. Телефон не отвечал, Алла несколько растерялась. И тут через стекло кабинки она опять увидела негра, терпеливо и скромно стоящего неподалеку. Когда Алла повесила трубку, негр подошел и завязал разговор на ломаном русском языке. Объяснил, что он художник, сенегалец, учится в аспирантуре Академии художеств и живет в общежитии на 3-й линии (рядом с домом Людмилы). И что он очень одинок, никто не понимает его художественных исканий, и ему не с кем поговорить, пообщаться. И тут же пригласил Аллу к себе в «нумера» показать свои работы.
Алла, которая сама до брака была слушательницей Академии и нередко страдала от «недопонимаемости», наивно согласилась и отправилась в гости — Людмилы-то все равно дома не было.
Вахтершу они миновали беспрепятственно — оказалось, что женщинам к студентам-иностранцам заходить можно свободно. В комнате никого, кроме гостьи и хозяина, не было. Негр показал фотографии (удивительно, но это была не порнуха, а его работы!), которые на Аллу не произвели никакого впечатления. Довольно быстро она заскучала и собралась уходить. Тут хозяин разволновался. Он попытался удержать гостью, предложил накормить. Достал сковороду с початой яичницей в потеках застывшего жира. Даже грязная вилка была в наличии. Чрезвычайно чистоплотную Аллу, по ее словам, чуть не стошнило — тем более что и сам иностранный гражданин с самого начала вызывал какое-то брезгливое ощущение нечистоты. Алла еще решительней направилась к выходу, и тут товарищ аспирант начал хватать ее за руки, пытаясь остановить силой. Однако Алла, даром что весом никогда (и доныне) не выходила за пределы 50-55 килограммов, в ярости чрезвычайно опасна и неукротима. Так что негр остался ни с чем, то есть с фотографиями и яичницей.
«Вот в такую историю я попала по своей дурости, — завершила рассказ Алла. — Да, звали того негра Мамаду Сек».
Я изумленно молчал. Мда-а-а… Вот оно и есть: «матричность» жизни, сбой программы — подумалось бы, если б к тому времени «Матрица» была уже отснята и просмотрена. А так только и оставалось сказать: «Ну и ну…»
На этом история с Мамаду Секом закончилась; сама по себе она продолжения не имела. Зато из нее проистекли весьма значимые для моей жизни события. Однако начались они не с самого Мамаду — ведь свой адрес ему записать я так и не сумел. А судя по всему, с «искусствоведа в штатском» — заведующего отделом по приему иностранцев в Эрмитаже (слышащий да понимает), друга Венечки. Но это уже совсем другая история…
Прилоги бесовские
И будут улицы все лгать.
Сухих обид зима нашьет.
Ушли все за стеклянный дождь,
И капли путают лицо —
В блестящих улицах травы
Синей и выше не сыскать.
В неофитской юности я запойно читал все подряд, не вникая в своевременность и душеполезность: Лествичника одновременно с Флоренским и с сионскими протоколами и пр. Естественно, много читал о духовой брани, в том числе о помыслах и бесовских прилогах, об Иисусовой молитве и т.п. И очень озадачил тогда меня механизм прилогов; подлинного внутреннего опыта, естественно, не было. Милостив Господь! Видимо, дабы не накуролесил я в духовых экспериментах, вразумил и показал Отец неразумному чаду, как это происходит.
Однажды ночью просыпаюсь от неизвестной причины, внезапно и ясно. Темно, тихо, ничто не отвлекает. И я прекрасно помню все, что мне до этого момента грезилось во сне. Обычно памятование сна стирается за минуты, оттесненное новыми впечатлениями. Но то видение — ясное и четко форматированное — я запомнил на всю жизнь.
Черный фон — словно экран. Посередине экрана возникает черно-белое фотографическое изображение совершенно незнакомого женского лица.
Я — наблюдатель, спокойный и сосредоточенный.
Раздается голос; голос странный — низкий бас с металлом, но словно неживой, как бы смоделированный на компьютере: «Это твоя жена».
Изображение никак не изменилось — я это помню прекрасно визуальной памятью!!! Но я вдруг стал непоколебимо уверен, что на портрете — моя супруга.
Голос: «Это блудная фотография» (в смысле — изобличающая супружескую измену). Фотография по-прежнему не изменилась — портрет неизвестной женщины; даже и сейчас помню черты лица (кстати, не блещущие красотой). Но в душе поднимается горячей волной буря страсти — ревности, обиды, злости. С фотографии спокойно сморят на меня чьи-то глаза, а в душе — торнадо. И ВОТ В ЭТОМ СОСТОЯНИИ Я ПРОСЫПАЮСЬ — В БУРЕ СТРАСТИ! Но — и с ясным памятованием о том, как это произошло.
Прилог бесовский.
Побороть его было вовсе не просто, даже обо всем помня. Жена изумлялась моим огненным взглядам и насупленности. А я со всем возможным напряжением души молился Иисусовой молитвой. И только к концу дня послабело. Так ведь помнил все!
С тех пор я знал цену прилогам…
Дьявол есть лжец и отец лжи (Ин. 8:44).
Милостив Господь наш; благодарим Тебя, Отче!
[10] Кинбурнская коса — полуостров площадью несколько тысяч гектаров в месте впадения в Черное море вод Днепро-Бугского лимана (Между Железным Портом и Очаковом). Из-за труднодоступности (добраться туда можно только катером или джипом) до последнего времени Кинбурн оставался единственным неразрушенным курортным бизнесом уголком северного Причерноморья в своем девственном природном виде. На Кинбурне живут и произрастают десятки эндемиков (растений, встречающихся только в данной местности) и краснокнижных видов флоры и фауны. В птичьем заповеднике гнездятся и обитают розовые пеликаны, северная гага, лебеди и множество других редких птиц. Территория Кинбурна — это сосновые леса, дубовые, березовые и др. рощи, пресные и соленые озера, песчаные кучугуры, цветущие полевыми цветами луга и т.п.
[11] Во второй части книги.
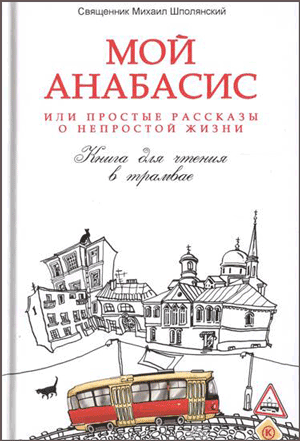
Комментировать