Антиполиглот
Играет клавесин, и свечи воспевают
Янтарный полумрак пустынного дворца;
И тени светлые по лестницам летают,
И видят сон, и мадригал играют
Ночь напролет — с начала до конца.
Вещей старинных красота и тайна…
И в чутких сводах музыка звучит.
Кто забредет сюда случайно, неслучайно —
Останется навек и тихо и печально
Свой танец жизни тайне посвятит…
Часть 1
История эта началась давно — в пору «беззаботного» детства. Впрочем, беззаботным детство бывает только в представлении людей достаточно постаревших.
О мнимости таковой «беззаботности» (вернее, о бессмысленности ностальгии по тому времени) меня как-то даже вразумил Господь. Очень простым образом. Мне приснился сон, словно я — малыш-первоклассник, и сижу на уроке, а домашнего задания не приготовил. Какую-то буковку не выучил. Состояние такое, что и передать невозможно, — страх, растерянность, отчаяние. Невыученная буква стояла предо мной орудием казни, и жить не хотелось… Я ждал неминуемого конца и разрешения этой трагедии не видел: вот сейчас меня вызовут! И в этот момент я проснулся и с чувством огромного облегчения понял: сон. Вздохнул. Все проблемы и коллизии, стоявшие тогда передо мной, по сравнению с невыученной буквой показались совсем мелкими и несущественными. Как хорошо!
После того сна к детским проблемам я стал относиться со всей серьезностью.
А проблем мне с детства хватало. И объективных, и субъективных: изобретенных и наработанных.
К объективным проблемам относился, в числе прочего, кретинизм в отношении музыки и языков. С первой проблемой я, правда, справился, быстро. Когда мне было лет восемь, родители надумали учить меня играть на аккордеоне. В то время каждое лето, от весны до осени, мы жили в поселении на побережье Черного моря — в Скадовске. Это сейчас Скадовск — крупный курорт, а тогда — село, захолустье, но для летнего отдыха очень приятное. Так вот, жилье мы снимали у человека с хорошей украинской фамилией Саранча. Саранча был школьным учителем музыки — благодаря умению играть на аккордеоне. Как было не воспользоваться таким шансом? С Саранчой договорились о моем обучении. И один урок мы провели. Как он прошел, не помню, но, видимо, без крайних эксцессов, ибо время следующего занятия было назначено. Время я отследил точно и, помню, ровно за пять минут до часа «Ч» заперся в уличном туалете-дощатнике. Когда меня нашли, я твердо заявил, что на белый свет выйду только при условии гарантий, что больше никогда такого — уроков музыки — не повторится. Гарантии были даны. Жизнь текла своим чередом…
В школе с музыкой мне, можно сказать, «повезло» (не в добром смысле этого слова). Все годы нашим школьным учителем пения был добрейший Иван Филиппович Д-ко. Иван Филиппович не только не мог организовать учебного процесса, но было непонятно, как он сам-то выживал на этих уроках. Над ним откровенно издевались; жестоко, как умеют дети. Так, иногда вместо пения весь класс начинал тихо, но слаженно мычать с закрытым ртом. Прекратить это, уличить кого-либо было невозможно. Иван Филиппович страдал и пару раз разбивал свой стул о свой же учительский стол — что говорит о его исключительной кротости; естественней было бы запустить стулом в класс.
Кстати, он также был аккордеонистом.
Нужно сказать, что от общения с Иваном Филипповичем в моей памяти остался один странный эпизод. В классе нашем учился совершеннейший балбес, второгодник по фамилии Безбожный. Так вот как-то Иван Филиппович сказал Безбожному, ласково погладив его по кучеряво-смоляной голове: «Вот у тебя фамилия такая хорошая, правильная, а ведешь ты себя плохо…» Видимо, был Иван Филиппович крепкий конформист. Может быть, от того и терпение? Меня же тогда его слова удивили и покоробили — да так, что запомнились на всю жизнь. Это при том, что ни о какой религиозности моей не могло быть и речи; я тогда о таких вопросах вообще не задумывался, а о существовании Церкви просто не знал.
Память об Иване Филипповиче, точнее, о наших издевательствах над ним, долго подспудно точила меня, печалила. Но вот…
В середине 90-х среди наших постоянных прихожан появился молодой человек, Игорь Д., несколько травмированный (у него действительно была черепно-мозговая травма) и путанный. В свое время он был женат, но жена бежала, оставив на него дочку Лидочку. С Лидочкой (тогда ей было годика четыре) Игорь приезжал к нам в церковь на богослужения. После первого причастия девочки произошел забавный эпизод. По окончании службы кое-кто из прихожан, в том числе и Игорь с дочкой, пришли к нам домой; я переоделся в домашний светлый подрясник. Тем временем Игорь уложил Лидусю спать на моей кровати. Но спать она явно не собиралась. Я и говорю: «Лидочка, спи, деточка». Лидочка восклицает, вытаращив в изумлении глаза: «А откуда ты знаешь, как меня зовут?» (после того, как я снял богослужебные облачения, она меня не узнала).
— Я ведь тебя в Церкви причащал.
— Так это был ты? Такой красивый, блестящий, а тут — Айболит какой-то…
И затем Лидуся применила безотказно действовавшее дома оружие — заявила: «Сейчас я буду орать!» Мой ответ был адекватен: «Я тоже буду орать. Громче тебя». И широко открыл рот. Лидуся пискнула, округлила глаза, тут же их закрыла и через минуту тихо спала.
Так вот этот Игорь как-то привез на причастие своего отца. Отец не изменился совершенно — это был Иван Филиппович. Он исповедовался, причастился, и только после службы я отвел его для разговора. Когда он меня вспомнил — Мишенька Шполянский! — радости его не было предела. Так же, как и моей — я от всей души смог перед ним извиниться. Но он только всплескивал руками и изумлялся — зла он не помнил совершенно.
(И как бы я хотел так же извиниться перед Оксаной Болтак — девочкой, над которой мы издевались в классе, и Витей Шевченко, над которым не раз зло шутили в институте!)
Игорь, Иван Филиппович и Лидуся еще много лет ездили к нам в церковь (а Лидуся даже и жила у нас некоторое время), до тех пор, пока епископ не решил, что мне на этом приходе делать нечего.
А петь я так и не научился. Вследствие чего жестоко страдали регент (она была прекрасным профессионалом, выпускницей регентской школы Троице-Сергиевой Лавры) и хористы. Боюсь, и прихожане. Отчасти, может быть, еще и поэтому я всегда стремился добиться того, чтобы в церкви за богослужением пел весь народ. Что иногда получалось, а полностью устроилось со временем — на детских литургиях. Но это совсем другая история.
И вот что парадоксально — при этом музыку я очень любил и люблю. Родители мои, люди очень добрые и разумные, принадлежали к «прослойке» технической интеллигенции и особого музыкального вкуса (тем более после скадовского демарша!) привить мне не могли. Классической музыки я вообще не знал. Однако, когда мне было лет 14, я пришел к такой «глубокой» мысли: «Вот я слушаю «Биттлз» и «Роллинг Стоунз» и никогда не был ни на одном концерте классической музыки. Люди, которые слушают классику, глупее ли меня? Очевидно, нет. Значит, и мне нужно научиться понимать эту музыку». Надумал. Пошел в ближайший магазин грампластинок (это было в Москве) и купил четыре пластинки: «Пер Гюнт» Грига, Вторую и Третью симфонии Чайковского, знаменитые сонаты Бетховена и почему-то Скрябина (которого так никогда и не смог прочувствовать). Через пару лет у меня уже была огромная коллекция классической музыки, несколько сотен пластинок. Слушал я их постоянно и с большой радостью. Хотя, конечно, без систематического образования настоящим знатоком классики стать не мог.
Пластинки я много лет «крутил» на стареньком «Аккорде-моно», а затем, в 1975-м, купил «Аккорд-стерео» — по тем временам «продвинутую» технику. Кстати, вместе с новым «Аккордом» я обрел и жену, у которой тоже был «Аккорд-стерео». Второй в нашей семье.
Однако все это способностей к самостоятельному музицированию мне не прибавило. Хотя какие-то попытки были и бывают до сих пор. Так, я распечатал крупным шрифтом большую папку (в трех экземплярах) самых задушевных песен — от романсов: «Эх, дороги», «Трех танкистов» и пр. до произведений Окуджавы, Бориса Гребенщикова и т.п. За костром народ, бывает, запевает с удовольствием (особенно если утешен бодрящими напитками). Но если к этому подключаюсь и я, то энтузиазм довольно быстро угасает. Певцы закуривают, нервно поеживаясь, один за другим отходят «на минутку»… И не возвращаются…
А пару лет назад нам подарили старенькие аккордеоны, почему-то сразу два. Я обрадовался, заказал самоучитель игры на аккордеоне, несколько раз бодро растянул мехи… Однако, как известно, несколько раз в одну реку не войдешь. Результат был предсказуемым: аккордеоны по-прежнему мирно пылятся в своих фанерных гробах…
Часть 2
А теперь о втором моем врожденном кретинизме. В отношении изучения иностранных языков.
Это мое качество было сокрыто довольно долго. Более того, определенными обстоятельствами закамуфлировано так, что сам я распознал сию свою специфику, только будучи уже вполне взрослым.
Естественно, в раннем детстве это нельзя было проверить никак. Английский в школе изучали тогда только с четвертого класса. Когда же я учился во втором классе, родители пригласили заниматься со мной нашего соседа — милейшего человека и хорошего профессионала-переводчика Бориса Ивановича. Борис Иванович применил передовую методику: у нас в доме появился монструозный аппарат — магнитофон «Днепр-1». Выглядел он как гибрид старинного радиоприемника с таким же старинным комодом; сверху, под подъемной крышкой, крутились огромные бобины с черной, похожей на наждачную бумагу лентой. На ленту Борис Иванович записывал бессмертные образцы английской поэзии, иные из которых помнятся до сих пор: «Кок э дудл ду, кроук дзи кок, дзи бэйби слип, дзи найт из лонг…». То ли я действительно тогда что-то умудрился выучить, то ли родители решили больше ребенка не травмировать и эту тему просто закрыли — не знаю… Во всяком случае, к четвертому классу я знал алфабэт и чем тэйбл отличается от пэнсил. И на том занятия дома прекратились. Эффект это вызвало совершенно неожиданный — в школе учить английский я и не попытался. И так, мол, слишком все хорошо и навсегда знаю. А когда понял, что от класса отстал совершенно безнадежно, было уже поздно. Помню, от изучения «тем» я отделывался рисованием настенных карт Англии и таблиц — это у меня получалось.
В институте все было несколько по-другому. Там знаний разговорного английского и не требовали. Нужны были «тысячи» — переводы технических текстов. А поскольку я живо интересовался военным кораблестроением, из-за чего и так просиживал многие часы за изучением малодоступных «Джейнсов», «Нэвис» и пр., то мне это было в удовольствие. Тут я не отставал.
Однако институт я окончил, английского не зная совершенно, переводить умел только со словарем. К тому времени мой интерес в значительной мере переместился в область истории и литературы античности. Году в 80-м я даже решил поступать на истфак ЛГУ и получать второе образование (помешал этому негр из Судана Мохаммед Сек, но об этом, опять же, иная история — почти фантастическая). Одним из вступительных экзаменов в универ был иняз и я пошел на вечерние курсы английского. Это весьма не понравилось (или понравилось?) внимательным товарищам из КГБ — уж очень красиво вписывалось в образ австралийского шпиона. Что же еще изучать тому, кто планирует сбежать в Австралию, как не австралийский? То бишь английский. В общем, пресекли. Но и за недолгий период посещения курсов я впервые (наконец-то!) с изумлением обнаружил в себе полную неспособность к изучению иностранных языков. Впоследствии неоднократно подтвердившуюся.
Причем эта моя бездарность распространяется не только на такую абстракцию, как язык жителей Британских островов. Оказалось, что я совершенно не способен выучить даже украинский. Хотя и очень хотел бы. Вернее, одна серьезная попытка изучить язык нации, в среде которой я живу, уже была — в конце 80-х. До этого украинский я не только не учил, но почти и не слышал. Николаев, основанный при Екатерине Великой как судостроительная верфь и заселенный перселенцами из России, был исключительно русскоязычным городом. В школе, правда, уроки украинского языка были. Но, во-первых, в школу я вообще ходил не слишком часто, да и, появляясь, украинский не посещал вообще, был освобожден. Поводом к тому было то, что в Николаев наша семья переехала жить из Ленинграда, и это почему-то давало право на освобождение от изучения местного языка. Почему родители пошли на это? Не знаю, русскими националистами-антиукраинцами они никак не были. Думаю, они решили облегчить для меня учебную нагрузку — ведь четверо моих родных братьев умерли от врожденного порока сердца, да и я в четырехлетнем возрасте год пролежал больным в постели. Так что украинского я не знал. Но на волне демократических перемен решил обязательно изучить. Тогда я голосовал за «Рух» — самая радикальная антисовковость представлялась мне единственной правдой. Однако, как учить — не по учебникам же? Соответствующей языковой среды у меня не было. И я придумал отличный выход.
С детства я очень много читал. При этом круг чтения был весьма специфический — в школе я принципиально не читал того, что проходили по программе. Плюшкина, в частности, я ненавидел лютой ненавистью. По негласной договоренности с учительницей литературы (одной из немногих преподававшей нам предмет много лет кряду) я на уроках русского не делал ничего (если бывал), но не безобразничал слишком и не донимал ее вопросами типа: «Какие противозачаточные средства использовала княжна Мери в романе «Война и мир»?» Она же мне в благодарность всегда и за все ставила тройки. Так и жили: без любви, но в согласии. В итоге и «Войну и мир» я прочитал, и Чехова очень любил, и Пушкина, но только — не по программе. А все остальное время запоем и в огромных количествах читал фантастику. Саймак, Брэдбери, Азимов, Лем, Стругацкие, позже Филип Дик, Урсула Ле Гуин и др. были моими любимыми писателями. А вот детективы я не читал. И не потому что так уж принципиально их не любил. Как-то не попадались они мне. Возможно, потому, что, кроме советских милицейских детективов, приобрести, даже по блату, что-то читабельное этого жанра было почти невозможно. Почему-то западную фантастику в СССР печатали более массово (если это можно так назвать), чем детективы. Но вот парадокс: неплохие западные детективы — английские, американские — можно было довольно свободно купить в книжных магазинах — на украинском. Это было остаточным явлением правления на Украине секретаря КПУ Петра Шелеста, пытавшегося создать условия для развития национальной культуры (помню ошарашившие всех николаевцев новоустановленные на магазинах вывески — «Панчохы и шкарпэтки», «Кылымы» и т.п). Ход, нужно сказать, был неглупый — любителей почитать хороший детектив всегда было немало, так что «близкородственный» язык волей-неволей выучивали.
Вот и я решил выучить — тем же путем. Купил томик английского детектива на украинском языке. Прекрасно сознавая, что в чтиве такого рода вникать во все нюансы вовсе не обязательно — убийца на предпоследней странице объявится неизбежно, — читал я, не напрягаясь, скользя по смыслу, что-то понимая, что-то нет, но в целом сюжет отслеживая. И по ходу дела как-то запоминая слова. В общем, первую книгу на украинском я кое-как прочитал и остался тем весьма доволен. Купил вторую. Содержания уж и не помню, какой-то детективный роман. Читая его, я все путался в кылымах, краватках и капелюхах. Но это как раз не беда. Проблемой оказалось то, что издана вторая книга была во Львове и переведена на галицийский диалект украинского языка — со всей его специфичностью терминов и построения фраз. Вот тут я действительно продирался как сквозь джунгли, иногда даже спрашивая знатоков о значении слов (и не всегда получая ответ). Но в чтении я отличался упорством, иногда до упрямства, и потому проштудировал галицийский роман от корки до корки. И вздохнул с облегчением и удовлетворением. По опыту чтения Рабиновича (об этом еще одна история — далее) я был уверен — потом будет намного проще.
Так и оказалось. Купленная мною третья книга — толстый том американского детектива: три повести Микки Спиллейна и еще кого-то — читалась замечательно легко. Я был в восторге — языковая крепость была мною покорена, и я просто, без всяких мучений, получал удовольствие от захватывающего чтива. И только дочитав до последней страницы и по привычке заглянув в выходные данные книги, я с изумлением обнаружил — «издание на русском языке»…
Разочарование мое было велико. С тех пор я прекратил попытки читать детективы на украинском. Но в итоге стал читать их на русском. Благо (или «не благо»?), в перестройку их начали издавать массово.
Правда, была у меня еще одна попытка освоить государственный язык — пробовал говорить в церкви проповеди на украинском. Точнее, читать. Первые годы проповеди я именно читал. И стал тогда для чтения подбирать тексты из толстой подшивки «Православного вестника» — ежемесячника Украинского экзархата, тогда еще филаретовского. Читал я их довольно долго, а пресеклось это просьбой одной нашей прихожанки, милой и доброй Ани из Козырки. Как-то после службы Аня подошла к матушке и, извинившись десять раз, сказала следующее: «Матушенька, простите меня, но не могли бы вы попросить батюшку читать проповеди по-русски? Я сама из Львова, украинка, очень люблю украинский язык, но так, как батюшка читает, я слушать не могу…» Естественно, в последующие годы служения проповеди говорил я уже только по-русски…
Впрочем, и доныне я пытаюсь освоить разговорный украинский язык. Получается смешно, но я не унываю: главное, что искренне.
Часть 3
И последнее — о Рабиновиче. Не о том, который из анекдотов, а о профессоре Вадиме Рабиновиче. По правде говоря, знаю о нем я совсем мало. А когда читал его книгу «Алхимия как феномен средневековой культуры», то не знал вообще ничего. Книгу я купил, тогда только что изданную, в букинистическом (и это знаменательно). Привлекла она меня как темой, так и прекрасной полиграфией. В те времена книги вообще издавались добротно, а некоторые академические издания — просто прекрасно, без экономии денег. «Алхимия» была увеличенного по сравнению со стандартным формата; напечатана на плотной мелованной бумаге, с большим количеством иллюстраций — в основном фрагментов рисунков из средневековых рукописей и старопечатных книг. Принеся книгу домой, сразу засел за ее чтение. Однако, осилив несколько страниц, убедился, что практически ничего не понял. Это меня удивило — в то время я читал многих античных и средневековых авторов: Платона, Лаэрция, Фукидида, Пселла и др., а также исторические монографии ученых нового времени. И проблем с пониманием у меня не возникало. А тут — ну ничего… Я попытался медленно вчитаться и осознал, что проблема в чрезвычайной насыщенности (перенасыщенности) текста специальными терминами, причем не относящимися специфически к теме монографии, а просто по принципу: «в простоте слова не сказать». Везде, где была хоть какая-то возможность, автор в противоположность известному литературному герою Сологодину использовал иностранные слова, специальные термины, иногда такие, которых не было ни в словаре иностранных слов, ни в философской энциклопедии. Как правило, в каждой фразе присутствовало минимум два-три таких термина, иногда вставленных туда совершенно искусственно. Так, например, если требовалось сказать «вещество определялось на ощупь», писалось: «субстанция идентифицировалась тактильно» и т.д.
Наверное, можно было бы такое чтение и бросить — не так уж животрепещуща была тема. Однако в ту пору я отличался — как уже упоминал — изрядным упорством, даже упрямством. Книги, которые начинал читать, дочитывал до конца принципиально. И что делать? Я завел себе «словарь языка Рабиновича» — взял большой телефонный блокнот с алфавитом и стал выписывать в него все непонятные термины, расшифровывая их при помощи различных словарей. За день у меня была норма — прочитать две страницы и расшифровать их «темные места». Естественно, по мере чтения и заполнения блокнота таких мест становилось все меньше. Где-то уже с середины книги я читал, почти не выписывая слов и не заглядывая в словарь. И в конце концов, кажется, что-то итоговое из прочитанного понял. Правда, сейчас уже и не помню что — во всяком случае, итог чтения показался мне совершенно несоразмерен затраченным усилиям.
Однако, как оказалось, эти усилия оправдали себя по-другому. Когда после Рабиновича я брался читать какую-либо сложную книгу — то ли Ареопагита, то ли Николая Кузанского, то ли Флоренского или Лосева, — все тексты казались мне очень простыми, понятными. Так что Рабиновичу я благодарен на всю жизнь.
Но это еще не все. Несколько лет назад оказалось, что у нас с Вадимом Рабиновичем есть общий знакомый — николаево-московский писатель Михаил Б. Как-то я рассказал ему о словаре Рабиновича и даже показал блокнот. Миша же, в свою очередь, повстречав Рабиновича на каком-то форуме в Москве, пересказал ему эту историю. По его словам, профессор пришел в состояние большого воодушевления и сказал: «Наконец-то нашелся человек, который, кроме меня, прочитал эту книгу! Теперь нас двое». А услышав про словарь, обрадовался еще больше и сообщил, что и ему такой словарь очень нужен — для него самого и для студентов. И в конце концов попросил узнать — не смогу ли я сделать ему копию?
Копию я так и не сделал — возможно, потому, что Мишу сейчас вижу совсем редко. А словарь как особо ценное наследство передал своим сыновьям.
«Время собирать и время разбрасывать камни». Сейчас, когда я читаю серьезный текст, мне хочется просто спать… И изучать иностранные языки уже не тянет. Со своим лингвистическим кретинизмом я — антиполиглот — уже смирился.
Впрочем, один раз я блеснул-таки знанием английского — во время поездки в Испанию. Однако это тоже совсем другая история…
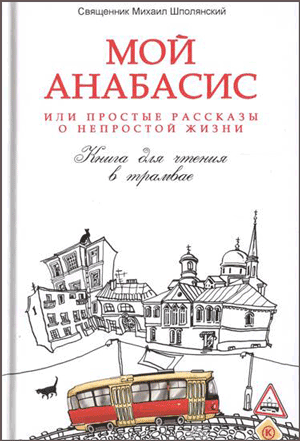
Комментировать