Март
Введенский Алексей Иванович, проф. // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3 с. С. 1 (1-я пагин.)
Могила проф. Введенского А.И. (С. 2) // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3. С. 2 (1-я пагин.)
Глаголев С.С. Проф. А.И. Введенский (23 февраля 1913 г.): (Некролог) // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3 с. с. 1–63 (2-я пагин.)
—1—
Московскую духовную академию постигла тяжелая утрата. Преждевременно сошел в могилу ее талантливый профессор философии А.И. Введенский, двадцатипятилетний юбилей деятельности которого академия праздновала лишь год назад. Но хотя проф. Введенский сошел в могилу в том возрасте, на который в большинстве случаев падает расцвет научной деятельности, он в пределе земном успел уже совершить много больше, чем обыкновенно делает ученый. Московская духовная академия дала России теистическую философию, смею думать, создала теистическую философскую школу в России. Ф.А. Голубинский считается основателем этой философии на Руси, В.Д. Кудрявцев является его продолжателем, А.И. Введенский представляется мне завершителем их дела для первого столетия существования академии.
В прошедшем году приветствуя А.И. с двадцатипятилетием его научной деятельности, я сравнил Московскую духовную академию со средневековой школой Сен-Виктора в Париже, после этого я получил одно анонимное письмо, в котором «бывший питомец академии», благоразумно не назвавший своего имени, высказывал мне негодование по поводу моей речи. Бог ему судья! Но теперь, считая своей обязанностью выяснить образ и научную физиономию нашего почившего философа, я вижу себя принужденным снова обратиться к своей прошлогодней речи и вспомнить о сен-викторской школе, с которой, мне представляется,
—2—
московская академия стоит, хотя, может быть, и не в прямой и непосредственной, но в несомненной связи.
Феодор Алек-ч, Виктор Д-ч и Алексей Иван-ч в своей философии все возводили к Богу, но чтобы находить объяснение всего в Боге, нужно знать Его. А как узнать и познать Бога? Гюго Виктор учил так. У нас есть три органа познания, три глаза: oculus carnis, oculus rationis, oculus contemplationis. Плотской глаз познает природу, глазом разума мы познаем самих себя, глазу созерцания открывается Божество. Вот этот глаз созерцания и был руководителем всех московских профессоров в их изысканиях. Ф.А. Г-кий и философию определял как любовь к мудрости, но не как мудрость. Мудрость, по его взгляду, дается религией, верой. Философия, это – притвор; богословие – это храм. В.Д. Кудрявцев развил подробно теорию, выдвинутую уже Ф. А-чем, что у нас есть особый орган для познания Божества. Мне неоднократно пришлось слышать утверждение в категорической форме того, что В. Д-ч повторил в своей теории взгляды Якоби. Это ошибочно. Якоби признавал существование у человека особого органа для восприятия воздействия Божества, но он отрицал положительную религию и не допускал мысли о поврежденности нашего органа Богопознания. Вера в положительное христианство и сознание того, что наш oсulus contemplationis глубоко поврежден падением, утверждались в сен-викторской школе. Решительно и прямо они утверждались и в московской духовной академии. У Алекс. Иван-ча не выдвигается на первый план, как у его предшественников, теория органа созерцания, но легко можно видеть, что за всеми его философскими изысканиями, равно как и за его философией оценки, стоит созерцающая вера и, руководясь ею, он стойко и твердо исследовал и разбирал самые мутные и самые антирелигиозные учения.
Алексей Иванович родился в Серпухове 14 мая 1861 г. Отец его тогда был там дьяконом. В доме о. диакона царили обычные владыки большинства домов духовенства – религиозность и бедность. Первая делала то, что сила вто-
—3—
рой направлялась ко благу, а не ко злу. В глубокой религиозной вере был воспитан Алексей Ив., как и вся его семья. Кто знает Введенских, тот знает, что основой и руководительным началом жизни для всех них является православное учение. С молоком матери они всасывали православную веру, и эта, вера укреплялась в наставлениях отца. А при религиозной вере не страшна никакая бедность. Напротив, она сама являлась могучим воспитательным средством, она научала терпению и твердости. Беды временны и преходящи, Бог все направляет ко благу. Нужно только ждать и надеяться. И Алексей Ив. вынес из родной семьи глубокую религиозность, терпеливость и стойкость. Затем отец его получил место священника в селе Городках, Волоколамского уезда. А маленький Алеша поступил в Волоколамское духовное училище. Городки от Волоколамска находятся в 40 верстах, рейсы между Городками и Волоколамском маленький духовник нередко совершал пешком. Из Волоколамского духовного училища он перебрался в Вифанскую духовную семинарию, а из нее – в Московскую Духовную академию. Я иступил в академию, когда Алексей Ив. был на 4-м курсе. Помню, мне указали на него, как на прекрасного знатока новых языков. Он тогда уже выступал в печати. Знаю, что в досаде он давал уроки. Кандидатское сочинение он писал по Введению в богословие Ив. И. Яхонтову, но Яхонтов умер, и рецензировал его сочинение доцент по истории философии М.А. Остроумов. Сочинение Алексея Ив. привело М.А. Остроумова в восхищение.
По окончании курса Алексей Ив. был назначен преподавателем латинского языка в Вологодскую духовную семинарию (25 августа 1886 г.). Но пробыл он там недолго. М.А. Остроумов перешел из академии на церковное право в Харьковский университет. А на историю философии советом был избран Алексей Ив. Уже на своих пробных лекциях (1. о религиозной философии Гартмана. 2. Отношение Ланге к вопросу о познании) он обратил на себя внимание красивой дикцией, изящным стилем и
—4—
меткостью критических замечаний. После его вступительной лекции (о целях изучения истории философии) студенты проводили его шумными аплодисментами. Мне врезались в память и его пробные, и его вступительные лекции, на которых я присутствовал. Очень скоро Алексей Ив. стал в глазах студентов авторитетным преподавателем. Его первый капитальный труд «Вера в Бога, ее происхождение и основания» оправдал и надежды на него его учителей и веру в него его учеников. В этой своей магистерской диссертации он впервые познакомил русское общество со всеми разнообразными течениями философской мысли по вопросу о происхождения религии. До этих пор единственным источником познания в этой области была книга В.Д. Кудрявцева «Религия, ее сущность и происхождение», стоящая в своей исторической части более, чем в сильной зависимости от книги Пфлейдерера Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte. Работал Алексей Ив. не покладая рук, и работал он и как ученый-теоретик и как христианин-практик. Рядом с трактатами о Сократе, Анаксимандре, Декарте он писал: «чистое око», «о послушании св. церкви», «путь жизни», «правда жизни». В этих последних произведениях он выступал своим внутренним существом, раскрывая свои интимнейшие идеалы и верования. Обращаться с этими верованиями ко всем часто значит – метать бисер туда, где сделают из него неподобающее употребление. Алексей Ив. знал это и знал, к какой публике и с чем нужно обращаться. С учеными он стоял исключительно на научной почве, но он имел дело еще с иными людьми, с братьями по вере, и с ними он говорил языком сердца и веры. Замечательно использовал он год заграничной командировки – 1891–1892. Он уловил существо немецкого и французского настроения, понял дух и стремления их философских школ и дал книгу «Философия в современной Германии и Франции». В только что вышедшем философском словаре Э.Л. Радлова (М., 1913). Этот труд его называется главным. Этот труд его, без сомнения, очень ценный, но он гораздо больше высказался и сказал в своих маги-
—5—
стерской и докторской диссертациях, чем в этом труде. Уже во время своего пребывания заграницей в 91/92 гг. Алексей Ив. задумал представить на доктора работу по истории религии, с этой целью он хотел тогда заняться санскритом. Но обстоятельства отвлекли его от этой работы. Он стал постоянным газетным сотрудником. Это имело и выгодную, и невыгодную сторону. Участие в газете расширило его горизонт, он стал специально заниматься литературой и вместе с тем ознакомился с различными течениями общественной мысли. То и другое давало ему богатый материал для философских обобщений и построений. Но, с другой стороны, у него значительно сократилось время для работы над специальными монографиями. Только в 1902 году он, наконец, выпустил давно ожидавшуюся мной докторскую диссертацию «Религиозное сознание язычества. Т. 1. Религии Индии». Могу сказать, что это – единственная диссертация по истории религий, которая читается с истинным наслаждением и чтение которой приносит бесспорную пользу. От времени до времени я давал для кандидатских сочинений темы по истории религий. Кандидатские работы были еще ничего себе. Но мне приходилось читать сочинения в этой области и на высшие ученые степени. В прошлом году читал я и докторскую диссертацию. Я присуждал степени всем, имея в виду трудолюбие авторов и новизну предмета. Но признаюсь, эти quasi-ученые диссертации поражали меня своей бестолковостью и совершенным непониманием авторами того, о чем они писали (вернее: списывали). Это особенно ярко выражалось в их своеобразных опытах самовосхваления и самозащиты. Последние могут служить полезным материалом для практических занятий как образчики логических несообразностей в богословских рассуждениях. Весьма вероятно, что эти авторы могли бы написать что-нибудь и полезное по Св. Писанию или церковной истории, но ясно, что они совершенно не могли овладеть предметом, не преподававшимся в академии. Между тем над своими несчастными фолиантами они сидели целые годы. Алексей Ив. преподавал философию,
—6—
но чутко понимая связь всех философский систем с религиозными учениями, он совершил поучительную экскурсию в область истории религий и дал труд, о котором я в свое время отозвался как о таком, который бы сделал честь и западной науке. В религии он искал душу создавшего ее народа, и именно – лучшие струны и чаяния этой души, и в своем капитальном труде он дал много для понимания загадочной души индуса.
В последнее десятилетие своей трудовой жизни Алексей Иванович делил свои занятия, главным образом, между философией и литературой. В сущности, он сам был поэтом-философом. В его философских трактатах много поэтического, а его исследования в области поэзии характеризуются философским духом. Он писал и о русских, и о западных представителях литературы. Было бы в высшей степени желательно, чтобы его критические этюды вышли особым изданием. По философии он, кажется, приготовил к печати «Введение в философию». Я знаю, что об издании этой книги у него был разговор с одним издателем, и мне он говорил, что собирается печатать своп курс. Но кроме философии и литературы
«…На все отзывался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа…»
Он писал и о русско-японской войне, и о социализме, о переломе в общественном сознании и о воскресении в теле. Все важное и значительное приковывало к себе его внимание, и по поводу всего он вырабатывал свои взгляды и высказывал свои суждения.
Так текла его рабочая жизнь. Жизнь профессора с внешней стороны всегда будет представляться монотонной и однообразной. Все одно и то же. Вчера и ныне человек сидит за одним и тем же рабочим столом, и жизнь его течет как бы по шаблонному трафарету. Но это только видимость. Профессор по существу есть вечный студент. Он всю жизнь учится. Каждый день, каждая книжная почта приносит ему новые знания. За одним и тем же столом перед одними и теми же окнами все сидит он, но видит он все новое и новое; перед ним, как перед каким-либо
—7—
странником по земному шару, постоянно открываются новые и новые горизонты. Алексей Ив. учил, когда еще был, студентом, и учился, когда уже был профессором, учился до самой могилы. Но эта могила!? Никто не мог подозревать ее близости. Все говорило за долгожизненность почившего. Наследственность: его отец умер на 60, мать – на 74 году. Говорила за него его собственная фигура. Высокий, прекрасно сложенный, полный, со свежим здоровым лицом, он своим видом говорил о разумной и трудовой жизни. Но к нему неслышными шагами подкрадывалась смерть.
Были у него недуги. Лечился он водами и на Кавказе, и заграницей. Но это были недуги несерьезные, никому и ничему не мешавшие. Покойный работал, не обращая на них внимания. А между тем в это время, незаметно и не давая себя чувствовать, развивался его смертельный недуг. Серьезное недомогание почувствовал он в октябре 1912 года, а 28 октября внезапно произошел сильный пароксизм, после которого Алексей Ив. был увезен в больницу, и его квартира уже не видела его больше живым. По внешности ничто еще не предвещало близкого конца, но то, что не видно было другим, должно быть видно было больному. Все говорит за то, что он предчувствовал смерть. На своем юбилее он говорил о могиле. Книжка о его юбилее, полученная мной от него, облечена в траурный муаровый переплет. Когда Алексея Ив. отвозили в больницу, он сделал распоряжения, которые на нашем языке называются предсмертными. Он немедленно стал приготовляться к смерти. Для остающихся живых он устраивал их дела, сам исповедовался, причащался, 21-го ноября принял таинство Елеосвящения. Многие посещали больного, почитатели и почитательницы, родные и знакомые. Бывал и я у него, и особенно последнее наше свидание врезалось мне в память и никогда оно не изгладится из нее.
Наступал сумрачный зимний вечер. Было мрачно в мрачном номере старой больницы. Вокруг царила тишина. Мы сидели вдвоем, потом ослабевший Алексей Ив. прилег. Мы говорили о прошлом, и явно перед нами пред-
—8—
стали воспоминания обо всех недоразумениях и столкновениях между нами на протяжении двадцатилетней совместной службы, и высказали мы, что поздно мы узнали друг друга. Это свидание было последним; с двойным чувством я уходил с него: с чувством облегчения, как будто я покаялся и получил отпущение, и с чувством тоски, что все это совершилось слишком поздно.
И уходя, я думал о больном. Я видел его и в счастливые, и в тяжелые минуты его жизни. Я видел, как его пытались подвергнуть лицеприятному человеческому суду, он оставался спокойным и твердым и всячески потом содействовал благополучию одного из тех, кто шел против него и которому потом самому пришлось пострадать. Стоек и тверд был почивший. Но мне показалось, что еще спокойнее и увереннее стоял он перед лицом смерти. Он знал, что там его ждет праведный суд Божий, а не человеческий лицеприятный суд.
Болезнь его была страшно мучительной. Четыре месяца провел он в ужасных страданиях и тихо скончался 20 февраля текущего года.
Тело Алексея Ивановича было перевезено в его квартиру. Достоинства человека лучше всего открываются в отношениях к нему людей после смерти. На смерть его откликнулась печать. К его гробу приходило молиться бесчисленное количество людей – ведомых и неведомых, и, особенно трогательны и поучительны эти неведомые люди, молившиеся и плакавшие около его бездыханного тела. Их ведь нельзя заподозрить в каких-нибудь расчетах и задних умыслах, тихо и незаметно они приходили и уходили. Видно, почивший посеял в них семена добра, и эти семена дали добрые исходы. Поучительным представляется мне, что в одной газете – именно в «Столичной Молве», № 293 – непосредственно после его кончины был напечатан пасквиль по его адресу. Какой-то неведомый автор, может быть, «бывший питомец академии» в то время, как тело почившего еще не было засыпано землей, усердно старался облить его грязью. Не нужно объяснять, что так поступить по отношению к кому бы то ни было может лишь дурной
—9—
человек. Мне послышался в этой статье торжествующий крик дикаря, радующегося, что умер тот, кто противодействовал его злым и низменным инстинктам. Это – ликующий рев Терзита у бездыханного тела Патрокла. И этот крик злого торжества над еще неостывшим трупом свидетельствует, что умер хороший человек.
Но к этому дикому вою, кажется, не пристал никакой хор.
В «Московских Ведомостях» (№ 48) об Алексее Ивановиче писали следующее:
«Тяжело провожать в могилу человека, с которым связывают долгие годы взаимообщения, взаимопонимания и совместной работы на одном общем деле. Но, говоря последнее «прости» Алексею Ивановичу Введенскому, мы испытываем тем большую тяжесть, что знаем его незаменимость не только для «Московских Ведомостей», но и для того русского дела, которому мы совместно служили.
Почивший принадлежал к тем людям, которые развивают и отстаивают русские основы во всеоружии развитой мысли, в обладании всем научным знанием, всей культурностью, которые необходимы для того, чтобы вполне сознавать высоту наших идеалов и дела, нами отстаиваемого. Таких людей в настоящее время немного. Им трудно вырабатываться в эпоху господства разгулявшейся улицы, когда все решают не ум и знания, не чуткая совесть, а зычный крик и крепкий кулак. Тот небольшой слой избранных по выработке людей, к которым принадлежит Алексей Иванович, почти не пополняется, и каждый, выбывший из строя, остается незаменим.
Но покойный обладал не только высокой выработкой: он еще труднее заменим по личным огромным способностям, глубоким и разнообразным, по редкой трудоспособности, по всему тому сочетанию духовных свойств, которые дали ему возможность явиться первоклассным публицистом, соединяющим в себе ученого, критика и проповедника. В этом отношении «Московские Ведомости» могут гордиться тем, что именно благодаря сотрудничеству с ними А.И. Введенский получил широкую возможность
—10—
и побуждения так разносторонне развить данное ему от Бога богатое содержание сил.
В средине 90-х годов он был еще совсем молодым ученым, подававшим блестящие надежды. Посланный Московской академией за границу, он изложил свои впечатления и наблюдения в живой и интересной работе «Западная действительность и русские идеалы». Эта работа возбудила внимание редакции «Московских Ведомостей», и с 1897 года Алексей Иванович стал постоянным сотрудником газеты. Это совершилось тем легче, что многогранность духовного содержания уже давно повлекла молодого ученого, кроме непосредственной его специальности – философии, – в область литературы и соприкасающегося с ней драматического искусства. Литературу он изучал уже давно, а к концу жизни стал в ней редким специалистом. Хорошо изучил он и театр. Занятия литературой расширили область его чтения и на историю вообще. С этим оружием он скоро выработался в выдающегося публициста.
Ныне под публицистикой понимают больше участие в мелкой борьбе партий, в прикладной политике. Не в этом смысле мы называем А.И. Введенского публицистом. Крепко стоя за русские идеалы, за русский исторический строй, он в текущую политику не любил вмешиваться. Он был созданием того времени, когда понимали, что ценность политики всецело зависит от уровня культурного развития общества. Быть преданными великому идеалу, уметь стоять за него, понимать способы его осуществления в жизни – могут лишь люди развитые, и это особенно относится к нашим историческим идеалам, которым приходится выдерживать такую страшную борьбу за существование. Тут одно «направление» не поможет: нужны знание, развитость, культурность. Посему-то величайшая задача истинного публициста состоит не в партийной борьбе, не в отстаивании мелких мер текущего дня, а в выработке умов. В этом-то смысле А.И. Введенский и создал себе своеобразное выдающееся положение публициста.
Мы не касаемся его деятельности как профессора, как
—11—
ученого. Говорим о публицисте, о писателе, вырабатывавшем умы и миросозерцание общества. Философ по специальности, человек с большим художественным чутьем, он в области критики философской и художественной никогда не переставал быть наблюдателем русской души, русской совести. В художестве слова перед ним раскрывалась русская история, русская общественность, борющиеся настроения и создаваемые им идеи и практика, все запросы русской жизни. Их освещение перед читателями производилось у него с глубоким, тонким анализом и с огромной эрудицией, поражающей в наше время. Нам нет надобности напоминать читателям особенности его манеры писать. Они никогда не соблазнялся внешними приманками легкого слога. Он старался быть понятен и был понятен в самых сложных вопросах. Но он требовал, чтобы и читатель стоял на высоте этих вопросов по своему вниманию к ним. Он оставался всегда публицистом-профессором, хотя, где нужно, давал яркие образы излагаемого, критикуемого и защищаемого.
Обращаясь постоянно к сложной области жизни и не спускаясь до мелкой политики, но освещая ее вопросы анализом создающих ее идей, доводя сознание читателя до тех основ, которых голос только и способен оправдывать или осуждать частные проявления общественной и политической жизни, А.И. Введенский делал в наше бедное и бесплодное время, быть может, наиважнейшее дело – хранил в обществе священный огонь высокого развития для лучшего будущего.
Эпоха 80–90-х годов, которая, казалось, ставила Россию на дорогу сознательного осуществления своих исторических идеалов, была очень скоро подорвана пыльными вихрями псевдоосвободительства, вторжением полуграмотного якобинизма в область, где решение может принадлежать умам лишь высшим, избранным. Эта буря, как вторжение варваров, подорвала у нас множество культурных очагов, задержала и почти прекратила развитие общества. Тяжело работать в такое время, но А.И. Введенский умел и завоевать себе внимание лучшей части общества, и,
—12—
умирая, оставить по себе богатое наследие мысли, которое не исчезнет с ним, а будет и после его смерти развивать умы, готовя их к лучшему будущему, когда эпоха варваров сменится эпохой возрождения.
Богатое наследие культурно развитой мысли оставлено им и как профессором в умах целого ряда поколений его слушателей студентов. Заложенное в их души, конечно, созревает в них под влиянием умственного и житейского опыта, и скажется в свое время в продолжателях его дела. Но он и как публицист оставил огромное литературное наследие, которое будет поддерживать дело его жизни в умах множества читателей, освещая для них и наше время с его борьбой исправлений, и будущее – с его светлыми надеждами. Он ушел от нас в лучший мир, но его наследие остается с русским обществом, с деятелями Православной Церкви, с деятелями возрождения русской мысли, с деятелями осуществления Русским народом его духовного содержания, ныне придавленного мелкой политической борьбой.
Он сам сходит в могилу, но труд его жизни остается с Россией, будет продолжать действовать, и когда наступит время возрождения русской культуры, она занесет его в свои исторические скрижали, как одного из крупнейших деятелей, подготовивших возможность этого возрождения».
В «Голосе Москвы» (№ 53) г. Нолин писал:
– Смерть профессора Московской духовной академии А.И. Введенского должна повергнуть в глубокую печаль многочисленных почитателей и учеников покойного. Он угас так неожиданно и рано, всего лишь 50 лет, в полном блеске своих дарований, не успев закончить многих начатых и задуманных трудов.
Глубокий и разносторонне образованный философ, отличавшийся редкой начитанностью и вместе с тем недюжинной оригинальностью и самостоятельностью мысли, А.И. Введенский не довел до конца ни своей философской истории естественных религий, ни системы теистического миропонимания (из первой вышел только один том о рели-
—13—
гиях Индии, из второй – один выпуск о законе причинности и реальности внешнего мира). В его многочисленных статьях дано, однако, немало отдельных этюдов для построения этого теистического мировоззрения, и общие принципы и методы этой философской работы были намечены с достаточной отчетливостью и ясностью. В своих научных и литературных трудах он являлся искренним исповедником христианской философии, церковных идеалов живого религиозного опыта православной мистики... Оправдание веры разумом стало его призванием, которое он блестяще и выполнял в лекциях, в ученых трудах и в публицистических статьях.
Чрезвычайно работоспособный, покойный был широко осведомлен в философской и общей литературе, а в двукратной заграничной командировке отлично ознакомился и с трудами и лекциями многочисленных философов Германии и Франции, и с умственными течениями Запада, дав в своей книге «Современное состояние философии в Германии и Франции» блестящий очерк философского творчества Запада. Но он не уставал обращать внимание на то, что русская философия должна по преимуществу интересоваться вопросами и проблемами «ценности» жизни и бытия, выдвигать практические вопросы религии и морали и давать жизненное их разрешение. Философское осмысление личной и общественной жизни, признание за ней нравственной и религиозной ценности, раскрытие христианского учения и опыта, как идеала истинной жизни – вот основные темы его философской проповеди, его «аксиологии».
Проповедником этой теистической и моральной философии покойный А.И. являлся и в своей публицистической деятельности. Эта последняя отнимала у него немало энергии и времени с тех пор, как он сделался (с 1897 г.) постоянным виднейшим сотрудником «Московских Ведомостей» (псевдоним А. Басаргин). Участие в этом органе не было, по-видимому, выражением полного согласия покойного философа с политической и общественной программой этой газеты, и в своих статьях, посвященных по большей части вопросам религии, философии и литера-
—14—
турной критики, А.И. не имел в виду пропагандировать и защищать партийные лозунги, а просто пользовался гостеприимством этого органа для популяризации своих философско-религиозных воззрений, консервативный характер которых, естественно, сближал его с эпигонами славянофильства и русскими националистами.
Необходимо отметить, во всяком случай, что эта публицистика была лишена узкой партийности, была философски объективна по содержанию и философски терпима по тону, т. е. отличалась теми качествами, которые далеко не всегда были присущи А.И. в личных отношениях и общественной службе.
Поскольку и в личном характере, и в служебной деятельности покойного проявлялась опять-таки эта философская убежденность и нравственная непоколебимость (а случаев к исповеданию своей веры у А.И. представлялось не мало, особенно в пору освободительных движений), постольку и личный его нравственный облик способны были порой привлекать глубокие симпатии, и если он еще не успел явить в себе полный и законченный тип христианского мудреца, то виной этого была ранняя смерть, в своих же исканиях и мистических порывах, в своей философской и преподавательской работе он искренне стремился к тому, чтобы быть «философом-христианином».
В статье г. Нолина позволительно остановиться на его намеке, что будто бы Алексей Иванович не всегда отличался терпимостью «в личных отношениях и общественной службе». По всей вероятности, автор почерпнул эти сведения из какого-нибудь мутного источника, но весьма возможно, что вместе с этим автором руководят широко распространенные у нас и совершенно неверные взгляды на терпимость. Алексей Иванович относился с терпимостью к атеистам, пантеистам, пессимистам. Я думаю, что иначе к ним и не должно относиться. Если мы не умеем их переубедить, мы не имеем права на них сердиться. Мы должны их выслушать и попросить, чтобы они выслушали нас.
Но есть среди свободомыслящих особенный сорт людей,
—15—
относиться к которым, с рекомендуемой г. Нолиным терпимостью, значит – совершать преступление. Пусть представит себе наш автор, что я – православный по убеждениям, приняв вид католика, занял бы кафедру в католической академии и там во имя свободы науки стал бы перед слушателями опровергать догматы непогрешимости, Filioque и др. Или что под видом магометанина я бы проник в магометанскую школу и стал бы доказывать, что Магомет – не пророк. Я думаю, что так могут поступать только бесчестные люди, и что так могут поступать только не признающие и не желающее знать ни чьей свободы, кроме своей. Ведь требование безусловной свободы науки в православных, католических, буддистских или иных школах есть запрещение религиозным ассоциациям устраивать школы, преподавание в которых освещалось бы и руководилось их религиозными верованиями. Я уважаю Милля и Спенсера, не смотря на их неправославные взгляды; мне очень нравились и я был в дружественных отношениях с теперь покойными Альбером и Жаном Ревилями, религиозные взгляды которых я считаю совершенно неприемлемыми. Но ведь эти люди не получали жалованья, наград и чинов от Св. Синода. Но что сказать о тех, которые «христианские овцы волною покрываются», получают все права и преимущества от православной церкви, и стремятся дискредитировать ее и ее учение. Что скажет г. Нолин о солдатах и офицерах, которые поступают в армию не с тем, чтобы служить ее интересам, а с тем, чтобы по возможности ее обессилить. Для таких людей по законам всех государств одна награда – виселица. Могу уверить г. Нолина, что Алексей Иванович никогда и не помышлял ни о чем, подобном виселице, но во имя свободы, которую он уважал несравненно больше, чем его противники, он признавал за православными (и то лишь теоретически) право исключать из своей среды лиц, враждебных православию.
О личности Алексея Ивановича еще скажут люди, знавшие его лично и близко. Без сомнения о нем будут высказываться различные мнения. Но без сомнения также
—16—
окажется много людей, для которых он много сделал. И я отрицаю, чтобы нашелся кто-либо, кто бы мог доказать (сказать все можно), что покойным по отношению к нему допущена сознательная несправедливость. А затем для общества, прежде всего, важны даже не личность, а то, что сделано личностью – ее дела. Дела Алексея Ивановича это – его печатные труды. Судить о них предоставляется возможность каждому. О них еще много должна сказать и, несомненно, скажет печать. И не летучая газетная печать: о нем будут говорить и в журналах, и в отдельных изданиях. Еще дело Алексея Ивановича это – его лекции. Но того, что он был блестящим лектором, что аудитория его всегда была полной, этого не посмеют отрицать и его враги.
А враги всегда будут у всякого, кто искренне, горячо и прямолинейно служит какому-либо делу. Врагов не имеют или, по крайней мере, имеют мало только оппортунисты.
Что делать? Правду люди понимают различно, и порой в борьбе за нее глубоко честные люди могут оказаться непримиримыми врагами.
Великим утешением для каждого является, если он находит в других сочувствие его борьбе за то, что он считает правдой. Это утешение имел при жизни почивший, и те, которые одинаково с ним понимали правду, должны были получать это утешение у его гроба. Множество людей собирались в квартиру Алексея Ивановича на панихиды, которые совершались у его гроба почти беспрерывно.
В воскресенье, 24 февраля, днем, панихиду совершал преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской, соборно с многочисленным духовенством, среди которого были сослуживцы и ученики покойного. Вечернюю панихиду в тот же день совершал преосвященный Трифон, епископ Дмитровский, соборно.
На первой панихиде присутствовали: редактор «Московских Ведомостей» Л.А. Тихомиров, секретарь редакции
—17—
барон А.Э. Нольде, сотрудники газеты и многие почитатели памяти усопшего.
В понедельник 25 февраля, денную панихиду у гроба совершал кафедральный протоиерей храма Христа Спасителя В.С. Марков, а вечернюю – протоиерей И.И. Восторгов, в сослужении многочисленного духовенства.
Днем на панихиде присутствовали: председательница Общества для содействия религиозно-нравственному и патриотическому воспитанию детей княгиня С.А. Голицына, директор Педагогического Шелапутинского Института А.Н. Ясинский, инспектор Московской духовной семинарии С.З. Ястребцов, сотрудники «Московских Ведомостей», ученики и почитатели памяти усопшего.
Вечером на панихиде присутствовали: попечитель Московского учебного округа тайный советник А.А. Тихомиров, представители духовно-учебных заведений, слушательницы богословских женских курсов, бывшие слушатели и почитатели памяти покойного.
На дубовый гроб покойного было возложено в этот день несколько роскошных венков, в том числе от семьи, от корпорации Императорской Московской Духовной Академии – «Дорогому сослуживцу философу-христианину А.И. Введенскому» (громадный фарфоровый венок из белых цветов), «от семьи Самариных» (крест из живых цветов с лаврами), от редакции «Московских Ведомостей» – «Незабвенному товарищу А.И. Введенскому» (лавровый венок с пальмовыми ветвями), от братьев, сестер и зятьев (громадный фарфоровый венок), от слушательниц московских богословских женских курсов.
26 февраля, в 1 час дня, панихиду у гроба почившего совершал преосвященный Евфимий, настоятель Заиконоспасского монастыря, соборно с ректором Московской духовной семинарии архимандритом Филиппом, синодальным ризничим архимандритом Димитрием и другим духовенством, при участии хора певчих.
На панихиде присутствовала Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елисавета Феодоровна.
—18—
Среди других присутствовавших лиц находились наш знаменитый художник В.М. Васнецов, преподаватели Московской Духовной семинарии, студенты Духовной академии и почитатели памяти умершего.
Вечером у гроба Алексея Ивановича инспектором Московской Духовной Академии архимандритом Анатолием был совершен парастас (заупокойное всенощное бдение) соборно, при участии хора певчих. Почитатели переполняли квартиру почившего.
В храме Московской Духовной Академии, по получении известия о кончине профессора А.И., 24 февраля была совершена панихида преосвященными ректором Академии Феодором, епископом Волоколамским, соборно с инспекторами Академии архимандритами Анатолием, ректором Вифанской духовной семинарии архимандритом Германом и другими многочисленным духовенством из Академической среды. Присутствовали профессора, доценты и студенты Академии.
26 февраля у гроба прибавились новые роскошные венки от почетного блюстителя Духовной Академии В.Д. Попова, от крестников и от Архангельских.
На одной из панихид священником Г.И. Богословским, учеником покойного, была произнесена следующая речь:
«И торжественность сего богослужения, и святители Божии, провожающее тебя в вечную жизнь, и сродницы со знаемыми ныне, собравшиеся у гроба твоего, – не свидетельствует ли все сие о той великой любви к тебе, о том глубочайшем, искреннейшем уважении к тебе, как мужу науки – науки величайшей важности и ценности – «христианской философии», – ибо, что может быть важнее для человека, верующего во Христа, как не ясное, разумное, достаточно обоснованное на началах разума и влечениях сердца уразумение смысла и ценности нашей жизни? Этому уяснению, обоснованию смысла и ценности нашей земной жизни с точки зрения христианско-религиозных начал жизни Ты посвятил всю свою жизнь, все свои труды, все силы своего ума и сердца, которыми так богато одарил тебя Го-
—19—
сподь Бог. В своих академических лекциях, ученых философских трудах, публицистических статьях неустанно и неизменно мы слышали твой призыв: осмыслить, уразуметь, вникнуть в смысл жизни, понять ее высочайшую ценность, оценить и развить те драгоценнейшие потребности и силы духа, которыми от Бога, Своего Творца, наделен человек. Никто, кажется, как ты, из христианских философов последнего времени так ярко не подчеркивал и так убедительно не обосновывал ценность жизни с точки зрения религиозных высших, божественных начал, заложенных в человеке; никто, кажется, так не раскрывал весь сложный процесс зарождения и развития религиозной потребности человечества, – той потребности, которая служит исходным началом, корнем, питательным источником всех других потребностей человеческой души: и нравственной, и эстетической, и всей вообще культуры человечества. Только при таком универсально-едином религиозном взгляде на историю человечества с ее многосложными формами, – и история человечества, и сама жизнь человеческая получают настоящее освещение своего смысла, своей цели и своей величайшей ценности, как проявление и раскрытие богоподобных свойств человеческого духа, питаемого религиозным началом жизни. Как отрадно жить с таким светлым, высоким миросозерцанием, с такой глубокой верой в силу человеческого духа, но и какая при этой вере требуется напряженная, целесообразная с высшим религиозным назначением, работа духа, какая грандиозная рисуется перспектива будущей нашей земной жизни, как многоценны и незабвенны должны быть все прошедшие этапы на пути развития религиозного сознания человечества. Раскрывая перед читателем постепенный ход в развитии религиозной мысли, в естественных или языческих религиях, осторожно разбираясь в бесконечном лабиринте их учений, почивший Алексей Иванович находил здесь крупицы-отблески христианской богооткровенной истины, памятуя, что «душа по природе христианка», и что «язычники естеством законное творят» (Рим.2:14 ап.); вскрывая, как опыт-
—20—
ный хирург, скальпелем своего критического разума слабые стороны метафизики этих религий, особенно по их нравственным выводам для жизни, по их нравственной ценности, – почивший философ ясно показывал этим необходимость искать твердой опоры мысли и жизни – в сверхъестественном божественном откровении, в божественной помощи. Так неотразимо, постоянно и мудро приводил он наше сознание к истине христианского учения о боговоплощении Сына Божьего, как центрального мирового события в истории религиозной мысли и жизни человечества. Вместе с покойным знаменитым философом В.С. Соловьевым он показал, что христианское учение о воплощении Сына Божьего не есть только отвлеченная богословская мысль, богословское умозрение, а необходимость самой религиозной природы человека, ищущей себе спасения в Боге и через Бога, – есть жизненная реальная правда, насущный догмат самой жизни, требование разума и нравственного чувства в их наивысшем, религиозном проявлении. И если покойному В.С. Соловьеву принадлежит крупная заслуга в области изучения, главным образом, нравственных начал нашей жизни, на основе религиозного их первоисточника, то почившему А. И. принадлежит не менее крупная заслуга в области изучения психологических и метафизических основ этого религиозного первоисточника, его генезиса, его исторического развития в естественных религиях, в философских системах и типах, до завершительной стадии развитая в христианской, богооткровенной религии. Прослеживая весь постепенный ход пробуждения и развития религиозной идеи в сознании философов, в религиях языческих, раскрывая все видоизменения, наслаждения, затемнение и воскресение вновь религиозных начал, под влиянием тех или других социальных, этнографических и экономических условий жизни народов, почивший философ рассматривал историю философии и историю язычества, как историю постепенного раскрытия доступной естественному ревностному сознанию истины и как историю постепенного уяснения по-
—21—
следним своих границ (см. Религиозное сознание язычества. М., 1902, с. 13). В наше время «язычествующего сознания», увлечения ницшеанством, буддизмом, в особенности, этой заманчивой, красивой религией – увлечения, нашедшего себе и реальное осуществление – мы разумеем недавнюю постройку храма в честь Будды в Петербурге, – чем, как не словом глубочайшей благодарности нужно помянуть почившего философа-христианина, сумевшего так обстоятельно, так неопровержимо сильно раскрыть неудовлетворительность языческих религий, особенно буддизма, снять с него маску кажущейся истины и указать на полное превосходство перед ним христианской религии. Вот почему и в выборе тем для сочинений, и в своих трудах – более или менее значительных – почивший А.И. всегда старался о том, чтобы студент или читатель вынесли положительное знание христианской истины, усвоили бы разумом, глубоко восприняли сердцем всю важность знания религиозных основ нашей жизни, вдумались бы в ценность этого знания, как руководящего начала в самой жизни. Знал он, что сознанное, осмысленное, глубоко в сердце запавшее религиозное чувство может быть надежными кормчим в плавании по житейскому морю, полному соблазнов, блужданий мысли, может согреть и осветить человеку его жизнь. И вот этот апологет христианства, этот обличитель лжеименного горделивого разума, надеющегося только на себя, обличитель лжи язычества и язычествующего современного сознания уходит от нас в ту вечную загробную жизнь, к Тому Единому Истинному Живому Богу, о Котором он неустанно твердил нам, как о источнике нашей жизни, о высшей цели нашей жизни. И глубокой грустью сжимается сердце при разлуке с дорогим учителем, наставником, философом-христианином. Нам, пастырям церкви, почивший философ останется вечно дорогим и незабвенным учителем, ибо в его трудах мы всегда найдем себя опору в борьбе с совершенным неведением и неверием будущего, всегда найдем себе запас самых сильных, неопровержимых доказательств той христиан-
—22—
ской истины, которой мы служим. Отныне у нас есть «щит веры и оружие правды христианской», отныне мы имеем оправдание нашей веры, нашего упования. Пусть сберутся все книжники и совопросники века сего – мы не убоимся их: у нас есть ответ им в трудах Алексея Ивановича. И в тяжелые минуты жизни, когда обуреваемые житейскими невзгодами, дрязгами и мелочами, когда от непосильного часто труда и забот хочется отдохнуть от всего обыденного, мелкого, забыться, и вдохнуть в себя новые силы духа, мы, пастыри церкви, питомцы той Академии, которой ты отдал все силы, – твои ученики, – найдем в твоих трудах, на страницах твоих серьезных, ученых сочинений отдых для нашей бедной, усталой мысли, найдем себе источник религиозного вдохновения, религиозного наслаждения, позыв на новый, никогда не прекращающийся труд уяснения себе христианских истин. На земле сей ты жил в царстве мысли, возводя ее к Царству надземному, к Царству Небесному. Да дарует же тебе Господь это царство Небесное: вечное блаженство духа твоего в бесконечном, неизреченном созерцании Бога, в бесконечном отныне единении с Ним. Верим, что не зарастет к твоей могиле тропа ищущего христианской правды и веры. Аминь».
27 февраля с необыкновенной торжественностью состоялись похороны Алексея Ивановича.
Литию перед выносом гроба из квартиры покойного совершил преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской, соборно с инспектором Московской Духовной Академии архимандритом Анатолием, архимандритами Димитрием и Модестом и другим духовенством. На вынос тела прибыли профессора и доценты Московской Духовной Академии с залуженным профессором М.Д. Муретовым во главку, а также студенты Академии, бывшие ученики и почитатели памяти усопшего. Гроб из квартиры вынесли братья и сослуживцы по Академии; печальная процессия направилась в приходской храм во имя св. Василия Кесарийского. В церкви гроб быль установлен среди тропических растений.
—23—
В одиннадцатом часу началось богослужение при большом стечении молящихся. Часы и литургию преждеосвященных даров совершал ректор Академии преосвященный Феодор, епископ Волоколамский, в сослужении инспектора той же Академии Архимандрита Анатолия, синодального ризничего архимандрита Димитрия, наместника Чудова монастыря архимандрита Арсения, настоятеля приходского храма протоиерея А.Ф. Орлова, профессора Духовной Академии священника В.Н. Страхова, инспектора Вифанской духовной семинарии иеромонаха Тихона (Тихомирова), брата почившего священника Ф.И. Введенского и другого многочисленного духовенства из среды родственников, учеников и почитателей памяти усопшего.
К заупокойному богослужению в Васильевский храм собрались: попечитель Московского учебного округа тайный советник А.А. Тихомиров, председатель Общества для содействия религиозно-нравственному и патриотическому воспитанию детей княгиня С.А. Голицына, фрейлина Государынь Императриц Е.А. Тучкова, супруга покойного редактора «Московских Ведомостей» Л.Д. Грингмут, супруга нынешнего редактора Е.Д. Тихомирова, Московский губернский предводитель дворянства А.Д. Самарин, П.Д. Самарин, профессора и доценты Московской Духовной Академии почти в полном составе, директор Педагогического Института имени И.Г. Шелапутина А.Н. Ясинский, преподаватели того же Института, среди которых были: директор 3-й Московской гимназии И.И. Виноградов, Е.В. Барсов, И.А. Лебедев, бывший окружной инспектор С.М. Зегер, бывшие профессора Московской Духовной Академии В.А. Соколов, Н.А. Заозерский, почетный член Московской Духовной Академии В.А. Кожевников, Г.А. Белокуров, инспектор 2-го казенного реального училища Н.М. Соловьев, епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ А.Д. Италинский, сотрудники «Московских Ведомостей» в полном составе и служащие в конторе газеты, бывшие ученики покойного профессора, из которых некоторые прибыли из других епархий, слушательницы Московских женских богословских курсов, сту-
—24—
денты Московской Духовной Академии, слушатели Педагогического Шелапутинского Института, многочисленные почитатели памяти покойного ученого и писателя, а также бывшие товарищи усопшего по Вифанской семинарии и Академии. Обширный храм был полон молящимися. На левом клиросе пел студенческий академический хор.
Кроме перечисленных на гроб покойного были возложены еще венки: от Педагогического Института имени П.Г. Шелапутина «Глубокоуважаемому члену совета А.И. Введенскому»; от студенток Московской Духовной Академии – «Дорогому и незабвенному профессору А.И. Введенскому» и крест из лавровых ветвей и живых цветов от слушателей Педагогического Шелапутинского Института « профессору-руководителю».
После причастного стиха сказал слово профессор академии, священник В.Н. Страхов:
«Блаженны мертвые, умирающие в Господа; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут за ними (Ап.14:13)».
Итак, братья, об умершем ныне речь и молитва. Он успокоился от трудов своих. Он вошел теперь в по-Господу молитвы свои, он субботствует теперь великой небесной субботой. Он вписан теперь в книгу жизни Агнца, Которого он возвещал в своей деятельности. Ибо верно слово Господне: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моими небесным» (Mф.10:32).
Воспомянем же с молитвой, с благодарной любовью, для назидания себя, для утешения его родных и всех, кто уважал его, – вспомянем того, кто был христианином-учителем в лучшем смысле этого слова, кто был верным и преданным сыном св. Церкви, кто зорко и мужественно стоял на страже истинной академической науки и подлинного академического воспитания, кто был опытным советником, – скажу больше, – другом и покровителем своих младших сотрудников.
—25—
Вечная память тебе, знаменосец и вождь академической семьи. В наши сумрачные дни, во дни падения веры и ревности, в наш век, когда легкомыслие и лжеименная ученость поднялись против Евангелия Христова и Его святой Церкви, когда люди, увлеченные вихрем и потоком времени, готовы были продать свое христиански-церковное первородство за чечевичную похлебку, за мнимый безрелигиозный и бесцерковный прогресс, – ты энергично возбудил «течение встречное против течения» и смело выступил на защиту исторических устоев академической богословской науки и академического церковного воспитания. На знамени школы нашей золотыми буквами написаны слова Апостола: «верой разумеваем» (Евр.11:3). И, выполняя этот святой завет эллинского благовестника и великого миссионера, ты учил нас «пленять разум в послушание Христово» (2Кор.10:5). В своих философских трудах, в своих одушевленных лекциях и в своих литературно-критических статьях учил нас освещать вопросы жизни под углом зрения философа-христианина. Ты был живым олицетворением церковной науки, которая была в твоих устах и в твоей жизни цельным жизнепониманием, опирающимся на начала церковной веры и углубляющим эти начала в нашем сознании. И, свидетельствуя христианскую истину, не только словами, но и делом, ты выполнял вторую великую задачу академического служения. Кроме девиза: «верой разумеваем», обязывающего нас к высшей ученой разработке богословски-философской науки на церковном основании, у нас есть и другой, не менее великий девиз, завещанный нами другим первоверховным апостолом Христовым. Девиз этот гласит: «покажите в вере вашей добродетель» (2Пет.1:5) и обязывает нас в целях наилучшего выполнения второй задачи академического служения-воспитания в учащихся любви ко св. Церкви и ее установлениям и преданности Престолу и Отечеству, прежде всего, самим показать в этом пример. И для меня, мой дорогой наставник и мой верный советник, для меня особенно дорого в эти минуты засвидетельствовать твою добродетель. В один из общих наших
—26—
лекционных дней, каждую неделю, мы встречались с тобой у мощей Преподобного Сергия. Это бывало ранним утром. Посад только просыпался. И ко гробу Преподобного шли за благословениями на дела наставшего дня ученики и ученицы Посадских школ. И в этой толпе юных паломников легко можно было заметить твою высокую фигуру, увидеть тебя, всегда со свечой в руках, смиренно преклоняющего колена у раки Преподобного. Я вспоминаю и другое время. В невзрачной больничной обстановке ты принимал таинство елеосвящения. Взор твой горел любовью к Богу, уста произносили вместе с собором священнослужителей горячую молитву, из глаз твоих не раз скатывалась слеза. Ты чувствовал роковую развязку, но дух твой был полон веры в Господа и ты спокойно говорил о переходе в другую жизнь, прося у присутствующих молитв за себя. Да, ты был глубоко преданным Церкви Православной ее верным сыном. И в этой своей практической деятельности верного сына Церкви и убежденного слуги Престола и Отечества ты был «верен даже до смерти» (Апок.2:10). Ибо эта твоя деятельность ранила сердце твое и постепенно, но верно, вела тебя к роковому концу. Ты был защитником науки богословско-церковной, и это не нравилось людям нецерковным. Ты был поклонником истинного прогресса, и это не нравилось поклонникам прогресса мнимого. Ты имел большой авторитет и слово твое было со властью. И за все это тебе пришлось испытать много горечи и обид. Но ты боролся за славу академии, за великие задачи академического служения. И среди борцов и тружеников, кому будет обязана академия своим процветанием на почве верности своим историческим заветам, она не забудет и тебя.
Помолитесь же, братья, за доброго и верного сына Церкви святой. Умножь с благодарной любовью свое моление, дорогая академия, за того, кто был верным стражем твоих исторических заветов. Помолитесь, братья, за мужа совета и разума, да простит ему Господь грехи его вольные и невольные, да подаст ему во блаженном успении вечный покой…».
—27—
В конце литургии с амвона произнес слово ректор академии, преосвященный Феодор:
«Перед лицом смерти, братья, смерти, взявшей из нашей академической семьи достойнейшего собрата и из общественной среды симпатичного многим деятеля, трудно говорить о примирении со смертью. А говорить об этом нужно; это долг наш пастырский, долг служителей не только слова, но и вечной жизни, дабы не стать на ряду с теми прочими «неимущими упования», кто безутешно скорбят об умерших и не могут не скорбеть о них, ибо тайна смерти для них сокрыта. Это долг наш перед лицом и от лица той духовной школы, которая учит о вечной жизни, о духовных тайнах, о религиозных упованиях, коим служил и усопший собрат наш, конечно, в уповании вечной жизни, но через тайну смерти. Итак, что же мы «имущие упование», но все же скорбящие об умерших своих и теряющие как бы это свое «христианское упование» перед лицом смерти, можем говорить о примирении и для примирения со смертью? Конечно, мы разумеем не то примирение со смертно, которое может покоиться на мысли о неизбежности смерти для меня лично, для других людей и, вообще, для всех живущих. И опять, не то примирение разумеем, которое покоится и сказывается в каком-то странном тупом равнодушии к самому факту смерти, когда мы, видя или читая ежедневно о смерти знакомых и незнакомых людей, ни мало этим не тревожимся, как будто нас это и не касается и никогда не коснется. Мы разумеем то примирение со смертью, когда человек принимает факт этот не только как неизбежный, но и как полный глубокого смысла, принимает мыслью своей в осияние того небесного и высшего света, который сказывается в сердце человеческом совершенно непонятным для неверующего настроением мира и даже благодарности перед лицом самой смерти, как хорошо выражено это в словах церковной песни, обращенной к стоящим у гроба: «Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благодаряще Бога...» благодаряще Бога... а ведь так еще недавно всего один год
—28—
назад мы все, знавшие покойного, всей дружной нашей академической семьей благодарили горячо Господа за то, что Он дал возможность жить и трудиться покойному среди нас и для нас, и в этих благодарных молитвах искали себе надежды и еще долгое время видеть его среди нас. Как же теперь, когда, можно сказать, еще не остыли в наших сердцах эти свежие чувства духовной радости и благодарности за милости Божии, явленные в жизни и трудах покойного, как же теперь, говорим, опять благодарить, когда и жизнь эта и труды самые, коим мы радовались, кончены?! Приемлемо ли это, братья, и возможно ли в одном сердце и чувстве примирить эти противоположности? «благодаряще Бога... За что же? «сей бо оскуде от сродства своего и ко гробу тщится, не ктому пекийся о суетных и о многострастной плоти...» говорит церковная песнь. И опять, бpaтья, противоречие. Мы радовались и благодарили Бога за то, что почивший при жизни своей так горячо предан был своему высокому делу, так одушевленно служил нашей школе и через нее и церкви, так обнимал и объединял всех своим словом, своей живой душой и так дорожил этим своим общением с родными по духу, по общему делу, по настроению и совместной жизни людьми. И паки теперь благодарим Бога, что он оставляет это все свое духовное и плотское родство и ко гробу тщится.
Мы радовались и благодарили Бога за то, что почивший при жизни своей сами свои богатства духовных дарований неустанно вкладывал в эту постоянную текучесть нашей многотрудной жизни, изучал тщательно все многообразные проявления осуетившагося в гордости своих помышлений ума человеческого, а самое свое имя вплел крепко в эту историческую текучесть жизни нашей школы и в длинную цепь ее главных деятелей на этой непрочной почве суетной стихии человеческой земной жизни. И паки теперь приглашаемся и должны благодарить Бога за то, что он теперь оставил все это и свободен от этих трудов, кои снискали ему и почетное имя, и должную дань уважения, и благодарности и, быть может, в будущем еще более воз-
—29—
величили бы его; скажите, братья, разве это не противоречиe?! Разве возможно естественному чувству одинаково благодарить за то разное, что взаимно исключает друг друга, и одинаково относиться и воспринимать в чувстве то, что противоположно друг другу. Тут нужно какое-то особенное претворение или самого сердца нашего, или претворение в нашем сердце этих самых противоположностей при помощи какой-то особой силы. Мы знаем, братья, эту особую силу, и не только знаем, но имеем ее и можем этой силой побеждать как бы уставы естества нашего: – «творит бо Господь наш елика хощет», иначе фальшиво должна звучать и эта прощальная церковная погребальная песнь. Тем-то, братья, и велико христианство, тем-то оно сильно и бесконечно ценно, что может оно примирять все противоречия нашей земной жизни, коими человек, чуждый благодати христианства, мучится и терзается бесконечно, а человек христианин может обращаться ими же к тому вечному и единому, которое проникает и оказывается во всем многообразии и различии земных явлений. Так дивно примеряет христианство противоречия мысли человеческой в ее основных законах различения множества и единства; примеряет противоречия в настроении, раскрывая возможность даже «радоваться в скорбях», возможность странную для естественного чувства, примиряет оно и противоречия жизни не только между личностью и обществом, но и в единой личности примиряет это главное противоречие – жизни и смерти в основном начале и настроении христианской жизни: «благо мне яко смирил мя еси» (Пс.118:71). Возможность во временном, случайном и множественном искать единое вечное и служить ему, проливая его свет всюду, возможность чувствовать всегда эти невидимые связи личности нашей с небесным миром и законы высшего нравственного миропорядка жизни раскрывать в себе самом и утверждать как норму и земной жизни, и возможность голос вечной жизни не заглушить в душе своей земными звуками скоротечного времени, – словом, возможность в этой еще земной жизни смотреть на себя и на свое дело с точки зрения вечности и высшей
—30—
правды, вот то великое, что дает и нам христианство и чем создает оно в человеке примирение всех противоположностей жизни, разрешая их и высшим смыслом, и лучшими чувством.
В этом и состоят подвиги всей нашей жизни, в этом ее смысл и высшее благо, на этом же покоится и сама возможность сказать не при жизни только и не при обозрении только великих трудов «благодарите Бога», но и при гробе всякого труженика сказать тоже: «благодаряще Бога, приидите последнее дадим целование умершему...». С точки зрения этих конечных целей земной человеческой жизни понятно, как можно при гробе всякого примиренной душой сказать словами псалмопевца: «благо мне яко смирили мя еси». (Пс.118:71). И воистину смиряет человека смерть, как крайнее бедствие жизни, смиряют его здесь и все те несчастья и скорби, коими сопровождается всякая жизни на земле заканчивающаяся неизбежной смерти, побуждая человека саму жизнь свою строить так, чтобы быть выше этих скорбей и смерти; заставляют его улавливать в этом поток изменчивости жизни то ценное и вечное, что спасало бы его от отчаяния и окрыляло бы его надеждой и силами к той разумной работе, плоды которой недоступны для жесткой и холодной руки все сокрушающей смерти.
Смирись, человек! Вот уроки страдания и смерти, и не хвались, богатый – своим богатством, ученый – ученостью, сильный – силою, юный – юностью и т. д.: вкладывай и привязывай все это не к тому, что носит печати разрушения и смерти, а к тому, что выше этого, хотя и раскрывается под этой формой.
Вы скажете: и все же смерть не смиряет человека и не отвращает лицо его и сердце от обычного отношения к жизни. Об этом говорит хорошо само наше равнодушие и бесчувственность к окружающей нас ежедневно со всех сторон смерти. Да, братья, это, к сожалению, верно. Но все же, что такое значит, что мы, всегда равнодушные к смерти, когда слышим или читаем о ней в газетах, совершенно меняемся, когда смерть эта касается ближе нас,
—31—
похищая от нас или сродника, или друга, или просто сослуживца, как вот это теперь? Почему мы делаемся вдруг так серьезны, грустны и задумчивы; как будто диссонансом каким начинает звучать то обычное, что мы постоянно слышим в шуме обыденной жизни.
Обычные аккорды земной нашей жизни начинаюсь звучать уже не так, в них чувствуется какой-то новый необычный тон.
Братья, это тон вечности, вкравшейся вместе с гробом близкого нам человека в наш обычный тон временной земной жизни и он-то звучит иначе, он-то зовет нас и обращает к плану, и он-то нас и беспокоит. Поистине, у каждого гроба, братья, как бы пересекаются линии двух миров, горнего и дольнего, и чем ближе и дороже нам этот гроб, чем более мы входим сердцем и душой в гроб родного нам человека, тем сильнее и ощутимее слышим этот пересекшийся с временным и спустившийся к нам тон вечности. Это прекрасный и вместе полезный урок для нас всякого гроба и всякой смерти: не забывай вечности, ибо она ежедневно около тебя, она постоянно вплетается в твою жизнь, и извлекай этот урок о вечности из всякого гроба и от всякой смерти. В этом отношении молчание гроба кажется красноречивее многих и прекрасных слов. А молчание нынешнего нашего гроба о той же вечности красноречивее тех слов, коими услаждал нас почивший. Мы рады от лица нашей Школы и рады за нее, когда видим, что гроб и молчание нашего профессора собрали здесь в храме еще более громадную аудиторию, нежели та, какую он собирал при жизни. Да будет же это его гробовое молчание принято нами как урок о вечности и с тем же чувством, с каким аудитория академическая внимала его живой речи.
Покойный работал во имя вечности; частнее – во имя вечной истины. Он боролся с ложью человеческой мысли в ее различных построениях и проявлениях в течение всей своей ученой деятельности. Подвиг громадной ценности и значения. Ведь ложь мысли человеческой, облеченная в тогу прекрасных слов и глубоких философ-
—32—
ских построений, кажется, самая ужасная ложь в мире, способная опутать человека, затмить в своем его разуме, пленить его в послушание гордыни человеческой, отвратить от истины Христовой и при том держать его еще в упоении своим величием и своей правдой. Обнажать эту ложь, ниспровергать этого кумира гордыни и впускать в эту сферу человеческой лжи луч света высшей и подлинной истины, сокрытой во Христе, – это требует не только таланта, но и духовного подвига – подвига веры в самую Христову истину. Этот подвиг веры и являл усопший. Им он победил и ту ложь жизни, которую мы называем смертью. Мы хорошо знаем, как он во время своей болезни на смертном одре воспринимал эту самую смерть: перед лицом своей смерти он смело и открыто говорил о бессмертии и уже коснеющим языком читал окружаемым лекцию о бессмертии. Эта последняя победа над «последним врагом жизни» – смертью – есть тайна его духовного опыта, нами не невнятного, тут не идеи его только и логика, при помощи коих и мы можем разбираться в идеях философских, а самое уже творчество новой жизни, нового человека и нового бытия и повторяешь, в сфере недоступного для нас его личного духовного опыта. Приемля эти уроки от гроба почившего нашего собрата, помолимся усердно, чтобы и там он не устыдился и не смутился перед «лицом лютого Миродержца», и чтобы своей верой и истинным покаянием он победил начальника всякой лжи – дьавола – и водворился в небесных обителях. Отца Света и Истины. Аминь».
Перед отпеванием выступил со своим словом доцент академии В.А. Троицкий:
«Если бы кто нас, ныне сетующих и болезнующих спросили: что есть глас вопля сего? – Мы могли бы ответить словами народа, потерявшего свою драгоценную святыню: отошла слава от Израиля (1Цар.4:14, 16, 21, 22)!
Давно ли он, полный мысли и силы, предстоял перед нами, и мы готовы были его воспевать. А ныне он предлежит перед нами бездыханный, и мы будем его отпевать. Давно ль неслись ему приветствия со всех сторон и все-
—33—
едиными усты и сердцем, полными торжества и радости, возглашали: многая лета! Одно лишь лето миновало, – и мы пришли сюда дать последнее целование ему, умершему и с сердцем, скорбью горькой пронзенными, воспеть: вечная память. Тогда с торжеством и радостью подсчитывали мы, как много мы получили от него. Ныне остается нами лишь скорбеть и тужить от сознания того, как много мы потеряли в этой смерти.
Почил от трудов своих неутомимый труженик, даже на том болезненном одре, с которого судил ему Бог перелечь на одр погребальный, даже на этом одре просивший у Бога жизни лишь для окончания своих трудов.
Умер учитель жизни, много лет говоривший молодым поколениям о смысле жизни. Увы! не будет уж больше в Академии поколений, о которых можно бы сказать словами библейской царицы: Блаженни отроцы твои сии, иже предстоят пред тобою всегда, слышащие всякий смысл твой (3Цар.10:8)!
Ушла великая сила, ибо не ложно слово Писания: блага мудрость паче силы, блага мудрость паче орудий ратных (Еккл.9:16, 18).
Смерть поразила могущественнейшую власть, ибо это была «власть над умами». И какая власть! Власть, сознающая всю свою ответственность. Ведь покойный едва ли не один в России за последние годы говорил и писал о «философской ответственности» (Христианин. 1908, т. 3, с. с. 782–800), а сам и делом, и словом проповедовал ту непреложную истину, что «власть над умами» должна принадлежать лишь тому, кто над своим умом признает власть веры. Делом проповедовал эту истину покойный, потому что, будучи ученым и мыслителем, он был и не стыдился быть верным и послушным сыном Церкви. Словом проповедовал он эту истину, когда учил, что лишь вера и бессмертие дают смысл и ценность земной жизни смертного человека (см. конспект курса метафизики, с. с. 113–116), когда указывал на область вечного, как на разгадку земного, и на достижение Божественной Истины,
—34—
как на смысл «мировой трагедии знания» (Богословский Вестник. 1908, т. 1, с. с. 181–182).
Умер тот, кто и всю духовную школу настойчиво звал к верующей «власти над умами», когда, отмечая «перелом в современном общественном сознании», убеждал «сосредоточить все силы разума на оживлении в личном и общественном сознании полузабытой правды вечной, на проведении ее в современную мысль, в господствующие настроения, в живые практические отношения» (Богословский Вестник. 1911, т. 1, с. 132).
Умер судья, ибо почивший, прежде всего, старался сам быть судьей и ценителем общественных настроений, господствующих направлений мысли и тем оправдывал слово Писания: муж мудр судит языки (Притч.29:9).
Ныне мы представители высшей церковной школы, должны проститься с тем, кто так самоотверженно служил этой школе, кто болел и скорбел ее несчастьям, утешался ее радостями. Почивший хорошо знал и твердо помнил заветы высшей церковной школы, за верность этим заветам ратовал, сам высоко и с честью нес знамя Академии и горячо убеждал до последних дней и нас, молодых, продолжать его великое дело. Воистину был он славой и украшением нашей духовной школы, и радовались мы, видя его среди нас. Ныне же нет нам радости, потому что нет больше его среди живых. Отошла слава от Израиля!
Дщи людей моих, дщи академическая! Препояшися вретищем и посыплися пеплом, плачь возлюбленного, сотвори тебе рыдание горько, понеже внезапу прииде на тя запустение (Иер.5:26)!
Запустение... Вот что особенно больно чувствуется в Академии после этой смерти! Будто могучий дуб стоял почивши среди нас, молодой поросли. Привыкли мы на него надеяться. Верили, что бурям и непогодам не одолеть его. Да, бури и ветры не сломили могучего дуба, – ужасная болезнь, как червь, подточила его крепкие корни, упал он и лежит перед нами мертв и бездыханен... Осиротели мы и жутко стало нам, молодым, на открытом
—35—
месте... На наши духовные и церковные твердыни несутся новые и новые бури, новые и новые испытания, а его с нами нет. Мы одни...
Вот почему ныне, когда могучий дух, покинувший это смертное тело, на невидимых огненных колесницах восходит ко Господу Богу, из сердца просится молитва: Да его вечного духа прейдет Иордан смерти и вселится в руй, Господи, чтобы дух, который быль в нем, сугуб был в нас (4Цар.2:9)!
По нашему человеческому соображению рано окончил почивший свое земное странствование. На то Божья воля... Ныне погребем мы тело его. Но ведь священный кивот землю обетованную. О мирном успокоении души почившего в этой земле и да будет наша молитва. Господь, обращаяй во утро сень смертную (Ам.5:8), да просветит душу усопшего раба Своего, как солнце, в царстве Небесного Отца!
Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего и сего всели во дворы Твоя, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но где жизнь бесконечная!».
Начавшееся в первом часу дня отпевание совершали преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской, и ректор Академии преосвященный Феодор, соборно с инспектором Академии архимандритом Анатолием, синодальным ризничим архимандритом Димитрием, настоятелем Знаменского монастыря архимандритом Модестом, наместником Чудова монастыря архимандритом Арсением, кафедральным протоиереем В.С. Марковым, протоиереем И.И. Восторговым и другим многочисленным духовенством, среди которого находились сослуживцы покойного по Академии, ученики и почитатели; всего на отпевание вышло до 50 лиц.
Умилительный чин отпевания при стройном пении большого хора продолжался более двух часов. Во время отпевания были произнесены четыре речи.
Профессор С.С. Глаголев сказал следующее:
«Прости, дорогой товарищ и друг, ты ушел из этого мира, ушел в том возрасте, когда работа ученого обык-
—36—
новенно становится наиболее производительной. Можно делать научные открытия и в 20 лет, но нельзя овладеть никакой научной дисциплиной раньше, чем в десятилетия. Ты овладел философией и ее историей, основательно изучил богословие и литературу, дал нам труды и в других областях – от политики до естествознания включительно. Ты хотел печатать свой курс и вот – тебя нет более. Бог даст этот курс будет напечатан, но уже не ты напечатаешь его. Ты взят от нас. Почему? Зачем? Может быть, в своих исканиях истины ты так приблизился к Истине, что Истина взяла тебя к Себе. Не нам судить пути Всевышнего. Смиреной скорбью мы можем лишь оплакивать тебя, вернее – самих себя, потерявших в тебе редкого руководителя и учителя. Для академии твоя смерть – тяжелая утрата. Тяжелая утрата, это – и для меня лично, ибо в последние годы я понял тебя, оценил и полюбил.
Почивший был крупным и оригинальным талантом. Еще, будучи на студенческой скамье, он печатал свои произведения. Обсуждая старые вопросы, он всегда подходил к ним с новой точки зрения. Его статьи никогда не были шаблонными. Его магистерская диссертация – вера в Бога, ее происхождение и основания – была крупным вкладом в русскую богословскую и философскую науку. На нее мало обратили внимания в печати, но это не помешало печати пользоваться ею, и из его книги переливался материал в сочинения, подписанные другими авторами. Затем в один год он дал две книги, не считая разных статей и составления лекций. Это – «Философия в современной Германии и Франции» и «Западная действительность и русские идеалы». Я тогда только что занявший кафедру в академии был поражен и талантливостью, и трудолюбием автора. Он сам, впрочем, еще тогда говорил мне как-то, что он переутомился. Несомненно, что он переутомился. Но после этого он также работал 20 лет, и вот – теперь нашел покой в могиле. Его работы были не только оригинальными с точки зрения идей, но они впервые знакомили русское общество со многими идеями
—37—
запада. Он первый изложил Паульсена, доселе еще после него не написано ничего крупного о Мэн де Биране. Он мог бы легко переработать свою книгу о немецкой и французской философии в докторскую диссертацию, но вместо этого он предпочел дать на доктора обширное исследование «О религиях Индии», и здесь, в этом труде он высказал идеи более глубокие и ценные, чем те, которые высказываются обыкновенно. Он попытался проникнуть в душу язычника, понять его религиозное сознание, между тем как, обыкновенно, по истории религий лишь излагаются факты и объясняются из исторических факторов.
Все его сочинения были проникнуты глубокой православной религиозностью. Он не рисовался этой религиозности, не кричал громко о своем православии, православие было его внутренним жизненными принципом, он исполнял христианские обязанности скромно и только если внимательно следить за ними, можно было подметить, как он глубоко религиозен. Без сомнения, в этой религиозности и в качествах его души нужно искать объяснение того, что его работы обыкновенно были проникнуты сердечностью. И особенно эта сердечность чувствовалась, когда он говорил. Наделенный блестящим ораторским даром, он вливал в сердца слушателей свои мысли и взгляды. И это не только тогда, когда он говорил о людях, нам близких и дорогих, например, о В.Д. Кудрявцеве, но и тогда, когда говорил о людях, философско-религиозные убеждения которых отстоят от наших очень далеко. Помню его речь об Эдуарде Гартмане. Что общего может быть у православного философа с мыслителем, написавшим книгу о саморазложении христианства? И, однако, речь почившего звучала сердечностью и любовью. Он отдал должное всему тому, что было у Гартмана хорошего, и потом уже показал существенные недостатки его философии. Находить хорошее у противников – это нелегкое дело, и это лучший способ привлекать сердца и убеждать умы. Во всяком заблуждении есть доля истины и во всяком искреннем заблуждении нужно ценить искренность заблуждающегося. У покойного А. И-ча и было такое доброе и благородное отноше-
—38—
ние к разными мыслителями, не имеющим ничего общего с христианством, мыслителями, взгляды которых он излагал и подвергал своему серьезному и глубокому, но вместе с тем совершенно спокойному разбору.
Благородством веяло от него. В нем чувствовалось достоинство мыслителя-христианина. Спокойный, уверенный в себе он внушал к себе уважение уже своим видом, сильно действовала и его блестящая речь. В своих собеседниках он обыкновенно находил какие-нибудь добрые черты; это умение находить хорошее в человеке, когда люди обыкновенно находят в своих ближних дурное, поразительно. Он умел не помнить зла. Я, увлекаемый собой и разными взглядами, причинил ему много огорчений на пространстве 1897–1905 годов и я потом видел, что он искренно простил меня.
Меня поражала в нем его твердость. Его взгляды, видно, сложились очень рано, он никогда не менял их, не смущался их высказывать и руководиться ими, когда они были очень не в моде и когда они вызывали против себя резко несочувственные протесты. Он был всегда самим собой. Он руководился своей православной совестью, а не выгодами. Он искал царствия Божия, прочее приложилось само собой.
Но немного приложилось ему на земле тяжкий труд, тяжкая болезнь, могила. Были у него и иные скорби, и он преждевременно поседел от них. И как будто он предчувствовал, что смерть поджидает его и на своем юбилее, бывшем год назад, сказал, что за юбилеем следует некролог.
На пространстве почти столетнего существования академии три профессора философии прошли перед нами – О.А. Голубинский, В.Д. Кудрявцев и А.И. Введенский, все они представляют собой красу и гордость академии. Что ждет Академию в будущем столетии? Это известно одному Богу. Будем молить о добром будущем в Академии, чтобы Господь дал ей профессора в духе и силе почившего раба Алексея и будем молить об упокоении его бессмертной души.
—39—
Студент IV курса академии, Ф.К. Андреев, работавший над кандидатским сочинением под руководством Алексея Ивановича, произнес речь о лекциях Алексея Ивановича, как его слушатель:
«В одной книге, которую почивший Алексей Иванович читал уже на смертном одре, – последней книге из той тысячи, которую он прочел за свою жизнь, он отчеркнул дрожащей рукой такие слова: «Наступит время, когда меня будут лучше понимать и больше любить, и которое будет снисходительнее относиться ко мне и простит мне мои недостатки и ошибки, ибо оно поймет, что я никогда не изменял святому долгу... Это видно из моих произведений... Не знаю, заслужил ли я, чтобы на мою могилу возложили лавровый венок. Но пусть на мой гроб положат меч, ибо я был честным солдатом...».
Не нам, молодым его ученикам, оценивать его философскую деятельность: это сделают люди с более широким научным кругозором, это сделает время и суд потомства. Но, мы должны поведать этим людям и оставить потомкам то, чего первые могут не знать, чего последние не будут знать, наверное. Ведь мы были его слушателями, мы его видели, говорили с ним... О чем он говорил? «Это видно из моих произведений», – отвечает он, но из этих произведений не видно, как он все это говорил... Он занимал философскую кафедру в течение двадцати лет, двадцать пять раз прочел он курс своих лекций; он многое в них разнообразил, он внимательно следил за текущей литературой, знакомил своих слушателей с новыми явлениями в области философии. – Но его слушал всегда один и тот же курс; средний уровень знаний его аудиторий был всегда один: тот уровень налагал предел его программе, изменение курса могло совершаться лишь в определенных границах, – эти границы были узки. Опасность однообразия, боязнь повторений вставала перед ним постоянно. Эта опасность усилилась в последние годы, когда он позволил издать конспект своих лекций, чтобы облегчить слушанье и подготовку к экзаменам. Теперь механичность, холод-
—40—
ность, заученность – все признаки ремесла, все неизбежные спутники всякой профессии готовы были пробраться и в его философскую аудиторию. – Но это им не удалось, он их не пустил, и не пустил именно тем, как он читал.
Мы слушали его в последние годы его жизни, а нам казалось, что это был первый курс, который он читал, казалось, будто он только что вернулся из своей заграничной командировки и спешил поделиться с нами тем, что он сам только что узнал, что было для него ново и волновало его. Каждый год развертывал он перед своими слушателями одну и ту же картину, изменчивую в подробностях, но тождественную по своей общей композиции, а нам казалось, что эта картина только что написана и не в одних лишь деталях, а и в основном ее плане, и он записывал ее на наших глазах в течение лекционного года. Но это не было простым обманом; не интерес нового предмета заставлял нас забывать заученную размеренность его речи: мы знали каждый раз заранее, о чем он будет читать, перед нами лежал его конспект, – нет, дело здесь не в новости свиданий, а в самой его речи. В ней не только не было монотонности, запущенности или холода: она была жива, подвижна, как-то вечно молода и свежа. Каждый новый курс он точно переживал заново. Каждое новое повторение делало его все старее по времени, но мы забывали о времени, когда слушали эти повторения...
Да, это был, по истине, «честный солдат»-ветеран: в каждый новый поход шел он такой же бодрый, как и на первую битву; он и в старости служил «святому долгу» наставника так же честно, как и в те годы, когда в нем еще кипела молодая кровь.
Но таким он был не только на службе: дома, вне лекций, свободный от уз программы, как от тяжелого ранца, с которым он совершал свои трудные походы, он становился еще отзывчивее на каждое новое движение философской мысли, на каждую интересную книгу, – тогда он еще больше молодел и счет годов терялся для
—41—
него... Уже умирая, но временами веря в исцеление, он набрасывал планы статей, обдумывал темы будущих работ... Работа его ума продолжалась еще, когда пульс уже не был слышен...
«Не знаю, – сказал он, – заслужил ли я, чтобы на мою могилу возложили лавровый венок»... но, он уже возложен: он сплетался ему давно; это – венок наставника, с любовью совершавшего свой подвиг, это – награда честному воину за честную службу нашему общему Небесному Вождю.
После г. Андреева со словом к покойному обратился протоиерей И.И. Восторгов:
«Дорогой Алексей Иванович!
Казалось бы, что после того, как здесь сослуживцы и ученики твои изобразили с такой любовью твой духовный образ, мне уже нечего прибавить к сказанному.
Помню, когда полтора года назад, так же, как и сейчас, собрались около тебя твои ученики и почитатели в день двадцатипятилетия служения твоего Церкви и науки, – тогда я не решился и не осмелился пройти вперед сквозь тесный круг сплотившихся около тебя твоих непосредственных слушателей по Академии – учеников в собственном и точном смысле слова, не посмели выступить со своими приветствием к тебе, ибо я не имел высокого счастья принадлежать к числу таких твоих учеников.
Но теперь над гробом твоим, искренно почитаемый муж науки, в минуту последнего «прости», позволь мне принести тебе дань любви, уважения, благодарности от лица учеников твоих в широком и высшем смысле этого слова, безмерно более многочисленных, чем твои непосредственные слушатели, от лица тех, что читали твои произведения, воспитывали на них свое мировоззрение, обогащались от тебя познаниями и введены были твоим печатным словом к вершинами истинного знания, приводившего к вере и всегда запечатленного верой. Ты много знал; много имел талантов – но все блистательные способности своего духа – спасибо тебе за это! – ты от-
—42—
дал Церкви, и к ней приводил всех этих, упомянутых мной многочисленных твоих учеников.
Ты умел это делать со свойственным тебе особыми искусством, сладкой властью, свободными пленом, захватывая и покоряя мысль твоего читателя, приводя его к той степени уверенности и убежденности, которая уже определяла дальнейшее направление всего душевного его строя. Исследовал ли ты источники происхождения и основания религиозной веры; рассматривал ли ты исторически и философски религиозное сознание народов; следил ли ты за словом и мыслью философов всех времен; давал ли ты самостоятельное изложение систематической философии: рассматривал ли ты западную действительность, оттеняя и подчеркивая при этом русские идеалы; обозревал ли ты произведения писателей прошлого и текущего времени; оценивал ли думы, чувства и настроения, волнующие жизнь современного образованного общества; углублялся ли ты в тайники духовной жизни этого общества, намечая и определяя в ней «переломы» и поворотные пункты, – всюду и всегда жил ты с зажженным светочем веры, верой все разумевал и к вере призывал всякого вдумчивого твоего читателя. Sul specie aeternitatis, ты рассматривал и осмысливал все необозримое течение человеческой мысли и жизни, – и вот в эту-то вечность ты вошел теперь всецело с твоим пытливым духом.
Да будет радостен для тебя свет вечности, да пройдет туда к тебе и наша благодарность за то, что ты до изнеможения сил и до последнего вздоха трудился в земном ее благовестии! Сколько служителей Церкви утверждались твоими творениями и в своей решимости отдать жизнь Церкви, и в своем дальнейшем труде и подвиге! Сколько колеблющихся умом находили в них опору веры!
Год всего пришлось тебе поработать на женских богословских курсах, от имени коих я также почитаю долгом здесь принести и засвидетельствовать тебе благодарность. Наука наук – философия, – как часто она бывает какой-то каторгой для мысли, если она вся обращена в сухие логические формулы и отвлеченности! Но ты сумел
—43—
дать ей душу живу, – и женщины, которых так часто почитают лишенными философского склада, слушали тебя с захватывающим вниманием и интересом, ждали с нетерпением твоих лекций, чтобы твоим словом осветить свои суждения, проверить свои взгляды, осмыслить свои верования.
Иди же к свету вечности, куда тебя призвал теперь Превечный, и да будет тебе наша благодарная любовь добрым провожатым и спутником в твоем устремлении к Богу, Которого ты искал, и в жизни в Боге, которой ты всегда жаждал, о которой поучал, – и мыслью, и словом, и «пишущей рукою»!
Последнее теплое слово было сказано братом почившего, профессором Д.И. Введенским:
«Дорогой трудник и брат!
Се – над тобой знамение смерти! Вечность столкнулась с временем и приняла от временного вечное!
Страшно бывает, когда вечность необоримой силой властно вторгается во временное и насильно уводит путника жизни, рвущегося из объятий вечности.
Куда они идет? Что с ним? – спрашивает тогда испытующая вера – и невольный страх западает в душу близких, опасающихся за истощение милосердия Божия к умершему.
Но для близких твоих нет места такому страху, потому что этого страха не было для тебя самого. Ты побоялся никем необойденной дорожки, которую заботливая рука усыпает зеленью и на которую неохотно вступает нога живых, боящихся смерти.
Как профессор – ты был другом вечности. Как христианин – ты был ее исповедником.
Всегда указывавший проблески вечности во временном, ты всего несколько дней назад говорил мне: «в страданиях открывается для меня великая тайна смерти, тайна претворения временного в вечное, тайна необыкновенного просветления духа».
И около тебя, исповедника вечности, точно около корня могучего дуба, еще при жизни твоей, стали рваться к свету
—44—
молодые побеги – продолжатели твоей религиозно-философской мысли. И одному из них ты передал, в моем присутствии, крепкий завет: «оберегать для современного общества вечное от слишком сильного давления временного».
Ты хорошо знал, что все, «что минута создает, то на минуту нам и пользу лишь дает».
Как и все люди, ты знал настроения минуты, но, не как все люди ты ревниво ограждал чистый храм души твоей от торжества в нем минутных настроений.
И вот, этот чистый храм готовь теперь! От храмины тела твоего ты провел, терпеливо перенесенными на одре болезни страданиями, несорванные нити ввысь – к Богу, к вечности...
Твой вечный храм строился из несокрушимого гранита твердой веры, честной мысли и ни разу непреданных искренних убеждений.
И около этого гранита незримо высится теперь открыто исповеданный тобой при жизни, несеченый, но выстраданный на смертном ложе, крест, как пресечение твоей личной воли с волей Божественной. Поэтому, спасительный символ – Крест Христов с пересеченными древами – ость, по праву, твой символ.
В истории человечества едва ли найдется другой, более выразительный, момент, чем созидание двух градов – града человеческого и града Божия. Исторически оба эти града начали строиться на одной и той же почве: это вечный, цветущий Рим и подземные катакомбы. Но странно: ликующие сыны человеческого града всегда боялись смерти; верующие же чада града Божия, отказывавшиеся от солнечного света, от роскоши и удовольствий жизни, радостно прозревали за временной вечную жизнь.
И ты, дорогой брат, жил на земле не во граде человеческом, а во граде Божием!
Предсмертные страдания твои были для тебя лишь экзаменов по той науке, которую преподавал ты в шко-
—45—
ле и в жизни. И этот экзамен показал в тебе достойного учителя, служившего за долг и за совесть вечному граду Божию.
Исстрадавшаяся, бездыханная ныне плоть твоя – се знамение смерти!.. Но дела твои, твоя вера – се знамя победы человеческого духа над смертью силой благодати Божией!.. И это последнее знамя всецело прикрывает первое.
Любовь твоей семьи, твоих братьев, сестер и почитателей провожает плоть твою в земную колыбель, а молитвы их, под крылами Церкви напутствуют дух твой в вечность.
Через веру и страдания ты идешь ко Христу, а Христос, через Церковь и молитвы грядет к тебе.
Ей! гроби Господи!
Трудник, страдалец и брат! прими Христа, прими нашу любовь, наши молитвы за тебя ко Христу и наше последнее целование. Аминь».
Преосвященный Анастасий прочитал после канона стихиры. Отпевание закончилось лишь в третьем часу дня. Много времени заняло прощание.
После отпевания, при пении студентами «Святый Боже», гроб из храма вынесли сослуживцы по Академии, студенты и родственники. Преосвященный Анастасий соборно с архимандритами Анатолием и Димитрием и другими духовенством совершил литию, и печальная процессия, сопровождаемая множеством народа, направилась к квартире усопшего. Студенческий хор пел «Святый Боже». За гробом следовали вдова с сыном, братья, родственники и многочисленные почитатели. У квартиры почившего преосвященный Анастасий совершил литию, при стройном пении студентов. Отсюда процессия, сопровождаемая архимандритами Анатолием и Димитрием, и другим духовенством, проследовала на Миусское кладбище; у храмов по пути шествия были отслужены литии. Процессия растянулась на большое протяжение; гроб сопровождали профессора и сослуживцы почившего по Академии, по редакции «Московских Ведомостей», по Институту Многие представители ду-
—46—
ховенства, бывшие ученики, студенты Академии и слушатели Института.
Процессия прибыла на кладбище в четыре часа дня и была встречена преосвященным Феодором, епископом Волоколамскими, который у свв. врат совершил литию. Шествие двинулось к могиле, приготовленной около храма, с южной стороны, недалеко от могилы родителей и родственников усопшего. Преосвященный Феодор совершил последнюю литию. У открытой могилы были произнесены две речи. Первую произнес студент 1 курса Е.Я. Кобранов:
«Слуга... словеси (Лк.1:2)»
«Христианин-философ! Позволь и моему смирению от лица самых юных членов Академической семьи бросить горсть фимиама перед твоей величественной личностью, поскольку свет сокровищ твоего духа быль отблеском «Тихого света славы Отца Небесного», был блеском Бога – Слова, усеявшего универс семенами, искрами своих совершенств. Я буду «петь» о тебе, положу красивый букет иммортелей слова на твой гроб, принесу каплю мира «души твоей не потому только, что, по словам древних, «de mortuis aut bene аut nihil». Арфа души должна зазвучать, коли вихрь по струнам ее мчится! «Возраст юности мятежный», возраст полноводья жизни, тем и славится, что болезненно «алчет и жаждет правды», искренне хочет оценить все по достоинству, прощая все, безудержно стремится воздать великому должное. Пусть у гроба твоего, философ-учитель, дышал хвалой, изнемогал печалью уста «сильных», старших! Не умолчу и я! Кто-то уверял нас: «у юношей слово жизни кричащей, самое искреннее, самое живучее... Они идут!»
Мы пришли к твоей кафедре, поместились у ног твоих (подлинно: наш Гамалиил), незадолго до того, когда голос твой перестал звучать с высоты профессорского седалища. Последний прилив юношества ad almam matrem застал корифея академической науки уже низко, низко над западным горизонтом жизни. Любознательные глаза молодых пришельцев видели лишь вечерний свет, недолгий
—47—
блеск ныне усопшего теперь профессора. Но это не препятствует от избытка сердца говорить устами! Пришедшие «во едино десятый час» получают часто столько же, сколько явившиеся на труд в первом часу. На солнце вечером удобно смотреть, чем утром и в полдень. Есть предметы и картины, которые только в вечерних лучах являются в настоящем своем виде. Исчезшую звезду первой величины, мы наблюдали в прозрачной атмосфере вечера. Вечером живым. А.И. предстал перед своими слушателями в тон «Слуги Слова», «жреца Тихого Света», светочем «Бога-Разума», «сыном света».
Я не знаю, как свет личности несравненного профессора лился в различные стороны жизни, но достаточно помню, как лучи этого света текли, лучились и искрились по всем радиусам в сладкой тиши философской аудитории. В благоуханном просторе названной аудитории он сиял мощно и тихо, как звезда. «Слуга Слова», «Сын Света», «маяк Самим Создателем восженный» был виден в ушедшем от нас педагоге во всем.
Свое ответственное дело профессора философии, науки «о вещах небесных и земных» покойный наставник совершал одушевленно, торжественно, как литургию. Он знал, что под его резцом в академической студии не глыбы мрамора оживляются, а созидаются «живые души», таящие в себе «образ неизреченной Божией славы». Потому носитель божественного огня никогда (подлинно: «не пахал своего Гамлета»), не был «наемником», а всегда только восторженно исполняли красивый пышный ритуал мистерии. В этом отличительном флере деятельности усопшего нельзя не усмотреть господствующей характерной черты «слуг Слова», величайший из которых восклицает перед отшествием к вожделенному Христу: «Подвигом добрым подвизахся, течение скончах, веру соблюдох» (2Тим.4:7–8). Ах, Сердцеведче, как мало в сумерках современной жизни таких ревностных творцов изящной действительности, здоровых идеалистов, являющихся «крылом могучими, подъемлющим на высоту родные им сердца!».
Жрец «Всехитреца Слова», пленившего весь мир в по-
—48—
слушание Свое, сказывался в незабвенном светоче богословской науки, и тем, что он подобно «ловцам человеков» очаровывал сердца приходивших к нему на «пир» философский. Как вещий баян, философ-наставник вкладывал свои нежные пальцы на живые струны души, и они сами гремели гимн Истине, Добру, Красоте. Он умел свои сомнения сомнениями нам представить, поверить так, чтобы заставить верить и других. Как игра божественного Орфея, как гармония сфер небесных, как шелест волн морских где-нибудь у берегов французской риверы, звуки крылатых слов профессора вкрадывались в душу, крепли там и в своих мощных объятиях уносили ее «от мира печали и слез» в «горнее место», страну чудную, премирную. Под животворными лучами всей его недюжинной, обаятельной личности сердца, таяли, проливались и, как капли по стеблю, струились в указанном направлении. Так этот славный носитель добрых седых заветов Платоновой по духу Академии учил нас не только рассматривать идеи при тусклом свете действительности, но и действительность – при выскреннем свете идей.
Как идейный вождь юношества, А.И. шел по стопам Божественного Педагога, Доброго Пастыря. Мантия опыта украшала его, ореол мудрости венчал его главу. При насаждении и культивировании добра он твердо держался принципа: «Omnia spouts fluat et absit violentia in omnibus». В отношении к содержанию преподаваемого почивший наставник был разборчив, как добрый садовник относительно бросаемых семян. Он сам в одной из первых лекций говорил: «Идеи – силы; ими шутить, бросаться нельзя» и прекрасно иллюстрировал данное положение сюжетом известного романа Поля Бурже «Ученик». При всем этом плащ глубокого смирения покрывал философа-христианина. Не преувеличивая своей профессорской задачи, он как-то высказался, что взошел на кафедру не отвечать на вопросы: «что есть истина?», а лишь указать пути к ней; сказать: «вот там истина, идите в этом направлении!».
Чрезвычайно характерен, братья мои, для сего редкого
—49—
мужа и тот небесно-идеалистический фон, на котором его глубокая мысль начала было вышивать пред нами дивные узоры философа. Он являет в нем дух, внутри присно томившийся жаждой Бога, стремившийся на солнечных крыльях Платоновского Эроса, проникнуть к пренебесному престолу Слова, Агнца. Уча различать между философией и филодоксией, несравненный сказывал нам о чудном, но трудном пути философствования, конец которого теряется в высоте Олимпа философского созерцания. А тонкие струнки христианской тоски психей о божественном Эросе скользили, извивались между слов. С его речи перед нашими глазами предносилась красочная панорама этого пути и муки самосознания и миросознания, и труды опасного подъема на гору философского созидания, и радость при виде необъятных горизонтов на вершине, вдыхание свежего воздуха, укрепление сил и, наконец, схождение в гущу жизни для воссоздания последней. При созерцании всех этих художественных картин, открыто говорю, душа трепетала, как пробудившийся орел, и в пока туманной дымке широких перспектив чуяла явление «великого совета Ангела». Ах, как эти восторги далеки, как невозвратны.
Итак, ты, дорогой профессор, служил Иисусу Христу, а Он нам всем в лице «другов» Своих сказал: «Аще кто Мне служит, почтит Его Отец Мой» (Ин.12:26).
Волей Бога, на службе Которому протекла жизнь твоя, ты, кормчий добрый, ушел от нас, покинул нас. Блекнут краски, исчезают ароматы, в пук искр превращаются звезды, – со всем этим можно при желании примириться. Но с порождением греха – «смертно человека», смертью созидателя жизни, в особенности, не хочется. Виждь, Боже, не хочется! Кто подобно ушедшему к Тебе обогатит нас знанием, кто укажет путь к царству истины, кто озарит светом интеллекта вселенную, осветит мутные глубины жизни?! Придут другие, но не ты, славный наставник! Нет! Грохот волн морских не заглушит совершенно скорби по тебе, луч солнца не разгонит ее, роса утренняя, цветы весенние, звенящая весенняя даль, задор-
—50—
ная свежесть полей, клейкие листочки, пряный запах земли не наполнят душу безоблачной радостью, когда нет того, кто давал «паче меда» устам нашим, кто услаждал нас благоуханием мудрости. Разве Ты, Боже, утешишь нас, поставив усопшего у «пренебесного мысленного Твоего жертвенника». Только Ты можешь сделать это, имеющий «ключи» ада и смерти». Убели же хитон души нашего чтимого наставника, как волну; сделай чистым, как снег! Дай ему беспреткновенно пройти воздушные пути к горнему Иерусалиму! Как ветер разрывает тонкие облака, так Ты раздери хартии грехов его! Дух тьмы да не усмотрит пятен на брачной одежде «поклонника» Твоего, чтобы он воскрес в жизнь вечную в последний день. Твоя воля «да всяк видяй Сына и веруяй в Него имать живот вечный». А он веровал, верой жил, на основе ее созидал! Ты примешь его в свои «обители многи». И слезы наши превратятся в душистые розы тогда».
Последняя речь принадлежала слушателю Педагогического Института В.С. Сергееву, который указали, что в лице А.И. Введенского слушатели Института утратили «незаменимого профессора-руководителя»:
«Господа, мы стоим перед открытой могилой профессора Алексея Ивановича Введенского. Великое множество людей разных состояний, пола и возраста, пришедших отдать последний долг покойному, уже само по себе свидетельствует, что сегодня опускают в могилу не совсем обычного покойника, ординарного, простого человека. Да, господа, и на самом деле, в настоящую минуту мы стоим на краю могилы не только среднего ординарного человека, но прямо, без натяжек и преувеличений – великого, чтобы не сказать – гениального.
Что из себя представлял покойный проф. Алексей Ивановичи Введенский, как философ, какую философскую позицию он занимал, к какой ученой школе он примыкал, обо всем этом я надеюсь поговорить в другое время, когда мысли придут в надлежащее равновесие и чувство уступить первое место строгому, сухому рассудку; теперь же, когда все присутствующее повергнуты в неопи-
—51—
суемую печаль и скорбь, когда слезы сдавливают дыхание, нельзя думать о сколько-нибудь углубленной оценке умершего, в высшей степени оригинального и самобытного русского ученого. Да, к тому же ученая деятельность покойного столь многогранна, так много областей мысли и жизни захватили творческий ум Алексея Ивановича, что даже для самой беглой и общей характеристики потребовалось бы значительное время, а главное спокойное состояние духа. Я ни одной секунды не сомневаюсь, что даже в самом недалеком будущем появится целый ряд характеристики Алексея Ивановича, как философа, мыслителя и педагога, принадлежащих перу людей разных направлений, убеждений и толков.
В настоящий же, тяжелый для нас всех здесь собравшихся, момент я попытаюсь охарактеризовать проф. Алексея Ивановича, конечно, не претендуя на исчерпывающую полноту, как философа-гносеолога и педагога за два последних года его жизни, т. е. за время его научно-педагогической деятельности в стенах первого в России педагогического института.
В 1911 учебном году, т. е. в год открытия педагогического института проф. А.И. Введенский был приглашен в качестве лектора и руководителя практических занятий по логике. Принимая приглашение, Ал. Ив. прекрасно понимал, какая трудная задача поставлена перед преподавателем логики именно в педагогическом институте, где наряду с общими задачами преподавателя философии ни на одну минуту нельзя упускать из виду специальных, чисто педагогических целей. К этим двум основным условиям присоединились тысячи других затруднений, обусловленных так сказать, временем и местом. Конечно, обыкновенный ординарный профессору не мудрствуя лукаво очень скоро нашел бы выход из этого исключительного по трудности положения, стал бы читать курс «догматической» традиционной, вошедшей в состав всех учебников и руководству гносеологии и логики, не претендуя на изложение методов и результатов добытых неусыпными трудами современных мировых авто-
—52—
ритетов. А как раз, ведь наиболее выдающиеся труды по гносеологии и логике приходятся на последние 10 лет.
И я отлично помню, когда мы, студенты педагогического института, особенно интересовавшиеся гносеологическими проблемами наших дней, с нетерпением ожидали, что «преподнесет нам профессор духовной академии». Теперь я совершенно откровенно сознаюсь, что я никак не мог предположить, что после Zimmel’я, Rickert’a и др. мировых знаменитостей, может дать что-либо новое и оригинальное Ал. Иванович тем более, – а это главное, – я, к глубокому моему стыду, до тех пор не был знаком с основными трудами по философии Ал. Ивановича. Но вот наступает понедельник. В 12 часов (26 октября), первая вступительная лекция Ал. Иванович, после первых приветствий и обмена мыслей pro domo sua (относительно перестановки часов и пр.) Ал. Ив. намечает в кратких словах программу своего курса и, наконец, переходит к общей характеристике современных течений в философской дисциплине. Первую лекцию в педагогическом институте Ал. Ив. читал без перерыва, т. е., два часа, и эти два часа навсегда останутся для меня памятными – так глубоко проникли в сознание первые слова, услышанные мной от незнакомого до тех пор профессора духовной академии. Уже на первой своей лекции Ал. Ив. сразу дал почувствовать, что мы имеем дело с огромной ученой силой, с человекам, совмещающим колоссальную философскую эрудицию с несравнимым высокохудожественным даром изложения. Характеристика Гегеля, Зигварта и Бергсона, предложенная аудитории Алексеем Ивановичем на первой его лекции в педагогическом институте, произвела прямо исключительное впечатление на всех слушателей. Ал. Ив. сумел дать богатую пищу и хорошо подготовленным, и мало подготовленным; сумел заинтересовать оригинальной постановкой вопросов тех, которые уже и раньше имели интерес и чувствовали симпатию к философским наукам и в тоже самое время заронить искру священного огня философского знания в души лиц, малоосведомлен-
—53—
ных в философии. И те, и другие были в восторге; перед теми и другими открылись новые горизонты, и тот час, после лекции около профессорской комнаты, где находился Ал. Ив., выстроилась целая шеренга слушателей, желавших предложить тот или иной вопрос по поводу прочитанного, причем особенный интерес вызвало стремление Ал. Ив. помирить все вышеназванные и, по общему мнению, диаметрально противоположные учения или, как он любил выражаться, найти нечто общее, которое объединило бы все системы, всех людей – живых и мертвых. В том, что современная наука, разбившись на неисчислимое множество отдельных дисциплин, утратила самое высшее всеобъединяющее и все собой наполняющее, дающее всему жизнь и одухотворение – словом Абсолют, Ал. Ив. видел ее слабое, обильное грозными и страшными последствиями место. Найти утраченное общее, Абсолют, познать вещь в самой себе, к чему так рвется современное человечество в лице своих лучших представителей. Ал. Ив. приветствовал всей душой, так как в противном случае люди, потеряв веру в общее, Абсолют, никогда не сумеют выработать определенного мировоззрения и миропонимания и, шатаясь из стороны в сторону, внесут в жизнь неуравновешенность, тревогу и беспокойство. Так в общих чертах обосновывал свою метафизику проф. А. Ив. Введенский. Огромная важность и интересная постановка вопроса, как мы сказали, после первой уже лекции собрали около Ал. Ив. целую толпу слушателей, и, несмотря на большую усталость, и вполне естественный нервный подъем, Ал. Ив. никого не обидел, охотно выслушивал возражения и недоумения со стороны слушателей, давал пояснения, рекомендовал литературу и т. п . Таким образом, уже первая двухчасовая, точнее, если принять во внимание беседу в профессорской комнате – шестичасовая лекция сразу решила – с ним нам придется иметь дело на лекциях и семинариях по логике – вернее по гносеологии. Дальнейшие лекции блестяще подтвердили неотразимое и никогда неизгладимое впечатление первой. С каждыми днем Ал. Ив. развертывался и
—54—
давал ясно понять и почувствовать, что он свою задачу понял очень широко и что он никоим образом не думает «преподносить» нам курс «догматической», традиционной, расползающейся по всем швам, гносеологии-логики. Нет, как раз напротив, Ал. Ив. решили стать в фокусе современной науки. Он отлично понял и глубоко прочувствовал, что старая гносеология и ее составная часть – логика – действительно нуждается в генеральном пересмотре всех ее основных положений и капитальной перестройке главных ее отделов, и Ал. Ив., видимо, решил использовать свои блестящие дарования и огромную эрудицию и со своей стороны положить посильную лепту на алтарь логики – чистого знания. Работать же в области гносеологии и логики в двадцатом столетии, как хорошо известно всякому, занимающемуся философскими дисциплинами, в высшей степени трудно, требуется почти сверхчеловеческое напряжение мысли и всесторонняя осведомленность, наконец, особое философское чутье, если позволено так выразиться, вкус к тончайшим изгибам и движениям человеческого ума. Логизм, психологизм, трансцендентализм, имманентизм, интунтивизм, критицизм и множество других философских течений, имеющих в своих рядах выдающихся ученых, способны прямо раздавить, даже очень хорошо, великолепного специалиста, ненаселенного даром философской интуиции, даром проникновения в саму суть вещей. При таких исключительных во всех отношениях условиях взошел на кафедру в педагогическом институте проф. Ал. Ив. Введенский; разумеется, о какой-нибудь философской «догматике» при таком положений вещей не могло быть и речи, пока что приходилось работать лабораторным методом, осторожно и методически разбирать одну нить за другой в тончайшей ткани современной философской мысли, все время боясь каким-нибудь неосторожными движением оборвать тонкую мысль, неправильно ее перетолковать и тем самым, как выражался Ал. Ив., с философских парнасских высот спуститься в обывательские покои. Вот эта-то лабораторная работа, беспрерывное творчество на лекциях – черта, в
—55—
высшей степени характерная для крупнейших ученых и творческих умов особенно, и приковывала наше внимание, и привлекала на лекции Ал. Ив. всегда полную аудиторию. За то, что Ал. Ив. вводил нас в свою прекрасно и с большим вкусом обставленную ученую лабораторию, мы его безгранично любили, уважали и ценили. Он нас учил работать, указывал методы, пути и средства, как вернее и скорее всего можно достигнуть прочных результатов, как выработать научно обоснованное и прошедшие через горнило самой придирчивой и беспощадной критики, мировоззрение и миропонимание.
Ни одна книга, ни даже целая библиотека не могла заменить творческой работы Ал. Ив., нам важно было знать не только результаты работы, но и сами приемы и методы ее, а этого последнего, конечно, во всей полноте не может дать ни одна, книга; для этого необходимы живое слово, живой и умный руководитель.
Насколько приковывал внимание аудитории к своему предмету покойный Ал. Ив. можно судить уже по одному тому, что не было ни одной лекции по логике, чтобы после нее в профессорской комнате около Ал. Ив. не толпилось 10–15 человек, жаждавших побеседовать с любимым, умным и тонко образованным руководителем. Сплошь и рядом с профессорской начиналась новая лекция, беседа, иногда продолжавшаяся вдвое, а то и втрое больше обычной часовой лекции. Когда же спор разгорался, то солидный и импозантный Ал. Ив. воодушевлялся: его глаза горели юношескими блеском и с жаром защищал он тогда свою позицию, поражая своих собеседников тонко-продуманной, неотразимой аргументацией и удивительным мастерством выражения своих мыслей. Но Ал. Ив. никогда не прибегал к так называемым в логике «argumеnta baculinа». «Палочные аргументы» ему были совсем не знакомы.
Бывали даже такие случаи, когда Ал. Ив. выходил из словесной борьбы побежденным, прямо и открыто заявлял, что в этом пункте он не чувствует под собой твердой почвы «об этом я еще хорошенько подумаю, кое-что еще
—56—
прочту и проштудирую, а главное – получше подумаю». Очень характерен, например, следующий случай. После одного очень горячего обмена мнениями – по поводу второй части «Logische Untersuchungen» Ed Husserl’я, длившегося около трех часов и все же не доведенного до логического конца, через несколько дней Ал. Ив. встречает меня на Тверском бульваре и заявляет, что «Вы были правы, и я даже думаю теперь просмотреть некоторые части моего «закона причинности». Затем разговор сконцентрировался около книги Emil Laskl «die Logik der Philosophiе und die Kategorienlehre», которую здесь же решено было перевести на русский язык, и Ал. Ив. любезно и охотно согласился просмотреть и проредактировать перевод названной книги Laskl’a.
В текущем 12–13 академическом году Ал. Ив. открыли свой семинарий по логике, на который мы с полными основанием возлагали великие надежды. И действительно, уже при обсуждении первого представленного доклада «Логизм и психологизм» Ал. Ив. снова, после летнего перерыва, блеснул своей удивительной философской эрудицией, тонким пониманием дела и остроумием, и в последний раз перед нами Ал. Ив. произвел анализ двух важнейших взаимно-борящихся направлений – логизма и психологизма, – причем сам Ал. Ив. решительно склонялся на сторону последнего, т. е. психологизма; отдавая должное научным заслугам логиста Эд. Husserl’я, Ал. Ив. полагал, что стремление изгнать психологизм из логики так, как этого требует Ед. Husserl’я, значит стараться выйти из самих себя и питать странную надежду, что люди могут создать сверхчеловеческую науку. Попутно, во время обсуждения того же самого реферата, Ал. Ив. бросил два-три очень ценных замечания о книге Н.Cohen’a «Systeom der Philosophie», отмечая некоторую непоследовательность в аргументации Cohen’a, все же de facto признающего известное значение за «знаком вопроса» – ощущениями.
Следующий реферат об «интроекции» Р. Авенариуса был только заслушан, предполагались горячие дебаты, но на очередную лекцию Ал. Ив. почему-то не явился, через пять дней на стене института около аудитории появилось неболь-
—57—
шое, оказавшееся впоследствии роковым, объявление, гласившее, что «проф. А.И. Введенский впредь до особого объявления лекций читать не будет». Это многозначительное объявление висело на стене института приблизительно около 3-х месяцев и, наконец, три дня тому назад было заменено другим: «директор института просит пожаловать гг. слушателей на панихиду по скончавшемся проф. Алексее Ивановиче Введенском».
Уже предшествующее изложение показало, что представлял из себя Ал. Ив., как педагог-руководитель. Может быть, впервые в России на занятиях Ал. Ив. в надлежащих размерах была реализована великая идея педагогики – единение учителя и учащихся на почве чистого знания, чистой науки. При оценке знаний Ал. Ив. руководился только одними критерием оценки степени одаренности и внимательного отношения к делу; ни личных симпатий, ни антипатий – словом, никаких примесей неакадемического характера он не признавал. Но, с другой стороны, Ал. Ив. умел переживать различные настроения своих учеников, умел радоваться их радостями и печалиться их горем; он всегда быль к услугам своей аудитории и делал для нее все, что было в его силах, а сделать он мог очень и очень многое. Прямо поразительно, как Ал. Ив. сумел совмещать в себе два величайших и ценнейших дара судьбы: глубокий и тонкий аналитико-синтетический ум, огромную эрудицию и мягкое, доброе и чуткое сердце. Своим методом работы и обращением со слушателями он указывал им на их будущее на трудном педагогическом поприще, на ниве народного просвещения, как он любил выражаться. После всего вышесказанного было бы излишне повторить, какую огромную, едва ли поправимую потерю понесла русская школа, русская наука и русское просвещение в лице умершего Ал. Ив. Введенского.
Нас утешает только одна единственная надежда, достойная умершего философа, – работать на поприще науки и педагогики, согласно его великим и славным заветам. Мы никогда не забудем твой завет, умерший Алексей
—58—
Иванович, дорогой наш учитель и воспитатель, что материальные отношения, связывающие людей, сравнительно скоро истлевают, порываются, но остаются еще мысли, идеи, которые соединяют живых и мертвых; в этом и состоит, выражаясь твоим языком, вечная, непрерывная преемственность непреходящих ценностей общечеловеческой культуры.
Мир праху твоему, великий философ и мудрый человек».
Лишь в исходе пятого часа дня закончился печальный обряд погребения А.И. Введенского. С кладбища духовенство с преосвященным Феодором во главе, сослуживцы и ученики вместе с многочисленными родственниками были приглашены семьей покойного на поминовенную трапезу.
По поводу кончины профессора А.И. Введенского семьей почившего были получены многочисленные сочувственные телеграммы.
От первоприсутствующего члена Св. Синода, Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита С.-Петербургского и Ладожского:
«Скорблю о дорогом Алексей Ивановиче, молюсь о нем.
Митрополит Владимир».
От генерал-майора К.К. Истомина:
«Глубокий почитатель незабвенного Алексея Ивановича, прошу Вас принять выражение моей горячей скорби в постигшей Вас и Вашего сына тяжелой утрате. Да послужит общая скорбь друзей, почитателей и учеников Вашего мужа, хотя некоторым утешением ниспосланного Вами Господом испытанья.
Владимир Истомин».
Профессору Д.И. Введенскому от почетного блюстителя академии В.Д.Попова:
«Примите мое самое горячее сочувствие постигшей вас скорби, вследствие кончины дорогого Алексея Ивановича, человека редкого ума и не менее редкого сердца, служившего украшением и оплотом нашей Академии.
Василий Попов».
—59—
От него же – супруге почившего.
«Душевно скорблю, что нездоровье лишает возможности помолиться у гроба вашего почившего супруга, которого я любил сердечно, высоко ценю его ум и прекрасную душу. Вечная ему память.
Василий Попов».
От ректора Новгородской семинарии, архимандрита Алексия:
«Всей душой опечален кончиной дорогого Алексея Ивановича, да помянет Господь его веру, его преданность церкви, чистоту его убеждений. Горячо молюсь. Для меня он незабвенен.
Армимандрит Алексий».
От графа Комаровского:
«Примите от всей семьи нашей выражение искреннего соболезнования Вашему горю.
Граф Комаровский».
От графини Комаровской с дочерьми:
«Шлём Вам выражение нашего искреннего соболезнования.
Графиня Комаровская с дочерьми».
От доцента академии Н.Д. Протасова:
«Глубокоуважаемая Мария Ильинична! недуг приковал меня к постели и я не мог принять участие в молитвенных проводах в жизнь вечную дорогого наставника. Он был дорог мне, как выразитель моих идеалов, чувств. В тысячах своих учеников он заметил меня, поднял до себя предложением на кафедру дорогой академии. Только горячей молитвой к Господу я буду благодарить усопшего. Из любви к нему примите мое искреннее участие в постигшем Вась горе и уверение в совершенном к Вам уважении.
Протасов».
—60—
От профессорского стипендиата В.Н. Муратова:
«Глубоко опечален кончиной любимого профессора, болезнь лишает возможности проститься.
Муратов».
На имя редактора «Московских Ведомостей» была прислана телеграмма от преосвященного Митрофана, епископа Екатеринбургского:
«Из полученного сейчас № 46 «Московских Ведомостей» узнал о кончине Алексея Ивановича Введенского. Со всеми знавшими его оплакиваю тяжелую утрату. Молюсь об упокоении души незабвенного товарища, столь блестяще и плодотворно поработавшего на поприще науки, литературы и публицистики, на пользе и славу Церкви и православия.
Епископ Митрофан».
Кроме телеграмм родственниками усопшего получались сочувственные письма.
Член Святейшего Синода и Государственного Совета, преосвященный епископ Никон прислал супруге почившего следующее письмо:
«Многоуважаемая Мария Ильинична!
Милость Божия буди с Вами!
Сейчас, стоя у всенощной, получил я скорбную телеграмму: «сегодня брат скончался. Погребение в среду». Подписи нет, но сердце подсказывает, что речь идет о дорогом Алексее Ивановиче... И так больно и грустно стало на душе, что тотчас же и пишу эти строки... Если сердце не обмануло, то царство небесное почившему философу-христианину! Вечно будет его светлый образ истинного православного мудреца жить в сердцах тех, кто знал его... Не того мы ожидали. Мы надеялись, что могучий организм перенесет болезнь... Но, видно, его душа созрела для неба, а больше чего же еще ему-то нужно? Другое дело мы... О, нам он нужен – нужен бы еще... И в такое мутное время, как наше, именно такие светлые умы очень нужны...
—61—
Так думается нам... А у Бога Свое промышление и решение... И буди Его святая воля!
Пишу Вам, а прошу передать сии строки и Дмитрию Ивановичу. Ведь это был для почившего не только брат, но и друг, другой я, в лучшем смысле...
Укрепи Господи Вас в несении великой утраты... Церковь не забудет заслуг почившего раба Божия Алексия в своих молитвах...
Божие Вам и сынку Вашему благословение. Ваш искренний доброхот
Епископ Никон.
23 февраля 1913 г., Невская лавра».
Брату почившего, Дмитрию Ивановичу, наместник Свято-Троице-Сергиевой Лавры писал:
«Добрейший Дмитрий Иванович!
Глубоко скорблю о лишении дорогого и всеми любимого Алексея Ивановича. Усердно молю Бога да вселит душу его, идеже приведши упокоятся.
Архимандрит Товия.
25 февраля 1913 г.».
Настоятель посольской церкви в Берлине протоиерей А.П. Мальцев писал вдове А. И-ча:
«Ваше превосходительство!
Еще на днях я послал карту дорогому и незабвенному Вашему супругу, и вот вчера с вечерней почтой пришло печальное извещение о кончине добрейшего Алексея Ивановича.
Искренне и глубоко соболезную Вам и Борису Алексеевичу в невознаградимой утрате горячо оплакиваемого почившего и возношу мои молитвы о нем и о Вас, чтобы Господь подкрепил Ваши силы.
Сегодня (среда) – в первую преждеосвященную литургию его отпевают и хоронят на Миусском кладбище. Я надеялся, что увижусь с ним в этом году по обычаю в
—62—
Берлине, но нашей беседе за дружной трапезой в Братском доме осенью прошлого года суждено было быть последней!
Душевно соболезную Вам!
Прот. А. Мальцев
23 декабря 1913 г.»
От Д. Королькова вдова получила письмо:
«Милостивая Государыня Мария Ильинична!
Будучи лишен возможности отдать последний долг Вашему, безвременно почившему, супругу Алексею Ивановичу, прошу Вас принять мое самое искреннее соболезнование в постигшем Вас великом горе. Да ниспошлет Вам Господь мужество и силы перенести поразившее Вас тяжкое испытание!
Ваш покорный слуга Д. Корольков.
27 декабря 1913 г.».
От С.И. Казанского М. И-чна получила следующее письмо:
«Многоуважаемая Мария Ильинична!
От всей души сочувствую Вам и близким Вашим в постигшей Вас невознаградимой утрате.
Очень хотел бы, но не умею и не смею сказать Вам слова утешения.
Пусть утешит Вас другое, сильное слово: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих», страданий своих.
С искренним уважением
С. Казанский».
Были получены еще письма от священника И. Виноградова, от художника С.В. Беклемишева.
У одного поэта есть такое стихотворение. Он представляет себя склонившимся над колыбелью плачущего по пустяками малютки и говорит: «теперь ты плачешь и вокруг тебя все смеются, но как бы я желал, чтобы, когда ты пройдешь твой жизненный путь, ты встретил бы смерть
—63—
с улыбкой, а вокруг тебя все бы плакали». Последнее и произошло с Алексеем Ивановичем. Еще в ноябре я слышал от него спокойное заявление: «я готов». И не должен ли быть признан наилучшем удел того человека, который встречает смерть без скорби, и смерть которого вызывает бескорыстную и глубокую скорбь у многих?
С. Глаголев
От Императорского Московского Университета (Об учреждении имени стипендии имени В.О. Ключевского)
12 мая 1911 года русская наука понесла тяжкую утрату в лице заслуженного Профессора Московского Университета Василия Осиповича Ключевского. Русскому Обществу хорошо знаком и дорог образ великого ученого, сочетавшего силу мысли с даром художественного творчества и могуществом устного слова. Имя почившего одинаково близко как многочисленным слушателям его, разбросанным по всей России, так и еще более многочисленным читателям его литературных произведений. Работы его, бросая яркий свет на наше прошлое, будили общественное сознание, развивали мысль ряда поколений и воспитывали школу исторической науки.
Идя навстречу проявленному со всех сторон горячему желанию выразить уважение к памяти В.О. Ключевского, Московский Университет остановился на мысли почтить память почившего так же, как некогда была почтена память его великого учителя Сергея Михайловича Соловьева, и возбудил ходатайство об учреждении при Московском Университете стипендии его имени для оставленных при Университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре русской истории, а также и премии за лучшие сочинения по русской истории и истории русской церкви.
Ныне ВЫСОЧАЙШЕ разрешено открытие повсеместного сбора добровольных пожертвований для означенной цели. Объявляя об этом во всеобщее сведение, ИМПЕРАТОРСКИЙ Московский Университет приглашает всех почитателей В.О. Ключевского доставлять свои пожертвования, не стесняясь их размерами, в Правление Университета, во все Конторы и отделения Государственного Банка, в губернские и уездные казначейства Российской Империи для зачисления на условный текущий счет в Московской Конторе Государственного Банка за № 20225, открытый на имя Совета ИМПЕРАТОРСКОГО Московского Университета.
Отчеты о поступавших пожертвованиях будут публиковаться два раза в год.
Максим Исповедник, св. [О нем] Жизнь, дела и мученичество преподобного отца нашего и исповедника Максима / Пер., изд. и примеч. М. Д. Муретова // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 3. С. 33–48 (3-я пагин.). (Продолжение.)
—33—
Ркп. А.
| καὶ ἐν Ῥαβίννῃ ἐλϑὼν, ὡς κύων ἐπὶ τὸν ἲδιον ἐπανῆλϑεν ἒμετον697. Τοῦτο δὲ μαϑὼν Θεόδωρος ὁ πάπας τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας συναϑροίσας698 καὶ τὸν τάφον τοῦ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων Πέτρου699 καταλαβὼν καὶ αἰτήσας τὸ ϑεῖον ποτήριον ἐκ τοῦ ζωοποιοῦ τε αἵματος700 ἐπιστάξας οἰκείῳ χειρὶ αὐτοῦ701 τε καὶ τῶν κοινωνούτων αὐτῷ τὴν καϑαίρεσιν ποιεῖται. | своей блевотине. Узнав об этом, Феодор папа собрал всю полноту702 Церкви, и, при гробе первоверховного Апостола Петра, потребовав Божественную Чашу и пустив в чернила каплю Животворящей Крови, собственною рукою совершает (т. е. пишет) низложение (и отлучение) как его (Пирра Th и Г), так и сообщников его. |
| Παύλου δὲ ἀποθανόντος οἱ τολμηροὶ τὸν Πύῤῥον αὐθις τὴν Κωνσταντινούπολιν καταλαβόντα τῷ ἀρχιερατικῷ θρόνῳ ἐγκαθύδρισαν703. Καὶ704 ἡ μὲν τῶν πόλεων βασιλεύουσα ὅλη ἀθλίως ἐπὶ πᾶσι πράττουσα, πάλιν τὸν Πύρρον εἶχε κακὸν ἐγκόλπιον705. Ἡ δὲ πρεσβυτέρα καὶ σώφρων Ῥώμη, Θεοδώρου τελευτήσαντος, Μαρτῖνον τὸν ἁγιώτατον ἀρχιερέα δέχεται706. | По смерти же Павла дерзкие еретики возвели Пирра707, опять прибывшего в Константинополь, на архиерейский престол. И царственный город, к довершению всех бед, снова стал иметь Пирра злом в своем лоне. Напротив, старейший и благоразумный Рим, после кончины Феодора, получает святейшего архиерея Мартина. |
| Ἐπὶ τούτοις δὲ καταλαβόντος708 Μαξίμου ἀπὸ Ἀφρικῆς709 καὶ710. | Тогда Максим прибыл (в Рим) из Африки и возбу- |
—34—
и глубокомысленно изложение этого спора. Желающие могут прочитать самим святым (Максимом) составленный об этом труде711, из коего точнее узнают, как вопросы и ответы святого712, все исполненные мудрости и надлежащих рассуждений, так и несогласованность и противоречивость, или лучше сказать неразумность и бессмысленность предположений Пирра, так что он, отрекшись от всего, кладет, как говорится, быка на язык и признает бессилие своих рассуждений. И хотя он представлял их во многих видах и (разнообразил713) и всячески изощрял, однакож не получил никакого подкрепления тому, чего желал. И даже просит прощения в том, что он сделал, тут же) письменно прокляв свой и монофилитский догмат и представив свое сочинение Римскому папе, коим и был принят с невыразимым радушием. Но714 этот безумец и крайний глупец (как715) бы ничего нового с ним не произошло), в Равенне (оказавшись716), опять принял прежнее учение и как некий) пес на свою блевотину возвратился717. Когда это дошло до слуха святого Максима и самого названного предстоятеля Римского, то они на общем соборе выносят обвинение против него, отсекши и отбросив (окончательно) погибшего, как некий гнилой
—35—
Ркп.А.
| Μαρτῖνον πρὸς ζῆλον ἐξάψαντος, σύνοδος718 ἐκατὸν πεντήκοντα ἐπισκόπων ἀϑροίζεται. Καὶ719 Σέργιον μὲν καὶ Πύῤῥον Κῦρόν τε καὶ Παῦλον μετὰ τῶν δογμάτων720 ἀνεϑεμάτισαν, τὰς δὲ δύο ϑελήσεις καὶ ἐνεργείας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ721 τρανῶς ἀνεκήρυξαν722 καὶ πρὸς πᾶσαν τὴν ὑφ’ ἡλίῳ τὰ τῆς ἀληϑείας διαπέμπεται δόγματα. Ἐι δὲ τὶς καὶ τὰ περὶ ταύτης τῆς συνόδου ἀκριβέστερον μαϑεῖν βούλοιτο, ἔξεστιν αὐτῷ τὸ περὶ τούτων διαλαμβάνον συνοδικὸν βιβλίον εἰς χεῖρας λαβεῖν καὶ τὴν τῆς ἀληϑείας ἐπιγνῶναι δύναμιν. | дил рвение в Мартине, – собирается собор из ста пятидесяти епископов. Сергия, Пирра, Кира и Павла вместе с их догматами предали анафеме, а два хотения и действия Христа Бога ясно провозгласили, и во всю вселенную рассылаются догматы истины. Если же кто пожелает точнее узнать и об этом соборе, тот может взять в руки книгу, подробно излагающую определение этого собора, и узнать всю истину. |
| Μετὰ ταῦτα ὁ μακάριος Μάξιμος ἐν τῇ Ῥώμῃ διατρίψας συνέταξε л.234 μὲν βίβλους κατὰ ταύτης τῆς φϑοροποιοῦ καὶ βλαβερᾶς αἱρέσεως, θεομάχον καὶ πάντη ἀλλοτρίαν Θεοῦ ταύτην ἀποδεικνύων. Ἐπιστολὰς δὲ καὶ ὑποτυπώσεις, πλήρεις σοφίας ϑείας καὶ γνώσεως ὑπαρχούσας, καϑάπερ ἂλλος Παῦλος, ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἐξαπέστελλε, τὴν τιμίαν καὶ ὀρϑόδοξον πίστιν ἀνακηρύττων | После того блаженный Максим, проживая в Риме, составил книги против этой тлетворной и вредоносной ереси, обличая ее богоборность и полное отчуждение от Бога. Письма и очерки, исполненный божественной мудрости и знания, как второй Павел (апостол), рассылал по всей земле, возвещая723, укрепляя и утверждая честную и право- |
—36—
и (совершенно неизлечимый)724 член. Однакож он, и в таком положении, нисколько не умерил своего бесстыдства и превеликой гордыни, но смелым натиском опять вступает на Константинопольский престол725 и в награду за нечестие вторично получает архиерейство726.
Ркп. Б.
| XVII.727 Ркп.Б. л. 100 об. Ἐπεὶ δὲ συνέβη το τηνικαῦτα καὶ Θεόδωρον έξ ὰνϑρώοων φοιτῆσαι, ἂνδρα πολλοῖς ώς ἲσμεν ὲνιδρώσαντα πόνοις καὶ εύσεβείῳ ὰναῤῥηϑέντα, Μαρτῖνος ό όσιώτατος τῷ ὲκείνου ϑρώνῳ ὲγκαϑιδρύεται, μεγάλοις καὶ οὖτος έμπρέπων χαρίσμασι καὶ πολιτείᾳ λάμπων ὲμφανεστάτῃ, οὖ δὴ καὶ τὴν л.101. ὰρετὴν ό ϑεῖος άγάμενος Μάξιμος τούτῳ τὰ πολλὰ καὶ συνῆν καὶ ὲν οἶς ὲχρῆν ώμίλει τὰ δέοντα. Ὂϑεν καὶ βουλεύεται σὺν αύτῷ τοὺς άπανταχῆ όρϑοδόξους ὰϑροῖσαι καὶ σύνοδον μεγάλην κροτῆσαι, ώς ἂν ύπὸ τοσούτοις ϑεοφόροις ὰνδράσιτὰ μὲν τῆς ύγιοῆς πίστεως βεβαιοτέραν σχῇ καὶ ὰναντίρρητον τὴν όμολογίαν, τὰ δὲ τῶν ὲν | XVII.728 (23) А как в то время случилось и oтшествие Феодора от людей, – мужа, как знаем, подвизавшегося в трудах многих и прославленного благочестием, то на его престол возводится святейший Мартин также отличавшийся великими дарованиями и блиставший преславною жизнью. Высоко ценя его добродетель, божественный Максим часто встречался с ним и, о чем требовалось, вел подобающие беседы. Посему советуется с ним и о собрании отовсюду православных и устроении большого собора, чтобы от стольких богоносных мужей правая веpa получила более твердое и непрорекаемое исповедание, а уче- |
—37—
Ркп. А.
| καὶ κρατύνων καὶ ἐπιβεβαιῶν, Ὀυ μὴν αλλὰ καὶ διδασκαλίας πνευματικὰς περὶ ἐναρέτου βίου καὶ εγκρατείας εὐλαβείας τε καὶ φόβου Θεοῦ καὶ συλλήβδην εἰπεῖν ἅπερ δεῖ τὸν χριστιανὸν φυλάττειν πανταχοὺ ϑεοσόφως ἐδίδασκε καὶ ἐκήρυττεν, ἒχων εἰς τοῦτο συναγωνιστὰς Ἀναστάσιον τὸν πρεσβύτερον καὶ ἕτερον Ἁναστάσιον τὸν ἀποκρισιάριον αὐτοῦ, ὁμωνύμους ὅντας τοὺς δύο καὶ ὁμοτρόπους, οἵτινες καὶ συνεκακοπάϑησαν ἐν πᾶσι τῷ ὁσίῳ τούτῳ Μαξίμῳ τῷ διδασκάλῳ τῆς ἀληϑείας ἒνεκεν. | славную веру. Не только это, но и духовные учения о добродетельной жизни, воздержании, благочестии, страхе Божием и вообще говоря, о всем, что должен соблюдать христианин, везде богомудро учил и проповедывал, имея сподвижниками в этом Анастасия пресвитера и другого Анастасия, апокрисиария его, двух соимениых и единонравных (учеников), кои и соучастниками были во всех страданиях сего преподобного учителя Максима ради истины729. |
| XVII Ἐννάτῳ730 δὲ ἔτει τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας Κώνστας ὁ ἒγγονος Ἡρακλείου, μαϑὼν τὰ ἐν | (XVII) В девятом731 году своего царствования Констант, внук Ираклия, узнав |
—38—
Ркп. Б.
| αντίων περιφανῆ καὶ διασημοτέραν τὴν ἒκπτωσιν δέξηται. Ὂι γε καὶ εὶς πεντήκοντα συνειλεγμένοι καὶ έκατὸν, τούτοις καὶ τοῦ σοφωτάτου παρόντος Μαξίμου, πάντα μέν οὖτοι σὺν λόγῳ ϑείῳ πνεύματι ἒδρασαν, πάντα δ’ ὼς εὶκὸς τὰ πεπραγμένα ὺπεμνηνάτισαν, πολλὴν τῷ ὸρϑῷ λόγῳ δεδωκότες τὴν συνηγορίαν καὶ τὰ παρ’ έαυτοῦ συνεισενεγκόντες σπουδῇ ἒκαστος. | ние рпотивников подвергалось явному и общеизвестному отвержению. Итак, собравшиеся в количестве стапятидесяти732, в присутствии с ними и премудрейшего Максима, совершили все с разумом и божественным Духом, и все деяния, как подобало, внесли в памятные записи, причем каждый постарался дать правому учению сильную защиту и представить свои доказательства. |
| XVIII. Καὶ πάντας μὲν τοὺς εὶσηγητὰς τοῦ ὰνοήτου δόγματος ὰναϑέματι περιέβαλον Σέργιόν φημι καὶ Πύῤῥον καὶ Παῦλον καὶ Πέτρον, τοὺς κακῶς προεδρεύσατας Κωνσταντινουπόλει 101 об. Κῦρόν τε Ἀλεξανδρείας καὶ Ἀϑανάσιον Ἀντιοχείας καὶ τοὺς τούτων όμόφρονας. Ἀναϑεματίζουσι δὲ σὺν τούτοις καὶ τὸν λεγόμενον Τύπον, ὅν ό δυσσεβὴς βασιλεὺς Κώνστας ὲξέϑετο, βλασ- | XVIII (24).733 И всех виновников безумного догмата подвергли анафеме, именно: Сергея, Пирра, Павла и Петра734, худо предстоятельствовавших в Констонтинополе, а также Кира Александрийского, Афанасия Антиохийского735 и их единомысленников. Анафематствуют вместе с ними и так называемый Типос, исполненный богохульства, который издал нечествый царь Кон- |
—39—
Ркп. А.
| Ῥώμῃ γεγενημένα καὶ ϑυμοῦ πλησϑεὶς, τόν τε ἁγιώτατον Μαρτῖνον καὶ τὸν μέγιστον Μάξιμον ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀνενεχϑῆναι προσέταξεν. Τούτου δὲ γενομένου τὸν736 μὲν μακάριον Μαρτῖνον μετὰ πολλὰς βασάνους καὶ ὕβρεις, ἅς εἰς αὐτὸν ἐνεδείξαντο οἱ μηδ’ ὅλως εἰς νοῦν τὸ ϑεῖον δικαιωτήριον ἔχοντες, ἐν τοῖς τῆς Χερσῶνος παρέπεμψαν κλίμασιν, καϑὼς ἡ τὰ κατ’ αὐτὸν ἱστοροῦσα διαλαμβάνει γραφή. Πολλοὺς δὲ καὶ ἂλλους τῶν ἑσπερίων ἐπισκόπων ἐτιμωρήσαντο. Τὸν δέ γε ἁγιώτατον Μάξιμον ἅμα τῷ ἐλϑεῖν ἐν Κωνσταντινουπόλει л. 234 обор. μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ | о том, что было в Риме, и исполнившись ярости, повелел доставить в Константинополь как святйшего Мартина так и величайшего Максима. После того как это было исполнено, блаженного Мартина после многих пыток и оскорблений, что совершили над ним люди, не имеющие никакого представления о божественном судилище, отослали в пределы Херсона, как сообщает о нем историческая запись. Многих и других западных епископов подвергли наказаниям. А святейшего Максима, как только Он прибыл в Константинополь, вместе с |
(Продолжение А совпадает с изданным Combefis‘ом Relatio motionis... Ἐξήγησις τῆς κινήσεως γενομένης μεταξὺ τοῦ κυροῦ Ἀββᾶ Μαξίμου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, καὶ τῶν ἀρχόντων, ἐπὶ. Σεκρέτου, t. I pag. XXIX, Migne 90, 109. См. наше издание далее, глава XXVI, стран. 49 сл.)
—40—
Ркп. Б.
| φημίας ὅντα ὰνάμεστον. Ὀ μέντοι ϑεῖος Μάξιμος εὶς ἒλεγχον τῶν ὰσεβῶν καὶ βεβαίωσιν τῶν πεστῶν λόγους συγγραψάμενος καὶ ὲπιστολὰς συνϑεὶς λογικαῖς τε καὶ γραφικαῖς ὰποδείξεσι βεβαιώσας τῆς χαϑ’ ήμὰς πίστεως τὴν ὰλήϑειαν, πανταχοῦ τῆς οίκουμένης ὲκπέμπει, ὦν καὶ τὴν κατὰ μέρος πράξιν εἲσεταί γε ἤδη ό βουλόμενος τῷ ὲκτεϑέντι περὶ αὺτῶν ὲντυχὼν ύπομνήματι. | стант737 и объявил738 Святой Церкви. Но святый Максим, в обличение нечестивцев и для утверждения верных написав сочинения, составив, письма и доказательствами от разума и писания утвердив истину нашей веры, рассылает их по всей вселенной, с коими желающий уже подробно может познакомиться, прочитав изданноое при них изложение их содержания. |
| XIX. Ἀλλὰ γὰρ ό ϑεῖος Μάξιμος τὸ ὰπ’ ὲκείνου τὴν Ῥώημν ἀδιαλείπτως οἰκῶν, ἅτε καὶ ταύτην οἰκήσειν τῆς Βυζαντίδος ἀπαίρων σκοπὸν ϑέμενος, εἰ καὶ Ἀφρικὴ τοῦτον ἐπὶ πλέον παρακατέσχεν, ἔρωτι σφοδροτέρῳ τῷ περὶ ἐκεῖνον ἑαλωκυῖα ἀλλὰ γὰρ τὴν Ῥώμην τοῦ λοιποῦ ἐν – л. 102. διαίτημα ἒχων, ὡς εὶρηται, πολλοῖς μὲν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν τοῖς ἐπὶ τοῦτον φοιτῶσιν ὼφελείας μετεδίδου τῆς ἀπὸ γλώττης, ὁμιλῶν τὰ συνοίσοντα, καὶ ἀπὸ τῶν συντιϑεμένων φιλοπόνως λόγων πρὸς βίον ἐνῆγε τὸν ὑψηλότατον, ἀρετῆς μόνης πείϑων ἀντέχεσϑαι καὶ τῶν κάτω καὶ ὑλικῶν ἀποῤῥήγνυσϑαι, ὡς ἂν μηδενὶ, φησὶ, τού- | XIX. Но божественный Максим, живя с того времени непрестанно в Риме, так как при удалении из Византии он поставил целью поселиться здесь, хотя Африка, объятая сильнейшею любовью к нему, и задержала его на долго, – итак, имея потом пребывание в Риме, как сказано, он многим, каждый день приходивпшм к нему, преподавал нужное устно, беседуя о полезном, – и чрез ооетавлявшиеся с трудолюбием сочинения наставлял к высокой жизни, убеждая держаться только добродетели и отвращаться низкого и чувст- |
—41—
Ркп. Б.
| τούτων ἔχοι ὁ νοῦς ὑποκατακλίνεσϑαι, ἂνω τε οὗτος φερόμενος καὶ πρὸς τὰ ἂνω φέρεσϑαι δεδημιουργημένος. σπουδὴ γὰρ ἦν οὐδ’ ὅση καὶ ῥηϑῆναι τῷ ϑεοληπτικωτάτῳ ἑλκύσαι πρὸς ἀρετὴν ἅπαντας καὶ ταύτης ποιῆσαι ἐρᾶν, οὕτω τῷ ἑαυτῆς λόγῳ ἐραστὴν οὖσαν καὶ ἐφετὴν καὶ ὅλον πρὸς ἑαυτὴν μεϑιστῶσαν τὸν ἐκείνης ἁλόντα τῷ ἒρωτι. Διάτοι καὶ τοὺς πολλοὺς ἐκείνους καὶ καλούς διέξεισι λόγους, πολυειδῶς ἅμα καὶ ἐπηβόλως τὴν φέρουσαν πρὸς ταύτην ὑποτιϑεὶς. | венного, чтобы ничему такому, говорить739, ум не был подчиняем, как возносящийся740 горе и созданный для устремления к вышним предметам. Рвение невыразимое было у богомудрого привлечь всех к добродетели и заставить любить ее, столь вожделенную саму по себе и желанную, всецело привлекающую к себе объятого любовью к ней. (25) Для сей то цели он и составляет многие и прекрасные сочинения, предлагая (в них) различный и целесообразный путь, ведущий741 к ней (добродетели). |
| XX. Ὅς γε οὐδ’ ὥρας ἔληγε τὸ βραχύ· νῦν μὲν περὶ βίου καὶ ἀγωγῆς ἐπιὼν л.102 об. τῆς ἀκριβεστέρας, νῦν δὲ περὶ ἠϑῶν καὶ ἐπιμελείας παϑῶν καὶ τοῦ σὺν λόγῳ πράττειν πάντα καὶ λογισμῷ, ἄλλο τε δ’ αὖ περὶ δογμάτων καὶ ϑεωρίας ἄλλης γνωστικωτέρας καὶ ἧς μόλις ἂν καὶ οἱ τὸν νοῦν διαβεβηκότες ἐφίκοιντο, ἡμῶν ἐντεῦϑεν δοκιμάζων τὸν πόϑον καὶ μετεωρίζων πρὸς τὰ ϑειότερα· καὶ νῦν μὲν ὸ λόγος αὐτῷ περὶ ἀποχῆς τῶν παρόντων καὶ τοῦ μηδενὶ τῶν ἡδέων σαίνειν τὴν | XX. Даже и на малое время не переставал он составлять сочинения: то о жизни и строжайшем поведении, то и нравах и заботе о страстях и совершении всего с разумом и рассуждением, а то другой раз о догматах и других умозрениях, исполненных глубочайшего ведения и коих едва ли достигали даже и превосходнейшее умы742, оценивая этим наши желания и возвышая к божественному, – иногда речь у него и воздер- |
—42—
Ркп. Б.
| αἴσϑησιν ἄρτι δὲ περὶ καρτερίας καὶ ὑπομονῆς καὶ τῆς ἄλλης μεγαλοψυχίας ἐν πειρασμοῖς, κἂν σφοδροὶ οὗτοι δοκοῖεν καὶ ἀνυπόστατοι. Ἀλλὰ τοὺς περὶ προσευχῆς εἴποις λόγους αὐτῷ; ἀλλὰ τοὺς ἐν τάξει προϊόντας ἐπιστολῶν καὶ μύωπα κατανύξεως τῇ ψυχῇ καὶ δηγμὸν ἐν καρδίᾳ ποιοῦντας; τοὺς δὲ ἀγάπης ἕνεκα πονηϑέντας τῷ ϑαυμασίῳ, εἰ μὴ ἅπαντας εἰδέναι ἐγίνωσκον, οἷα ἐν ἐπιτόμοις κεφαλαίοις διὰ τὸ πᾶσιν εὐλήπτους (εἶναι) ὑπομνημα τισϑέντας, л.103 πολλοῦ ἂν ἐποιησάμην εὶπεῖν περὶ τούτων καὶ παραστήσασϑαι. Ἐπεὶ δ’ οὐδεὶς, ὥς γε ἑμαυτὸν πείϑω, τῶν περὶ ἀγάπης ἐκείνου λόγων ἀνήκοος καὶ μάλιστα οἷς ἀρετῆς μέλει καὶ ἀγάπης, ἀφίημι τέως ὅσα γε ἐβουλόμην περὶ τούτων ἐρεῖν, τοσοῦτον καὶ μόνον εἰπών· ὅτι ὁ τούτους καὶ ποσῶς ἐπιὼν, καὶ ἀγάπην τὴν ὡς ἀληϑῶς ἀγάπην γνωρίσει καὶ μῖσος τὸ καϑ’ οἷον δήποτε τρόπον μισήσει, καὶ ϑυμοῦ μὴ κατὰ λόγον ἐκφερομένου κρατήσει καὶ ἐπιϑυμίαν λυττῶσαν ἐπίσχῃ καὶ τὸν λογισμὸν τῆς ὕλης ἐκπτώσει καὶ τὸν νοῦν πρὸς τὰ συγγενῆ ἀναγάγῃ καὶ ὅλον ἑαυτὸν μεταβάλῃ πρὸς τὰ ϑειότερα. Ἀλλ’ ἂρα λόγους μὲν σχεδιάσαι καὶ κεφάλαια ἐν τάξει παρενέσεως ὑπαγορεῦσαι πολὺς ἦν | жании от предметов настоящей (земной) жизни и удалении от всех чувственных удовольствий, а иногда о твердости и терпении и других видах великодушия в искушениях, хотя бы они и казались сильными и неопреодолимыми. А его рассуждения о молитве? А сочинения, явившиеся в виде писем и сообщающие жало сокрушения душе и угрызение в сердце? Что же касается до трудов досточудного мужа и любви, ради удободоступности для всех изложенных в виде коротеньких глав, то я почел бы весьма важным подробно сказать о них, если бы не знал, что они известны всем. И так как все, по моему убеждению, знакомы с его рассуждениями о любви, особенно ревнители добродетели и любви, то я оставляю теперь говорить о них то, (26) что желал бы, и743 скажу только то, что кто хотя сколько-нибудь коснется их, тот и истинную любовь познает, и возненавидит всякого рода ненависть744, удержит проявление гнева745 не по разуму, сдержит яростную похоть, будет отвлекать свой разум от ве- |
—43—
Ркп. Б.
| οὕτω καὶ προχειρότατος, ἀνάπτυξιν δὲ γραφῶν κατιδεῖν καὶ τούτων τὸν κατὰ βάϑος νοῦν συνιδεῖν ἢ ἐλάττων ἢ ἀποδέων τίνος; Αλλὰ τίνος ἡ κρυφιωδεστέρα ἐκείνη καὶ μυστηριώδης τῶν Γραφῶν ϑεωρία καὶ ἡ είς βάϑος τῶν νοημάτων ἐξάπλωσις; τίνος л.103 об. ἡ παλαιᾶς ἅμα καὶ νέας τῶν ἀσαφεστέρων ὑψηλοτέρα καὶ οὐ κατὰ τὸ πρόχειρον ἐκφανσις; τίνος οἱ ἀνηγμένοι λόγοι καὶ αἱ λεπτότεραι ἔννοιαι καὶ ἡ ἐν ἀποῤῥήτοις ἐξήγησις: | щества, возведет свой дух к родственным ему предметам и всего себя обратить к божественному. Также составлять быстро книги и писать главы в виде наставлений он был весьма плодовит и способен. А в изъяснении Писаний и раскрытии их глубочайшего смысла кому уступал и ниже кого был? У кого глубина раскрытия мыслей и духовное объяснение писаний отличаются большею прикровенностью и таинственностью? У кого изъяснение самых неясных мест как Ветхого так и Нового Завета более возвышенно и необычно?746 У кого (более) глубокие747 рассуждения, тончайшие мысли и объяснения трудностей? |
| XXI. Ὃν γὰρ τρόπον αὐτὸς λεπτύναι δεέγνω τὸν νοῦν, πάσης ὑλώδους ἀποῤῥήξας ἐμφάσεως, ἳν’ ἒχοι σὺν οὐδενὶ τῷ κωλύοντι γνώσεως ἐφῆφϑαι τῆς ὑπὲρ γνῶσιν καὶ ϑεωρίας ἐπιβαίνειν τῆς ἀνωτάτω οὕτω δὴ καὶ τὸν παρ’ ἑαυτοῦ λόγον αὶσϑητῆς ἅμα καὶ παχυτέρας ἐννοίας ἀπήγαγε καὶ τοῦ μὴ τῇ φαινομένῃ λέξει παρίστασϑαι, ἀλλ’ ἐνδοτέρω προβαίνειν καὶ ἄβυσσον προκαλεῖϑαι ἀβύσσῳ, λεπτοτέρων φημὶ λόγων | XXI. (27) Как ум свой он умел утончать, отвлекая от всякого (материального) вещественного представления, чтобы без всякого препятствия он мог достигнуть знания, превышающего разум, и поднятся до наивысшего созерцания, так и речь свою он удалял от чувственных и грубых образов и поверхностных фраз, но уходил вглубь и бездну вызывал безд- |
—44—
Ркп. Б.
| καὶ νοημάτων. Τίς γάρ, ἵνα μὴ τἄλλα λέγω, τὸ ἐν πέντε καὶ ἐξήκοντα κεφαλαίοις ἐκτεϑὲν τῷ ϑαυμασίῳ πόνημα διïὼν, ἒνϑα παλαιᾶς ἅμα καὶ νέας Γραφῆς διασαφεῖ τὰ ἀπόῤῥητα, οὐκ ἂν ϑαυμάσοι καὶ διαπορήσοι τὸν ἀναπτύξαντα νοῦν καὶ τὴν ἐγκυμονήσασαν τὰ ὑπερφυῆ οὕτω л.104 διάνοιαν, καὶ τὸ τῶν νοηϑέντων ὕψος καὶ τὴν ἄλλην ϑεωρίαν καὶ ἀναγωγικωτέραν τῶν τοιούτων ἐπίλυσιν; Ἀλλὰ γὰρ οὐδὲν ἦττον ὄψεταί τις τὸ τούτου ἀνηγμένον ἐν λόγοις, καὶ τοῖς πονηϑεῖσιν αὐιῷ σχολίοις περὶ τὰ τοῦ μεγάλου Γρηγορίου συγγράμματα ἐν τυχὼν, τούτων γὰρ ὡς ἴσμεν τὰ πολλὰ δύσληπτα ὄντα καὶ οὐ σαφῆ τὴν δήλωσιν ἔχοντα καὶ μάλιστα δογμάτων ἔχεται καὶ τῆς ἐν τῇ Τριάδι ϑεολογίας αὐτὸς καὶ τὸν ἐν τούτοις εἶδε νοῦν καὶ φωτὶ γνώσεως ϑειοτέρας εἰς τὸ ἐπιδηλότερον ἤγαγεν, οὐκ ἐννόιᾳ μόνον καὶ ϑεωρίᾳ μυστικωτέρᾳ, ἀλλὰ καὶ φράσει ὑπερφερεῖ καὶ λόγῳ περικαλλεῖ τὴν ἐξήγησιν διαϑέμενος. | Ною748, то есть тончайших слов и мыслей. Кто, например, чтобы не говорить о других, прочитав в шестидесяти пяти749 главах изложенный досточудным (Макссимом) труд, где он изъясняет трудности ветхого и нового Писания, – не подивится и не изумится уму истолкователя и разуму, бременевшему столь необычайными мыслями, а также высоте рассуждений и другим умозрениям и возвышенно-духовному разъяснению их? Но нисколько не менее (чем здесь) каждый увидит высоту его рассуждений750, прочитав составленные им схолии (примечания) к сочинениям Великого Григория, ибо многие из них, как знаем, трудны для понимания и не имеют ясного значения, особенно относящиеся к догматам и богословию о Святой Троице; он и смысл их постиг и светом божественного знания привел в большую ясность, изложив свое толкование не только в ясных мыслях и таинственнейших созерцаниях, но и языком возвышеннейшим и речью прекраснейшею |
—45—
Ркп.Б.
| XXII. Ἐπεὶ δ ὁ γεννάδας εἴδε καὶ τὰ τοῦ Ἀρεοπαγίτου Διονυσίου συγγράμματα, ἃ περὶ ἱεραρχίας καὶ ἱεροτελεστικῆς ἄλλης ὁ ϑεῖος οὗτος διέξεισι τάξεως, ἀσαφείᾳ κεκαλυμμένα ὡς τὰ πολλὰ, καὶ τούτοις προσχὼν, κατὰ τὸ ἐμὸν, λόγῳ σαφεστέρῳ καὶ ἑρμηνείᾳ διηύγασε καὶ ἀνέπτυξεν, л.104 об. οὐχ ὡς ἂν εἴποι τις ἐπιπολαίως καὶ ἀφοσιωμένως, ἀλλὰ καὶ ἐνδοτέρω τούτων εἰσδύς καὶ τὸν ἐν βάϑει νοῦν ϑαυμασίως ἀναλεξάμενος. Ὅσα δὲ περὶ τῆς ἱερᾶς μυσταγωγίας λόγῳ μυστικωτέρῳ οὗτος ἐτράνωσε τί μὲν ἡ τῶν ἱερέων ἐν τῷ ναῷ δηλῶν ἐίσοδος, τί δὴ ἐφ’ ὑψηλοῦ τοῦ ἀρχιερέως καϑέδρα, τίς δὴ περὶ αὐτὸν στάσις καὶ τάξις καὶ τρόπος ψαλμῳδίας καὶ ἀναγνώσεως καὶ ϑυρῶν κλεῖσις καὶ ἀσπασμὸς ὁ πρὸ τοῦδε καὶ ἀμυήτων ἐν τῷ ναῷ πρόπτωσις καὶ ἁπλῶς ὅσα κατ’ ἐκείνην τὴν φρικτὴν ὥραν τελεῖται. Ταῦτα μὲν οὖν, ὥς γε καὶ αὐτὸς οἶδα, λόγος ἂν οὐδεὶς ἂλλος ἐναργῶς παραστήσοι, κἂν εἰ πολλὰ περὶ τούτων εἰπεῖν προσϑείη, μόνος δ’ ὁ συντάξας ἐκεῖνα λόγος καὶ ἄξιός γε περὶ τούτων ἐρεῖν, ὥσπερ οὖν καὶ εἴρηκε, | XXII. (28) А так как благороднейший Максим видел, что и в сочинениях Ареопагита Дионисия, кои сей божественный муж сославил, об иерархии и о прочем священно-таинственном чине, большею частью покрыты неясностью, то, занявшись и ими, он прояснил и раскрыл их, по моему751, более ясною речью и истолкованием, – не поверхностно и, как говорится, кое-как752, но войдя внутрь их и удивительным образом усвоив их глубокий смысл . Все же, что относится к священному тайноводству, он изъяснил в таинственном смысле753, именно: что означает вход иереев в храме, что – кафедра архиерея на возвышении754, стояние около него (священников), чин и образ псалмопения и чтения, затворение дверей и целование пред этим, падение ниц непосвященных в храме755 и вообще все, что совершается в тот страшный час. Впрочем никакая, как и сам я сознаю, другая речь не в состоянии ясно предста- |
—46—
Ркп. Б.
| καὶ τῶν τηλικούτων ἐν ἑαυτῷ δέξασϑαι τὴν περίληψιν. Ἀλλὰ γὰρ μέχρι τίνος περὶ λόγων καὶ συγγραμμάτων καὶ ἄλλων πονημάτων τοῦ σοφοῦ л.105 διέξειμι, ὧν ἁπάντων μνησϑῆναι καὶ ἀνὰ μέρος δοῦναι τῷ λόγῳ ἶσον δοκεῖ μοι, εἰ καὶ ψάμμον ϑαλάσοης ἐπειρώμην ἀναμετρεῖν καὶ ἀστέρας ἕνα πρὸς ἕνα ἀπαριϑμεῖν; Οὐκοῦν τὰ περὶ ἐκείνων λέγειν παρεὶς, πρὸς ἄλλα τρέψω τὸν λόγον, ἐντεῦϑεν καὶ μᾶλλον τὸ ἐν πάϑεσι καρτερικὸν τοῦ γενναίου παριστῶν καὶ διαφανέστατον. | вить это, хотя бы и было употреблено много слов об этом, – один только тот, кто сочинил это, и может сказать об этом так, как именно сказал он, и иметь в себе представление о таких предметах. Но до коле же я буду говорить о рассуждениях, сочинениях и других трудах премудрого, кои все упомянуть и подробно передать словом кажется мне подобным тому, как если бы я стал пытаться измерять песок морской и перечислять по одиночке звезды? Поэтому, прекрати в речь о них, обращу слово свое к другому и отсюда начну представлять преимущественно достославнейшее долготерпение благородного мужа в страданиях. |
| ХХIII. Ἄρτι τοίνυν Κώνσταντι τῷ ἀπογόνῳ Ἡρακλείου τὴν βασιλείαν διέποντι καὶ ἔτος ἒννατον ταύτην ἀνύσαντι πολλὴν τὲ τοῖς κακοδόξοις, οἷα καὶ αὐτῷ τοῖς ἴσοις κατισχημένῳ δεδωκότι τὴν παῤῥησίαν καὶ πάντα τῆς πονηρᾶς λύμης ἐμπλήσαντι, τούτῳ δὴ ἅτε καϑ’ ὁρμὴν τῶν ἄλλων κεχωρηκότι καὶ περὶ τῶν ἐν Ῥώμῃ φροντὶς γίνεται οὐχ ἡ μετρία, πυϑομένῳ ἤδη ὡς οἱ ἐν αὐτῇ | ХХIII. (29) Итак756, Констант,757 внук Ираклия, находился на царстве и владел им девятый год,758 предоставив полную дерзость лжеучителям, так как и сам подвержен был той же ереси, и все наполнив злою пагубою. Но как только он узнал, что все в Риме разнствуют с ним и отвергли его догмат, то, удалившись |
—47—
Ркп. Б.
| πάντες διάφοροι τούτῳ καὶ τοῦ οἰκείου δόγματος καϑαιρέται759. | решительно от других дел, он с особенною заботою принимается за Римские760. |
XXIV. (ХVII 29).761 А так как он знал и виновника, – разве мог он незнать человека, столь извстного всем и на виду у всех762 светившего своим учением, – то отдает приказ немедленно привести Святого к нему во дворец, полагая, что если он захватит его, то будет властвовать и над всеми другими. С ним повелевает поскорее доставить в Византию и ученика его Анастасия вместе с одноименным ему763 и единонравным (другим Анастасием), который назывался апокрисиарием764 Римской церкви, – (30) а также и божественнейшего Мартина с многими западными епископами, будучи разгневан, что естественно, на них за их противное ему мнение. Но765 относительно иepapxa Мартина и тех неистовств, какие совершил над ним нечестивец (царь Констант), подвергнув его многочисленным оскорблениям и побоям, – о, безбожные руки! – предав наказанию невинного и наконец осудив на отдаленнейшую ссылку, – Херсон766 был местом ссылки ему767, – то же самое сделав конечно и с
—48—
его епископами: – рассказывать, как произошло это, у меня теперь нет досуга, так как я должен спешить к делам божественного Максима. Многие вероятно скажут о них или же и сказали, как полагаю, желая почтить сего мужа и восхвалить его жизнь768. Наше же слово пусть обратится к изложению своего предмета.
ХХV. (XVIII. 31.) Итак, этот священный муж уже был взят руками убийц, и все взирали на него. Посмотрим (теперь), какую прежде всего встречу устрояют ему и какому суду подвергают его эти хорошие законодатели. Как только он, привезенный на корабле, пристал к Константинополю, к нему приходят посланные царем люди, уже от одного вида являвшие в душе своей большую жестокость769. Дерзко схватив Преподобного, босого и без верхней одежды770, насильственно вытащили его на дорогу и повели, в сопровождении ученика, оплакивавшего эти злодейства. И приведши, заключили его в какое-то темное помещение, не позволив ему даже оставаться вместе с учеником. А по прошествии нескольких дней ведут Праведного в дворец, где восседал весь сенат и каким то убийственным и драконовским771 взором смотрел на него. Суд772 над ним предоставляют сакелларию773, оказавшемуся первым по чину, человеку опытному в речи, искусному сочинять слова и более всех способному иска-
(Продолжение следует).
Филарет (Амфитеатров), митр. Киевский. Письма Высокопреосвященного митрополита Киевского Филарета (Амфитеатрова) к настоятелю Троицкой Сергиевой пустыни, архимандриту (впоследствии епископу) Игнатию [Брянчанинову] (1837–1843 гг.)774 / Сообщ. иером. Игнатий (Садковский) // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3, с. с. 405–417 (4-я пагин.).
—405—
№ 1.
Преподобнейший Отец Архимандрит, возлюбленный о Господе брат!
Очень жалею, что болезнь Ваша так долго продолжается, и так долго лишает меня удовольствия видеть Вас. Молю Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, да возвратит Вам здравие Ваше, на подвиги Святого Великого поста, с наступлением коего, яко вожделеннейшего для душ наших времени, усердно поздравляю Вас.
Настоятель Югской Дорофеевой пустыни по прошении его на сих днях уволен от должности Строителя. На время поручил я управление оной Петровскому Игумену Kиприанy, доколе прибудет к нам из Белобережской пустыни отец иеромонах Варфоломей. Сделай милость, брате, напиши к нему братолюбное увещание, чтобы он, возложивши упование свое на Господа Бога, не отрицался от звания свыше на попечение о братстве Святой обители Югской. Прошу известить меня, не пишет ли он к Вам о
—406—
своем согласии. Ежели бы он пригласил с собой сколько ему угодно бpaтии по сердцу своему, я бы принял всех с совершенной любовью. Весьма желательно насадити виноград истинно монашествующих во вверенной мне пастве, отрасли его прострутся и на другие страны Севера. Помогите мне в сем деле Господа ради. На второй неделе поста я хочу просить Святейший Синод прямо определить О. Варфоломея Настоятелем Югской пустыни, но боюсь, не отказался бы. Дайте мне Ваш совет – ибо Вы хорошо знаете сего старца. Призывая на Вас и на всю святую братию Вашу – благословение Божие с искреннейшим почитанием и пастырской любовью имею честь навсегда пребыть Вашего Высокопреподобия усерднейший слуга
Филарет Архиепископ Ярославский.
1 марта 1837 г.
№ 2.
Преподобнейший Отец Архимандрит! Возлюбленный о Господе брат!
Извольте и письмо мое приложить к О. Варфоломею для удостоверения его – и известить его, что на путевые издержки к нему имеет быть прислано надлежащее количество денег с избытком. Призываю на Вас благословение Божие.
Вашего Высокопреподобия усерднейший слуга
Филарет А. Ярославский
3 марта 1837 г.
№ 3.
Преподобнейший Отец Архимандрит! Любезный о Господе брат!
Из прилагаемого при сем письме изволите увидеть, что О. Варфоломей пожелал принять на себя послушание настоятельства в Югской пустыни. Почему я и определил его в сие звание согласно указу Святейшего Синода. Прошу
—407—
Вас ободрять его надеждой на всесильную помощь Божию. А я со своей стороны поручу его в особенное покровительство нового Ярославского Архипастыря – исполненного ревности по благочестии.
Призывая на Вас благословение Божие с пастырской любовью есмь и пребуду Вашего Высокопреподобия усерднейший слуга
Филарет М. Киевский
28 мая 1837 г.
№ 4.
Преподобнейший Отец Архимандрит! Любезный о Господе брат!
И белое покрывало главы требует чистоты сердца – а украшенное цветами напоминает об украшении души всеми христианскими добродетелями. Помолитесь, отче, с вечно любезной о Христе братией, да служение мое церкви Святой непостыдно явится перед лицом Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Об О. Варфоломее и теперь напишу к Преосвященному Ярославскому – и всегда буду его помнить за его послушание истинно иноческое.
Призывая на Вас благословение Божие, с искреннейшим почитанием и пастырской любовью имею навсегда пребыть Вашего Высокопреподобия усерднейший слуга
Филарет Митрополит Киевский
7 июня 1837 г.
№ 5.
Преподобнейший Отец Архимандрит! Возлюбленный о Господе брат и сослужитель!
По ходатайству Вашему исполню все, что от меня будет зависеть. Служителей алтаря Господня надлежит ободрять как в награду трудов, так и в поощрение другим. Всем сердцем разделяю с Вами крест Ваш. Господь Бог и Спаситель наш Иисус Христос, единая радость и
—408—
надежда наша, Собой освятивший нам грешным крестный путь в жизнь вечную, да ниспошлет в доброе и благочестивое сердце Ваше утешение Святого Духа. Любящим Бога вся поспешествуют во благое.
Призывая на Вас и на вверенную Вам обитель благословение Божие, с искреннейшим почитанием и пастырской любовью есмь и пребуду дóндеже есмь Вашего Преподобия усерднейший богомолец
Филарет М. Киевский
О ските Нила Сорского не нахожу пути ходатайствовать по известным вам причинам. Надлежит отложить до благоприятнейших обстоятельств.
№ 6.
Преподобнейший отец Архимандрит Игнатий! Любезный о Господе брат и сослужитель!
Искреннейшую приношу Вашему Преподобию благодарность за память о моем недостоинстве при наступлении нового лета благодати Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Благочестивое писание Ваше я получил с душевным удовольствием – большей радости не имам, возлюбленне, как видеть братий во Христе Иисусе, преуспевающих в подвигах иноческой жизни вечной и созревающих к наследию жизни вечной. Благодарю Господа Иисуса Христа, надежду нашу, подавшего вам силы к благодушному перенесению скорби Вашей. Многими скорбми подобает нам внити в Царствие Небесное. Взирающе на начальника и Совершителя веры нашея Иucyca, иже вместо предлежащей ему радости претерпе крест. За ним последовали целое облако преподобных, празднуемых ныне церкви, для указания и нам грешными пути, ведущего в Царствие Небесное. А у моего недостоинства всегда перед глазами святые пещеры, благоухающие Духом Святым – в них же почивает толикое множество преподобных Российской церкви угодников Божиих нетленные честные мощи. Взирая на них, окаеваю наше суетное житие, так далеко от-
—409—
стоящее от их подвижнической святой жизни – как земля от неба. Помолись, брате боголюбезный, да сподобит Господь ионе малейшей части коснуться богоугодного их жития – доколе не воззваны будем в вечность. Приветствую вас с наступлением вожделеннейшего для иноков времени – Святой и освящающей Четыредесятницы. Дай Господи совершить Вам подвиг святого поста в молитвенном духе и в радости святых сретить светлый праздник Воскресения Христова.
Призывая на Вас и на вверенную Вам обитель благословение Божие, с искреннейшим почитаем и пастырской любовью есмь и пребуду Вашего Преподобия усерднейший слуга
Филарет М. Kиевский
8 февраля 1841 г.
№ 7.
Преподобнейший Отец Архимандрит Игнатий! Возлюбленный о Господе брат и сослужитель!
Приношу Вашему Преподобию искреннейшую благодарность за память о моем недостоинстве. Доставленное братом обители Вашей, О. Игнатием, письмо получил и прочитал с духовной радостью, видя Ваше преуспеяние в иноческой жизни в терпении и благочестивых подвигах. Подвизайся брате на сем крестном пути, взирая на образ жизни Преподобных и Богоносных отец наших, проложивших наш путь ко спасению.
Призывая на Вас и на вверенную попечению Вашему обитель благословение Божие, с искреннейшим попечением и пастырской любовью имею пребыти навсегда. Вашего Преподобия усерднейший слуга
Филарет М. Киевский
21 июля 1841 г.
Киев.
—410—
№ 8.
Преподобнейший Отец Архимандрит Игнатий! Возлюбленный в Господе брат!
Писание Ваше ко мне получил я от смиренной рабы Божьей Авдотьи Терентьевны. За любовь Вашу к моему недостоинству приношу Вам искреннейшую благодарность. Первая, всегдашняя, теплая, хотя и недостойная молитва моя к Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу, и к Пресвятой Богородице, Заступнице нашей усердной – о матери нашей православной церкви, породившей нас Духом Святым, и воспитавшей нас в уповании в наследие жизни вечной. Утверждение на Тя надеющихся, утверди Господи церковь, юже стяжал еси честною Твоею кровию. Он Всеблагий всевидящими и милосердыми очами Своими выну презирает на церковь Свою воинствующую на земли, волны миpa сего часто восстают на святый корабль сей – обуревают, – но не потопляют. Кормчий его иногда представляется покоящимся – но всегда бодрствует, – и под Его всемогущим мановением после бурей всегда настает тишина велия. Вот моя вера. Неведомыми судьбами Божиими приведенный на святые горы Киева – едино прошу от Господа еже жити ми в небеси подобном доме Пресвятой Богородицы, зрети ми красоту Святыя обители ея, носещати храм Святый ея вся дни живота моего. Аще кто ино что любит, да любит себе я коже хощет – нам же прилеплятися Господеви благо есть – мне же зело честни друзи Твои Боже – их же святые и нетленные мощи почивают во святых пещерах благодатной горы Киевской.
Призывая на Вас и на вверенную попечению Вашему обитель благословение Божье, с искреннейшим почитанием и пастырской любовью есмь и пребуду Вашего Преподобия усерднейший слуга и богомолец
Филарет Митрополит Киевский
14 июля 1842 г.
Киевопечерская Лавра
—411—
№ 9.
Преподобие и прелюбезне Отче и брате!
За память твою о моем недостоинстве усерднейшую приношу благодарность. Сорок четыре раза отпраздновал я день иноческого Ангела моего – но оле бедности души моей – едва ли когда и начну истинно иноческое житие по Бозе – хотя и вельми сего желаю. Святые пещеры, в которых покоятся священные останки толикого множества истинных Ангелоподобного жития подвижников всегда перед глазами моими – но как далеко суетное и преисполненное грехов житие наше от их преподобного и святого жительства! Яко же небо отстоять от земли, тако их подвиги – от нашей окаянной лености. Да покроет их молитвенное о нас ходатайство перед Богом, крайнее наше недостоинство.
Душевно радуюсь о тебе, брате, что и в неуединенном месте, по возможности сохраняешь уединение – которое для монашеской жизни столько же необходимо, сколько душа для тела. Переложение на русский язык монашеских правил Нила Сорского прошу прислать ко мне. Может быть с помощью Божией, можно будет сделать из них полезное наставление для монашествующих, в котором настоит большая нужда.
Очень жаль, что в таких юных еще летах расстроилось зрение твое – может быть такому расстройству и то, между прочим, причиной, что в короткое лето окружен и Вы морем, а в долгую зиму – необозримыми пространством снега – на подобие савана покрывающего мертвую природу. Для сохранения зрения Премудрый и Преблагий Творец покрыл землю зеленью – а люди775.
У нас до первого числа Декабря трава зеленелась – да и теперь снега почти нет. А как солнце проглянет – тотчас и открывается зелень – а в начале марта ожидаем открытая благотворной весны – девять месяцев наслаждается зеленью зрение наше. А у Вас – дай Бог не уметь считать. Впрочем, советую Вам в бесконечные Ваши осенние и зимние ночи читать Евангелие самой крупной печати – читать непрерывно – не думать что уже оно тебе известно –
—412—
нет брате; опытом узнаешь, что чем более будешь читать в молитвенном духе – тем более будет возбуждаться жажда к чтению – даже иногда и сном не прерывается чтение – не даром сказано в писании: Расшири уста твоя, и наполню я. – Уста моя отверзох, и привлекох дух. Разумей яже глаголю, да даст тебе Господь разум о всем.
Приветствую тебя со всей во Христе братией с наступающим великим праздником Рождества Христа Спасителя нашего, и с новым летом благодати его. Поручаю себя молитвам вашего братства, и призываю на всех вас благословение Божие.
Вашего Преподобия усерднейший богомолец
Филарет Митрополит Киевский
15 декабря 1842 г.
Киев.
Прошу доставить по адресу известной вам богобоящейся рабе Господней письмо.
№ 10.
Воистину Христос воскресе!
Прими и от моего сердца, брате возлюбленне, любящего тебя любовью Христовой, взаимное приветствие с продолжающимся еще праздником Воскресения Сладчайшего Иисуса Христа, надежды нашей, жизни нашей, света нашего, радости и славы нашей. От всего сердца молю Воскресшего из гроба Бога и Спасителя нашего, да сотворит он доброе и благочестивое сердце твое во всегдашнюю обитель с ней мира превосходящего всяк ум, своей жизни, и света и радости – среди сени смертные, и тмы и скорбей века сего разрушающагося. Зело радуюсь, видя из писания твоего преуспеяниe души твоей в жизни по Бозе. Не ослабевай, брате, в подвигах благочестия и добродетели шествуя путем живым обновленным для нас Самим Господом нашим Иисусом Христом, и углаженным толиким множеством святых подвижников, свидетелей истины. Хорошо очень, что сердце твое напоилось писаниями святых отцов, самим опытом постигнувших, и нам грешным указавших путь жизни духовной и спасения. Вей они советуют идти сим путем шаг за шагом, с нижней
—413—
ступени начиная, не переступая восходить по лестнице, ведущей на небо. Храни брате cиe их наставление – и Господь Бог поможет совершить тебе безмятежно подвижническое течение в Царствие Небесное.
Очень благодарен твоему преподобию, что так благовременно утешаешь мое недостоинство в истинно-крестных скорбях моих. Помолитесь о мне – не о том, чтоб избавиться от них – ибо я зело желаю, чтоб крестные скорби продолжились до кончины моей во всеконечное очищение бедной души моей от скверн греховных – но о том, чтоб крестоношение мое было благоприятно Господу Богу и Спасителю моему сладчайшему Ииcycy Христу.
Со времени моего свидетельства истины я нахожу для себя великое приобретение, что промысл Божий поставил меня в необходимость всевозможного уединения и беспрестанной молитвы. Желал бы всеохотно сложить с себя бремя паствы – но на cиe ожидаю изволения Пастыреначальника вечного Господа нашего Иисуса Христа, которое, кажется, не замедлит последовать. Впрочем, во всем буди воля Его святая!
Предпосылаю твоему преподобию и вверенной твоему попечению обители благословение от святой горы Печерской – и от всех Преподобных печерских – желая всем вам, во Христе Иисусе Господе нашем братиям, блаженнейшей части наследуя жизни Преподобных и Богоносных Отец наших Антония и Феодосия первоначальников, монашествующих в России.
Вашего Преподобия усерднейший богомолец
Филарет Митрополит Kиевский
3 мая 1843 г.
День памяти прп. Феодосия Печерского.
№ 11.
Преподобный Отец и возлюбленный в Господе брат!
Усерднейшую приношу твоему преподобию благодарность за память о моем недостоинстве в день Ангела моего. Несомненно, надеюсь, что по любви твоей во Христе Иисусе
—414—
Господе нашем, надежде нашей, в день святого Филарета не забыл в молитвах твоих Филарета многогрешного. Вот уже четыредесят пять крат отпраздновал я день иноческого своего Ангела – а иноческой по Бозе жизни еще не начинал. А время кончины временной и начало вечной жизни очень-очень близко. Пребывание моего недостоинства на святых горах Киевских, и почти беспрестанное взирание на преподобных подвижников, Богоносных отцев Печерских, почитаю неизглаголенной для меня грешного милости Божией – но воспоминая их святые безмятежные подвиги, окаеваю наше суетное и бесплодное житие. Ах, как бы желательно хотя последние дни странствования на земли посвятить истинному безмолвию в молитве, и богомыслии! Хотя по благости Божией в месте святе здесь довольно имею времени для молитвы, оградив себя от всего, что не принадлежит к необходимым делам службы – но все еще весьма трудно собранными быть для молитвы святых. Преподобный Антоний первоначальник наш Печерский и тогда удалился в безмолвную пещеру, когда собралось только около двадесяти братий – так преподобные дорожили безмолвием, зная опытом цену его неоцененную – что сотворим мы грешные среди мира многомятежного?
Очень душеспасительно без прерывное чтение молитвенное Псалтири и Св. Евангелия. Самая беспредельная любовь Отца небесного не могла даровать нашим душам лучшего дара, как сей великий дар Его милосердия. Не преставай, брате возлюбленне, от сего сладостного подвига до конца жизни. Когда словеса Духа Святого вселятся в твое сердце: тогда молитва твоя соделается беспрестанной – не помешает ни пища, ни сон, ни дела службы. Много читал я святых книг – а теперь при старости Псалтирь и Евангелие, как сущность Ветхого и Нового Завета – составляют для души моей такое приятное и питательное чтение, что более и читать ничего не нахожу особенной надобности, а читаю только на досуге.
В нынешнее скудное в истинных монахах время затворник ваш, действительно, есть редкое приобретение. Но помню, когда он у меня был. Ежели молитва Иисуса Христа вселилась в его простое и доброе сердце: то ничего
—415—
более ему и не нужно для душевной пищи. Очень жаль, что в нынешнее время сей образ молитвенного подвига почти везде оставлен. Возвратится ли когда-либо с неба на землю дух истинного монашества – сей венец истинного христианства! – соль земли?
По неиспытанным и всегда милосердым судьбам Своим Бог посетил тяжкой болезнью благочестивую рабу свою Параскеву Михайловну. Всем сердцем молю Господа да поможет сей доброй христианке на одре болезни ее.
Призывая на тебя и на вверенную попечению твоему святую обитель с братией благословенье Божие, с братской во Христе Иисусе любовью есмь и пребуду Вашего Преподобия усерднейший богомолец
Филарет Митрополит Киевский
18 декабря 1843 г.
Киев.
Приветствую твое преподобие с праздником Рождества Христова – и с новым годом.
№ 12.
Преподобие и прелюбезне Отче и брате мой! Христос воскресе!
Приветствую тебя, возлюбленне, сим пресладким гласом истинно верующих в Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Приветствую от сердца, и всей душой желаю имать Совоскресшего нас мертвых прегрешениями, да радость Его будет исполнена и преисполнена в добром и благочестивом сердце твоем. Так преисполнена, чтобы сердце твое не имело нужды ни в какой земной радости. Чтоб и скорби неразлучные на пути в Царствие Небесное обращались для сердца твоего в источники радости во Христе Иисусе в скорбях Его и страданиях Его ради спасения нашего. Так возлюбленну, брате, сосуд наполненным чистым, сладким животворным питием – не впусти в себе посторонней какой бы то ни было жидкости. Буди же сердце твое все, все, все наполнено сладчайшим Иисусом Христом, жизнью нашей,
—416—
миром нашим, радостью нашей животворным питием и всеосвящающей пищей душ наших. Да уразумевши воистину общение страстей Его и силу воскресения Его в душах наших. Тогда истинно вся уметы вмениши и, да Христа приобрящеши. Ибо дли того мы и оставили мир, да Христови сраспнемся и Ему Богу нашему воспоем. Смерти празднуем умерщвление, и адова разрушение, иного жития вечного начала. А житием сим те только соликоствуют, в сердцах коих живет и действует святой Дух Христов.
Христос Воскресе! Брат наш боголюбезный о. Аполлос благовременно прибыл в святую Лавру к Великому покаянному канону. На пятой седмице в Четыредесятницы. Страстную великую седмицу ежедневно литургисал с нами. Теперь переселился на ближние пещеры к самим преподобным печерским, по своему избранию. – Пусть и молится о врачевании недугов своих и напитывается святым воздухом от благоухающих духом святым обителей угодников Божиих. У нас теперь и весна уже начинает благоухать первыми цветами. И аз многогрешный после долговременного отсутствия во время зимы привитал в любимой моей уединенной пустынке. Ах, как сильно жаждет душа моя совершенного удаления в сию пустынку на молитвенное безмолвие! Тут она обретает мир и питается Богомыслием, неразвлекаемым суетами мира. Но видно еще не уприде время. А время мое близ суть. Призываю на вас и на вверенную попечению вашему святую обитель благословение Божие с искренним почтением и братской во Христе Иисусе, надежде нашей, любящий есмь и буду Вашего Преподобия усерднейший богомолец
Филарет, М. Киевский
2 апреля 1844 г.
.... еева пустынь.
№ 13.
Преподобие и Боголюбезне брате авва Игнатие! Письмо твое получил на одре болезненном, на котором
—417—
уже седьмой день. Не знаю, воздвигнет ли меня Господь Бог, или воззовет к себе. Одно и все мое желание быти со Христом – Ему же верой и правдой прослужих четвередесять седмь лет. Вчера Господь Бог сподобил меня получить разрешение от духовного отца моего во всех прегрешениях моих и приобщиться Святым Животворящим Тайнам своим. Им же образом желает елень на источницы воднии, сице желает душа моя к тебе Боже. Когда приду, и явлюсь лицу Божию!.. впрочем, это мое желание, а жизнь в руце Божией. Болезнь моя кажется не к смерти – может быть от излишнего напряжения к исполнению дел службы и правил монашества. У меня нет викария уже четвертый месяц. А утомленные члены требуют покоя – вот приближается монашеский врач – Св. Пост, – да уврачует Господь Бог душевные и телесные недуги наши.
Поручаю себя святым молитвам Вашим. Ваш всегда усердный богомолец.
Филарет М. Киевский
19 февраля 1845 г.
О письмах Ваших изволите быть совершенно спокойны – у меня обычай уничтожать их тотчас после ответа. Ни одно не существует. Не знаю смогу ли я завтра принять графиню Гудович, ибо очень слаб и сильная боль головная. Ежели не смогу, то извините меня перед ней. А в терпении не пренемогайте. Господь близ – приидет и неукоснит и по терпению благих дел сторицей и седмидесят крате сторицей воздаст щедротами своими возлюбивших Его, и благоугождающих Ему.
Киреев-Ртищев А.А. Современные манихеи: (Краткий очерк истории масонов) // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3, с. с. 418–425 (4-я пагин.).
—418—
«Блюдитеся от злых делателей» (Фил. 3:2)
I.
Гренобльский Епископ Г. Фава в своей речи на похоронах генерала Мирибеля объявил всему миру, что Крымская война была делом французских, английских масонов. Но что такое масонство – известно мало кому. Сообщаем вкратце историю этого союза – братьев Каменщиков.
Существование этого братства не миф: оно действительно существует и управляется строгими законами, именуемыми конституцией. Во главе правления Франции ныне стоят многие масоны. Некогда и у нас были ложи: но в настоящее время масонство в России отошло в область забытого предания настолько, что действительно существовавший факт кажется призрачным и гадательным776. Вследствие особенностей нашего развития масонство не могло пустить у нас глубоких корней. Современник молодости митрополита Филарета, приснопамятный епископ Пензенский Иннокентий († 10 октября 1819 г.), укорял князя А.Н. Голицына в желании способствовать насаждению у нас масонства, прикрывающегося вначале мистицизмом. Поборник православия святитель Иннокентий был удален из Петербурга в почетную ссылку; по прошествии нескольких месяцев управления Пензенской и Саратовской епархией
—419—
он почил, будучи 34 лет от роду. Дело его продолжал его бывший келейник архимандрит Фотий – возобновитель Юрьева монастыря. Как по окончании какой-нибудь смертоносной повальной болезни, остаются ее зародыши вне, так сказать, полицейского дозора, так и обличенныйе и побежденные ереси, сокращенные до невидимости, переживают все гонения: затем они выслеживают способы вновь выбиться на свет Божий, внедряются в сродный им организм и тогда снова крепнут и делаются грозными для истины, или лучше для слабых последователей ее.
Родь человеческий склонен оправдывать свои мерзейшие поступки силой обстоятельств. Это, конечно, происходит под давлением мучительных упреков совести. Страдания всегда вызывают сочувствие и призывают к всепрощению. Но возводить злую волю, дурные побуждения, в принцип, доказывать, что дурное по существу должно породить доброе – преступное заблуждение. Изотерическое учение масонов зиждется на этом заблуждении. Составляемый очерк может ознакомить православных читателей с существом масонства, а также с чертами его сродства с манихейской ересью.
Последний из официальных гроссмейстеров ордена Храмовников Яков Бургунд Молэ, в силу своего старшинства в монашеском рыцарстве, не мог быть незнакомым с богословскими науками своего века. Яков Молэ был просвещенный человек, много путешествовавший, знакомый с Востоком уже по обязанности своей службы как охранитель Св. Храма Иерусалимского.
В ордене Храмовников всегда почти, со времени основания его, были некоторые особенности. Так, несмотря на всеобщее запрещение устройства вечерей любви, этот обычай поддерживался рыцарями. Орден, основанный в начале ХII столетия и набиравший рыцарей из богатейших семейств Запада, по прошествии 200 лет сделался очень богатым и могущественным. Эти богатства возбудили в короле Филиппе Красивом зависть и желание присвоить себе достояние Храмовников; но это было нелегко, потому что орден был не только могуществен, но и уважаем: однако среди рыцарей нашелся предатель – Ускэн де Флорье.
Король, чтобы избежать обвинения в насилии, собрал
—420—
Генеральные Штаты и по соборному приговору Штатов, рыцари и их гроссмейстер были осуждены на сожжение. Гроссмейстера Якова Молэ и его рыцарей до времени казни заключили в Бастилии.
II.
В то время резиденцией папы был не Рим, а Авиньон. Папа Климент V, отчасти из желания сделать угодное королю Филиппу, потому что помнил неприятности, вынесенные его предшественником Вонифатием VIII в борьбе с этим венценосцем, отчасти находя значение ордена Храмовников чрезмерно усилившимся, а, главным образом, потому, что память о борьбе с манихеями блаженного Августина жила в Римской церкви, признали въ Храмовниках манихейский дух. Блаженный Августин завещали Римской церкви неослабно бороться с ересью, так долго и так умело его увлекавшей.
III.
Гроссмейстер Молэ, томимый заключением в Бастилии, не пал духом в ожидании той страшной казни, которую инквизиция называла бескровной. Вероятно, он продолжал сноситься с внешними миром, потому что, создавши в воображении проект лож, передал его прозелитам.
Преследуя цель оправдания своих беззаконий гностики и манихеи любили выставлять себя последователями апостола Иоанна Богослова; апокрифическая литература полна тенденциозных сказаний, приписываемых евангелисту Иоанну. Существует целый кодекс Первоначального христианства, завещанный будто бы Иоанном Богословом. Смертоносный зародыш манихейского учения свил себе гнездо в сердце Якова Молэ; из этого зародыша образовалась целая система. Вот вкратце ее содержание: Молэ, увидев, что ордену суждено быть упраздненным, задумал составить новый союз людей, подчиненных одной страсти777. – Эти люди, сплоченные между собой единством целей, могли образовать такую силу, перед которой не
—421—
устоять наследственному монархизму. Когда все власти будут побеждены, сила переходит в руки этой кучки людей, и они управляют Вселенной уже на основании своих законов свободы, равенства и братства. Как манихейство имело в виду представить тот процесс, благодаря которому зло постепенно подвергалось разрушению посредством внутреннего и внешнего усовершенствования, посредством физического и нравственного возвышения человеческой жизни, так гроссмейстер Молэ полагал, что можно, без помощи Церкви и благодати, при действии одних человеческих страстей и дел, преобразовать мир к лучшему и даже создавать доброе – улучшать человечество при помощи злого начала – матери. Итак, гроссмейстер Молэ был апостолом манихейства и мессией масонов.
IV.
Казнь над Молэ и его рыцарями состоялась в Париже, на площади. Через две недели погиб от руки убийцы предатель ордена – рыцарь Флорье; в течение года скончался папа, а по прошествии года умер король Филипп. Говорят, что два последних события были предсказаны гроссмейстером. Есть основание предполагать, что Молэ занимался герметическими науками, процветавшими тогда под руководством Альберта Великого. Очень вероятно, что, витая в кругу астрологов, обладавших всеми книгами, заключавшими мистические предания, Молэ получил сочувствие к тайными учениями и практике таинственных обрядов.
До XVIII столетия включительно, масоны любили выдавать свое братство происходящими от Хирама, строителя Соломонова храма, а также уверять, что изотерическая часть их учения унаследована от египетских жрецов; в доказательство они представляли принятый ими герб – принадлежности строителей: ватерпас, циркуль и наугольники. Самое название «каменщиков» они связывают с Соломоновым храмом и его таинственной судьбой. – Критическая современная наука до корня разрушает эти басни. Причина, почему последователи гроссмейстера Молэ назвались каменщиками, – следующая: на другой день казни Молэ и его
—422—
рыцарей, несколько из уцелевших рыцарей, переодетых каменщиками, пробрались к месту казни и собрали испепеленные останки своего Гроссмейстера и собратьев. Вот истинная причина имени свободных каменщиков, принятого рыцарями.
V.
Собрав прах своих товарищей, пережившие их собратья торжественно поклялись разрушить могущество папы, истребить королевскую династию Капетов, подстрекать народ к возмущениям и основать республику
VI.
Этой клятвой было положено начало масонских лож, которых было основано четыре, по числу стран света: для севера – в Стокгольме, для юга – в Париже, для востока – в Неаполе и для запада – в Эдинбурге. Это были главные ложи, так называемые ложи-матери, члены которых, в количестве 27 человека, продолжали носить имя Храмовников, а их заседания назывались капитулами. Все они управлялись одними великим мастером. Так как видимые богатства ордена были конфискованы королем Филиппом, то первые десятки лет своего существования братья каменщики направили свою деятельность исключительно на создание средств. Это было не особенно трудно, потому что часть богатств ордена была скрыта на островах Средиземного моря. Главная деятельность братства была так скрытна, что ни сколько не привлекала внимания королевского правительства. Например, собрания в малых ложах были почти явными, и братья младших степеней держали речи о делах милосердия, братстве людей и т. д. Главари масонов никогда на подобных собраниях не показывались. На самом деле, эти малые ложи были приготовительными училищами для лож-матерей. На торжественных заседаниях происходят мистерии, смысл которых – сохранять в памяти потомства суд и казнь над Храмовниками.
VII.
Нам известно, что французская революция готовилась в течение многих десятков лет: мы можем предпола-
—423—
гать, что многие энциклопедисты подготовляли ее. Много данных дают право делать вывод об их причастности к масонству.
Следует обратить внимание на предание, что ужасы французской революции были предсказаны во время служения черной мессы. Это кощунственное действие произведено по желанию регента Франции – безнравственного герцога Орлеанского. У манихеев же существовал культ злого начала и гимны в честь сатаны.
VIII.
До знаменитого дела об ожерелье, масоны действовали в тени. Этим делом был подан сигнал к революции. На злополучную королевскую фамилию посыпались памфлеты, подточившие в корне уважение в народе к королевской власти.
Кардинал-князь Роган, представитель Церкви, был всенародно одурачен.
Королева Mapия-Антуанетта, молодая, несколько легкомысленная, любившая наряды и удовольствия, но уважавшая своего короля Людовика XVI, была опозорена самыми черными клеветами. Папская полиция перед этим арестовала важных членов масонства: между конфискованными бумагами нашли бесспорные доказательства того, что революция во Франции была преднамечена, а в числе загадочных вещей нашли кресты с литерами: «L. Р. D». В застенке арестованные признались, что литеры означают: «Погибель королевского семейства была предрешена».
IX.
Масоны включили в свою символику девизы: свобода, равенство, братство. Знамя: соединение трех цветов – белого, красного, синего. Видимое отличие: красный фригийский колпак. Эмблему: циркуль, прямоугольники, ватерпас. Pacтениe: акацию.
X.
Только люди, принципиально решившие бесповоротно казнить королевскую чету, могли с такой жестокостью посту-
—424—
пить с этими невинными людьми, каковы были Людовик ХVI и Mapия-Антуанетта. Они были многими истинно любимы и почитаемы, и к спасению их были приложены заботы. Устроили побег. Французской королевской чете было предложено гостеприимство королем Швеции, – этот вскоре пал от руки масона Анкарстрема, – а король Людовик и его семья арестованы в Варенне. Вскоре их заклали, и династия Капетов едва ли когда-нибудь водрузит вновь во Франции белое знамя.
XI.
Вспыхнула великая французская революция, и первыми сознательным актом ее вожаков было уничтожение узилища Якова Молэ и его товарищей – Бастилии, которую срыли до основания. Самые неистовые главари революции приняли имя якобинцев, – но, с другой стороны, это название перешло к ним будто бы от того, что заседания клуба происходили в Яковлевом монастыре. Многие из них предложили воздвигнуть на той площади, где произошла казнь Храмовников, памятники, изображающие Колосса, попирающего крест, пару и корону. Площадь эта была украшена конной статуей Генриха IV, которую, конечно, ниспровергли. Девиз для республики был заимствован от масонов – равенство, братство, свобода. Все действия революции прошли под сенью трехцветного знамени, окончательно принятого республикой вместо королевского белого, усеянного золотыми лилиями.
XII.
Масоны не пренебрегли ничем, чтобы усилить свое значение. По масонской конституции все могли делаться членами общества: и раб, и свободный, и принц крови, и мусульманин, и идолопоклонник, – только не венчанная глава. Особенно ценимы были из прозелитов те, которые могли быть способными для какого-нибудь экстренного поручения, как, например, Анкарстрем. Преступления, вообще пролитие крови, возбраняется масонами, разве только при исполнении воли капитула.
—425—
Есть факты и поступки, стоящие вне человеческой юрисдикции, к числу таковых принадлежит деятельность братства свободных Каменщиков. Если верить, что сила эта существует сотни лет, как то утверждают анналы римской церкви у клира, которой нельзя отнять безусловного знания всех сокровеннейших особенностей человеческой семьи Запада, а темь более таких членов семьи, которые враждебны панству, и что все рассказываемое в записках старых, опытных людей, допуская даже, что известная часть записок подправлялась издателями ради своих целей; то в словах епископа Фава, нельзя не усматривать предупреждения: «блюстися от злых делателей».
По отношению опасности сблизиться с братством свободных Каменщиков мы можем жить безбоязненно; наши идеалы разнятся от идеалов Запада: «желание имамы со Христом быти».
Село Обшаровка, Самарского уезда, сентябрь 1893 г.
Протасов Н.Д. Материалы для иконографии Воскресения Спасителя // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3, с. с. 426–452 (4-я пагин.).
—426—
Мы имеем традиционный, веками сложившийся и принятый тип изображения воскресения Господа Иисуса Христа, в котором на первом плане помещается гроб Воскресшего. Эта иконографическая подробность встречается решительно во всех композициях нашего сюжета. Каковы ни были бы его персонажи, как ни была бы сложна и запутана обстановка события, в какой бы форме – символической или историко-реалистической – ни передавалось евангельское повествование об этом центральном во всем христианстве, факте, мы везде встречаема? изображение гроба Господня. Возьмем ли мы древнейшую композицию на барельефе латеранского саркофага (№ 171), который считается первыми и начальными памятником нашего изображения, когда древние христиане еще не дерзали касаться резцом или кистью самого воскресения, – остановимся ли на реалистической композиции знаменитого Таддео Гадди в ц. Марии Новой во Флоренции, перед нами – прежде всего, гроб Христа или под символической монограммой Спасителя, или же в форме классического саркофага, на котором сидят ангелы. И, конечно, гроб Христа в Иерусалиме – этот уникум в целом мире – был единственным предметом, который притягивал, до сих пор притягивает особенное внимание всех христиан и который заставил одного благочестивого паломника воскликнуть в священном восторге: Ἱεϱουσαλὴμ… ὁ ὁμφαλος τῆς γῆς, ἡ μέση τοῦ ϰόσμου!
Отсюда, для иконографии воскресения Христа очень важно определить отношение между св. гробом в Иерусалиме и воспроизведшем итого гроба первыми христианскими ху-
—427—
дожинками-реалистами, которые пытались передать евангельское повествование в исторической, обстановке, и их попытки в истории искусства получили значение в некотором смысле норм. Так, наши изображения в своей основе имеют исторический гроб Христа.
Отсюда, мы должны, прежде всего, обратиться к представлениям древних евреев о загробной жизни и посмотреть, к чему обязывали они живых? Однако в настоящее время нельзя говорить о религии иудейской без того, чтобы не определить своего отношения к догме рационалистов, по которой – иудейские эсхатологические воззрения вообще целиком заимствованы были у древних вавилонян, и, следовательно, погребальные обычаи древних евреев также представляли простую копию обычаев вавилонских. Факты говорить обратное, и к ним мы должны также обратиться (см. приложение).
Идейная бедность, крайняя туманность и неопределенность вавилонской эсхатологии мешали ей быть жизненным, практическим фактором. Она говорила о жизни теней – душ умерших, описывала их странствования и всевозможные фантастичные приключения, но совершенно порывала всякую связь души с телом. Душа могла явиться на землю, произвести известное катастрофическое действие среди живых, однако с момента смерти она становилась, по существу, совершенно иной субстанцией и уже не могла иметь никаких отношений к телу. Смерть была резкой и окончательной гранью, которую перейти нельзя. Соединения в какой-бы то ни было форме между телом и душой после смерти уже не может быть. Отсюда, погребение тела у вавилонян имело особый, характерный смысл. Тело становилось именно прахом, теряло всякое значение и делалось в своем роде ненужным предметом, который может быть дорог только для того, кто был умершему чем-нибудь обязан, признателен, например, за данную жизнь – детям и т. д. По такому чисто естественному чувству, близкому к ощущениям фетишиста, родственники и должны были заботиться о погребениях умершего. Погребение трупа у вавилонян – это особый род благодарности к усопшему, которого оставить, бросить на уничтожение – претит нравственному чувству. Известно, что вавилоняне
—428—
погребали умерших в глиняных горшках778, но как, это наука знает не вполне точно, потому что ни один барельеф, каких в настоящее время открыто много, равно как и тексты, ничего не говорят об этом. Мало того, не смотря на тщательные разыскания, на множество открытий в области древней Месопотамии, наука до сих пор не знает вавилонско-ассирийских гробниц древнейшего периода, и ученые соглашаются обычно с гипотезой, что «ниневитяне и вавилоняне рассматривали бассейн Халдеи, как землю предков, их прародину, и что поэтому вследствие религиозного и виновного почтения они переносили останки дорогих и любимых мертвецов к предкам их расы. Ассириане, жившие по верховьям Тигра, помещали в лодки останки любимых покойников и, доверив их волнам реки, с плачем сопровождали до места их последнего успокоения» (проф. С.С.Глаголев)779. Некоторые археологи утверждают, что в Вавилоне и Ассирии вообще и не существовало погребальной архитектуры780. И, думается, что это утверждение главное основание может иметь в раскрытом выше воззрении ассиро-вавилонян на труп. Для них тело умершего человека – ненужный, потерявший всякое значение и смысл предмет. Особенно беречь его для чего-нибудь не нужно. Следовательно, у вавилонян не было никаких логических посылок и побуждена для развития погребальной практики и особой архитектуры, как у других народов, признававших, хотя в самой зачаточной форме, метампсихозис. Практический эпикуреизм, сквозящий во всех открытых гимнах, быль вполне естественным следствием воззрения на загробную жизнь. Совершенно в ином положении находились древние евреи. Мы видели, что они постулировали, по крайней мере, для праведников (а каждый иудей потенциально считал себя таковым) – суд над умершими и воскресение тела для будущей блаженной жизни в царстве Мессии. Отсюда само собой следовало, что и отношение к телу умершего
—429—
должно было быть иным, чем у вавилонян: тело временно перестало быть оболочкой для души, но настанет моменты, когда душа опять вернется к нему, и начнется субстанциально прежняя жизнь души и тела. Таков был тот логический путь, которым древнеиудейская мысль оправдывала свое бережное, почтительное отношение к телу умершего. И в курсах истории архитектуры гробницы, современные Давиду и Соломону, имеют значение источников вообще для характеристики тогдашнего состояния строительного искусства в Палестине.
Первые сведения о способах погребения у евреев сообщает история Авраама. В Хевроне Сарра умерла. Авраам, очутившийся в таком горестном положении на чужбине, среди неизвестного народа, обратился к хеттам с предложением продать место для погребения жены. Такое место и было уступлено ему за 400 серебряных сиклей. Там уже была устроена для погребения двойная (makp(f)elah) пещера (Быт. 8). Очевидно, такие пещеры были в большом ходу у ханаанских насельников: это – или естественные пещеры в известковых пластах, образовавшихся вследствие того, что вода, насыщенная углекислотой, проникла в толщу пласта и, изменяя углекислую известь вы легче растворимую двууглекислую, образовывала сначала пустоты, а потом и гроты, которые, быть может, вследствие весенних размывов, открывались, наконец, наружу отверстием, – или же искусственный, вырытые вы склонах гор. Погребения в таких пещерах-склепах практиковали также потомки Авраама вплоть до Иосифа Аримафейского, отдавшего свой склеп для тела Спасителя. Гористая, богатая уклонами, Палестина позволяла практиковать этот хананейский способ обращения с мертвыми останками. Гробница первого патриарха в Хевроне сохранилась до нашего времени781. Это – пещера в вид просторной крипты, куда непосредственно на пол или на искусственное возвышение и помещались умершие. По мнению ученых, геологически можно доказать современность пещеры Аврааму, и лишь ограда – кругом нее – воздвигнута, несомненно, при
—430—
Ироде, который вообще заботился о сохранении национальных священных реликвий, и, конечно, к числу их относилась гробница родоначальника еврейского народа.
На основании некоторых замечаний Евангелистов, мы можем сделать вывод, что евреи своих мертвых тщательно завертывали в нисколько полотен и в таком закутанном виде клали в пещерный склеп (Mф.15:46; Лк.23:53; Ин.11:44; 20:5–7). Бывали случаи и мумификации. Так, тело Иакова после смерти в Египте было набальзамировано, и египтяне 70 дней предавались плачу (Быт.60:3); на основании Геродота, Saulcy догадывается, что из этих 70 дней в течение сорока совершалось умащивание и наполнение трупа различными консервирующими веществами, и тридцать дней продолжался траур по усопшем782. После того мумия помещалась в приготовленной пещере. Не смотря на всю случайность настоящий погребения, мы можем видеть, как ревниво относились евреи к телу усопшего; не смотря на весь свой национальный сепаратизм и отвращение к язычеству, они воспользовались египетским обычаем, чтобы подольше сохранить дорогое тело. Так же мумифицировано было тело Иосифа, перенесенное позднее из Мизраима в родовой склеп в Хевроне.
Этот тип погребальных камер прочно привился вообще на аравийском полуострове, и во многих местах там до сих пор сохраняется много древних пещерных гробниц, совершенно тождественных с палестинскими. Чаще эти гробницы устраивались в скалах, украшались колоннами, фронтонами, разными обломами, смешанными с египетскими и ассирийскими мотивами. Наиболее употребительны были просторным, высокие погребальные камеры, в которых по стенам устраивались особые продолговатые ниши, куда и помещались останки умершего. Как на особенно типичную, можно указать на одну из таких гробниц – в Medain-Salih (северная Аравия). Это – в каменном склоне горы пробитая пещера и разделанная в целую комнату, близкую по своей форме к квадрату783. Здесь обычно находил упокоение целый род784. Не совсем еще
—431—
отчетливая вера в воскресшие тела заставляет, однако, евреев заботиться при жизни, где можно положить всю семью, род. В этом, конечно, сказывалась тесная, человеческая связь живых, которые свои чувства и представления переносили и за гроб.
Погребальные пещеры-склепы употреблялись в Палестине и позже, в христианскую эпоху. Члены христианского общества следовали своему национальному обычаю и устраивали по-прежнему семейные склепы. Очень интересен один такой склеп недалеко от Назарета в деревушке Шефа-Амер, относимый к IV веку нашей эры. Он также сделан в скале, дверью служит большая каменная плита. Внутри камеры устроено три гробницы в виде римских катакомбных аркосолиев. Стенные плоскости заняты колонками, изображениями птиц, разными христианскими символами. Снаружи вход украшен виноградной лозой, вырастающей из двух ваз по бокам двери785. Таков приблизительно и был склеп-пещера, куда Иосиф Аримафейский положил Пречистое Тело Спасителя (ср. Mф.27:59–60; Мр.15:46; Лк.23:53; Ин.19:40–42).
С течением времени в Палестину начали проникать иноземные влияния, которые повлияли на погребальную практику потомков Авраама. Очень рано египтяне принесли сюда свой тип – не пещерный склеп, а тип монолитный, который привился в Иерусалиме. К таким сооружениями, прежде всего, следует отнести египетские монолит в Силоамской долине недалеко от Иерусалима, который считается одной из самых ранних палестинских одиночных гробницы архитектурный особенности позволяют отнести его к досоломоновской эпохе. Силоамский памятник представляет собой трапецеидальный монумент в 3 м высоты и по горизонту 6 м 10 см, – 5 м 60 см. Дверь с запада ведет в небольшую (2 м 43 см2) переднюю, из которой – вход в камеру. Вогнутый потолок этой комнаты сложен, как в обычных египетских строениях. Две ниши в стенах назначены для трупов. Снаружи – грубый
—432—
египетский карниз786. Достаточно беглого взгляда на этот памятник египетского влияния, чтобы заключить, что это не что иное, как измененный, развитой пещерный тип, о котором была речь выше. Силоамский монумент не сложен из камня, а высечен из всей толщи каменного склона скалы, из которой он выступает тремя сторонами – передней и двумя боковыми, а задней прислонен к скале. Так что, собственно говоря, это та же пещера, только вынесенная
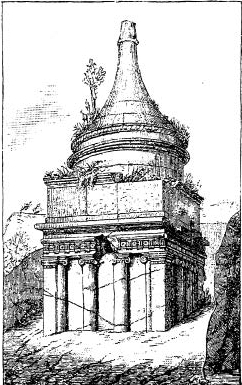
Рис. 1.
—433—
из горной массы наружу и обделанная в правильную форму. Несомненность и очевидность этого подтверждает другой монолитный памятник – гробница Авессалома, сына Давида, особенно известная у жителей Палестины (рис. 1). Археологическая исследования подтверждают ее древность: большинство ученых согласны, что гробница Авессалома современна этому мятежному царевичу787. Св. писатель кн. 2 Царств повествует, что Авессалом еще при жизни выпросили себе, в долине царей место, на котором устроили полустолб (metzebet) и назвал его «рукой Авессалома» (XVIII гл.). Этот metzebet были собственно гробницей для останков своего строителя, который, как не носивший короны и, кроме того, опальный, не мог быть погребен в общей царской усыпальнице. Однако придворный этикет позволили ему быть в царской долине, которая называлась иначе «долиной Иосафата» и была назначена для погребения коронованных особ иудейского народа788 (рис. 2). Иосиф Флавий сообщает несколько интересными подробностей об этом metzebet’e. Они говорит: «Авессалом еще при жизни воздвиг себе в царской долине мраморный столп (στήλην λίθου μαρμαρίνου) в двух стадиях от Иерусалима, которые назвали рукой Авессалома» (Antt. 7, 10:3). Из слов иудейского историка о материале и расстоянии от Иерусалима этого монумента мы можем заключить, что последние были цель в его время, и он имели возможность видеть его. Об этом же сооружении упоминает и знаменитый бордосский паломник (333 г.) в своем описании св. Земли. Он пишет там: «Item ab Hierusalem euntibus ad porta, quae est contra oriente, ut ascendatur in monte Oliueti, uallis quae dicitur Iosaphat; ad partem sinistram, ubi sunt uineae, est et petra ubi Iudas Scarioth Christum tradidit, a parte uero dextra est arbor palmae, de qua infantes ramos tulerunt et ueniente Christo substrauerunt. Inde non lange quasi ad lapidem missum sunt monumenta duo monubiles mirae pulchritudinis facta: in unum positus est Isaias propheta, qui est uere monolitus, et in alium Ezechias, rex Iudaeorum»789. Ученые
—434—
принимают, что под этим вторым монументом и нужно разуметь тот именно столп-гробницу Авессалома, о которой у нас речь790. Нижняя – монолитная часть этой гробницы – представляет собой огромный квадрат (6 м 24 см ширины и 6 м 50 см высоты), высеченный из скалы. Род двора окружает базу справа, слева и сзади. На монолитном квадрате водружена верхняя часть, сло-

Рис. 2.
—435—
женная из больших тесанных камней: барабан диаметром в нижнюю часть сведен в толстый шпиль каменной кладки. Каждая сторона итого квадрата украшена двумя ионическими колоннами и двумя же полуколоннами, прислоненными к угловым пилястрам. На колоннах покоится дорийский фриз с тринадцатью розетками и четырнадцатью триглифами. Под фризом виден египетский карниз. С южной стороны устроена небольшая дверь квадратной формы. Кроме того, по остальным сторонам основного квадрата зияют три бреши. Через среднюю брешь можно войти внутрь гробницы. Потолок комнаты образован двумя – один над другим – концентрическими кругами. Стены заняты аркадами791.
Saulcy, изучавший этот памятник в соединении деталей ионического, дорийского и египетского стилей, не видит ничего такого, что заставляло бы относить его къ эллинистической эпохе. Он думает, что Палестина, находившаяся под перекрестными влияниями, с разных сторон, должна была непременно воспринимать элементы и мотивы, которые находились еще в зачаточном состоянии у соседей792.
В той же Иосафатовой долине есть гробница, близкая по своей архитектуре к Силоамскому памятнику и гробнице Авессалома. Это – гробница Захарии (рис. 3), которую Бордосский паломник называет ошибочно гробницей пр. Исайи (см. выше). Эта гробница так же высечена из скалы в форме четырехугольника (около 6 м длины и ширины в основании), но покрытие здесь иное: не барабан, а четыреугольная пирамида, представляющая одно целое с корпусом гробницы. Фасадные украшения немногим разнятся от украшений гробницы Авессалома793. Особенный интерес представляет гробница Захарии в том отношении, что до сих пор не открыто ни малейшего намека на дверь или
—436—
спуск во внутреннее пространство памятника, но несомненно, что в нем есть или был поставлен саркофаги, иначе не зачем было помещать такой монумент среди некрополя. Пр. Олесницкий находить у Св. ев. Матвея указание на этот памятники (Мф. 23:29–35): обличая фарисеев, Господь Иисус Христос упрекает их в убийстве первосвященника Захарии, сына Варахии, памятник которого был ими украшен. По предании, которое находить подтверждение свое во внешнем виде монумента, некогда он был разделан огненно-красной краской, напоминавшей кровь праведника, невинно убитого между жертвенником и алтарем794.
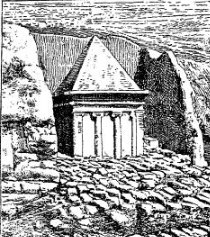
Рис. 3.
Такой монолитный тип гробниц практиковался у древних евреев людьми богатыми, знатными, которые еще при жизни заботились об устройстве себе посмертного жилища. Интересно, что по идеологии ветхозаветных свв. писателей – считалось позорными наказанием лишить человека погребения в том месте, где нашли упокоение его родные, единоплеменники (Исх. 14:18–19). Под влиянием этого
—437—
евреи не менее египтян заботились о погребении, и мы находим в Палестине – особенно в Иерусалиме – массу гробниц, которые в основном не отступают от типа монолитного. Люди среднего достатка не могли, конечно, сооружать пышных, стильных гробниц – монолитов, напоминавших по своим архитектурным подробностям жилы помещения. Им приходилось довольствоваться чаще искусственными пещерами в нижней части горного склона, вырытыми параллельно горизонту, так что не нужно было спускаться в них, как в катакомбах. Особенно высоко – на вершинах горы – гробниц не делали, потому что под влиянием геологических местных условий почва вершин очень часто осыпалась, вследствие этого – обычно погребальные пещеры высекали в начале горного склона. Пр. Исайя обращается с порицанием к одному иерусалимскому жителю за то, что тот соорудили себе гробницу на вершине горы (Ис.22:16).
Такова была и пещера, в которую Иосиф Аримафейский положили Тело Спасителя.
В настоящем своем виде (рис. 4) эта пещера совершенно потеряла первоначальную топографию, так что можно говорит теперь только о месте погребения Господа, в подлинности которого сомневаются одни только протестанты. – На северо-запад от голгофской возвышенности путники входить в ротонду (50 м диаметр) из массивных 18 колонн, поддерживающих галерею из 18 аркад. В центре ротонды находится пещера, где лежало Тело Спасителя. Однако, чтобы составить себе правильное представление о первоначальном виде этого погребального склепа, мы должны обратиться к евангельскими данными. По словами свв. евангелистов, Иосиф Аримафейский предоставил Господу пещеру, в которой еще никто не был положен (Лк.23:53), так как у него была другая пещера (Mф.27:60 – ἐν τῷ ϰαινῷ αὐτοῦ μνημείῳ – cp. Mф.9:17 – ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσϰοὺς ϰαινοὺς – также 13:52 и др.), где, вероятно, покоились его родичи. Эта частность имеет для нас в настоящем случае большое значение, потому что позволяет согласиться с мнением проф. Олесницкого, который предполагает, что эта новая пещера была неокончена. Владелец успел сделать только
—438—
антишамбр – переднюю и первую гробничную камеру вчерне, как Провидение остановило дальнейшую выделку локул, потому что наскоро сооруженное ложе в виде простой скамьи и послужило местами упокоения Тому, Кто не имел,

Рис. 4.
—439—
где главы преклонить. Замена локул скамьей подтверждается тем, что Мария, придя к низкому входу в пещеру, увидала двух ангелов, сидевших на месте, где лежало Тело Господа (Ин.20:5, 11, 12): на локуле сидеть нельзя было, конечно. Бывшую уже в употреблении пещеру Иосифа Аримафейского удалось найти нашему палестиноведу также недалеко от Голгофы795. Гроб Спасителя высечен в скале и первоначально был закрыть каменной плитой, которая была отвалена ангелом. Позже, когда начался приток паломников к Святыне, и небольшая пещера оказалась слишком тесной, так что не могла быть приспособлена к богослужебным целям, она была совершенно вырублена из материковой скалы, и с двух сторон – северной и западной – образовался широкий проход (почти 9 футов на западе). Собственно такая переделка относится к IV веку, когда Константин Великий, пораженный мерзостью и запустением на св. месте, которое император Адриан старался всячески загрязнить (он построил там, на насыпи капища Зевса и Венеры), очистил эту площадку от языческих остатков и открыл из-под насыпи гроб Господень796. Далее, он был выделен из горы и получил форму классического надгробного монумента в виде часовни. Передняя часть тогда же была удалена, и осталась собственно гробница-камера797. Таким образом, ревностью императора-христианина простая погребальная пещера, ничем не отличавшаяся от обычных пещер иудеев среднего достатка, получила форму монолита, какую нам характеризуют гробницы Авессалома и Захарии. Однако этим не удовольствовался Константин. Евсевий Кесарийский говорит: «вместе со словом, предметы обращаем в дела... И вот, как бы голову всего, прежде всего украшал (он) священную пещеру, божественный оный памятник, при котором некогда ангел, облиставая светом, благовествовал всем являемое паки бытие. И так ее (пещеру) прежде, как бы голову всего, царское любочестие испестрило отбор-
—440—
ными колоннами и множайшим убранством, просветивши всякими украшениями»798.
Св. гроб сделался центром Иерусалима, Палестины и всего христианского мира, куда началось паломничество с самых отдаленных мест вселенной. Человеческая мысль начала соединять свое спасение с посещением св. гроба: быть у него, осязать, приложиться к самой земле, на которой лежало Пречистое Тело Спасителя мира – значило вдохнуть в себя новые живительный благодатные силы, силы для несения креста в земной юдоли, где человек-христианин, прежде всего – мученик, страдавший. Конечно, посещение гроба Первого христианского Мученика, Божественного Страдальца есть благодарный подвиг, спасение души. Все, взятое из св. гроба – камень, масло из горящих там лампад – все это священные реликвии, –
все обладает особыми силами, священно799. Каждый паломник уносил с собой из Иерусалима известное представление о форме и архитектурных особенностях св. Гроба, который и передавал на своей родине или же распространял письменно в виде дневников, описаний или благочестивых размышлений. Блаж. Иероним говорит800: «долго было бы исчислять ныне, сколько во все время от вознесения Господня до настоящего дня благовестников, сколько мучеников, сколько искуснейших в церковном учении мужей ходило в Иерусалим. Все они думали, что в них меньше будет религиозности, меньше знаний, и что они не достигнуть высшей добродетели, если не поклонятся Христу в тех местах, где заблистало с креста первоевангелие».
Итак, с IV века пещера Спасителя представляла собой монолитную гробницу, расширенную имп. Константином, и освобожденную от антишамбра: эта гробница была заключена при нем же в колоннаду.
—441—
У нас нет вполне ясных данных о характере покрытия колоннады кругом св. гроба, которую ученые называют памятником Константина. Однако у Евсевия есть одно, хотя и очень неясное, замечание, которое может быть полезно нам. Сказав об украшении пещеры и устройстве базилики, примыкающей к устью пещеры, Евсевий возвращается опять в своем описании к св. гробу и говорит: «τούτων δ’ ἀντιϰϱὺ, τὸ ϰεφάλαιον τοῦ παυτὸς ἡμισφαίϱιον ἦν, ἐπʼ ἄϰϱου τοῦ βασιλείου ἐϰτεταμένον. ʻΟ δὴ δυωϰαίδεϰα ϰίονες ἐϭτεφάνουν, τοῖς τοῦ Σωτῆϱος ἀποϭτόλοις ἰϭαϱιϑμοῖ ϰϱατῆϱϭι μεγίϭτοις ἐξ ἀϱγύϱου πεποιημένοις τὰς ϰοϱυφὰς ϰοσμούμενοι»801. Архим. Антоний, на которого мы уже указывали, так переводит настоящее место: «напротив (всего) этого была голова всего, полушарие, распростертое на краю базилики. Его венчали 12 колонн, равночисленные апостолам Спасителя, украшенных наверху величайшими чашами, сделанными из серебра»802. Из этих слов церковного историка видно, что на колоннах, окружавших св. пещеру, покоилось полукружие, полусфера, купол, в том месте, где купол прикасался к колонне, поставлена серебряная чаша. И зритель, конечно, видел, что чаши составляют продолжение колонн.
Итак, при Константине Великом место, где было положено Пречистое Тело Спасителя, получило совершенно иной вид. Вместо простой пещеры в склоне горы, паломники созерцали выступившую из плоскогорья комнату с каменным же ложем, и кругом такой своеобразной будки были поставлены мраморные колонны (12), на которых покоился купол с блестящими чашами.
Для христианской иконографии имело бы большое значение открытие иллюстрирующего св. гроб времени Константина какого-нибудь памятника. И проф. Олесницкий считает таким памятником бамбергскую пластину из слоновой кости, хранящуюся в Мюнхенском музее, па которой изображено воскресение Христа по раннейшему переводу: на переднем плане там находится изображение св. гроба Господня в виде, монументальной гробницы с дверцами.
—442—
Вот что говорит проф. Олесницкий: «что касается фигурирующего на рельефе памятника гроба Господня, то он так соответствует описанному Евсевием (Vit. Const. 3:33) divinum monumentum базилики Константина, с одной стороны, и характеру архитектуры того времени, с другой, что в его подлинности не можешь быть сомнения. Художник несомненно, быль в базилике Константина и снял вид памятника с натуры. Так точно описать скалистый грунт, среди которого возвышается памятник, мог только очевидец. Что художник быль в Иерусалиме, это доказывают еще удивительно точно и мастерски воспроизведенные восточные костюмы жен-мироносиц – простые сарафаны и длинные с головы до ног спекающиеся покрывала. И лица мироносиц – самые типические палестинская лица. Можно думать, что занимающая нас картина была сделана в Иерусалиме по заказу самой царицы Елены

Рис. 5.
—443—
кем-либо из придворных художников, посланных в Иерусалим для работ в строившейся базилике». «Памятник гроба Господня стоит между грудами камней и имеет форму римских колумбариев». «В стенах (памятника) расположены ниши, в которых стоят статуи, и одна из статуй, фигурирующие по левой стороне входа, представляет фигуру самого императора Константина. Вероятно, на правой стороне стояла статуя матери Константина, но ее заслоняет фигура ангела, сидящего у входа в памятники»803. Мы с большим уважением и благодарностью относимся к работам проф. Олесницкого, однако не можем не сказать, что в данном случае, наш ученый палестиновед переоценил значение бамбергской пластины. Достаточно одного взгляда на композицию бамбергскую (рис. 5), чтобы видеть, какую плохую иллюстрацию Евсевия мы имеем в ней. Прежде всего, что такое представляет собой, со стороны типологической, гроб этой композиции? Он состоит из двух частей: нижнего куба, сложенного из мелких (если принять мнение проф. Олесницкого, что перед нами натуральный масштаб памятника) вытесанных камней и украшенного двумя статуями в нишах по бокам двустворчатой двери, и верхней ротондообразной (тамбур) надстройки с куполом. Эта последняя также сложена из тесаного камня и заключена в аркаду из двенадцати (по паре) колонн. Весь памятник богато украшен обломами и медальонами. Ни со стороны архитектонической, ни со стороны декоративной гроб пластины нашей нисколько не отвечает описанию Евсевия, который ни слова не говорит о двух частях – этажах св. гроба. И мы склонны думать, что прототипом или оригиналом, в данном случае, для художника служила не пещера Господня с константиновскими колоннами, а обычный греческий тип надгробных монументов и так называемых хорагических памятников, которые ставились в честь победителей. Те и другие представляли собой двухэтажное сооружение: низ – большей частью квадрат из цоколя, на котором, ставили ротонду, окруженную колоннами и покрытую куполом (ложным). Таковы, например, мавзолей в Галикарнас и львиная гроб-
—444—
ница в Кинде. Но особенно интересен для нас в настоящем случае хорагический памятник Лизикрата в Афинах (335–334 гг. до Р. Х.). На сложенном из крупных рустованных камней квадратном подножии возвышается круглое в плане сооружение, убранное коринфским ордером и увенчанное плоским мраморным куполом (рис. 6). Кольцевая в плане колоннада состоит из шести колонн, заделанных в стену почти на половину своего диаметра и опирающихся своими базами на обходящий вокруг всего здания профилеванный плинтус. Сходство этого античного памятника с гробницей бамбергской пластины поразительное: если немного поднять квадратное подножие лизикратовского памятника и заменить аркадой шести, колонн ротонды пластины, то мы получим доказательство, что автор бамбергской композиции был хорошо знаком с античным типом мемориальной архитектуры и, когда должен был изобразить гроб Господень, то античные

Рис. 6.
—445—
черты перенес на палестинское сооружение. Так, ничего исторического в изображении на бамбергской пластине нет: там перед нами простая декорация св. гроба, а не копия отделки св. пещеры Константином Великим, как о ней повествует Евсевий. И это именно заставляет признать, что художники не только не был вызван, как думает проф. Олесницкий, для работ в базилике Константина, но и никогда не был в Иерусалиме. Как нельзя дерево бамбергской пластины считать исторической копией дерева около св. гроба в саду Иосифа Аримафейского, так нельзя и за всей бамбергской композицией признавать столь большое значение, какое придавал ей проф. Олесницкий. Мы еще вернемся к бамбергской композиции ниже, пока заметим, что пещера в такой конструкции более соответствует очень позднему изображению (XVI в.), какое нами оставил Бернардино Амико804.
Какова же была св. пещера в эпоху Константина Великого? Ответь на это можно найти только в тех паломнических записях, о которых мы говорили выше. Эти воспоминания или благочестивые описания служат для нас главным источником в вопросе реконструкции св. гроба после константиновских стараний дать св. месту надлежащий вид.
Полного и вполне исчерпывающего описания интересующего нас предмета мы не имеем в паломнических дневниках: каждый путешественники по свв. местам эпохи, наиболее блестящей в истории христианства – IV–VIII вв. – обращали свое внимание не на все, что имел перед глазами, а что представляло для него интерес частный. Но и здесь нельзя придавать абсолютного значения словами паломников, потому – что, с одной стороны, религиозные восторги, особенное одушевление, овладевавшее человеком при виде того места, о котором ходило столько рассказов, полных манящей прелести, заставляло паломника очень часто превращаться в поэта и для большей конкретности своего описания преувеличивать или уменьшать действительность. С другой стороны, в паломнических описаниях мы
—446—
часто встречаем совершенно абсурдные, невозможные сведения, которые говорят об отсутствии у автора всякого критического отношения к тому, что ему рассказывали в св. земле. Так, Бордосский паломник, о котором мы упоминали, говорит, что он видит в св. земле крипту, где Соломон мучил бесов, a Бревиарий добавляет, что в этой же пещере Соломон и запечатать множество нечистой силы. Бревиарий же уверяет, что он видел там же тот рог, из которого Давид и Соломон были помазаны на царство805. Конечно, к подобным россказням мы должны относиться так же, как к красноречивым уверениям наших бобылок-паломниц, что во св. земле им показывали кусок лестницы, которую Иаков видел во сне! Крайняя степень субъективизма здесь часто не завысить от интеллигентного уровня рассказчика и находится в каком-то особенном отношении, связи с процессом воспоминания о том, что воспринималось в состоянии нисколько экстатическом. Здесь человек не лжет намеренно, но он невольно теряет чувство меры и сам верит тому, что выдумывает под влиянием минуты. Поэтому, нужно очень осторожно относиться к сообщениям даже самых знаменитых путешественников и проверять их, только тогда мы будем иметь известия историчным. У Евсевия мы находим замечание, что при нем на месте воскресная Христа была скала с пещерой – πέτϱα – ἄντϱον εἴσω806. Кирилл Иерусалимский также говорит о μνῆμα πέτϱας или о πέτϱα τοῦ μνήματος, – т.е. о скале, которая напоминала собой или имела значение памятника807. Такое название св. гроба мы встречаем и у паломников. Антонин Плацентин (570 г.) говорит, что памятник (monumentum) высе-
—447—
чен из скалы (petra) естественной808. Адамнан (670 г.) и Беда (720 г.) повторяют то же самое809. Эта выделяющаяся из общей массы плоскогорья скала (река) – monumentum с пещерой и останавливала внимание паломников. В этом случае перед нами пример обычного словоупотребления, которое редко различает в собственном смысле гроб от стоящего над ним памятника и термин monumentum прилагает вообще к тому месту, всему сооружении, которое в одно и то же время служит и гробницей, и памятником. Только у Адамнана мы встречаем попытку разграничить monumentum и sepulchrum. Под первым он понимает каменную массу – монолиты, в котором устроена пещера – грот, а под вторым – само ложе Христа 810.
О форме этого монумента нам сообщает Виллибальд (723–726 гг.). Он говорит,
что в нижней части монументы имели квадратное очертание, а вверху был subtilis811. Из
—448—
сопоставления с Антонином можно сделать вывод, что заканчивался монумент пирамидальным (metae) покрытием, которое, конечно, кончалось острием (subtilis)812. При Виллибальде на крыше монумента быль крест813.
В сам монумент можно войти. На это достаточно ясно
—449—
указывает термнин Евсевия τὸ ἱεϱὸν ἄντϱον814. Бордосский паломник (333 г.) называет св. место crypta815, паломница Евферия (380 г.) – spelunca – грот.816
Так же Павла и Евстохий (386 г.)817; Адамнан818.
Итак, паломники до VIII века представляли себе св. гроб в виде высеченной из камня будки квадратной формы с пирамидальным покрытием, которое было увенчано крестом; в такой монумент, с одной стороны, можно было войти внутрь св. пещеры, где находилось ложе Пречистого Тела Спасителя.
Bсе паломники в один голос говорят о лежащем при входе в св. пещеру камне, который, как верили, быль отвален Ангелом, явившимся в момент воскресения. Этот камень упоминают: Кирилл в своих катехизаторских беседах819, Иероним, сопутствовавший паломнице Павле (404 г.)820, Бревиарий (VI ст.)821, Антонине (570 г.)822, Бернард (820 г.)823. Однако в позднейших описаниях паломников, бывших во св. земле после перестройки св. места пресвитером Модестом (616–626), мы встречаем уже два камня. Так – Адамнан (670 г.)824, Беда (720 г.)825. Виллибальде (723–26 г.г.) прямо заявляет, что он видел камень не настоящий, лишь его копию826.
—450—
Св. место гроба Господня, помимо той обширной колоннады, покрытой полукуполом, о которой говорят все исследователи827, было защищено также особой решеткой. Нужно сказать, однако, что сведения об этом ограждении мы находим лишь у Сильвии (прибл. IV в.), сведения очень неопределенные, которая с трудом поддаются топографическому анализу. Одно несомненно, это – что была решетка внутренняя (cancelli interiores) и внешняя (cancelli exteriores). Можно только приблизительно говорить, что внутренняя решетка находилась при входе во св. гроб828, а внешняя – окружала последний и удерживала народ на расстоянии829. Вот – контуры, общая схема того изображения св. гроба, как он представлялся паломникам IV–VIII вв. Мы намеренно большее внимание уделяли воспоминаниям тех путешественников, которые были в Палестине до VII века, потому что, как известно, именно в половине VII века пресвитер Модест должен быль приняться за реставрацию св. места после страшного опустошения в 614 году полчищами Новоперсидского царя Хозроя Парвиса. И, строго говоря, у нас нет определенных данных по вопросу о том, в чем выразилась эта реставрация? Восстановил ли реставратор вполне константиновские сооружения или же руководствовался больше личным вкусом? Поэтому, и паломнические воспоминания VII далее веков приобретают особое значение.
Более подробных архитектонических указаний у паломников мы не находим, так как они уделяют больше
—451—
места описаниям декоративного характера, который, конечно, для нас не имеют в настоящем случае интереса. Однако и приведенных схематических черт достаточно, чтобы составить себе отчетливое представление о монументе гроба Господня.
Сравнительно небольшого размера монолитный монумент имел квадратную форму, и грани боков сходились вверху наподобие пирамидального покрытии, увенчанного крестом. Вокруг монумента была решетка с проходом против устья пещеры. При входе в самую пещеру находилась такая же решетка. Недалеко от монумента паломники созерцали отваленный Ангелом камень, которым был завален вход.
Мы уже говорили выше не раз, что такой вид быль придашь св. гробу Господню во вторую четверть IV века, когда первый христианский император пылал ревностью ко св. местам. По его приказу, обычная погребальная пещера была выделена из общей массы горного спуска через прорытие с боков и сзади широкой траншеи: получилась совершенно новая, таким образом, форма – не пещера просто, а род часовни, монолитная будка – гробница. Твердый скалистый грунт дал полную возможность совершенно выдвинуть монумент из общей плоскости горы, так что зрителю могло казаться, будто бы он поставлен прямо на земле. Для нас не интересно, кто были каменщики здесь, но нельзя не задаться вопросом, что послужило архитектурным прототипом такой формы монумента? Откуда была она заимствована?
Этот вопрос не трудно разрешить, если мы вспомним, что говорили выше о формах погребения у древних иудеев в Палестине.
Древние евреи всегда погребали мертвецов в пещерах гор. Люди богатые и знатные не удовлетворялись таким простым способом и чаще высекали из горного склона громадный монолит, в котором устраивали одну-две комнаты с местами для трупов. Такие монументальные сооружения сохранились до настоящего времени в долине Иoсaфата. Это – гробница Авессалома и гробница Захарии. Как мы видели, эта последняя представляла собой монолит квадратной формы с пирамидальным покрытием830.
—452—
Мы не хотим утверждать, что Константин скопировал план гробницы Захарии при возобновлении св. гроба, но должны подчеркнуть здесь полное сходство двух монументов по форме. Для нас важно не то, что гробница Захарии могла быть прототипом, а то, что при работе обратились не к античным формам монументов, а к местным палестинским. Великому императору было, конечно, приятнее выдержать во всем стиль и характер земной родины и обычаев Господа Христа. И он обратился не к Риму, с его роскошными гробницами Цецилии Метеллы (60 г. до Р. X.), Августа (28 г. до Р. Х.), Адриана (135 г. по Р. X.) и др., а к тем монументам, которые были у него перед глазами в окрестностях св. города.
Страхов П.С. Идея воскресения в дохристианском философском сознании // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3, с. с. 453–479 (4-я пагин.). (Начало.)
—453—
Καὶ γὰρ σῆμά τινἑς φασιν τὸ σῶμα εἶναι τῆς ψυχῆς ὡς τεθαμμένης ἐν τῷ νῦν παρόντι.
Plato. Cratylus. 400 c.
Общепринятая в науке точка зрения на генетическую связь пришедших с Востока мистериальных культов греко-римского мира с христианством очень точно резюмируется следующими словами одного из видных последователей религии Востока: «Восточные религии распространяли в отживавшем античном мире, сперва раньше христианства, а затем параллельно с ним, те доктрины, которые достигли в нем всеобщего признания. Таким образом, проповедь азиатских жрецов, помимо их воли, подготовила торжество Церкви, увенчавшей дело, бессознательно ими разработанное»831.
С этой точки зрения легко может получиться вывод, что великое дело христианства как-бы совершенно естественно выросло на достаточно подготовленной для него почве, просто лишь завершив собой окончившийся и преемственно связанный с ним период жизни человечества. А между тем именно в христианстве, вторгшемся в совершенно чуждый языческий мир, почти все было настолько ново, что многое сразу же показалось «юродством для эллинов».
Некоторые верования христианства совершенно не укладывались в умах античного мира, да и не могли уложиться, так как античная мысль ни в философии, ни в рели-
—454—
гии, ни даже в мистических откровениях языческих «таинств», не сталкивалась еще лицом к лицу со столь резко и определенно поставленными догматами. Одеваемые ими космические акты лишь сквозили, время от времени, смутными и туманными образами в наиболее прозорливых философских построениях, или мистических интуициях.
Одной из наиболее трудно усвояемых идей христианства был догмат воскресения мертвых, хотя, быть может, ни один из других христианских догматов не имеет большого внешнего сходства с тем, что не только проповедовалось, но, через экстазы мистерии, внедрялось в самую душу «посвященных». Стоит лишь вспомнить хотя бы столь странно сходный с христианством во многих подробностях своего ритуала культ Митры. Сходство это было так велико, что некоторым из первохристианских писателей многое, здесь, начало казаться даже не чем иным, как дьявольскими кознями, направленными к кощунственному подражанию самим священным и торжественным догматам Христовой веры832.
Так Тертуллиан, со свойственной ему решительностью, прямо утверждает, что дьявол «подражает (aemulatur) делам божественных таинств в мистериях идолов» (De praescr. haeret., 40) и даже «изображает воскресение» (imaginem resurrectionis inducat).
Но при более пристальном рассмотрении самой сущности мистериальных учений о воскресении, как я это постараюсь показать в свое время, из-за внешнего сходства ясно выступает принципиальная разница между языческой идеей и таинственным, христианским догматом. И самое большее, что можно предположить, это, что в наиболее одаренных разумах дохристианского человечества, еще за-
—455—
долго до Христа, смутно бродили какие-то чаяния, ставшие лишь после Христова Воскресения истинами веры. Впрочем, возможность предугадывания этих истин язычеством, по промыслительному, якобы, предначертанию Божию, предполагаемая первыми христианскими апологетами (например, Just. Apol. I, 5, 20, 44; Athen. Suppl p. Chr., 6, и пр.), аргументируется чересчур натянуто и искусственно833. Наоборот, мы видим что даже ум Платона, изощренный всей мудростью заканчивавшего свое существование эллинизма, так и не воспринял идеи воскресения плоти, остановись на старом, языческом чаянии лишь «воскресения» души в смысле освобождения ее от оков тела (ἀπὸ σώματος)834.
Истина воскресения мертвых, в ее христианской форме, не только была совершенно новой для языческого мира, но даже более того – она внесла первую весть о великой новой тайне мироздания, таинственная глубина которой и до сих пор остается почти недоступной разуму. Лишь современная наука, опираясь на могучий прогресс своих достижений, как будто начинает бросать и сюда какие-то, еще очень слабые, но все-таки нечто уясняющие лучи835.
I
По словам Фюстель-де-Куланжа, «La mort fut le premier mystére, il mit l’homme sur la voie des autres mystéres» 836. И в самом деле – есть ли тайна более близкая человеку, более волнующая его ужасом или надеждой? Поэтому вполне
—456—
понятно, что уже в доисторических далях человечества встречаются следы работы мысли и чувства в этом направлении. Отсюда именно и вырастает первый зачаток религии – культ предков, вместе с окружающими его суевериями и обрядами.
На древнейших ступенях эллинской культуры, в догомеровский период Греции, этот культ, как показывают раскопки Микен, еще сохранялся в своеобразных формах погребения и жертвоприношений на могилах837. Но уже у Гомера (X–IX до Р. X.) все это сменяется совершенно безнадежным взглядом на загробную жизнь: душа исчезает вместе с дымом погребального костра, превращаясь в унылую тень Аида (Одиссея. XI, 218). И это так страшит даже самых отважных героев, что, например, Ахилл прямо и откровенно заявляет:
«С жизнью, по мне, не сравнится ничто: ни богатства, какими
Сей Илион, как вещают, обиловал – град процветавший.
В прежние, мирные дни, до нашествия рати Ахейской,
Ни сокровища, сколько их каменный свод заключает
В храме Феба пророка в Пафосе, утесами грозном;
Можно все приобресть, и волов, и овец среброрунных;
Можно стяжать и прекрасных коней, и златые треноги,
Душу ж назад возвратить невозможно, души не стяжаешь,
Вновь не уловишь ее, как однажды из уст улетела».
(Илиада. IX, 401)
А тень уже умершего героя, встретившись с Одиссеем, горько жалуется на свою участь следующим стоном души:
«Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми (νεκύεσσι καταφθημένοισιν) царствовать»...
(Одиссея. XI, 488).
—457—
Вполне понятно, что иного отношения к жизни и смерти и не могло быть у грека гомеровской эпохи: ведь тени Аида даже не могут говорить с Одиссеем, не отведав, предварительно, жертвенной крови (Одиссея. XI, 147), а лишь веют в подземном мраке, оглашая его дикими криками, подобно тому:
«...Как мыши летучие, в недре глубокой пещеры ...
визжат, в беспорядке порхая».
(Одиссея. XXIV, 6).
Это уже настолько не люди, настолько далеки они от человеческой жизни, что даже не способны подвергнуться возмездию за свои прижизненные поступки. Даже возмездие суждено лишь людям легендарных времен, чудесно водворенным в Аиде во всей полноте своего реального бытия. Таковы Сизиф, Тантал, Титий, встречаемые Одиссеем в подземном царстве, и хотя претерпевающие муки, но муки чисто телесные, уже одним этим дающие им ощущение реального, действительного существования, о котором так горько сокрушается Ахилл.
Обыкновенные же смертные, хотя бы и полубожественного происхождения, если и получают возмездие, то лишь здесь, на земле, а затем, после смерти, им суждено безвозвратное превращение838 в бледные, бессильные и безумные (Одиссея. X, 495, по смыслу контекста) призраки. «Все чаяния и ожидания, надежды и желания человека, в миросозерцании Гомера», по словам проф. Кулаковского839 «сосредоточены на благополучии в этой, земной жизни». Кара богов немедленно следует за виной – вспомним Ниобею, женихов Пенелопы и карающий рок семьи Лабдакидов840. Во всем этом нет и намека на загробное возмездие, а тем более на столь жизненное и яркое, какое представляется идеей о воскресении плоти, реально воспринимающей блаженство и страдание.
—458—
Впрочем, нечто вроде посмертного возмездия уже как бы намечается, но в очень странной для древнего язычества форме уничтожения тела через пожирание его чудовищами Аида (Кербером, Химерой, и т. п.), а позднее, по орфическим верованиям, и самой Гекатой, получающей, вследствие этого, название «плотоядной» (σαρκοφάγος) 841. Действительно, у Гомера (Иллиада. I, 3) мы встречаем указания, что Ахилл:
«…Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид и самих (αὐτούς) распростер их в
корысть плотоядным,
Птицам окрестным и псам…»
Из чего некоторые (например, в прежнее время Негельсбах, Штейн и др.) выводили заключение, что по гомерическими воззрениям человеческой телесности приписывается первенствующее место, обусловливающее самую личность человека, делающее его самим собой (αὐτούς). Того же мнения придерживается, по-видимому, например, и преосв. Хрисанф (Религии древнего мира. II, 502), хотя и полагает, что это логически вело бы к совершенному отрицанию всякого продолжения жизни в Аиде, чего нет у Гомера (ibid., 503).
Но думается, что и здесь сквозит еще неосознанная, но уже смутно чувствуемая ценность тела, как носителя всей полноты чисто человеческого сознания. Недаром же даже сами тени Аида, при всей их бесплотности, все-таки сохраняют человеческий образ, призрачную, неосязаемую форму (εἴδωλον) живого человека (ibid., 504). Но они лишены сознания, а потому, в сущности, и ненаказуемы. С их земной жизнью кончилось все.
Но мало-помалу, загробные чаяния греков эволюционируют, идея божественного правосудия уже не удовлетворяется одним грубочувственным воздаянием лишь в земной жизни – слишком частыми оказываются случаи нарушения не только божией, но и простой, человеческой
—459—
справедливости. Возникает все большее и большее стремление относить возмездие к иной, загробной жизни, а для этого, прежде всего, требуется превращение призрачных теней Аида в существа, обладающие интенсивностью своеобразной жизни, достаточной для восприятия и мук, и блаженства. «Гомеровской жизни теней, предназначенной для душ умерших», говорит Роде, «можно было лишь покоряться, но не желать ее» (Psych. I6, 68) а потому уже вскоре после Гомера, греческий эпос изменяет посмертную судьбу если не всех людей, то некоторых избранников. Так, например, тот же Ахилл, погребенный со всеми почестями (Одиссея. XXIV, 34) и томящийся, душою, в Аиде (XI, 488), в позднейшем эпосе цикла «Эфиопис» оказывается уже воскрешенным своею матерью Фетидой, после предварительного, чудесного перенесения его трупа на «белый остров» (Λευκή), где герой и проводит новую, вечную и блаженную жизнь842. Подобным же образом и другой герой Илиона – Менелай, как оказывается, но уже у самого Гомера (Одиссея. IV, 561), не умирает, а чудесно переносится на «Елисейские поля» (Ἠλύσιον πεδίον), туда,
«Где протекают светло-беспечальные дни человека...»
Бессмертие даруется и другим счастливцам, как, например, это случилось с Мемноном, убитым Ахиллом (Эфиопис) и воскрешенным, с разрешения Зевса, своей матерью Эос843.
Воскресение избранных для бессмертия не всегда сопровождается вселением их в обители блаженства. Иные из них поглощаются разверзающейся землей, и лишь затем вновь оживают для уже бессмертной жизни. Таков фиванский герой Амфиарай (Pindari. Carm. Nem. IX, 24; X, 8), или беотиец Трофоний844. Характерной подробностью, при этом, является то, что именно таким образом получившиe бессмертие герои остаются жить на земле, поселяясь в каком-нибудь священном гротe, и мало-помалу превращаются в богов845.
—460—
Но всего любопытнее, что столь высокая награда не всегда соответствует даже нравственным заслугам человека, удостоенного бессмертия. Так, например, «последний из героев» (ἔσχατος ἡρώων) – Клеомед, совершив два убийства, скрывается в храме, откуда и исчезает настолько таинственным образом, что вопрошенный по этому поводу оракул объявляет его получившим бессмертие, а потому достойным божеских почестей, с чем и соглашаются жители Астипалеи. Очевидно, что единственным достоинством Клеомеда является, здесь, лишь дарование ему бессмертия не только душевного, но и телесного, сразу возвышающего его над уровнем обыкновенных людей846.
Во всех этих мифах позднейшего греческого эпоса впервые просвечивает идея о возможности возврата к жизни, и притом жизни бессмертной, во всей полноте человеческой природы, в неразрывной совокупности души и тела. И вместе с тем эта бессмертная жизнь предполагается протекающей на землю, но только лишь или в необычно прекрасных условиях Элизиума, или же в священных гротах, среди религиозного благоговения смертных. И это не есть обычный для первобытных культур, наивно-материалистический способ истолкования загробных надежд, так как такие верования встречаются не в первобытном, но в позднем, послегомеровском эпосе и историческом предании847.
Проходит еще около двух столетий, и греческая религиозно-поэтическая мысль вступает в новую стадию, неуклонно приближаясь к вполне осязательной вере в бессмертие духовного начала человека. У Гесиода (VIII в.) гомеровские тени Аида уже, как бы воплощаются, превращаясь в личные, сознательные души. Получается как бы возврат к далекому, анимистическому прошлому, а между тем создаются антропологические воззрения, которые за
—461—
тем именно и лягут в основу дальнейших, уже философских построений, вплоть до Аристотеля с его тесным, материалистическим слиянием души и тела в единого человека.
Тогда как у Гомера лишь некоторые избранники богов достигают бессмертия, или воскрешаются для полубожеского существования, у Гесиода уже почти все они претерпевают, предварительно, смерть, и затем лишь превращаются в бесплотные существа (δαίμονες). При этом особенно знаменательно, что счастливейшие люди «золотого века» умирают и погребаются, и только после этого восстают из гробов волей Зевса, получая бессмертие и делаясь «демонами», стоящими на страже хороших и дурных дел человеческой жизни (φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα)848, т. e. принимая в ней живое и непосредственное участие. Герои, по-прежнему, чудесно поселяются в Элизиуме, а на долю большинства смертных текущего, «железного» века все еще остается унылое существование в Аиде. Но зато блаженство бессмертных духов Гесиода уже приобретает черты чего-то неизбежного, как-бы некоего закона божественной справедливости.
Обоготворение и почитание великих людей, столь присущее древним формам эллинской религии, тот культ героев, что характеризуете собой целый период религиозной эволюции эллинского духу, довольно часто ставится в параллель с христианским почитанием святых849. Нельзя,
—462—
однако, не отметить существенной и принципиальной разницы в обоих случаях религиозного почитания людей, так или иначе признанных получившими высшие, богоподобные свойства. Конечным выводом языческих верований в обожествленных людей было лишь их известное сходство с богом в некоторых, так сказать, наиболее близких людям атрибутах его природы. «Стать богом» для того времени (язычества первых веков христианской эры) не значило вырасти до величия абсолютного и вознестись до беспредельности. В понятии «бог» необходимо мыслились лишь только бессмертие, блаженство и сверхчеловеческая полнота и интенсивность жизни850.
Обожествленным людям воздавалось поклонение подобно тому, как в более древнюю эпоху это делалось в отношении предков. Считалось, что обитатели загробного мира (а иногда и просто могил), и тем более чудесно-бессмертные герои, могут совершенно самостоятельно принимать участие в жизни людей, относясь к ним враждебно или благосклонно. Но совершенно отсутствовало христианское представление о святых не как о самостоятельных, божественных существах, а как лишь о предстоятелях и ходатаях за людей пред лицом Высшего Милосердия. Поэтому, мне думается, что в культе героев и великих людей скорей следует видеть воплощение смутного чаяния еще неясного идеала совершенного и воплощенного, материализованного, эсхатологического блаженства. Обожествлялся бессмертный человек, и иногда, как, например, в случае Клеомеда, даже человек сам по себе не заслуживавший никакого почитания, обожествлялась его человеческая природа, получившая священное нетление и бессмертие.
Сюда же примыкает и то, по-видимому, доказанное обстоятельство, что античный мир не знал молитв за умерших, а лишь их религиозное почитание851. Этим как бы твердо
—463—
предполагалось, что умершие достигают тотчас же после смерти своей окончательной, сверхчувственной жизни, и какого-либо дальнейшего, эсхатологического акта, воскресения или восстановления, уже не ожидается, если не считать метемпсихоза, или стоического «вечного повторения», имевших, в сущности, совершенно иной смысл.
Культ героев и их посмертное блаженство не относились, конечно, к большинству обыкновенных смертных. И вот навстречу именно их тревожным запросам, приблизительно в ту же, гесиодовскую эпоху, выступают экстазы орфизма и вакхических культов. Здесь, на энтузиастических вершинах мистерий, уже не только перед избранниками богов, но и перед всеми посвященными приподымается завеса таинственных надежд...
Экстаз, это «священное безумие» (ἱερομανία) вакхизма, был известен человечеству, конечно, еще задолго до Гомера, так как экстатические переживания искони присущи самыми таинственными глубинами человеческого духа. Уже для Гомера вакхический культ относится к области «некогда» (ποτέ, Иллиада. VI, 132), и с тех пор все больше и больше входит в плоть и кровь древних, греческих мистерий. Сплетаясь с назревающей жаждой бессмертия, экстаз, мало-помалу, порождает совершенно новое для античного мира непосредственное чувство, ощущение возрождения (ἀναβίωσις) от будничного, плотского существования в блаженство богообщения.
В V веке Еврипид в своих «Вакханках» подробно описывает вполне развитой, экстатический культ Диониса, и тогда же зарождается в эллинском духе первая, более или менее отчетливая идея истинного бессмертия852. Но мистическими откровениям эллинских таинств еще долго было суждено играть роль лишь того идейного фона, на котором более или менее отчетливо вырисовывался узор нарождавшейся, великой философской эпохи. Античному миру еще нужно было изжить свои силы,
—464—
устать от постоянных скитаний между безнадежностью скепсиса и скучным «здравым смыслом» и «долгом» стоиков, прежде чем мистические доктрины всецело овладели, вероятно, уже не без влияния христианства, эсхатологией греко-римского мира.
Нужно было, в свою очередь, и самим мистериям язычества познать тайны Востока, открывшегося Западу через македонские завоевания, нужно было им изведать и обаяние «непобедимого» Митры для того, чтобы, наконец, исчезнув навек, уступить места победоносному христианству.
II
В то время как «грозный культ Диониса с его оргиазмом проносится по Греции на подобие урагана»853 зарождая, в конвульсиях экстаза, чувство единения с бессмертным божеством; когда, позднее (в VI в. до Р. X.), орфизм впервые дает первенствующее значение моральной ценности человека в достижении слияния его с божественным Единым, на востоке Греции, в Ионии, зреет зерно иных, натуралистических, философских воззрений. В «счастливом» Милете вырисовывается величавая фигура Фалеса.
Но вместе с поворотом мысли к изучению Вселенной и размышлении над первопричинами сущего; по мере того как это, чисто научное направление все более властно захватываем эллинский мир, религиозное чувство все более и более удаляется в таинственный мрак святилищ, ожидая неизбежного спутника науки – скепсиса, для спасения от мучений которого у религии всегда готово оружие веры и эсхатологических упований.
Ионийская философия всецело живет мыслью о единстве вселенной, перед величием которой исчезает человеческая личность. Причины (ἀρχαί) всего сущего поглощают и душу, и тело человека, растворяя их в своей всеобъемлющей стихийности. Нужно ли говорить, что при этом нет и речи не только о чем-либо сходным с воскресением мертвых, но даже и самое бессмертие души разрешается в бессмертии первоматерии. Через пантеистические воззрения элеатов (ἐν ἐστός τὸ πᾶν), ионийские взгляды достигают
465–
до V в., получая своеобразную окраску у Гераклита. Он учит, что человеческая душа есть лишь частица единого, общего, творческого пламени (ἀναθυμιáσις), этой первоосновы всего, но даже и частица не постоянная, а непрестанно текущая (πáντα ρεῖ) непрестанно движущаяся, претворяющая в низшие материальные элементы все новые и новые потоки творческого огня854. А после смерти, по удалении души, тело тотчас же разрешается в эти низшие элементы, становясь «хуже навоза»855. Таким образом, и здесь самое бессмертие души делается неясным, хотя в некоторых фрагментах Гераклита и сквозят какие-то намеки на соотношение между жизнью и смертью более сложное, чем простой переход от бытия к небытию. Впрочем, кажется, все-таки мысль философа не идет дальше метемпсихоза, когда он говорит (fr. 77): «Наслаждение (τέρψις) для них (душ) – это паденье в рождение (ἡ εὶς γένεσιν πτῶσις)»; а в другом месте полагает, что «мы живем их (душ) смертью, и живут они нашей смертью» (ibid). Что же касается известного 63 фрагмента, взятого у Ипполита (Philos. IX, 10) и утверждающего, что Гераклит «также говорит о воскресении сей видимой плоти, в которой мы рождены и знает, что Бог виновник сего воскресения, говоря так: «там восстают перед сущим и бодро стражами делаются (ψύλακας γένεσθαι) живых и мертвых», но еще говорит, что бывает суд космоса и всего, что в нем – помощью огня», то хотя этот фрагмент и звучит вполне эсхатологически, но стоит слишком одиноко среди других гераклитовских идей. Правда, Дильс пытается свести его смысл к мистериальным идеям856, но вероятнее
—466—
связь его со старыми, гесиодовскими верованиями в «демонов», которые тоже призваны стоять на страже (φυλáσσουσιν) людских дел857. Выводить же отсюда заключение о том, что будто Гераклит здесь прямо говорит о воскресении, как это предполагаем Ипполит, было бы слишком нелогичным и несогласным со всеми остальными, известными нам, антропологическими взглядами философа. Даже если согласиться с проф. Спасским, что «под Гераклитом Ипполита нужно разуметь не старого ионийского натурфилософа, но возрожденного в стоической школе и освещенного с точки зрения позднейшей греческой философии858, то все-таки фрагмент Ипполита остается одноногим и неясным.
Последний из ионийцев – Анаксагор, не смотря на свои возвышенные идеи о мыслящем, разумном, всемогущем и чистом (ἀμιγής) духе (νοῦς), совершенно не касается вопроса о бессмертии, примыкая в этом к элеатам (преимущественно к Пармениду). Но зато ему принадлежит интересная мысль о том, что физической основой тел являются неизменные первочастицы (σπέρματα), запечатленные всегда присущей им индивидуальностью859. Впослед-
—467—
ствии, у Аристотеля и его последователей, эта индивидуальность переносится и на известные комбинации первочастиц, как бы на нечто подобное современным химическим соединениям, но, однако, неизменно сохраняющимся в телах.
В результате получается понятие о так называемых гомиомериях (ὁμοιομερῆ) существенно отличных от противоположного им, неустойчивого (ἀνομοιομερές) смешения веществ в органических телах860. Таким образом, из умозрений Анаксагора выходит как бы первый, еще весьма смутный намек на возможность чисто физической основы самого процесса воскресения, как восстановления индивидуальных форм, лишь до времени исчезающих, через смерть, в недоступных нашему восприятию недрах материи861.
Философские взгляды ионийцев, переходя на Запад, с одной стороны, у фракийца Демокрита, приобретают реалистические и даже материалистические формы, а затем, в далекой Сицилии, под влиянием орфизма, наоборот, устремляются в мистическую сторону, подготовляя почву для уже недалекого, идеалистического течения платонизма.
Признав своеобразную материальность души настолько определенно, что даже предполагается особая (сферическая) форма «душевных атомов862, атомисты демокритовской школы, однако, решительно отрицали бессмертие души, которая, по их мнению, разрушалась и рассеивалась тотчас же по выходе из тела: ἐν δὲ το ἐκβαίνειν (τοῦ σὼματος) διαφορεῖτε καὶ διασκεδάννιται.863.
«Бессмертие души», – говорит Роде, – «столь выразительно
—468—
отрицалось, здесь, еще впервые в истории греческой мысли»864, но, однако, высказывалось и предположение, что, быть может, при случайному вторичному соединению новых «атомов души», могло произойти «оживание» (ἀναβίωσις) умершего865.
И опять (Lucr. De rer. nat. III. 370) появляется и здесь идея о первоэлементах (primordia) тела и души да еще с прибавкой их взаимного «соответствия», которое, хотя и отрицается Лукрецием, но было высказываемо, по его словами самим Демокритом:
«…отнюдь ты не должен поверить
Тем освященным сужденьям, что муж Демокрит предлагает,
Будто зачатки отдельные духа отдельным зачаткам
Тела должны соответствовать, и этим связывать члены»866.
Лукреций, конечно, и не мог отнестись к этому предположению иначе, как отрицательно, оставаясь на своей основной, материалистической точке зрения, согласно ко-
—469—
торой «дух и душа возникают и умирают с созиданьями вместе» (О природе вещей. III, 418).
У современника Демокрита, знаменитого сицилийца Эмпедокла, уже замечается резкий поворот к мистическим воззрениям орфиков и пифагорейцев и даже, отчасти, к старым, гомеровским верованиям. Так Эмпедокл полагает, что душа, освободившись от «одежды тела» (σαρxῶν χιτών) будет жить вечно в состоянии божественной свободы867. Но уже этот образ обожествленной души существенно разнится от призрачных душ Гомера: тем нет возврата, тогда как, по Эмпедоклу, душа нисходит в грубую темницу тела, и лишь путем последовательных, метемпсихических перевоплощений в людях, животных и даже растениях, возвращается к божественному первоисточнику868. Земная жизнь, в течении которой душа удерживается в оковах плоти, уже сама по себе есть своего рода ад869, откуда, впрочем, душа может освободиться еще и до смерти, путем аскетического подвига, а также и через высшие, экстатические порывы, открывавшие перед ней глубины истинной мудрости870.
Таким образом, и здесь мы встречаем нечто, по самому существу противоречащее идее воскресения, как возврату к земной жизни, хотя и рафинированной эсхотологическим всесовершенством «новой земли и нового неба». Мистические прозрения, сквозящие кое-где, даже среди чисто материалистических построений, постоянно сдерживаются присущей эллинам трезвостью мысли, сильно переоценивающей «плоть» практически, но теоретически не решающейся перенести интенсивность ее переживаний в эсхатологическую даль.
Метемпсихоз, уже отчетливо усвоенный философией Эмпедокла, перешел сюда от пифагорейцев, тесная связь ко-
—470—
торых, в свою очередь, с мистериями орфизма может считаться общепризнанной871, хотя и трудно установить непосредственный источник метемпсихической доктрины, развиваемой пифагорейцами в стройную систему из смутных, мистериальных форм. В этой системе одинаково сквозят влияния, как орфизма, так и фракийского культа Диониса, а быть может и далеких, египетских верований.
Действительно у фракийцев метемпсихоз понимался как своего рода «бессмертие»: души умерших, возвращаясь к жизни все в новых, и новых воплощениях, как бы продолжали, таким образом, жизнь на земле872. Но можно предположить, что метемпсихоз был, здесь, скорее наказанием, чем путем к блаженству. Так в «Гекубе» Еврипида (1265–1267) героине предстоят, по предсказанию именно фракийского оракула (μάντις εἶπε Διόνυσος τάδε) превращение в «огненноокую псицу» (κύων πύρσ᾽ ἔχουσα δέργματα).
В орфизме признавалось, что при первом, исходном воплощении (ἐνσωμάτοσις) человек появляется на свет как некий комплекс составляющих его телесных элементов, в связи с пронизывающей их душой. Из тела, сходного с темницей (δεστιοτηρίου εἰκόνα), душа может выделиться, освободиться лишь постепенно, через метемпсихоз, но путь к этому открывается через таинства Орфея. Только через них можно избежать рокового «круговорота рождений» (κύκλος τῆς γενέσειος), только через посвящение в орфические таинства и через требуемое ими подражание богу (ἀκολουθεῖν τῷ Θεῷ) возможно получить надежду на восхождение в мир «свободной святости». Это именно чисто орфическая идея, что тело есть могила (σῆμα, sepulcrum)873, откуда душа, освобождаясь смертью, как бы воскресает... до следующего метемпсихического воплощения. Понятие о σῶμα – σῆμα очень прочно усваивается, затем,
—471—
греко-римской мыслью, и отзвуки ее встречаются на самых поздних, конечных стадиях языческой философии.
Пифагор присоединяет ко всему этому свое оригинальное воззрение на душу, как на некоторое «демоническое» существо, бессмертное по природе, но отпадающее от божества актом своей свободной воли и, в наказание, ввергающееся в тело, как бы в некую тюрьму (φρουρá)874. Таким образом, в пифагорействе впервые вполне отчетливо проводится моральное начало в метемпсихозе, который здесь уже не является космической необходимостью (κύκλος ἀνάγκης), но актом божественной справедливости, возмездием за отпадение от божества и за проступки последующие существования (ἅ τις ἐποίησε ταῦτ᾽ ἀντπαθεῖν). Аскетизм, как высшая нравственная заслуга, выступает, поэтому, в учении Пифагора, уже не только в качестве подготовительная к посвящению режима, но совершенно самостоятельно, как средство к освобождению от тягостных перевоплощений. Он ведет души в вышние обители (ἐπὶ τὸν ὕψιστον, ad superiores circulos)875.
Несколько противоречит, впрочем, такому воззрению пифагорейцев им же принадлежащий взгляд на душу, как на гармонию составных частей тела, что логически должно было бы привести к уничтожению души вместе с телом. Но, по-видимому, это противоречие можешь быть достаточно удовлетворительно разрешено тем, что уже Пифагору было известно деление души на части: сознательную (λογικόν) и бессознательную (ἄλογον) с признанием бессмертия лишь одной первой. Всем этим конечно исключалось всякая мысль о чем-либо сходном с воскресением плоти, если не считать прообразом его метемпсихоз, где душа, в своем роде, тоже как-бы воскресала в плоти, хотя и иной876.
—472—
Наступивший, затем, период первого (софистического) скепсиса подготовил почву для восприятия сперва чисто моральной философии Сократа, искавшей успокоения от мучительных противоречий во внутреннему нравственном самосознании, а затем, в лице Платона и Аристотеля, эллинская мысль уже стала вдохновительницей, на много веков, не только философского и научного, но и религиозного сознания постепенно отживавшего язычества. И именно здесь выступили, впервые, такие прозрения в загадочные глубины человеческой природы, что даже христианство склонялось, в свое время, к признанию в идеях платонизма промыслительного действия божественного Логоса877.
III
Обращение испытующего, философского взора внутрь себя для наблюдения и изучения духовной, стороны человека, ставшее лозунгом сократической философии V века, не могло, конечно, не столкнуться с вопросом о бессмертии души и о посмертной судьбе человеческой личности. Но из всех выводов учения Сократа, быть может, ни один не страдает такой неопределенностью, ни один не высказывается с такими признаками колебания мысли между уверенностью и лишь более или менее вероятным предположением.
Если признать Платонову Апологию Сократа подлинной речью философа, как бы концентрирующей его мысль около вопроса бессмертия в торжественную, предсмертную минуту, то показания именно этого источника можно считать наиболее убедительными и ценными. Но, однако, именно здесь (гл. XXXII) выступает раздвоение мысли Сократа: «Умереть, говоря по правде, значит одно из двух; ведь это значит; или перестать быть чем бы то ни было, так что умерший не испытывает никакого ощущения от чего бы то ни было, или же это есть для души какой-то переход (μεταβολή τις) переселение ее отсюда в другое место, если ве-
—473—
рить тому, что об этом говорят878. Далее, как известно, следует разбор обоих, возможных положений, и вывод остается неопределенным, ибо и, в первом случае, смерть есть «приобретение» (κέρδος) и во втором – «есть ли что-нибудь лучше ее?» (τί μεῖζον ἀγαθὸν ταύτου εἴη ἅν;). И даже конечным, грустным аккордом сомнения звучать знаменитые, заключительные слова Апологии: «Но вот уже время идти отсюда (ὰπιέναι) мне, чтобы умереть, вам – чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме Бога879.
Но зато уже полной определенностью отличаются взгляды на участь души великого ученика Сократа – Платона, переходящего от еще очевидно не преодолимых сомнений учителя («Пир») к уже вполне категорическим утверждениям Федона880.
Действительно, в «Пире» мы еще находим двусмысленное признание бессмертия лишь всего человека, с душой и телом, в происхождении себе подобных (ἡ γεννήσις κaὶ ὁ τόκος ἐν τῷ καλῷ), так как лишь рождение признается для людей (ὡς θνητῷ) вечным и бессмертным (Соnv. XXV, 206 В; XXVI, 208 В). Но в «Федоне» знаменитые пять доказательств бессмертия (XIV–XVII, XLI–XLIX) уже увенчиваются решительным утверждением, что душа «непременно» (παντὸς μᾶλλον) бессмертна (LVI, 106 Е). И весьма важно, что кроме этого категорического вывода, мы встречаем у Платона еще и совершенно ясно и отчетливо утверждаемую личность, индивидуальность человеческой души. Эта душа уже не есть эманация мировой души, часть ее,
—474—
как это принимается доплатоновской философией, а одарена совершенно самостоятельным личным бессмертием881. В этом отношении взгляд Платона вполне определенен, так как колебания Апологии должны быть всецело отнесены к Сократу, а двусмысленное бессмертие «Пира» – к отзвукам еще близких, сократических сомнений882.
С точки зрения нашего исследования, развитие идей Платона о бессмертии не представляет интереса, да к тому же оно уже не раз, и весьма состоятельно, обсуждалось и комментировалось. Но зато интересно, что в том же диалоге «Федон» встречаются мысли, чрезвычайно похожие на смутный зачаток идеи воскресения, хотя и исчезают, затем, в потоке иных идей Платона.
Так, в ХV главе «Федона» Платон упоминает о метемпсихозе, как «некоем древнем сказании» (παλαιός τις λόγος), а затем вся цепь его рассуждений направляется к выводу, что если есть смерть, то необходимо допустить и какое-то противоположное ей «возникновение» (ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ ἀποθνήσκειν ἐναντίαν τινὰ γένσειν, ХVI 71 Е). Без сомнения речь идет здесь лишь о метемпсихическом, обратном переходе из мертвых (ἐκ τῶν τεθνεώτων) в живые (εἰς τούς ζῶντας), но зато еще впервые это понимается не только лишь в виде вселения души в тело, как в гроб, или в темницу (σῶμα – σῆμα), но как оживание (τὸ ἀναβιώσκεσθαι). Здесь уже подразумевается как бы какой-то особый процесс, противопоставляемый смерти, без чего все (πάντα) должно было бы, в конце концов, умереть навсегда (τεθνάναι καὶ μηδὲν ζῆν, XVII, 72 с.) И, наконец, уже совершенно эсхатологически звучит следующее заключение XVII главы: «Есть возврат к жизни и возникновение живых из мертвыхъ, и души умерших существуют – участь хороших из них лучше, а дурных хуже»883.
—475—
Но, конечно, истинная идея воскресения еще очень далека и от Платона – он даже никогда не употребляет самого слова «воскресение» (ἀνάστασις), ограничиваясь более бедным по содержанию, «оживанием» (ἀναβίωσις)884 Да и действительно, развиваемое Платоном дальше (гл. XVIII–XXII) учение о предсуществовании душ совершенно исключает даже самую возможность действительная, а не метемпсихического воскресения. В самом деле, если душа, по Платону, есть воплощающаяся форма чистой идеи885, то очевидно, что и воплощение ее в том или ином теле есть лишь фаза ее космической эволюции по пути к ее конечному апофеозу. А если так, то воскресение, как возвращение в прежнюю телесную, хотя и просветленную и преображенную форму, и притом возвращение уже навек, невозможно. Для Платоновской души возможен лишь метемпсихоз как искупительная ступень, а не как завершительный, эсхатологический акт.
Но хотя философская мысль Платона еще очевидно не может подняться до религиозного чаяния, тем не менее, и она смутно блуждает около великой тайны. Так, например, весьма характерен, в этом отношении, взгляд Платона на возможность удержания удалившейся из тела душой как бы некоторых следов «телесности». Душа, по его словам (Phaed. XXX, 81 с), как бы «одержима» телесной формой (ὕπὸ τοῦ σωματοειδοῦς διειλιμμένη) как бы запечатлено вечностью соприбывания с ней (διὰ τὸ ἀεὶ ξυνεῖναι). Конечно, по смыслу контекста, Платон имеет в виду здесь лишь как бы загрязнение, осквернение души, которое
—476—
не сумели, или не смогли очистить при жизни люди, умершиe и уносящие с собой свою душевную «плотяность» в загробный мир. Лишь души «мудрых» (ὀρθῶς φιλοσοφούντων) удаляются из тела чистыми, ничего телесного с собой не увлекая (καθαρὶ ἀπαλλάτονται, μηδὲν τοῦ σώματος ξυνεφελκοῦσαι)886. И только такие души получают загробное блаженство подобно тому, как это предполагается относительно «посвященных» (κατὰ τῶν μεμυημένων)887. Таким образом, все-таки для большинства человечества остается это предполагаемое Платоном, хотя и нежелательное, но все же запечатление души какими-то следами тела. С нашей точки зрения, здесь важен лишь самый факт возможности этой, остающейся запечатленности, которая, впоследствии, приобретает совершенно иную окраску в христианском учении о воскресении плоти.
Более того, по мнению Платона и тело, в свою очередь, не остается чуждым влиянию души, находясь с ней в особого рода «соответствии» (ξυμμετρία). Разъяснению именно этого посвящена XLII глава диалога «Тимей», конечным выводом которой является признание, что в первоэлементах тела («треугольниках», τρίγωνα, по своеобразной терминологии Платона) изначала заложена сила (δὺναμις), достаточная для удержания их вместе до срока, «дальше которого никто не может жить» (Tim. XLII, 89 с.)888.
Все это, вероятно, и дало повод христианским писателям первых веков изыскивать у Платона как бы предвозвестие идеи воскресения, но надо признаться, что все старания в этом направлении или идут мимо цели, или же просто смешивают с воскресением его отдаленное подобие – метемпсихоз.
Так, например, св. Климент Александрийский (Strom. V, 255), вспоминая миф о загадочном Ире (Plat. Rер. X, 13), возвратившемся к жизни через двадцать дней после смерти и рассказав-
—477—
шем тайны загробного мира, предполагает, что здесь всего вероятнее (τάχα) речь идет о воскресении. Но, не говоря уже о том, что «воскресение» (ἀναβίωσις) Ира имеет характер чисто эпизодического чуда, все дальнейшие его речи о загробном суде, и особенно о «выходе» из подземного царства через тысячу лет (εἶναι δὲ τήν ὑπο γῆς πορείαν χιλιέτη), должны быть отнесены не к чему иному, как к метемпсихозу, именно и характеризуемому, у Платона, своей тысячелетней срочностью889.
Евсевий (Praep. Evang. XI, с. 33) выводить аналогичное заключение из другого, пожалуй, с внешней стороны, более подходящего для этого мифа, именно из рассказа о циклическом возрождении «сынов земли» (τὸ γηγενές γένος), проводимого Платоном в его диалоге «Политик» (ХV, 271). И действительно, здесь есть такая фраза: «Из умерших и положенных в землю вновь восстают и оживают, свершая цикл, обратный рождению»890. Но дальнейший контекст совершенно ясно указывает, что речь идет, здесь, с одной стороны, об излюбленной еще орфизмом аналогии человеческой жизни с циклом жизни растений (272), а затем о «круговороте» (κύκλησις) жизни, в свою очередь, очень сходном с опоминавшимся выше, орфическим же (κύκλος ἀνάγκις), чем разве лишь еще раз подтверждается влияние орфизма на идеи Платона.
Наконец, бл. Августин (De civ. Dei, XXII, с. с. 27–28), проводя параллель между взглядами Платона п Порфирия, утверждает, что по мнению Платона, «души не могут существовать в вечности без тел»891, а для этого (ideo)
—478—
через более или менее продолжительное время возвращаются (redent) в тела. Но едва ль и здесь Платон идет дальше метемпсихоза, так как последующее его утверждение, приводимое Августином и относящееся к тому, что лишь «святые души» (sanctae animae) возвращаются к жизни, хотя и совершенно явно почерпнуто из «Федона» (гл. XXIX и LXII), но, тем не менее, находится в противоречии с основным мнением Платона, что именно души, «очищенные философией» (φιλοσοφίᾳ καθεράμεναι) живут без тел (ἄνευ σωμάτων), вселяясь в неописуемо прекрасный обители вечного блаженства, но, отнюдь не возвращаясь на землю для метемпсихического очищения (См. Phaed., с. 80Е, 81, 114).
Но кроме всего этого, именно во взглядах Платона на соотношение человеческой природы с миром идей, особенно отчетливо чувствуется струя вливающихся, мало-помалу, ее философии, мистических течений, исходящих из культов мистерий. Так Платон полагает, что откровения Божества могут внезапно осенять человеческую душу при ее энтузиастических состояниях. Через «безумие» (μανία) подается людям божественный дар, получаются величайшие из благ892. И даже на вершинах экстаза любви (τὰ ἐρωτικά) внезапно (ἐξαίφνης) открывается красота вечно сущего (ἀεὶ ὄν)893. Путь же к такому богооткровению, этому источнику первых начатков чувства воскресения, ведет, по мнению Платона, через философию, так как лишь мудрецу, чуждому земных сует и обращенному душой к божеству, свойственно в состоянии священного экстаза, воспринимать многое из истинно сущего, хотя на взгляд большинства людей это есть лишь безумие894.
Таким образом, философ как бы превращается в
—479—
миста. «Для Платона», – говорит в своем исследовании Гаскэ, – «философия есть своего рода посвящение и путь спасения, ведущий к эпоптии, т. е. к созерцанию первопричин и Богооткровению»895. Впоследствии именно эта сторона философии Платона развилась в неоплатонизм, не оставшись чуждой и христианской мистике.
П. Страхов
(Окончание следует)
Глаголев С.С. Вопрос о жизни на Марсе // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3, с. с. 480–499 (4-я пагин.). (Продолжение.)
—480—
7.
На предыдущих страницах было изложено псе существенное, что сказано по вопросу об обитаемости Марса. Нужно быть очень предубежденным, чтобы не видеть, что эта обитаемость есть проблема, а не факт. Доказательств обитаемости Марса на самом деле не имеется. Отсюда, разумеется, не следует, что Марс необитаем. Нельзя отрицать возможности не только обитаемости Марса, но и Луны. Фламмарюн в последнем издании своей популярной астрономии, выходящей теперь на русском языке, настаивает на этой возможности; он допускает и существование атмосферы на Луне и вместе с тем, допускает возможность жизни и без атмосферы. Но область возможностей бесконечна. Хотелось бы знать не то, что может быть, а то, что есть. Католик Жуан знает это без исследования, утверждая a priori, что миры обитаемы. Свободомыслящий Уоллэс после исследования приходить к заключению, что миры необитаемы. Причем, тот и другой утверждают, что, миры нужны: по первому – для их обитателей; по второму – для сообщения устойчивости Солнечной системе. К этой телеологии присоединяются утверждения, что христианская религия предполагает обитаемость миров и что христианской религией отрицается обитаемость миров.
Во всем этом нужно теперь разобраться. Из всех изложенных нами авторов Ортолан является наиболее пол-
—481—
ными и объективными. Правда, его книга вышла уже давно (1894 г.), но с тех пор в науке не появилось ничего существенно нового по данному вопросу, а Священное Писание, понятно, осталось неизменными. Вот почему, сосредоточивая разбор, главным образом, на ней, думается, лучше всего можно осветить исследуемый вопрос.
Ортолан сумел сделать изложение своей книги интересным даже в тех ее местах, где должно бы было веять холодом алгебраических формул и где должны бы царствовать сухие арифметические вычисления. Без сомнения, он мог бы быть более краток, но читатель охотно простить ему его лирические длинноты и порой даже отступления, потому что они не только не утомляют, но, напротив, оживляют книгу и более приковывают к ней питателя.
Такова внешняя сторона книги. Ее содержание свидетельствует о широком и разностороннем образовании автора. Доктор богословия и канонического права, автор обнаруживает основательное знакомство с св. Писанием и творениями св. отцов. Некоторые из его выписок из отеческих творений приведены нами. Он обнаруживает и некоторую начитанность в астрономии и физике. Во всяком случае, элементами этих наук он овладел настолько, что во всей его книге на протяжении более 450 страниц нельзя указать ни одного промаха по отношению к общепризнанным истинам науки о небе. Скажут, что это – похвала отрицательная, но скажем мы, какой бы она ни была, она может выпасть на долю далеко не всех апологетов, даже запада. У католиков, к которыми принадлежит Ортолан, есть два рода апологетов: богословы и натуралисты; первые часто обнаруживают незнакомство с наукой, против разрушительных выводов которой направляют свое оружие; вторые – иногда совершенно незнакомы с богословием (это бывает и с аббатами, например, с Буржуа, Делонэ) – делают такие уступки гаданиям ученых. на которые не может пойти богослов. Ортолан чужд этих крайностей, он – богослов, но не отворачивается спиной и от естествознания. Однако нельзя сказать, чтобы тот естественнонаучный багаж, которым он пользовался при написании своей книги, быль очень обилен и чтобы
—482—
он по отношению к нему не обнаруживал некоторого чрезмерного увлечения, которое невыгодным образом отразилось на его книге.
Главными пособиями Ортолана были «Астрономия» Ньюкомба и Энгельмана и книга Фая «О происхождении мира». Астрономии Ньюкомба Ортолан мог довериться вполне, но он напрасно также, безусловно, доверился и предположениям Фая. Критика Фая вполне основательна, но его собственные взгляды очень гипотетичны. Ортолан, по-видимому, следует Фаю, когда доказывает, что все планеты нашей системы кроме Земли должно представлять необитаемыми, и аргументация этого тезиса, как у Фая, так и у Ортолана, является очень сильной. Но Ортолан напрасно следует Фаю, когда говорит о возрасте планет, о происхождении миров, о возникновении Солнечной системы. Утверждения Фая Ортолан называет «современной наукой», но это – не наука, а только гипотезы одного из служителей науки, гипотезы, кстати, нужно заметить, среди ученых вовсе не имеющие последователей. Это смешение гипотез с общепризнанными истинами производит невыгодное впечатление. Оно особенно неудобно в сочинении богословско- апологетическом, менее чем кто-либо богослов должен увлекаться всяким ветром учения. Но у Ортолана есть эта слабость. Увлекаясь гаданиями Фая, он увлекается еще гипотезой мирового эфира. Из этой гипотезы он, как мы видели, готов объяснить и взаимодействие души с телом, и воскресение тел, и их прославление. Но ведь эфир только физическая гипотеза, которая – кто знает – может быть, скоро станет ненужной. Гипотеза эфира состоит в предположении, что пространство между телами и пустоты в телах наполнены атомами особого рода. Эти атомы невесомые, абсолютно тверды или абсолютно упруги, не оказывают сопротивления двигающимся в среде их телами и обусловливают собой свет, теплоту, электричество, а, по мнению многих (по-видимому, и Ортолана), и притяжение. Нетрудно видеть, что в представлении этих атомов заключается много противоречивого: твердость тела – удобно объясняется, как следствие частичного притяжения, здесь, наоборот, явления притяжения хотят объяснить толчками твердых тел. Эфиру приписывают способность сво-
—483—
ими толчками сообщать движение телам и отказывают ему в способности сопротивляться их движению. Эта необходимость приписывать эфиру противоречивые свойства побудила многих компетентных физиков отрицать реальность его существования. Эфир отрицал Клаузиус. В настоящее время Оствальд (химик) со своей гипотезой энергетизма тоже идет против эфира. У физиков и химиков начинает вырабатываться убеждение, что для объяснения явлений нет нужды прибегать к проблематическому эфиру, что механическую связь между явлениями можно выразить математической формулой, вообще не обращаясь к гипотезам. Правда, имеются и горячие приверженцы теории эфира (у нас таким быль покойный Столетов), но их число далеко не так велико, чтобы Ортолан в своих смелых суждениях о преобразовании тел праведников мог опереться на них.
Для раскрытия мысли, что учение о воскресении и прославлении тел не заключает в себе ничего противоречивого и логически и фактически невозможного, Ортолану нужно было обращаться не к научным предположениям, а к тому, что наука действительно знает о веществе, его различных состояниях и преобразовании его свойств в этих состояниях. То, что мы называем твердыми, жидкими или газообразными телами, представляет собой лишь частное проявление нам в своей сущности неведомого субстрата, который при других условиях может явиться совсем под другими формами, и мы знаем массу явлений, которая доказывают, что такие формы возможны и действительно существуют. Уже Крукс своими работами над разреженными газами показал это. Материя может являться не только под образом темной, инертной массы, но и в виде светоносного, обладающего абсолютной проницаемости начала. Лучи Рентгена, излучения радия подтверждают это. Наконец, распространившийся недавно слух о том, что Рамзаю удалось при помощи электрических разрядов получить изб водорода гелий, а из соединения гелия и кислорода – неон (атомный вес гелия=4,0; кислорода=16,0; неона=19,9=в сущности сумме двух первых) также подсказывает мысль о возможности таких преобразований материи, который и не снились нашим мудрецам. Разу-
—484—
мнется, на всех этих фактах нельзя построить научной теории воскресения тел, но они совершенно заграждают уста тем, которые говорят: «что невозможно», они не открывают истины, но они указывают уму в ту далекую сторону, где находится истина предчувствуемая сердцем.
Увлекаясь гипотезами, Ортолан готов искать подтверждение их в Св. Писании. Указание на существование эфира он видит в книге Иова (Иов.26:7). Прошедшее должно бы было его научить, как опасно утверждать гипотезы на авторитете Библии, но он не хочет вразумиться этим. После прекрасных рассуждений о том, что в Библии не может быть научно, а непременно должно быть человекообразно изложено учение о мире и его происхождении он начинает усердно искать в Библии указаний на сферичность Земли, ее движение вокруг оси и вокруг Солнца. Но если в Библии описываются явления так, как они представляются чувственному взору простого человека, а не умственному взору ученого, то тогда, кажется, совершенно напрасно искать в ней указаний на то, как на самом деле совершаются события и явления. Язык Библии, это язык, которым говорило, и всегда будет говорить человечество. «Солнце взошло, луна зашла», это – выражения, от которых не могут отделаться не только люди простые, но и ученые. Астрономы говорят: «Солнце вступило в меридиан», «прямое восхождение звезды», никто не сомневается относительно смысла этих терминов и не упрекает астрономов за неточность выражения. Астрономы, однако, если бы захотели, могли заменить их другими более правильно выражающими их мысль, но в Библии не могут быть поставлены другие выражения: она предназначена для всех людей, а не для одних только тех, которые получили астрономическое образование. Библия поэтому описывает явления так, как они кажутся, представляя мудрым и простыми – каждому по-своему – определять их действительный характер. «И остановилось солнце, и луна стояла» (Нав.10:13), читаем мы в Библии. Сторонник птоломеевой теории поймет эти слова буквально, последователь Коперника истолкует их в том смысле, что земля на время прекратила свое движение вокруг оси, кто-нибудь, может быть, предложить теорию по-
—485—
степенного усиления рефракции, вследствие которого, хотя Земля и продолжала свое движение, усиливающаяся преломляемость атмосферы заставляла жителей Палестины видеть Солнце все на одном месте. Могут предложить и другие объяснения. Что было на самом деле, известно одному Богу. Но в чем состояло явление с внешней стороны, что из описания Библии понятно всякому, и для религиозных целей это только и нужно. Ортолан находит в Библии указания на полюсы, ось Земли и ее вращения, но древность с теми выражениями, на которые указывает он, соединяла совсем другой смысл, и ему или нужно было доказать, что богодухновенные писатели употребляли эти выражения в том смысле, в каком употребляем их мы, или совсем не ссылаться на них. Древние думали, что небо вращается на твердой оси, концы которой вертелись в неподвижных гнездах. У Витрувия есть описание всего этого небесного механизма, имеющего не только гнезда для оконечностей оси, но еще спицы, подобные спицам колеса, служащие для вращения неба. Анаксагор полагал, что вначале все светила обращались около зенита (значить, он не знал, что каждое место имеет свой зенит), и, следовательно, ось неба была вертикальна по отношению к земле, впоследствии она наклонилась896. Долито признать, что эти концепции – теперь, безусловно, отвергнутая – гораздо ближе подходят к Библейскому тексту, чем новые теории. Это понятно. Учения древних исходили из того начала, что вещи на самом деле таковы, какими они кажутся. Библия описывает то, что кажется, отсюда совпадение Библейских описаний с древними космогоническими и космологическими представлениями.
Библия не отрицает теорию Коперника точно так же, как эту теорию не отрицают наблюдаемый нами явленья (движения Солнца, звезд, планет), но если изучение явлений дает основания для признания коперниковской системы, то вовсе нельзя сказать, чтобы изучение Библии вело к тому же выводу. Еще ни один богослов не сделал открытия на основании Библии. На самом деле, если бы Би-
—486—
блия в своих повествованиях о природе представляла бы точно действительность, то тогда она не могла бы описывать ее не только в выражениях Птоломея, но и Коперника, философия учит нас, что материя, движете, пространство и время, совсем не то и не таковы, какими они нам кажутся. Все это только образы вещей невидимых. Миропостроение Коперника так же субъективно, как и миропостроение Птоломея. Здесь только изменена точка зрения. Библия – независимо от теории – описывает нам кажущуюся вселенную, вселенная действительная откроется нам по исполнении времен.
Ортолан по отношению к научным предположениям любит употреблять такой прием. Библия, у него, уже учит о том, что лишь предполагает наука. Он утверждает это относительно обитаемости миров. Наука не имеет оснований настаивать на этой обитаемости, но некоторые тексты Библии, по Ортолану, заставляют предполагать ее. Мы думаем, что современное знание – именно современное – должно бы было воспрепятствовать Ортолану держаться высказанных им предположений. Совершенно верно его утверждение, что Св. Писание учит, что число всех разумных существ вселенной неизмеримо больше числа обитателей земли. Но несомненно также, что Св. Писание кроме людей признает еще лишь один род разумных существ – ангелов, духов бесплотных, и имеющих природу, совершенно отличную от нашей. Древние могли помещать ангелов на Солнце и звездах, ибо могли предполагать, что природа этих светил совершенно иная, чем природа нашей Земли. Но спектральный анализ учит нас, что весь материальный мир создан по единому образу и подобию, что все множество миров образовано из одних и тех же 70–80 химических элементов, которые мы находим на Земле (до 90-х годов XIX века на земле не был найден гелий – элемент, открытый при помощи спектрального анализа на Солнце, – но потом нашли и его в клевеите, в эманациях радия, наконец, в водороде) и что природа существ, если таковые существуют на других мирах, должна быть подобна земной. Жители небесных миров должны быть весомы точно так же, как и обитатели земли, они не могут переходить из одного
—487—
пункта в другой, не проходя посредствующего пространства. Отожествлять их с ангелами или относить к ним слова Откровения относительно ангелов невозможно. Должно признать, что Библия ничего не говорит ни об обитаемости, ни о необитаемости небесных светил. Ничего о них, в сущности, не говорит и наука. Вопрос этот доселе обыкновенно решают сердцем, а не умом. Так решаешь его и Ортолан.
Настаивая на том, что в Библии излагается учение о мире, которое только в настоящее время становится достоянием науки, Ортолан, нам кажется, руководился некоторыми ошибочными предвзятыми положениями, которые нередко в западной апологетической печати высказывались в последнее время. Именно, Ортолан руководился убеждением, что в глубокой древности культура стояла очень высоко, что многие завоевания нового времени были достоянием древности. Это убеждение явилось, как реакция противоположной крайности – высокомерно-пренебрежительному отношению к знаниям древних. Оставляя в стороне вопрос о допотопной мудрости поднятый Жуаном, мы вполне согласны с Ортоланом и другими, что это высокомерное отношение свидетельствует о крайне невысоком умственном и нравственном уровне так относящихся. Мы всем обязаны древним, и древние ничем не обязаны нами. Не говоря уже о философии, при помощи самых ничтожных средств древние совершили великие открытия в области точных наук, которые легли в основание наших суждений о природе. Но потомки были бы недостойны предков, если бы не пошли далее их. Постройки египтян, их практические (но не научные) познания в области медицины и химии заслуживают законного удивления, и нет никакой нужды приписывать еще египтянам знания в области космографии и математики, которыми они на самом деле не владели. Но Ортолан, настаивая на высоком образовании Моисея, воспитанного во всей мудрости египетской, смело превращаешь эту мудрость в совокупность обширных точных познаний. Нельзя последовать за ним. Современная египтология располагает достаточным материалом, чтобы определить круг и границы познаний египтян во времена Моисея. Они оказываются далеко не обширными.
—488—
Прежде всего, Ортолан не прав, утверждая, что Моисей воспитывался при дворе фараона в самое цветущее время египетской культуры. Цветущее время отступает далеко назад – к эпохе XII династии, а Моисей жил, по всей вероятности, при XIX. Говорим: по всей вероятности, потому что при имеющихся данных нельзя точно определить время Моисея и дату исхода. Прежде Рамзеса II называли фараоном преследования и полагали, что исход произошел при его преемнике Меренфте. Теперь это мнение должно быть отвергнуто. Таблицы, открытые в Тельэльамарна показывают, что во времена Меренфты евреи жили уже в Палестине. Но, во всяком случае, отодвигать дату их исхода на значительное время от Меренфты нельзя. Чему жe мог научиться в это время Моисей в Египте?
Египтяне представляли страну свою средоточием мира, сердцем Кеба, обращенного головой к священному югу, Нил они представляли вытекающими из двух дыр. Было у них еще представление, что мир есть огромный остров, имеющий форму параллелепипеда, окруженный горами, поддерживающими железный небесный свод. При таких представлениях, конечно, они никаким образом не могли вычислить правильно ни объема Земли, ни ее веса.
Египтяне много занимались астрономией. У них во многих городах были обсерватории (в Дендерах, Тини, Мемфисе, Гелиополисе и др.), на которых жрецы внимательно наблюдали за всеми явлениями, происходившими на небе. Но эти наблюдения представляли собой скорее эстетическое созерцание, чем образцы научного исследования. Лучшим доказательством ограниченности астрономических познаний египтян служить их календарь. В глубокой древности они делили год на 12 месяцев по 30 дней в каждом. Неверность этого счисления не замедлила обнаружиться. Тогда они к 360 днями года прибавили еще сверхгодичных или эпагоменных дней. Об этой прибавке у них сложился такой миф. Богиня Нут имела связь с Себом. Ра (бог Солнца), узнав об этом, околдовали ее так, что она не могла разрешиться от бремени ни в один из месяцев какого бы то ни было года. Но Тот, любивший богиню, стал играть в кости с Луной и выиграл у ней шестидесятую часть каждого дня, из чего
—489—
составил 5 дней и прибавил их к 360. Однако и эта романтическая прибавка, уменьшив разницу между гражданским годом египтян и годом астрономическим, не уничтожила ее совсем: гражданский год у них быль на ¼ суток меньше астрономического, и 1461 год гражданский равнялся 1460 годам астрономическим. Времена года, время разлива Нила, посева и жатвы должны были у египтян передвигаться с одних месяцев на другие. Если бы они действительно умели производить астрономические вычисления и обладали астрономическими познаниями, у них не случилось бы этого.
Развитие астрономии обусловливается степенью развития математики. От XIX династии до нашего времени дошел математический трактат, показывающий, что египтяне в области чистой математики не сделали больших успехов. Они были хорошими практическими геометрами, как об этом свидетельствуют их пирамиды и храмы, но они были недалекими теоретиками. Их меры были менее совершенны, чем, например, меры вавилонян. В области теории они не возвысились даже до признания в общем виде теоремы Пифагора (квадрат, построенный на гипотенузе, равен сумме квадратов, построенных на катетах). С благоговейным изумлением они открыли, что если один катет будет равен 3, другой – 4, то гипотенуза будет равна 5. (3х3+4х4=5х5), они признали этот треугольник священными, число 3 у них стало означать Озириса, 4 – Изиду, 5 – Гора, но они не подумали обобщить это открытие897.
Египтяне были народы практики, они не совершали отдаленных путешествий на земле и не проникали далеко в
—490—
областях моря. Моисей немного мог приобрести у них космографических познаний. Влияние египетского образования должно было бы сказаться на его произведениях фантастическими представлениями устройства мира и его происхождения. Но он писал не под диктовку египетских жрецов, а под водительством Святого Духа. Св. Дух не открыли ему тайн земли и неба, но, водимый Им, он не написал ничего ошибочного ни о небе, ни о земле.
Сверхъестественное воздействие охранило Моисея от естественных заблуждений. Но это божественное воздействие не охранило толкователей повести Моисея. Св. отцы, толковавшие книгу – Бытия, руководились познаниями о природе своих современников и повторяли многие их заблуждения. Ортолан пытался представить, что астрономические и космологические познания в первые века христианской эры стояли высоко, что тогда господствовали гелиоцентрические идеи. Это – неправда. Мысль о сферичности Земли, возникшая за сотни лет до Р. X. и смутно высказывавшаяся уже многими, со времени Аристотеля приняла форму научной теории, но идеи движения земли тогда совсем не существовало в философском и научном обиходе. Вот сущность космологии, которой руководились мыслители в отеческую эпоху. Мир делился на две обособленные системы: небо с равномерными круговыми движениями эфира и Земля с изменчивыми прямолинейными взаимопротивоположными движениями элементов; первое – средоточие всего совершенного, соразмерного и неизменного, последняя – вместилище несовершенства и вечно изменчивого разнообразия. В то время, как земные единичные существа возникают и исчезают, приобретают и теряют качества, увеличиваются и убывают, созвездия не возникают и не исчезают; подобно небесными богам, они не подвергаются никакому изменению и движутся в неизменном вращении по раз навсегда определенными путями. Вокруг неподвижной Земли вращаются шарообразные сферы, на ближайшей из них укреплена Луна, на следующих – Солнце, пять планет и, наконец, на самой отдаленной – неподвижные звезды. Принимая во внимание, что взаимное положение звезд остается неизменными, для них полагали одну общую сферу. Напротив, для объяснения уклонения планет
—491—
от правильного пути приписывали каждой из них множество сфер, зависящих друг от друга, причем представляли, что данная планета всегда прикреплена к низшей из этих сфер. При развитии этой теории Аристотель насчитал в общем 55 сфер898. Впоследствии теория Аристотеля уступила место эпициклами Птоломея.
Св. отцы в своих толкованиях Библейского учения о природе руководились несамостоятельными исследованиями природы, но сочинениями о природе греческих философов. Св. Василий Великий руководился Аристотелем. Вследствие этого многие заблуждения Стагирита мы видим повторенными в шестодневе. Учение о произвольном зарождении, о возникновении ужей из тины, мышей и жаб от дождя, о своеобразных свойствах льва, все это св. Василий излагает, доверяясь на слово греческими зоологами, и ошибки, в которые он при этом впадает, так велики, что даже русский переводчик восемнадцатого столетия счел нужными оговорить их, заметив, что ответственность за них должна быть сложена с св. Василия, так как «его обманули греческие писатели». Последующие отцы и вообще многие церковные писатели поступили еще проще: они не читали греческих философов, они только читали св. Василия. Никто не посмеет упрекать их за то, что они от своего великого дела – религиозно-нравственного перевоспитания человечества не отнимали часов, чтобы размаривать звезды или цветы. Они не имели времени изучать природу, но вследствие этого они и мало знали ее. Они брали готовое (языческое) учение о природе, но они освещали его христианским светом. Все то, что им казалось в философских учениях несогласными с христианской верой, они отбрасывали, как заблуждение. Они настойчиво развивали в своих творениях мысль о Промысле мировой жизни, о целесообразности. В их рассуждениях о природе имеет незыблемое значение та религиозно-нравственная точка зрения, с которой они оценивали явления, но их описания и объяснения явлений не имеют значения. Ортолан выдергивает из их творений отдельные места, которые взятые вне контекста являются, в сущности, неясными, но
—492—
он толкует их в желательном для себя смысле, и у него получается, что св. Василий разделял гипотезу мирового эфира, а блаж. Августин учил о движении Земли. И тот, и другой писатель, прозревая, может быть многое в судьбах человечества, едва ли предвидели, что когда-нибудь появятся те учения, сторонниками которых называет их Ортолан. Но Ортолан верно отметил, как замечательное достоинство св. отцов, что они никогда не догматизировали своих воззрений на природу или своих толкований библейского учения о природе. В этом отношении они стоят неизмеримо выше многих философов наших дней. Последние самые смелые естественнонаучные гипотезы провозглашают истинами, добытыми наукой, и на них, как на непоколебимом фундаменте, построяют свои системы. Св. отцы проявляли необычайную осторожность. Весьма различно толковали они Моисеево повествование о творении мира, но они не порицали друг друга за различие взглядов (св. Григорий Нисский, св. Aфанасий Александрийский отрицали буквальное понимание 1-й главы книги Бытия, напротив, богословы антиохийской школы – и во главе их св. Златоуста – настаивали на нем) и не препятствовали никому производить самостоятельный исследования природы. Результаты этих исследований они принимали и приветствовали. Живи они во времена Коперника или Галилея, они, несомненно, приняли бы новое гелиоцентрическое учение и своим авторитетом освятили бы его и облегчили его распространение. Ведь, своим авторитетом они поддерживали геоцентрическую космологию. При этом замечательно, что св. отцы никогда не принимали гипотезу во всех ее мелочных и странных подробностях. Та пестрота и сложность миропостроения, которую, например, предполагал в своей космологической системе Аристотель, их умам всегда представлялась подозрительной. Св. отцы глубоко выяснили себе идею всемогущества и премудрости Божией. С этой идеей неразрывно связана мысль, что Бог наилучших целей достигает наипростейшими средствами. Премудрость проявляется в простоте. Это положение проходить через весь шестоднев св. Василия, его можно найти в творениях св. Кирилла Иерусалимского (например, при рассуждении о размножении рода человеческого) и у других отцов.
—493—
Вот почему они должны были думать, что 55 сфер Аристотеля слишком, много, и что Господь Бог управляет движением небесного механизма при помощи гораздо меньшего числа начал. Так, у отцов если и не было многих и правильных знаний о природе, то у них были глубоковерные руководящее взгляды на исследование природы. Они догадывались, что в природе должен действовать принципа, наименьшего действия. И этим обстоятельством не только опровергается тот взгляд, что религия враждебна положительному знанию, но утверждается, что религия освящает и благословляет истинную науку и способствуешь ей.
Этот тезис всецело утверждается и Ортоланом. С ним согласится и всякое верующее сердце. Мы позволили себе только отметить, что при рассуждении о взаимоотношениях астрономии и богословия. Ортолан придает преувеличенное значение некоторыми гипотезами и преувеличивает познания древних в области точных науки. Но эти недостатки его книги не могут быть признаны имеющими важное значение. Гипотезы, которыми они следуешь, не заключают в себе ничего враждебного религии, а его преувеличенная оценка знаний древних, во всяком случае, лучше и благороднее допускаемого многими глумления над представлениями древних. Это глумление более позорно, чем глумление Хама над отцом и оно дает основание и повод детям глумящихся смеяться над убеждениями и теориями своих отцов. Вот почему мы не расположены ставить Ортолану в серьезную вину указанные недостатки его книги. В его исследовании есть недостатки более серьезные, и есть промахи, неверные утверждения и ошибочные воззрения, имеющие, по нашему мнению, гораздо более важное значение. К разбору их мы теперь и обратимся.
Одними из достоинств книги Ортолана является ее благородный тони. Будучи западником, он с уважением цитирует восточных писателей и, полемизируя с писателями враждебными христианской религии, он, по его собственному выражению, идет только против учений, но не против лиц; по отношению к последними он не позволяет себе никаких оскорбительных и резких выражений. Но за всем тем особенности католического исповедания налагают особый отпечаток на книгу Ортолана, за-
—494—
ставляют его в некоторых пунктах отступать от правды и беспристрастия и следовать мнениям неосновательным и странным.
Сознательно или бессознательно, но Ортолан представляет далеко не в верном свете процесс Галилея. Ортолан говорит, что Галилей плохо обосновали свою теорию и имел смелость предложить свое толкование Библии, чем раздражил конгрегации; папа, по представлению Ортолана, быль в этом деле не причем. Процесс Галилея изучен в настоящее время во всех подробностях. Дело было не совсем так. Преследование и осуждение Галилея совершалось и совершилось по воле и желанию папы, и мы лично думаем, что на месте папы и каждый, имеющий силу, поступили бы также с Галилеем, а, может быть, многие поступили бы и гораздо хуже. Гений Галилея стоял неизмеримо выше его нравственного мужества; менее, чем кто-либо, Галилей были способен бросить в лицо суду знаменитую, но легендарную фразу «е pur si muove», но он был очень способен действовать хитростью, лукавством и дурачить тех и насмехаться над теми, которые были к нему искренно расположены, хотя и не разделяли его воззрений, Галилей родился в 1564 году и до 1632 г. жил в чести и славе и не подвергался преследованию. Его взгляды не были тайной, и, однако, даже папа Павел V, глубоко не сочувствовавший этими взглядами, оставляли его в покое. Преследование на Галилея воздвиг папа Урбан VIII (ранее кардинал Маффео Барберини) – личный друг Галилея. Как это случилось? Когда Урбан VIII вступил на престол, Галилею представилось, что теперь наступило удобное время для того, чтобы хлопотать об отмене наложенного запрещения на книгу Коперника «De revolutionibus orbium coelestium», запрещения, должно заметить, наложенного, благодаря резкой полемике Галилея с противниками. С этой целью он путешествовали к папе из Флоренции в Рим. Он был принят весьма любезно, его осыпали подарками, к его покровителю, тосканскому герцогу Фердинанду II папа отправили письмо, в котором восхваляли не только дарования Галилея в науке, но и его любовь к благочестию. Но естественно, что папа не обнаружили особенной охоты к астрономи-
—495—
ческим диспутами; должно быть он одинаково не знали, как теории Птоломея, так и Коперника; Галилею в спорах с ними он добродушно возражал, что ангелы легко могут двигать звезды так, как они кажутся нам двигающимися, что Бог Всемогущ и Его нельзя подчинять закону необходимости. Галилей не добился снятия запрещения с книги Коперника, но сам остался у папы в полной милости. Что же он сделал после этого? Они написал книгу «Dialogo intorno ai massimi sistemi del mondo», в которой два лица – Сагредо и Сальвиати (имена действительных друзей Галилея) излагают и объясняют воззрения Галилея третьему собеседнику Симпличио (простак, дурак), который их оспаривает. Диалогическая форма сочинения оставляла в тени автора. Читателю представлялось самому оценить аргументы собеседников, а книга последнее слово оставляла за Симпличио, который изрекал, что «Бог Всемогущ и Его нельзя подчинять закону необходимости». Галилею, к его несчастью, удалось напечатать книгу (цензор не поняли ее и впоследствии пострадали за свое непонимание). Заинтересованные читатели без труда узнали в Симпличио Урбана VIII и донесли о книге Галилея последнему. Папа быль раздражен, и Галилей был предан суду. Насколько можно судить по всему, ему не столько пришлось протерпеть лишений и страданий, сколько нравственного унижения. Астроном, насмехавшийся над Симпличио, должен был торжественно, стоя на коленях, произнести перед священной конгрегацией, между прочим, следующие слова: ...я «был сильно подозреваем в еретическом мнении, что солнце стоить неподвижно в центре мира, а не земля, которая движется. Поэтому, желая изгладить из мысли ваших преосвященств и всякого католика такое сильное, но справедливое против меня подозрение, с чистым сердцем и искренней верой, я отрицаюсь, проклинаю и ненавижу вышеупомянутые ереси и заблуждения, и вообще всякое другое заблуждение, противное учение св. римско-католической церкви; я клянусь, что впредь не скажу и не буду утверждать ни словесно, ни письменно ничего, могущего возбудить против меня подобные подозрения, и если узнаю о каком-либо еретике или подозреваемом в ереси, то донесу о нем сему святому
—496—
Судилищу – инквизиции или инквизитору того места, в котором буду находиться»899... Должно полагать, что это печальное отречение вполне удовлетворило Урбана. Галилей был осужден на заключение в тюрьму, но по воле папы был освобожден из нее, не пробыв в ней и двух суток. Обсуждая теперь, два с половиной столетия спустя, этот процесс, нельзя признать, чтобы папа поступили в этом деле с крайней жестокости, или что Галилей был, безусловно, прав. Но Ортолан устраняет из этого процесса папу, потому что ему хочется, чтобы римские первосвященники сохранили престиж непогрешимости. Папа, мстящий за личное оскорбление, этот образ не по душе католическому богослову. Ортолан является в своем рассуждении о Галилее более католиком, чем это требуется от католика. Некоторый выражения Ортолана о непогрешимости можно понять в том смысле, что папа непогрешим и в научных вопросах, но этого не признает и ватиканское вероучение 70-го года.
Вообще разбирающий sine ira et studio самые странные гипотезы и теории, Ортолан только однажды изменяет своему спокойному тону. Это, когда они говорит о космологических представлениях Козьмы Индикоплова. Он сильно иронизирует над монахом-географом и даже изложению его взглядов предпосылает слова Горация: «risum teneatis, amici». Мы думаем, что Ортолан не прав в этом случае. Воззрения Гратри, Шаботи и Делетра, к которым Ортолан относится благосклонно, заслуживают гораздо более порицания и смеха, чем учение Козьмы. Эти католические писатели, предложившее свои фантастические теории, обнаружили самомнен1е, нисколько не оправдываемое, их,
—497—
по-видимому, небогатыми дарованиями, они обнаружили претензии знать и видеть то, чего не знали и не видали другие, и они показали, что они не могут усвоить ни христианской веры, ни данных науки. Что касается до Делетра, то его теории настойчиво внушает мысль, что он быль душевно больным человеком. Однако Ортолан ко всем этим писателям относится с почтением и не находить достаточно выражений, чтобы поглумиться над Козьмой. Но мы думаем, что на нем лежала обязанность показать неосновательность глумлений над Козьмой историков географии. Этот смелый и предприимчивый мореплаватель оказал землеведению очень много услуг и во всяком случай его нельзя сравнивать с иронизирующими над ним жалкими географами, вся заслуга которых заключается в том, что они знают о чужих исследованиях и открытиях. В своей «христианской топографии» Козьма сообщил много новых точных и чрезвычайно ценных сведений об Индии, Эфиопии, об африканской и индийской фауне. Из Александрии, откуда он был родом (вследствие этого его иногда и называют египтянином), он совершал отдаленные путешествия во все известные страны древнего мира и обо всем, что он видел и слышал, он передавал с безусловной правдивостью. В его сочинении находятся важные указания на отношении Египта, Индии и Китая к Римской империи (например, описание двух надписей на памятник в Эфиопском городе Адулис, ныне Зулла, несколько к югу от Массовы). Его языки, по отзыву специалистов, отличается ясностью и легкостью, необычайными для византийца VI столетия. Свою книгу Козьма снабдил рисунками900. Теоретические представления Козьмы, конечно, не имеют значения. Но думаем, что в VI столетии они стояли не ниже многих других гипотез и что на них нельзя смотреть, как на ничем не управляемый полет фантазии. Само представление земли в виде продолговатого четырехугольника для географии VI столетия имело основание не в своеобразно только истолкованных посланиях
—498—
Св. ап. Павла, но и в собственных наблюдениях. Александрийские путешественники того времени гораздо более и далее ездил на восток и на запад от своей родины, чем на север и на юг. Пространство от Гибралтара до Китая, ведь, несравненно значительнее расстояния от Дуная до Эфиопии. Предположение Козьмы, что на западе и севере мира находятся возвышения, за которыми солнце скрывается при своем движении по небу, есть примитивное объяснение восхода и заката, для своего времени не лишенное правдоподобия. Его предположение, что на севере есть громадная конусообразная гора, за вершиною которой солнце ходить летом, за основанием (гораздо на большее время скрывающим солнце, чем вершина) зимой, когда оно движется ниже, является остроумными объяснением различной продолжительности дней и ночей в различные времена года. Его гипотезы очень просто и ясно объясняли астрономический явления. Они оказались неверными, но сколько еще гипотез, которые существуют теперь в науке, окажутся совершенно несостоятельными. Неужели они заслужат только глумление?
Но, во всяком случае, если над кем смеяться, то более заслуживает смеха не тот, кто предложил несостоятельное объяснение, а тот, кто ему поверил. В этом отношении любопытно, что космологическая концепция Козьмы не встретила сочувствия в Византии. Зато на католическом западе они пользовались большим распространением. Любили и на Руси почитать «книги о Христе объемлюща весь мир» или «книги Козьмы нарицаемого Индикоплова, избраны от божественных писаний благочестивыми и повсюду славимымым кир Козьмой», но на Руси было не много книги, и образованию стояло низко. Неудивительно, что и книги Козьмы были здесь жадно глотаемою духовной пищей. Но почему запад тяготели к его космографическими идеями? – мы ответим на этот вопрос немного ниже.
Теперь отметим еще одну и последнюю погрешность Ортолана в исторической части его труда. Говоря о том, где св. отцы помещали ад и paй, и, отмечая, что ад они обыкновенно предполагали находящимся в центре Земли, Ортолан прибавляет (р. 123), что рядом с адом они помещали чистилище. Но кто из восточных отцов дал ему такую топографию? Он не приводит ни одной цитаты, но, вообще, для ознакомления с эсхатологическими доктринами отцов отсылает читателя к курсу Догматики Суареца. Однако, не обращаясь к Суарецу, уже из книги Ортолана можно узнать, почему он приписал изложенные представления св. отцам. «Рядом с адом, – говорит он, – они (св. отцы и вообще церковные писатели) помещали чистилище,
—499—
потому что большинство отождествляло его очистительное пламя с тем, которое будет жечь в жилище вечных мучений», т. е., говоря иначе, св. отцы сливали чистилище с адом, потому что не предполагали существования никакого чистилища. Как католик, Ортолан ищет у восточных отцов учения о чистилище и думает, что они ставили и решали вопрос о том, где оно находится. Не найдя у них этих изысканий, он по своим соображениям определяет, как они должны были решить вопрос, и свое собственное решение выдает за отеческое. Здесь мы наглядно видим, как конфессиональные убеждения препятствовали автору оставаться, безусловно, верным правде.
(Окончание следует).
С. Глаголев
Эрн В.Ф. Природа мысли // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3, с. с. 500–531 (4-я пагин.). (Начало.)
—500—
1. Метод исследования
Мы хотим наследовать природу мысли, т. е. философски выяснить, что такое мысль, каковы объективный и субъективный условия ее возможности?
Чтобы ответить на этот вопрос с полной сознательностью, очевидно, необходимо поставить предварительный вопрос: каким способом мы будем определять природу мысли?
Ведь если мы пойдем путем простого психологического анализа того, что нам известно о человеческом мышлении – мы сразу вступим на абсолютно ложную дорогу901. Никакой психологической анализ не может ничего дать для разрешения вопроса о сущности мысли. Психологический анализ, поскольку он научен, есть частный вид естественнонаучного анализа, и, как таковой, всегда есть констатирование факта, т. е. простое описание некоторой данности в условных терминах той или иной отдельной науки. Очевидно, психологическим методом в исследовании вопроса о сущности и природе чистой мысли мы ничего не достигнем. Если бы даже с полной отчет-
—501—
ливостью и с исчерпывающей полнотой мы описали все виды человеческого мышления, – мышления, взятого как простая психологическая наличность, – это не подвинуло бы нас ни на шаг в разрешении вопроса, что такое мысль сама в себе, в своей внутренней природе и в своем объективном смыль. Самый вопрос: «Что такое мысль для себя самой? Каковы неустранимые качества мысли пред оком самой же мысли?» – есть вопрос сверхпсихологический, неразрешимый средствами описательного метода.
В наше время вряд ли найдутся защитники чисто психологического исследования мысли. Борьба с «психологизмом» – один из наиболее популярных мотивов современного философствования902. В наше время обвинение в «психологизме» равносильно обвинению в нефилософичности. Противники «психологизма» с виртуозностью и взапуски заподазривают друг друга в презренном психологизировании и усиленно бронируются в самую «чистую» нечеловеческую трансцендентальность. В объятиях холодной, нагой, лишенной всяких психологических покровов, трансцендентальности, они надеются найти успокоение от всех мук и терзаний психологизма. Но тут повто-
—502—
ряется старая история. С фарисейской брезгливостью оцеживая самых маленьких комаров, они спокойно глотают самых больших верблюдов. Тот самый психологизме, который ее ненавистью вытравляется ими в деталях и, к сожалению, больше всего – в форме изложения, доведенной до необычайной сухости и бесцветности, – оставляется ими в самых основах их мировоззрения и в исходных пунктах их мысли.
Трансцендентализм исходит из «факта науки», из того «культурного блага, в котором откристаллизовались в течение исторического развития теоретические ценности истины»903. В этом глубочайшей неискоренимый психологизме трансцендентализма, ибо наука есть факте вдвойне обусловленный «психологией». Се одной стороны наука есть факте коллективно психической работы человечества. С другой стороны, наука есть факт сознания в том человеке, который о ней рассуждает, который из нее исходит. На это возражают, что наука берется здесь в чистом, абстрактном виде, как система внутренних закономерностей, как нечто, в чем логически «окристаллизовались теоретически ценности мысли». Но это возражение ни от чего не спасает. Если наука берется не как простой внешний факт, а как закономерная и внутренняя кристаллизация
—503—
теоретических (т. е. логических, а не психологических) ценностей, почему же тогда выбор трансцендентальных философов останавливается на науке и не на науке даже, а только на науках физико-математических? Почему, например, вместо науки не исходят из искусства или из религии? Ведь в культурном благе – искусстве – окристаллизовались в течение веков бесконечное множество теоретических ценностей, который не менее сверхпсихологичны, чем теоретические ценности науки. Не меньшее множество теоретических ценностей скристаллизовались в религии. Во имя чего же наука выхватывается из бесконечной совокупности теоретических ценностей, явленых в истории человечества? Во имя чего наука ставится всему и всем на голову? На это трансцендентализм не без наивности может указать, что он отнюдь не думает ограничиваться одной наукой, что в области трансцендентальных размышлений как Канта, так и большинства кантианцев входят и искусство, этика, религия и история. Но слабость этого указания слишком очевидна. С каким методом трансцендентализм подходит к искусству или религии? Необходимо с методом трансцендентальным. Но тогда пристрастие к науке уже обнаружено. Ведь метод трансцендентальный предполагает примат наук (физико-математических). Ведь метод трансцендентальный получает свое бытие от искусственного и совершенно произвольного превозношения одной группы знаний над всеми другими. В самом деле, стоить попробовать перевернуть отношение, чтобы эта изумительная и, с философской точки зрения, ничем не обоснованная предвзятость трансцендентализма бросилась в глаза. Почему, например, к искусству правомерно подходить с точкой зря трансцендентальной, и почему не правомерно подвергнуть науку и вместе с ней трансцендентализм, играющий роль придворного льстеца при науке, – суду мысли эстетической или суду религиозного чувства? Вместо того чтобы заниматься бесплодным дестиллированием бесконечно конкретных многообразий искусства и религии сквозь трансцендентальные схемы, можно подойти к науке с эстетическим критерием и отыскать вечную красоту в таких образах, как Паскаль, как Ньютон, как Фарадей и в то же время заклеймить эпи-
—504—
тетом пошлости и безобразия идолопоклонство перед наукой с такой силой возросшее к половине 19-го столетия. Прекрасен и величественен неутомимый Галилей904, но ничтожны, скучны и бездарны бесчисленные жертвы «научничества», которое подобно эпидемии охватило половину человечества. Безмерность значения наук физико-математических – для трансцендентализма – с эстетической точки зрения среди других эстетических ценностей займет очень небольшое, хотя и бесспорное место. И почему эта точка зрения и эта переценив менее действительны, менее онтологичны, менее отвечают самым глубочайшим условиям космической жизни? И есть ли тень какой бы то ни было философской основательности в предвзятом и ничем неосмысленном, устранении подобной точки зрения (или точки зрения религиозной) до всякого выбора и в произвольном, выборе именно точки зрения трансцендентальной?
К этим вопросами мы еще не раз вернемся, обсуждая их по существу. Но правомерность этих вопросов, вне всяких сомнений. И вне всяких сомнений неправомерность исключительного произвольного и предвзятого научничества в самом начале исследования, в самой постановке проблем познания. По количеству трансцендентализм не ограничен ничем. Он касается всего и все пытается транецендентализировать. Он из Канта или Платона с одинаковой легкостью может сделать самого настоящего Когена905. Но по качеству он всегда ограничен, ограничен наукой, ущемлен ее, все может воспринимать лишь через ущемленность и условность физико-математических и механических схем.
В этом и заключается глубочайше и психологизм трансцендентализма. В самом деле, на основании чего он
—505—
искусственно выхватывает науку из совокупности жизни? На основании чего со странной догматичностью ко всей совокупности жизни подходить с совершенно условной – механически-статической точкой зрения, почерпнутой из наук заведомо интеллектуалистических? Почему он не может даже подумать о том, что ведь возможно, чтобы эта статическая точка зрения была объявлена фикцией и обольщением – теми, кто совокупность жизни воспринимает онтологически и динамически, sub specie эстетических и религиозных символов?
На эти вопросы может быть только два ответа. Подобный выбор обусловлен или гносеологической концепцией, по которой наука и только наука есть носитель объективных познаний, или же определенным и частным актом воли, по которому приверженец подобных взглядов как бы нутром, не исследуя и не желая исследовать, становится на сторону науки, «за науку» из оппозиции к чему-то неопределенно черному, из оппозиции к средневековью или лучше, к тому мистическому началу жизни, которое в средние века дало наиболее поразительный плоды и которое отнюдь не думало исчезнуть с арены борьбы и продолжаешь свою могущественную, хотя и более потаенную, жизнь и в наши дни, т. е. к Церкви.
И тот, и другой ответ одинаково слабы перед лицом критической мысли. Ибо ответь первый, чтобы приобрести философскую правомерность, нуждается прежде всего в таком сознательном обоснований которое предшествовало бы трансцендентальному методу и было, поэтому, независимыми от него. Другими словами, трансценденталисты, оставивши свою предвзятость, должны доказать прежде всего правильность своего исходного пункта, т. е. исключительность и превосходство физико-математических наук передо всеми иными познаниями человечества. Пока это не доказано ими (а они и не пытаются доказать), их идолопоклонство перед наукой приходится квалифицировать не как гносеологическую концепцию, а как предвзятость волевого решения. Это и есть второй ответ. Здесь психологизм становится явными и слишком бросающимся в глаза. Я вполне допускаю, что в основу своего мировоззрения можно положить какое угодно жизненное решение,
—506—
но для того чтобы мировоззрение это не превратилось в чистейший психологизм, нужно, во-первых, это волевое решение осмыслить, и, во-вторых, в мировоззрении своем дать место объективному и онтологическому пониманию волевых актов. В противном случай волевая предвзятость будет один из худших видов психологизма, ибо будет сознательным противлением объективной логики и объективному смыслу теоретической истины. Трансцендентализм повинен в этом худшем виде психологизма, ибо свою волевую предвзятость осмыслить не может и посвящает много усилий нефилософскому занятий как можно подальше скрыть ее и поэтому прибегает к такому способу изложения, в бесцветной сухости которого все живые человеческие слова теряют свой понятный смысл и превращаются в какой-то одноцветный калейдоскоп, где все одинаково бессмысленно, потому что все краски стерты, все устойчивые линии уничтожены и передвижение обесцвеченных стеклышек лишено всякой разумной цели. А свою волевую позицию трансцендентализм не может осмыслить не только потому, что позиция эта внутренне неустойчива, в высшей степени ограничена и противоречива, но и потому, что трансцендентализируя человеческую психологию и, считая, поэтому волю за чистый и абсолютный феномен, которому в порядке онтологическом ничего не соответствует, он вообще не может понять и принять никакой воли в ее внутреннем бытии. Абсолютно-статическая точка зрения не может вместить никакого динамизма, и подобно тому, как плоскостное изображение не может вместить трехмерного пространства, перспективно передавая лишь иллюзии его, подобно этому трансцендентализм не может вместить никакой динамики, никакой воли, сохраняя ее лишь в качестве иллюзорного термина, лишенного всякого смысла.
Итак, в трансцендентализм слишком много дурного психологизма. Мы не можем поэтому исследовать сущность мысли методом трансцендентальными. Философ выше пристрастий и выше всякой партийности. Среди борьбы человеческих мнений и человеческих склонностей он должен занимать совсем особое место. Он не может подобно трансценденталистам примениться к науке, к од-
—507—
ной науке, объявляя недействительными все остальное. Тогда он перестает быть философом. У философа должно хватить внимания на все, он должен все взвесить и если из всего Божьего мира, из всего Космоса, он остановится на одном, в этом одном он должен обрасти все. Ἑν καὶ πᾶν! – вот единственный лозунг философа. Между единством философского выбора и комическим Паном не может быть никакого антагонизма. Всякая измена единству – есть гибель цельности, логичности и простоты. Всякая измена πᾶν᾽ у, т. е. космосу в его физической и метафизической совокупности, – есть гибель глубины содержательности и вселенскости. И в том, и в другом случае в философию вторгается партикуляризм и, вместе с ним, неизбежно – психологизм, ибо вся ненавистность психологизма и заключается в его партикуляризме. Психологизм более всего ненавистен для философа, как специфически человеческая точка зрения, как ущемленно-гуманистическое восприятие мира. Ограниченность человеческого сознания метафизически проецируется в бездонные глуби космической жизни и закрывает ее. Вместо живого образа Живой Бесконечности получается скучный и мертвый кумир специфически человеческих измышлений. Вот это доставление на место Целого своей отрывочной психологии и скудных данных среднего, т. е. срединного человеческого опыта есть πρῶτον ψεῦδος психологизма.
Очевидно, единственное средство победить психологизм – это преодолеть партикуляризм. В универсальности и вселенскости внимания философа – единственная гарантия его действительной, а не мнимой свободы от той или иной формы психологизма. Исследовать сущность и природу мысли вне всякой зависимости от психолога – наивного или «критического» безразлично, – необходимо принять во внимание всю мысль в ее целостной совокупности, в ее внутренней жизни, а не во внешних проявлениях. Мысль поэта, мысль художника, мысль святого, мысль ребенка, мысль озаренного интуицией человека имеет каждая в отдельности не меньшее право на самое глубочайшее внимание философа, чем мысль человека науки. Специфически научная мысль есть частный и в совокупности жизненных отношений далеко не первостепенный видь мысли вообще и
—508—
Воспринимать все виды мысли сквозь условность мысли специфически научной – это значит укладывать ее в Прокрустово ложе, обрубая, быть может, самые ценные и важнейшие ее проявления. Считаться с историческими предрассудными – недостойно философа и, очевидно, чтобы наследовать мысль въ ея внутренней природе и в ее внутреннем существе, необходимо совершенно сознательно устраниться от шаблонного и вкоренившегося партикуляризма и занять позицию универсального внимания ко всем особенностям всех видов доступный человеку мысли.
Трансцендентализм более всего внушает к себе уважение тем, что здесь, забывая свой основной, первородный грех, он делает выпад: да ведь подобная постановка вопроса и есть самый настоящей психологизм!
Нужно устранить и это недоразумение и тогда уяснится, как возможен метод исследования и не наивно психологический трансцендентально психологический, а существенно логический трансцендентализм отлично понимает, что, исходя из факта науки, можно добыть чисто теоретические ценности, имеющие сверхпсихологическое значение. И мы видели его предвзятость, т. е. порабощенность психологизмом, не в том, что исходить из факта науки, а в том, что он исходить из ограниченного и вырванного из совокупности жизни и потому искаженного факта науки, и на этой оторванности и произвольной выхваченности строить все свои призрачным сооружения.
Можно исходить из психологии – и не впадать в «психологизм», и можно исходить из математики – и с первого шага запутаться в «психологизме». Психологизм – не в объекте и не в содержании исходного пункта, а – в субъекте и в способе отношения к материалу. Спиноза, переносящий абстрактную геометрическую схему следования на отношение Бесконечного Бога к миру конечных вещей, несомненно, впадает в психологизм и специфически человеческий субъективизм. А Августин, понимающий внутреннюю жизнь по живым данными своей собственной души, не выходить из пределов строгого онтологизма906.
—509—
Поэтому, ставя задачу исследования универсально и освобождая ее из оков школьного партикуляризма, мы этими самым сознательно и принципиально удаляемся от психологизма. И психологизм, всегдашней угрозой висящий над философом, страшен нам не потому, что мы выставили требование исследовать мысль в ее целокупности и внутренней полноте, а потому что постановку эту можно забыть и незаметно ниспасть в процессе исследования в какую-нибудь партикуляристическую точку зрения.
Если от психологизма в самом начале исследования может спасти универсальная постановка задачи, то гарантировать от его дальнейших вторжений может лишь сознательно-логический метод. Универсальная постановка задачи есть формальное преодоление психологизма. Преодоление же его по содержанию, гораздо более трудное, возможно лишь в том случае, если в той самой мысли, которая есть и объект и субъект исследования, мы откроем нечто сверхпсихологическое, нечто по внутренней природе своей логическое. Только сверхфактическая – абсолютная сущность мысли, осознанная и сделанная органом дальнейших исследований, может предохранить от ниспадения в тот или иной видь партикуляризма, и поэтому свобода от психологизма находится в прямой и пропорциональной зависимости от степени философской ясности и сознательности, с какой наследуется внутренняя и абсолютная природа мысли. Существенно-логический метод, которому мы должны следовать, заключается в том, чтоб, отрешившись от каких бы то ни было утверждение для чистой мысли внешних, от какого бы то ни было материального изведанного «что», исследовать самую мысль в ее внутреннем бытии, в ее абсолютных свойствах, конституирующих ее существо. Лишь при условии успешного выполнения этой задачи и действительного нахождения некоторой вечной, неистребимой, сверхфактической и сверхотносительной сущности мысли, возможна какая бы-то ни была философия. Если ни в каком материальном «что»
—510—
критическая мысль не можешь найти исходного пункта907, если для философа не существуешь архимдовского δὼς πῆστῶ и он не может исходить ни из Декартовского cogito ergo sum, ни из Кантовского est mathematics, ergo est philosophia – то очевидно неизбежна дилемма: или философии нет и не может быть, или же истинное, а не кажущееся, бытие свое она получает только в недрах того логического самосознания, которое открывает в психологически данном, человеческим мышлении нечто сверхпсихологическое и сверхфактическое и сверхчеловеческое. Абсолютные права на существование и неистребимый свой смысл философия может почерпнуть только из абсолютной и неистребимой сущности мысли, и, не овладев этой сущностью, не осознав ее и не проникнувшись ею, философия совершенно бессильна перед тем абсолютным философским сомнением, которые познали уже Августин.
Итак, логически исследовать внутреннюю неистребимую природу мысли – вот единственный путь, остающийся для философии.
2. Граница между логическим и психологическим
Единственная и непереходимая граница между логическим и психологическим заключается в понятии истины. Все истинное в мысли уже тем самыми выходить из границ простой психической данности. То, что истинно, уже тем самым сверхэмпирично, сверхфактично и сверхотносительно. Истинная мысль сама в себе унивесальна, неограничена, иметь сверхвременный смысл и значение. Истинная мысль не может быть истинной сегодня и ложной завтра, истинной в Европе и ложной на Сандвичевых островах, истинной в устах Галилея и ложной в устах Паскаля. Обусловленность какой угодно частной истины радом временных и случайных условий не может уничтожить некоторого вечного зерна, присущего каждой истинной мысли. Если мы возьмем примерь, односторонне
—511—
использованный Гегелем, то и в нем найдем эту логическую неуничтожимость истины. «Теперь ночь. Через несколько часов, – думает Гегель, – эта истина станет ложью908. Ничего подобного! Ибо, говоря: «Теперь ночь», я говорю лишь про «теперь», про данный момент, и вовсе не думаю утверждать, что завтра утром будет тоже ночь, а не день, но эта истинность имеет сверхвременный смысл и значение. Завтра я должен буду сказать, что несколько часов тому назад, когда я высказывал это суждение, была ночь. А если бы я был в Америке, где теперь день, я бы должен был сказать: «В Европе теперь ночь, и если я правильно высчитал разницу американского и европейского времени, теперь именно 2 часа». Но от этого истинность высказанного не изменяется. Наконец, если мы возьмем какую-нибудь идиосинкразию, например: мой организм не переносит хинина и потому хинин не оказывает на него длительного действия – то и здесь есть некоторая вечная истина, совершенно не могущая быть уничтоженной ни тем, что организм другого человека прекрасно хинин усваивает и исцеляется им, ни тем, что в другую эпоху жизни я отлично хинин мог усваивать и получать от него исцеление. То, что истинно, тем самым истинно навеки и неизменно, но конечно ровно в том объеме, в том размере и в том смысле, в котором истинность этого утверждения действительна.
Универсальность и неизменность, будучи неотъемлемым признаком всякой истины, характеризуют и истины, по-видимому, наиболее фактические (т. е. по Лейбницу, случайные) и наиболее «субъективные». Так, например, настроение, положим, пережитое мной вчера вечером, и единственное в своем роде, неповторимое по всей совокупности оттенков и обстоятельств и не могущее быть отождествленным ни с каким другим настроением ни какого другого человека, тоже истинно в своей психической наличности, и раз оно было, уже ни силы божеские, ни силы человеческие не могут сделать так, чтобы его не было. Я могу о нем совершенно забыть, ни один человек может
—512—
о нем не узнать и все же, раз оно было, оно записано в вечности и уже не быть не может. Ибо истина его бытия зависит не от моей психической способности не забывать его и не от такой же психической способности других людей помнить его, если я им рассказал о нем, а от собственной неуничтожимости его истины. И эта его истина лишь по содержание отличается от какой-нибудь истины геометрической. Подобно тому, как истинность равенства углов треугольника двум d совершенно не увеличивается от того, что ежегодно нисколько миллионов школьников убеждается в ней, а остается всегда равной себе и неизменной, абсолютно независимо от того сколько людей в ней убеждены, подобно этому и истинность наличности самого индивидуального и неповторимого настроения – неизменно равна себе и независима ни от моей памяти, не от памяти других людей. Разделения между истинами вечными и случайными, сделанное Мальбраншем и особенно подчеркнутое Лейбницем, несущественно. Всякая истина вечна и нет истины случайной. Это различение чисто человеческое и психологическое, а не логическое. Если поэт говорит:
«То, чего в то время
Мы недосказали,
Записала вечность
В темные скрижали»,
то философ может сказать больше: Не только то, чего не досказали, но и то, что высказали, что сделали, что каким бы то ни было образом получило бытие, запечатлелось в вечности неизгладимыми чертами. Достаточно сказать, «это истинно» или «это поистине есть», чтобы для мысли тем самым эти истины стали вечными, неразрушимыми. Вообще, мысль имеет дело только с вечно значительным, с ценностями неразрушимыми и не подверженными изменению. Все, что носить характер мысли (т. е. истинной мысли), тем самым уже вне власти времени, тем самым уже есть некоторое κτῆμα είς ἀεί. Вот почему, когда мысль обращена на поток бывания – на сложную игру изменчивых и бесконечно дробящихся явлений, – она или в бессилии отступает, или же, если она проникает в них, – для нее не может уже остаться ничего «случайного» и
—513—
все, всякое событие мира, безусловно, всякое движете вселенской жизни необходимо приобретает хотя бы скрытую, потенциальную, но долженствующую и могущую раскрыться вечную значительность.
Граница между «логическими», и психологическими – намечается прочно и отчетливо. Все, что в мышлении только психологично, тем самым лишено неуничтожимого смысла, вечной значительности. Психологизм всегда есть иллюзия логического. И способ разрушить эту иллюзию – это показать в составе мировоззрения, обусловленного психологизмом, отсутствие указанных признаков логического универсальности и вечной значительности. Итак, граница между психологическим и логическим обозначается понятие истины. Истинной может быть только логическая мысль и все неистинное в мысли тем самым только «психологична» т. е. представляет собой факт человеческой психологии, т. е. некоторый материал для мысли, но не самою мысль. Если с этой точки зрения мы взглянем на историю человеческой мысли, взятой в ее совокупности, мы увидим, что вся она представляет непрерывную борьбы света и тьмы, «логического» и «психологического». «Научное мировоззрение» или трансцендентальная философия, которые мнят себя наиболее свободными от психологизма – на самом деле являют пример человека, который думает про себя, что он чист, ибо соблюдает субботу и дает десятину с аниса и тмина и совсем непохож на мытарей и грешников. Но достаточно ли этого для того чтобы достигнуть царствия Божия, т. е. царства истины – это большой вопрос, который своевременно поставимте в его глубине. Кажущаяся мнимая «логичность», обличаемая логическим самосознанием, отбрасывается в область только «психологического». И обратно, то, что с мнимой логичностью было отброшено в область психологического, снова возвращается на пылающий очаг логической мысли и логической энергии человечества и опять становится мучительной загадкой. И эта борьба идет не только в области Логоса эстетического – идет неутихающая борьба между великими и гениальными завоевателями божественных первообразов Красоты (искусство большое и объективное) и художниками измышляющими свою собственную «краси-
—514—
вость», которая имеет лишь психологическую ценность эстетической приятности, или, еще хуже, эстетического комфорта и моды (искусство малое, субъективное)909. Точно также, Логос церковного самосознания противополагает себя с отчетливой резкостью специфически человеческим формам религиозности, нарочито придуманным и искусственно созданным. Во всех случаях борьба сосредоточивается вокруг одного понятия. Эстетическая или религиозная правда, теоретическая истина – вот тот меч, которым рассекается во всех случаях правое от левого, вьючное ценное от временно и обманчиво дорогого, объективно-значительное от субъективно-привлекательного. И в нашем вопросе: Определить сущность и природу чистой: логической мысли, вне зависимости от какого бы ни было психологизма – на первый план выдвигается понятые истины. Если именно оно разделяет логическое от психологического, если именно оно конституирует понятие чистой логической мысли, и без него немыслима никакая мысль, то очевидно задача определения понятия истины. Что такое истина? Что разумеет под истиной чистая мысль, предоставленная самой себе и освобожденная от оков школьного и всякого иного догматизма?
—515—
3. Свобода и необходимость в понятии истины
Характерно, что этот вопрос менее всего занимает современных философов. Что такое та истина, к которой стремится современная философская и научная мысль – сказать совершенно невозможно, ибо этого вопроса об истине, – никто не хочет ставить во главу угла. Производится микроскопическая работа над отдельными проблемами и вопросами, но проблема всех проблем и вопрос всех вопросов остается без спинального решения. Предполагается, что результаты частных анализов сами собой, суммируясь, дадут какую-то «истину». И отдельный вопрос об Истине, считается очевидно излишним.
Для философа, который бы хотел возвыситься над порабощающими традициями и вкоренившимися школьными предрассудками такое положение не может не казаться глубоко ненормальным и бедственным. Слишком очевидно, что пренебрежете вопросом об истине бесконечно опасно. Что частные анализы сами по себе могут не дать истины – это не только законный, но и неизбежный вопрос. Всякий анализ предполагает цель, некоторое идеальное «для чего». Анализировать бессмысленно, вне всякой разумной цели, это все равно, что рвать розу по лепестку или резать механически бумажку на мелкие кусочки, неизвестно для чего. Кусочков становится больше, но какой в этом смысл? Всякий анализ имеет скрытую тенденции, некоторое определенное направление, свою внутреннюю структуру. Направление определяется идеальною целью. Но идеальная цель анализа как я всякого процесса мысли есть истина. Частные анализы, различаясь тенденциями и имея неизбежно различные структуры – могут никогда не сойтись, т. е. никогда не дать Истины; они могут бесконечно расходиться в различные стороны в зависимости от разнообразия тенденций и вместо того чтобы приближаться к единству истины будут уходить в бесконечно запутанную и хаотическую множественность. Вопрос об Истине, как о единстве идеальной цели всех анализов, и всех частных проблем философии – есть вопрос неизбежный и неустранимый и только исследование этого вопроса может
—516—
спасти философскую мысль от того хаоса ясных мыслей от той дурной бесконечности частных проблем и анализов, в которых как среди зыбучих песков затерялась светлая и полноводная некогда река философии. Множественность частных тенденций, хаотически разъединенных, и фатально удаляющихся от единства Истины, есть следствие и частный видь дурного психологизма, проникающего новую философскую мысль. И потому, против хаоса партикуляристических тенденции близоруко отъединяющихся от универсализма истинной философии может быть действительным только то средство, которое годно против психологизма вообще, т. е. выяснение понятия Истины – этой идеальной цели и скрытой сущности всякой логической мысли.
Что же составляет кардинальные признаки понятия Истины? Если старательный, но тупой ученик выучить наизусть все доказательства какой-нибудь сложной теоремы, не будучи в состоянии ее понять, никто не скажет, что он постиг «истинность» этой теоремы. Как бы правильно он ни развивал доказательство, как ни правилен был бы результат, к которому доказательство это приводило бы, все равно, теоремы, как внутреннего факта в логическом мышлении ученика не было бы, и истина этой теоремы была бы для него закрыта. Вызубренная теорема имеет для ученика характер внешней необходимости, т. е. логически не имеет никакой цены, никакого значения. Для того, чтобы из психологического (факта бессмысленного заучивания теорема превратилась въ логический факты чистой мысли, необходимо, чтобы ученик некоторыми актом умственной воли, некоторыми усилием мышления и прозрел внутреннюю очевидность данного ряда геометрических выводов, и тогда только и только при этом условии истина данной теоремы становится ему открытой. К бесчисленным теоремам мира, т. е. к бесчисленным теоретическими «истинам» всех родов и к истинам научными, и к истинами моральными, и к истинами философскими, и к истинами религиозным, – мысль человека неизбежно и всегда находится в положении ученика, которому предстоит усвоить сложную теорему. Переходи от внешнего усвоения к внутреннему, от простого понимания
—517—
к логической очевидности, неизбежен, ибо без этого перехода немыслима никакая истина; и переход этот – в понимании, в уяснении внутренней очевидности и внутренней «необходимости».
Итак, намечаются два момента.
Для понимания, т. е. для уничтожения всякой внешности и всякого психологизма в мышлении, нужен некоторый акт умственной воли, некоторое усилие мысли, и только этот акт освобождает мысль от инородных стихий, от затемненности психологизмом и возвращает ее в абсолютно внутреннее состояние, в то «бытие в себе», которое составляет кардинальную черту логической мысли. Во-вторых, понимание состоит в усмотрении внутренней очевидности, или, что то же, внутренней «необходимости». О первом моменте, т. е. об акте умственной воли, мы скажем ниже отдельно, после уяснения второго момента, а теперь обратимся к уяснению понятия внутренней необходимости, взятого вне всякого отношения к акту умственной воли. Этим мы избежим видимости психологизма, бросающейся в глаза философам, которые с бревном психологизма в своем глазу особенно внимательно настроены ко всяким, даже мнимым, сучкам у других.
В понятии «внутренней необходимости» логическое ударение стоить на слове «внутренний». Необходимость внешняя, как мы видели уже, не имеет никакого отношения к чистым процессам логической мысли. Но что такое внутренняя необходимость? Не есть ли это contradictio in adjecto? Противоречивость этого соединения слов можно выразить такой формулировкой: В области внутреннего может ли иметь место необходимость внешняя? Очевидно, сам вопрос заключает нелепость. Но не есть ли это – нелепость фундаментальная, основная, связанная не с случайной формой словесного выражения, а с глубоким и неустранимым существом дела? Другими словами, мыслимо ли от понятия необходимости отделить признаки «внешности» – не уничтожая тем самым это понятие и не превращая его в совершенный non-sens? Понятие необходимости мыслимо и, значить, возможно, если налицо имеются два условия: форма и содержание необходимости. Некоторое «Что», как содержание, должно подчиниться необходимости,
—518—
как форме. Если бы со стороны содержания не было никакого сопротивления форме необходимости – тогда самого понятая необходимости не могло бы получиться, ибо необходимость предполагает «обходимость», которой она и противополагается. Без этого противоположения необходимость немыслима. В таком случае «обходимость» есть существенный признак содержания, т. е. всякого «что» которое подчиняется форме необходимости. Всякое «что», до своего подчинения форме необходимости, есть чистый хаос, абсолютно свободный от какого бы-то ни было подчинения «внешности», совершенно не связанный никаким «как» и потому находящийся в абсолютно внутреннем состоянии. «Обходимость» содержания есть его абсолютная свобода и абсолютная «внутренность», и она-то и есть логический базис понятия необходимости. Но понятие необходимости еще не дано при наличности этого базиса. Оно могло бы получиться лишь в том случае, если бы содержание мысли могло быть действительно подчинено форме необходимости, причем сама эта «подчиняемость» должна иметь также характер безусловной строгости. Тут нелепость июнями «внутренней необходимости» выступает с полной ясностью. В самом деле, как возможно «внутреннее» соединение содержания мысли с формой необходимости? Оно совершенно немыслимо. Если содержание противится форме необходимости, оно не может вступить с ней во внутреннее взаимодействие и свободно покориться ей, а может быть лишь осилено, преоборено формой, т. е. характер соединения формы необходимости с содержанием становится внешним, насильственными и, значить, внутренние необходимости получиться не может.
Если же абсолютно «внутренний» характер содержания в полной и абсолютной мере принимается во внимание, тогда не может остаться места необходимости. То, что в таком случае, получается от соединения форм и содержания, будет внутренним, но не будет уже необходимыми. Все внутреннее – тем самым свободно, самопроизвольно, самопочинно, самотворяще. В таком случай мы имеем лишь видимость необходимости, ее случайную наличность и совершенную реальность свободы, ее себе избирающей.
—519—
Этим самым мы подходим к чрезвычайно существенному признаку в понятии истины – к свободе. Понятие истины должно быть освобождено как от признака необходимости внешней, так и от признака необходимости внутренней. В ней не может быть, никакой связанности, принудидительности, никакой фатальности. Истина всецело и абсолютно свободна. Слово Евангелия: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными» – имеет не только религиозный, но и онтологический смысл. Вне свободы не может быть истины. Свобода есть кардинальный и абсолютно неустранимый признак в понятии истины. Всякое освобождение мысли от подчиненности психологизму, от связанности теми или иными фатально данными точками зрения – в познании и усвоении мыслью истины, и обратно, всякая истина – в свободе, в освобождении. Меры истины, степень усвоения ее – всецело соответствуют мере свободы, степени освобожденности от детерминирующих мысль воззрений, чуждых ее внутренней природе.
Это положение подтверждается и невозможностью противоположного. В самом деле, если мы что-нибудь должны принять с необходимостью – можем ли мы назвать это необходимое истиной? – Никогда. Все необходимое тем самым неистинно. Если б истина была необходимой – все необходимое было бы истиной. Тогда бы вей внушения, все привычное, все гипнотическое в частных и противоречащих точках зрения было бы истинным. – Тогда бы права была софистика, потому что наиболее сильный в слове, в психологическом умении убеждать владел бы наиболее сильной, т. е. наиболее необходимой, истиной. Истина была бы тогда внешней силой, и процесс познания был бы процессом насилья «истины» над мыслью. Но насилие всегда есть насилие. И роды необходимости ничем принципиально между собой не отличаются. Скована ли мысль вещественными или невещественными цепями – это принципиально все равно910. Даже больше: материальное рабство
—520—
есть ничтожный вид рабства перед рабством непостигаемым, метафизическим. Поэтому невидимое, неощущаемое насилие «необходимой истины» над мыслью, метафизически-фатальное определение мысли истиной есть совершенно неприемлемый для мысли кошмар, равный ее полному самоупразднении. Если истина необходима, тогда нет, и не может быть мысли, как логического процесса, тогда мысль всецело психологична, она есть голый факт, абсолютно неосмысливаемое данное человеческой психологии. Только блаженные головы эмпириков вроде Тэна могут совмещать эту точку зрения с искренними разговорами об истине.
Необходимость в процессах мысли всегда есть необходимость в несобственном смысле слова. То, что «необходимо» следует из каких-нибудь посылок, на самом деле вовсе не необходимо. Выводная «необходимость» следствий всецело обусловлена истиной посылок. Если же истина посылок тоже не усмотрена мыслью, а лишь выведена из других положений, вопрос только отодвигается, но отнюдь не решается. В основе всех выводных истин
—521—
должны лежать истины усмотрения все равно какого – опытного или сверхопытного характера. Необходимость логических процессов совершенно мнима и феноменальна Абсолютная правильность их только увеличивает свободу в процессах познания, распространяя свободную истину усмотренного за пределы того, что доступно усмотрению. Кажущаяся необходимость логического мышления есть, на самом деле, торжество истины, как свободы, потому что логическое мышление не творит истину, а лишь детализирует и оформляет ее из неисчерпаемого содержания усмотрений. Логические формы не сковывают истин усмотрения, а только уясняют их. Как бы ни сложны были логические построения и выводы из данного усмотрения, какую бы форму технического совершенства и, значит, «необходимости» им ни придала дискурсивная мысль – необходимость выводов ни в какой степени не властна над свободной истиной усмотрения, лежащей в их основе. И малейшее изменение в усмотрении, – которое живет своей жизнью, – моментально обесценивает все выводы, и их мнимая необходимость бесследно рушится в тот момент, когда истина усмотрения видоизменяется или сменяется другой. Савл гонит христиан и принимает как истину всю богословскую диалектику фарисейства. Но вот дорога в Дамаск родит в нем новое усмотрение истины, и сразу необходимость фарисейской диалектики обличается, как мнимая, производная, непервичная. Но важно, какая истина усматривается. Геометрическое усмотрение Лобачевского может служить так им же примером, как и религиозное усмотрение Савла. Вся евклидова геометрия моментально перестраивается в своей логической ценности, как только усматривается возможность геометрии неэвклидовой.
Первоначальная, ни к чему не сводимая свобода истины есть, таким образом, то, без чего понятие истины немыслимо. Если бы кто-нибудь возразили, что этим в гносеологическое исследование о природе мысли мы вносим спорный метафизический вопрос о детерминизме и индетерминизм – я бы ответил, что зависимость здесь обратная. Не вопрос о свободе истины осложняется общей метафизической проблемой свободы, а, обратно, эта проблема метафизически упрощается и возводится к своему гносеологиче-
—522—
скому корню. Ведь всякое метафизическое исследование о свободе хочет непременно быть истиной, а не времяпрепровождением. Но если бы истина не была свободной, тогда было бы немыслимо никакое разрешение вопроса о свободе. Всякое наследование о свободе, будучи частными видом мысли, возможно лишь на почве уже допущенной свободы истины. И без этой свободы оно есть абсолютный non-sens. Понятие истины само по себе индетерминистично. Оно не нуждается ни в каких гетерономных опорах. Мысль, поскольку она сознает себя мыслью логической, а не фатально, хотя и неведомо как, обусловленными психологическими процессом, – сознанием, тем самым, свою изначальную свободу, и если бы мы, построив невозможную фикцию, представили на мгновение мысль, от которой можно было бы отделить ее свободу, – мы бы имели мысль умерщвленную, – мысль, из которой была бы вынута ее душа, т. е. уже не мысль. Метафизическая, существенная и первичная свобода мысли основательно забыта в наше время (чему особенно содействовало кантианство), а между теми возрождение философы возможно только через сознание этой свободы.
Совершенно иной вопроси, в чем свобода истины, как возможна она. Как бы мы ни решили этот вопрос, истинность выставленного нами положения о свободе, как кардинальном признаке понятия истины должна остаться бесспорной и непоколебимой. Есть мысль – есть свобода. Не было бы свободы, не было бы и самой мысли, как явления логического, а не только психологического. В наше время все говорить о «свободе мысли». Если людями политики может быть уступлено условное право не думать о своих принципах, то, конечно, нельзя быть столь снисходительными к философам. Многочисленные философы нашего времени говорят о свободе философской мысли, взывают к ней и во имя ее анафеманствуют всякое питание философы жизнью, искусством, религией, и при этом остаются спокойно в пределах того самого новоевропейского рационализма, который принципиально и абсолютно отвергает метафизическую свободу мысли. Истина для Канта – трансцендентальная фатальность, принудительная неизбежность, отнюдь не свобода. Но если мысль не свободна в истине,
—523—
которая одна в состоянии освободить ее от порабощения психологизмом, – где же и в чем ее свобода? Мысль не свободна в истине, значит – она не свободна вовсе. Но, если она не свободна вовсе, то не вправе ли мы эмфатическая слова современных философов о свободе их философии, и признать не только плохой спекуляцией, но и дурным спекулированием на нервах читателя?
4. Феноменальное и ноуменальное в логической мысли
Обратимся теперь ко второму моменту, для того чтобы, уяснив его, на основе достигнутых результатов продвинуться дальше к существенному и центральному определении понятия истины. Акт умственной воли разрывает наслоения процессов замкнуто-психологического характера и вводит мысль в обладание ее свободной логической мощью. Это чрезвычайно важный момент. Если бы человеческая душа не обладала умственной волей или, употребляя психологический термин, вниманием – человеческое мышление было бы насквозь психологистично, ассоциативно, фатально. С другой стороны, эта посредствующая сила была бы совершенно излишня, если бы человек обладал разумом высших небесных духов и, чистый от всякого психологизма, весь и всецело пребывал в свободных сферах актуального созерцания. Акт умственной воли есть то, что освобождает человеческое мышление от порабощенности ассоциативными рядами, что возводит мысль к ее собственной, изначальной свободе: другими словами, акт умственной воли есть явление и действие самой мысли, никоторый феномен логической энергии в таком психологическом существе, как человек или, говоря определеннее, эпифания Божественного Логоса.
Кантианство и мимо этого вопроса проходить самым беспечным образом, не замечая, в какие вопиющие противоречия это его вовлекает.
Кантианство феноменализирует целиком душевную жизнь. Безусловно, все содержание душевного опыта объявляется чистым феноменом, причем под феноменом разумеется не проявление ноумена, а, в полном противо-
—524—
речии с логической идеей феномена, – абсолютная отрешенность от ноумена, за которым утверждается безусловная и фатальная неявляемость. Это означает ни больше, ни меньше как коренное отрицание способности человека к логической мысли. Мы натыкаемся здесь на коренную атонию кантовской философии, которая всей своей тяжестью обрушивается, прежде всего, на «критическое» предприятие самого Канта.
В самом деле, Кант решительно утверждает: «Время есть априорное формальное условие всех явлений вообще. И это утверждение есть одна из неустранимых основ, на которых стоить и с уничтожением которой падает все здание кантианства. «Все» – это значит явления внешние и внутренние. Все «определения души» принадлежат к «числу внутренних состояний, которые подчинены формальному условию внутреннего наглядного представления – именно времени. Время становится формальными условием всех явлений, вообще, именно потому, что есть формальное условие «внутренних состояний», через которые нам даны и явления внешние, т. е. пространственные. Но если все содержание душевного опыта феноменализируется через необходимое отнесете ко времени – тогда феноменализируются и логические процессы нашей мысли, тогда подчинена формальному условию душевного опыта, т. е. времени, и сама логическая мысль, т. е. тот орган, которым оперирует критицизм при своем философском самооправдании. Но мысль подчиненная потоку времени и им уносимая, но логические процессы, объявленные психологическими феноменом, – это есть уже явная и абсолютная редукция ad absurdum.
Очевидность абсурда не требует дальнейших доказательств, но в виду поразительной слепоты на этот абсурд со стороны тех, кто его разделяет, я считаю не лишними добавить несколько разъяснений.
Кант говорит: «Мы представляем временную последовательность с помощью бесконечно продолжающейся линии, в которой многообразие составляет ряд, имеющих лишь одно измерение и умозаключаем от свойств этой линии ко всем свойствам времени, за исключением лишь того,
—525—
что части линии существуют все вместе, тогда как части времени существуют друг после друга»911. Попробуем же представить конкретно логическую мысль подчиненной времени, которое имеет одно измерение. Для наглядности возьмем пример Канта. Дано разнообразное в ощущении, например, камень. Как могу я воспринять его, как единый предмет, именно как камень. Ощущение дано мне, т. е. есть мое переживание, и, значит, подчинено формальному условию внутреннего чувства – времени. Значит, это «дано» не может быть признано логически устойчивым, а есть, наоборот, нечто текучее и неустанно плывущее вместе со временем. Оно расщепляется на бесконечное количество элементов «дано» – его частиц, – количество равное количеству частиц времени. А так как время, подобно линии, делимо до бесконечности, то и отдельных частиц этого «дано», следующих друг за другом – тоже бесконечно много. Камня, как единого ощущения, как одного «дано», нет. Есть бесконечное количество частиц чего-то, каких-то атомов материи ощущения, из которой могло бы возникнуть единство восприятия, но которого еще нет. Откуда же получается восприятие? Кант отвечает: Благодаря ряду синтезов. К пассивному «дано» чувственности должно быть прибавлено активное «сделано» сознания, и тогда возникает единое восприятие: «камень». Плохая привычка обходить реальные трудности здесь налицо. Вопрос, который мы поставили о «дано», должен быть поставлен и о «сделано». Как синтез аппрегензии или воображения может стать внутренними фактом логической мысли? И «аппрегензия», и «воображение» или суть акты логической мысли и тогда вместе с ней подчинены формальному условию внутреннего чувства – времени, или же они находятся за пределами логический мысли, но тогда они никак не могут быть приняты ею в свой составь и, значить, внутренними фактом логической мысли стать никак не могут. Эта тяжелая для кантианства дилемма явно абсурдна во втором моменте. Но абсурдность первого момента, более замаскированная, легко обнаруживается вопросом: возможно ли аппрегензия или синтез воображения мыслить подчиненными
—526—
времени? Предположим, что явным чудом бесформенная масса «данного» ощущения мною ухвачена, аппрегендирована, – какой смысл в этом, если аппрегензия над временем не возвышается? Линия имеет одно измерение, причем всякая частица времени необратимо следует одна после другой, – значит, все ухваченное в данный момент уже вытекает, выливается из сознания в следующий. Бесконечным частицам времени должно соответствовать бесконечное число аппрегензий последовательно и в бесконечное время вытесняющих друг друга из одной точки сознания; единого восприятия получиться, очевидно, не может. Тут появляется на сцену синтез воображения. Им восстановляется бесконечно утекающий синтез аппрегензии. Но ведь и синтез воображения, по Канту, должен считаться с формальными условием внутреннего чувства – временем. И синтетически воображенное утекает непрерывно, фатально, безостановочно. Кроме того, вместе со временем оно делится на бесконечное число частиц; как же соединяются эти частицы? Как из текучего множества несвязанных друг с другом бесконечных частиц образуется единый предмет, единое навоображенное и путем воображения упорядоченное восприятие чего-нибудь данного? Для того чтобы объединить элементы навоображенного, которые бесконечно расщепляются временем, нужен новый синтез воображения, но т. к. и он, согласно основоположении Канта, должен быть мыслим, как подчиненный времени, то и относительно него встают те же вопросы. Получается бесплодный, ни к чему не приводящий regressus in infinitum. Ни один синтез, ни один акт логической мысли невозможен и немыслим в сознании, сплошь и абсолютно подчиненном принципу времени.
Отсюда с формальной необходимостью следует, что основоположение Канта, по которому время признается необходимыми и абсолютными условием, внутреннего чувства», – должно быть признано ложными и совершенно не отвечающими кардинальному и совершенно неопровержимому факту – логичности человеческого сознания и его способности к нормативной мысли, к мысли имеющей вневременное значение. Кант зашел в явный тупик. Сознание превратилось для него, в виду его ложного основоположения о времени, – в мате-
—527—
матическую точку. Вся душевная жизнь должна быть мыслима подчиненной времени. Но время, и как линия, имеет одно измерение. Сам Кант оговаривает, что единственное различие, вносимое им в аналогии времени и прямой линии, – заключается в том, что «части линии существуют все вместе, тогда как части времени существуют друг после друга». Но если каждая частица времени существует действительно лишь после другой, тогда в сознании, в каждый данный момент, может быть действительной (наличной) лишь математическая точка переживания. А так как математическая точка есть величина идеальная, а отнюдь не реальная, ибо не имеет ни одного измерения, и ни в каком реальном опыте по самому понятие своему дана быть не может (ибо всякая материальная точка – хотя бы и психически-материальная – но есть уже точка математическая), то отсюда получается убийственный для Канта вывод: никакое переживание, никакое психическое состояние невозможно и с точки зрения основоположений Канта недопустимо.
Этим доказывается гораздо больше, чем нам нужно для хода мысли. Время не может быть признано формальным условием внутреннего чувства, по крайней мере, в том смысле, в каком это нужно Канту. Время было бы абсолютным условием всякого «определения души» лишь в том случай, если бы сознание было мыслимо как математическая точка. Но так как это немыслимо, то мы должны установить принцип, по смыслу противоположный кантианскому: все реальное в переживании над временем торжествует и его преодолевает в совершенном соответствии с мерой реальности. Другими словами, математическая точка переживания, чтобы стать реальностью душевного опыта, должна превратиться в точку материальную, каковая имеет уже не нуль измерения, а три. Элемент же психически материальный имеет и не три измерения, а неопределенно много, причем количество измерений есть величина переменная, могущая привести к актуальной бесконечности, т. е. к безмерности и всевместимости. Все, что реально в сознании, тем самым надвременно и сверхвременно, но ровно постольку, поскольку реально. Все реальное в душевном опыте имеет степени и,
—528—
сообразно степени реальности, – сверхвременно, т. е. вечно. То, что абсолютно реально в душевном опыте тем самым абсолютно над временем возвышается, т. е. абсолютно вечно. Когда сознание Св. ап. Петра ощутило абсолютную реальность Богочеловека, ему были сказаны слова: «Ты – Петр, и на сем камне созижду Церковь Мою и врата ада не одолеют Ея». Для Канта эти – слова суть иллюзия, потому что сознание Св. ап. Петра, будучи сознанием человеческим, не могло восторжествовать над временем и исповедание Св. ап. Петра, будучи явлением душевного опыта, должно было быть снесено всесильным потоком времени. Но мы видели, что учение Канта о времени, как об абсолютном условии душевного опыта, должно само быть признано иллюзией и эти слова Христовы архикритическим философом могут быть приняты как совершенная метафизическая реальность, обоснованная природой и свойствами человеческого сознания. Время есть не абсолютная, а всего лишь относительная форма внутреннего опыта. Не менее реальная форма – есть вечность. Духовный опыт святых, вся жизнь Церкви имеет формой своей вечность. Этой форме подобает метафизическое первенство. Время, – по определению Платона, «подвижный образ вечности», – есть только опрокинутая, вывернутая наизнанку вечность, вечность об одном измерении, и не из него – вечность, а оно – из вечности. Этим объясняется тот гносеологический факт, который мы старались выдвинуть в § 2. Всему временному присуща вечная значительность, и как бы ни было текуча и изменчива сущность времени, какой бы гибнущий и преходящий характер не сообщало время всему, что подвластно ему – тем не менее, оно не в силах окончательно уничтожить реальности, отданной ему как бы в плен и уничижение, но не на уничтожение; оно не в силах «явления» превратить в ничто, ибо сущее, лежащее в основе временных событий и в них являющееся, – непостоянно по своей природе: время есть космическое «Вавилонское пленение» сущего, болезнь и выздоровление сущего, падение и возвращение сущего – космическая и всемирно-историческая модификация и видоизменение сущего. Во внутреннем опыте, – который корнями своими уходить в сущее; – мы имеем не абсолютное господство времени, как
—529—
хотелось бы думать Канту, а трагически-серьезную борьбу Божественной реальности с меоном исчезаемости и гибели. Всякая душевная реальность, всякая психическая наличность есть некоторое торжество над временем, связанность времени чьим-то высшим и более властным. Это торжество может быть минутными, недолговечными, время может обратно отвоевать завоеванное у него, и реальность пережитого может безвозвратно быть свергнута в прошлое. Так происходить постоянно с огромной частью душевной жизни у всех людей. Это может быть названо фактическими и глубочайшими господством времени над содержанием душевного опыта у людей. Но у нас нет никаких оснований называть это господство абсолютными. Реальность превозмогает меон Хроноса, покидающего своих детей. Метафизический смысл всей истории человечества, всей космической жизни – в преодолении времени и его кровного детища – смерти. Преодолевать же время может лишь бытие истинное, метафизически пребывающее, и сознание человеческое может торжествовать над временем, лишь утверждая себя в своей надвременной истине, в своих ноуменальныхъ корнях, в своей метафизической природе. Не все во внутреннем опыте человека временно и преходяще. Возможны и вспышки вечности, возможны умопостигаемые перерывы в потоке исчезания и умирания, возможны чувства, движения воли и мысли, которые никогда не погибнуть, потому что пылающими буквами вписаны в нетленную книгу вечности. Если мы освободимся от кошмара кантианского и безызъятного феноменализирования душевной жизни человека – для нас станут философски-мыслимым и метафизически-возможными и любовь Данте к Беатриче, с земли перенесенная в недра самой вечности, и умопостигаемая властность воли апостолов, связывающей и разрешающей на земле то, что будет связано и разрешено на небесах, и та сила разума, постигающего вечное и навеки, о которой сказано: «Слова, которые Ты дал Мне, Я передали им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя».
Если эти выводы логически вытекают из усмотренной ложности кантовского основоположения о времени, то с логичностью a fortiori мы можем заключить к сверхвременной
—530—
силе сознания, заключающейся в способности человека к логической мысли. Эта сила поистине чудесна, безмерно удивительна. Человек каждым актом логической мысли превосходит сам себя, возвышается над границами своего эмпирического существа и торжествует над временем. В каждом акте логической мысли человеку открывается дверь к самой Истине, развертывается возможность ее усвоения. Акт логической мысли всегда есть движение мысли и направление этого движения – к Истине. Сознание человека может быть бесконечно запутанным лабиринтом, выход из которого на свободу истины может быть делом бесконечно трудным и сложным. И все же, в логической мощи, которая проявляется, прежде всего, в актах усмотрения Логоса и смысла в темном хаосе жизненных содержаний, а затем, до некоторой степени, – и в дискурсивной силе мышления, умозаключающего от одних усмотрений к другим, – человек владеет спасительной нитью Ариадны, таинственно его путеводствующей.
Логические акты не могут быть подвластны времени. Потенциально каждое движение мысли обладает надвременной сущностью и вечной значительностью. Если потенциальное не актуализируется в каждом движении логической мысли, то только потому, что форма мысли не соединяется с содержанием мысли в том совершенном единстве, которое требуется истиной. Частное и ограниченное содержание человеческой мысли – вот постоянное препятствие актуальной ее надвременности. Но потенциальная вечность и значительность мысли от этого не уменьшается. Мысль, поскольку она логична, – надвременна, но в логичности мысли нужно отличать форму от содержания. Абсолютно логическое содержите мысли – есть всецелая и абсолютная полнота Истины. Очевидно, эта логичность есть имманентный, и абсолютный идеал мысли, обыкновенно не достигаемый человеческим мышлением. Форма же логичности есть потенция той же самой всецелой Истины, потенция, которая эмпирически проявляется как непрестанное движение мысли, как ее абсолютная неудовлетворимость ничем относительным, как вечный логический голод, ненасыщаемый никаким частным содержанием. Всякое исхождение из темного лабиринта лжи и незнания всякий шаг, сделанный по следу спасительной нити, – есть та победа над сущно-
—531—
стью времени, которая обладает вечной значительностью и которой, как обращению грешника, радуются на небесах, т. е. в вечности.
Истина может быть достоянием лишь логической мысли, т. е. той мысли, которая каждыми актом своими торжествует над временем и каждыми истинными содержанием своим имеет вневременную значительность. В таком случае, объективное условие усвояемости истины сознанием и условие абсолютное – в способности сознания к логической мысли, в способности торжествовать над потоком времени и исчезаемости. Сознание, усвояющее истину, никогда не может быть мыслимо по Канту, – как абсолютно подчиненное форме, времени и потому сплошь Феноменальное, или по Юму, – как бессмысленный пучок перцепций, т. е. опять-таки как простая группа чистых явлений. Сознание, усвояющее Истину и к ней способное, должно непременно иметь ноуменальную основу, умопостигаемую природу, и только в силу этих качеств может быть органом логической мысли, торжествующей над потоком психических явлений. Результат этой главы может быть сведен к простому силлогизму:
Логическая мысль не осуществима в сознании чисто и абсолютно феноменалистическом.
Сознание человеческое осуществляет логическую, а не какую-нибудь другую, мысль.
Ergo:
Сознание человеческое сверхфеноменалистично, т. е. имеет ноуменальную природу.
Оби посылки совершенно неотрицаемы. Заключение необходимо. Вся тяжесть доказательства неправильности вывода лежит на представителях противоположных воззрений.
Акт умственной воли, разрывающий наслоения процессов, замкнуто-психологического характера и вводящий сознание в обладание мощью логической мысли, есть проявление умопостигаемой природы сознания, которая и делает метафизически возможными эпифанию объективного и сверхвременного Логоса в том stream of thoughts, из которого при обычном психологистическом понимании нет никакого перехода к логической мысли.
Вл. Эрн
(Продолжение следует).
Туберовский А.М. Сладость бытия: (Против самоубийства) // Богословский вестник. 1913, Т. 1, № 3, С. 532–567 (4-я пагин.). (Окончание.)912
—532—
3. Адогматический тип самоубийства.
Впечатления от самоубийства воспитанника семинарии. Без догмата жизнь не возможна. Литературный пример – Плошовский – из романа Сенкевича «Без догмата». Отзывы Ле-Дантека, Джемса и Толстого о ценности веры для жизни. Сладость веры святых.
4. Романический тип самоубийства.
Любовь – высшая ценность жизни. «Гранатовый Браслет» Куприна. Самоубийство не неизбежный исход несчастной любви. Сладость любви Божественной. «Человек, который смеется». «Человек, который плачет». Христианские святые, как обладавшие счастьем любви Божественной Любовь человеческая – образ любви Божественной.
Эпилог: «Быть или не быть?» «В трамвае» Куприна. «Страждущая любовь».
Приложение
Есть два типа самоубийств, в субъективно-психологическом отношении наиболее интересных – два типа, которые обвеяны соблазнительной иллюзией поэзии, поскольку в них потеря вкуса к жизни обусловливается не односторонним растительно-животным прозябанием, а неудовлетворением двух нежнейших запросов души, двух благороднейших ее потребностей: искания смысла жизни и взаимной любви.
Эти два типа я намеренно выделяю еще и потому, что на меня лично они произвели сильнейшее впечатление. Об одном самоубийстве, с романической подкладкой, я уже
—533—
рассказывал. К этому типу я еще вернусь. А о другом, адогматическом самоубийстве буду говорить теперь.
3. Адогматический тип самоубийства
28 Августа 1908 г. по дороге из Петербурга мне пришлось прочитать в одной из газет телеграмму из Калуги следующего содержания: один из воспитанников духовной семинарии, не выдержав экзамена, застрелился. Мой путь лежал как раз в Калугу. Приехав сюда, я узнаю, что факт самоубийства совершился, но мотивировка его совсем иная. В прочитанной мной корреспонденции сообщалось, что мотивом послужил провал на экзамене, а здесь я узнал: юноша, действительно, застрелился после неудачно выдержанного экзамена. Но post hoc вообще назначит propter hoc. Оставленная самоубийцей записка содержала в себе следующее объяснение: «я проанализировали всю свою жизнь и не нашел в ней никакого смысла, из-за которого стоило бы жить». Другими словами, он произвели самоэкзамен, самоиспытание, переоценку всех ценностей и... провалился. Что касается до меня, то я второму объяснению поверил больше, чем первому. «Человек, стреляющийся из-за таких ничтожных вещей, как двойка или единица, не достоин ведь этого царственного титула.
Очень может быть, конечно, что неудача постигшая юношу на экзамене, ускорила развязку, но не она создала трагедию его жизни, не она привела его к роковому концу. Разве смерть Офелии была действительной причиной самоубийства Гамлета? Нет, вся печально-сложившаяся судьба принца, все его скептическое миросозерцание постепенно, шаг за шагом, готовили его к этой развязке. И такое объяснение, хотя в высшей степени печальное, только и достойно человека, как человека. Ведь предъявлять к жизни такие требования, как искать в ней смысла, т. е. оценивать жизнь с точки зрения разума, может только человек.
Правда мысль, отрешенная от веры, от догмата, как лодка, отвязанная от берега, мечется туда и сюда, пока не сдерживаемая никаким жизненным принципом, не разобьется о самое себя. Мысль грызет тогда «ствол жизни», по выражению одного издателя записок самоубийц.
—534—
Пусть человек и не найдет в жизни никакого смысла, пусть в результате такой оценки и получится нуль, уже важен сам по себе факт этого искания, самая оценка, запрос: важно именно потому, что есть существо, которое мыслит, которое разумно, которое не удовлетворяется одною жвачкой и похотью. Животное не может убить себя, но оно и не разумно. И когда я читаю в газетах о подобных самоубийствах из-за видимой бессмыслицы жизни, я всегда нахожу в них тот именно смысл, что они лишний раз запечатлевают собою разумность природы человека, подчеркивают, хотя так и неудачно, бытие в нем души, а не одной только плоти.
Телеграмму о самоубийстве семинариста прочел я, как выше замечено, 28 Августа 1908 года. Этот же день нам памятен восьмидесятилетним юбилеем покойного графа Л.Н. Толстого, того самого Толстого, который тоже едва не лишил себя некогда жизни по той же самой причине. И в этом совпадении я нашел для себя новый повод к размышлению. Кто был этот юбиляр, чествование которого одни принимали, а другие отвергали? Одни видят в нем преимущественно художника, великого писателя земли русской, другие мыслителя-моралиста и т. д. Но для меня Л.Н. Толстой, прежде всего, человек, жадный искатель смысла жизни. Отсюда получается такая параллель. С одной стороны искатель истины, и с другой тоже. Это общее для них. А различное: там – незначительная фигура неизвестного почти никому семинариста, здесь – внушительная импонирующая сиятельность графа, всемирно известного писателя и мыслителя. Там – почти безусый юноша, здесь – почтенный восьмидесятилетий старец, там – преждевременно погибшая жизнь из-за необретения в ней смысла, здесь – сравнительно покойное существование, хотя и не без покушения все же на него со стороны самого искателя. Но и при таком различии между обоими искателями истины в отношении к положению, возрасту и обстоятельствам жизни, нельзя не видеть в них двух родных братьев, одной и той же разумной, хотя и не свободной от ошибок, человеческой природы.
—535—
Горечь отрицания, сомнения, скепсиса, во что обращается иногда наша мысль, отравляя наш духовный организм, заглушает чувство «сладости бытия» и ведет к насильственному прекращению бесцельно-бессмысленного существования. Жить без веры, положительной или отрицательной, без веры в Бога или обезьяну, в Иисуса или Маркса, без догмата бессмертия или потустороннего ничто, мы так же не можем, как и без того, чтобы не думать о «вчера» и «завтра», о выигрыше или проигрыше за карточным столом о «правой» стороне или «левой», когда стоим на распутье. Без догмата наша жизнь сдвигается с устоя и падает невозвратно в бездну небытия.
Классический тип такого догматического самоуничтожения, мы имеем в романе Сенкевича: «Без догмата», в лице главного героя – Леонтия Плошовского.
Этот герой представляет собой довольно распространенный тип «гения без портфеля». Данный эпитет обозначает человека, наделенного от природы недюжинными способностями, но, вследствие общей хаотичности своего внутреннего мира, не посвятившего себя ни одной специальности, не занявшего в обществе никакого определенного положения. По данному себе самими Плошовским определению, они были величиной inproductivite, нечто вроде бесплодной смоковницы, потому что жил без догмата, так как не хотел верить, ибо не умел хотеть. Между тем жить без веры, цельной и всепоглощающей веры, с постоянными скепсисом, неугомонной самокритикой, вместо нее, так же мучительно, по сознания самого скептика, «как птице летать с одними крылом». С другой стороны, и в моральном отношении герой адогматизма был человеком, хотя и порядочным, но порядочным настолько, насколько это было неизбежно по требованию привычек, среды и барского тона, в которых рос и вращался Плошовский.
Чем же он жил в таком случай? Исключительно игрою чувств, всегда капризной, изменчивой, не управляемой ничем, кроме слепого случая, подобно картами.
По капризу чувства Плошовский отверг любимую и любившую его Анелю, а когда она вышла замуж за Кромицкого, он бесился и, переживали муки Тантала от близости
—536—
Анели, по вине его, принадлежавшей не ему, а пошляку Кромицкому.
Не защищенного каким-либо догматом, общественным или религиозным синтезом, Плошовского разъедает до мозга костей скептицизм. «Не знаю, не знаю, не знаю» – таков его девиз.
Но здесь, по словам самого Плошовского, «в этой сознательной немощи человеческого разума, заключается трагедия, не говоря уж о том, что наша духовная природа всегда настоятельно требует ответа на предъявленные вопросы, ибо в этих вопросах заключается все реальное значение человека. Если на той стороне есть что-то вечное, то все несчастья и потери на этой стороне сокращаются до нуля. Человек мечется в этом великом незнании, чувствуя, что если б он мог перейти на какую-нибудь сторону, то ему стало бы легче и спокойнее. Противоположностью Плошовскому выступает в романе Снятынский и сама Анеля. Первый исповедует два догмата, которых не касалась его критика: служение обществу и любовь к достойной женщине. «С этими», – заявляет Снятынский: «жизнь стоить что-нибудь, а без них она – нуль». Что же касается Анели, то она была религиозна и признавала долг верности даже к нелюбимому человеку.
Сравнивая себя с Анелей, Плошовский восклицает: «В конце концов, мы оба страшно несчастны. Но у тебя, Анеля, есть хоть какая-нибудь опора в жизни, есть догмат, а я – точно лодка без кормы и весла... Знаю только одно: чья жизнь не укладывается в тот простой кодекс, которого придерживается Анеля и подобные ей люди и чья душа выкипит из этого сосуда, тот должен смешаться с прахом и грязью». Плошовский до того чувствует себя отравленными адогматизмом, что сам признается: «говорят, люди, умирающие от голода, за несколько минут до смерти уже не могут выносить пищи. Точно также и мой духовный организм не может выносить доброты и утешений. Не могу также выносить и воспоминаний». Исковеркав свою и чужую жизнь, Плошовский в последние минуты жизни Анели, когда, как и при всякой смерти, душа переживает состояние какого-то прозрения, сказал: «я мог бы быть твоими счастьем, а стали несчастьем. Это я – при-
—537—
чина твоей смерти, так как, если б я был другими человеком, если б у меня не было недостатка в жизненных основах, то на тебя не обрушились бы потрясения, которые убили тебя. Это я понял во время последних минут твоей жизни, – понял и поклялся идти за тобой... Если ты умерла вследствие моего «не знаю», то, как же я могу остаться здесь жить?».
Так неразрывно связаны между собой догмат и жизнь, жизнь и догмат, и этот синтез их настолько прочен, неразделим, что, если бы мы спросили:
– Чем же грозит жизнь без догмата? – сама жизнь и ее дубликат, литература, отвечают нам:
– Смертью!
Догмат вообще есть, таким образом, необходимый элемент, логический постулат жизни.
Вопрос веры и неверия догмата и скепсиса не есть только вопрос истины и лжи, а, прежде всего, жизни и смерти, полноты и скудости, а отсюда – сладости и безвкусия, если не горечи, существования. Это признают даже два таких позитивиста по складу своего научного мышления, как проф. Ле-Дантек и Джемс; один – знаменитый биолог, другой – еще более знаменитый психолог; первый, по собственной откровенной исповеди, – атеист, другой – мистик по вере.
Вот что говорит Ле-Дантек в своем «Атеизме» – сочинении, излагающем иррелигиозное credo автора. «Если нет Бога, справедливость есть не более, как наследие предков, как и доброта, как и логика», т. е. все условно, абсолютного нет ничего. Правда совесть не обязательна для атеиста, потому что, как и все, она наследственна, но без совести даже и атеист представлял бы собой тип уж слишком патологический и уродливый. «Я утверждаю, – заключает Ле-Дантек, – что общество логических последовательных атеистов невозможно, потому что, даже признавая заблуждением понятие абсолютной ответственности, это понятие все же остается заблуждением социально необходимым. Наоборот, общество атеистов, обладающих совестью, представляется мне вполне возможным, но на условии, чтобы они не рассуждали и без обсуждения принимали бы данные их совести». Это – выводы социального
—538—
характера, а личного, индивидуального еще тяжелее. Последовательный атеист не может долго жить, они неизбежно приходить к самоубийству по невыносимой тяжести своих страданий Ле-Дантек сознается, что не раз, и он сам покушался утопиться, но каждый раз его спасала какая-нибудь непоследовательность: жалость к семье или что-нибудь другое в том же роде. «Смерть это – триумф неверия!» – восклицает автор «Атеизма». Атеист не боится смерти, потому что он не верит ни в бессмертие, ни в суд. Однако он чувствителен к страданиям и хуже верующего вооружен к перенесению их. Не застрахован он и от унаследованных, подобно совести, страхов перед неизвестным будущим. «Ни цели, ни желания, ни интересов», – такова психология неверия. «Истина, раскрываемая неверием, есть ужас наводящая истина, обесценивающая жизнь и сменяющая жажду существования желанием положить конец не зависящему от нас бессмысленному и бездельному процессу»913.
Послушаем теперь, что скажет другой упомянутый ученый В. Джемс.
«Религия, – говорит он в своей книге «Многообразие религиозного опыта», – придает жизни оттенок очарования, который не может быть выведен рациональным или логическим путем не из чего другого... Когда жизненная борьба кончается поражением, и все рушится вокруг нас, это чувство возвращает к жизни наш внутренний мир, который без этого оставался бы безжизненной пустыней... Религия делает для человека легкими и радостными то, что при других обстоятельствах для него является игом суровой необходимости. Если религия единственная сила, способная выполнить эту задачу, то ценность ее, как проявления человеческого духа, стоить вне всяких сомнений. Она получает значение такого органа нашей душевной жизни, который выполняет функции, каких никакая другая сторона нашей природы не может выполнить с таким же успехом. С чисто биологической
—539—
точки зрения это необходимое заключение, к которому мы неминуемо должны были прийти»914. Таким образом, религиозная вера оказывается в нашей жизни противоядием, благодаря которому можно спасти себя от разочарования, от горечи скептицизма, это – в полном значении слова панацея от всех жизненных зол. «Все исследователи согласны с тем, что религия крепче всего привязывает человека к жизни» (Попов И.В. Самоубийство), так как у нее для этого имеются наиболее могущественные средства: идея бессмертия и загробного воздаяния, также утешительная вера в благой Промысл Небесного Отца. Религия, как об этом свидетельствует ежедневный опыт верующих людей, углубляет чувство жизни и самопроизвольное лишение себя ее становится столь же психологически трудным, даже невозможным делом, как исторжение глубоко ушедшего корнями в землю дерева.
Насколько религиозный догмат спасителен для жизни, показывает, между прочим, пример Л.Н. Толстого. Пример этот в особенности тем и поучителен, что он показан человеком, отрицавшим и глумившимся над догматом Церкви, тогда как сам был спасен именно догматом.
Как известно, в начале 80-х годов прошлого столетия Толстой переживал тяжелый кризис гамлетовского «быть или не быть».
Вот что говорит сам о себе Л.Н. в своей «Исповеди».
«Жизнь моя остановилась... Непреодолимая сила влекла меня к тому, чтоб как-нибудь избавиться от жизни... И вот тогда я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни.
«Вопрос мой тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос,
—540—
лежащий на душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я это испытал на деле». Это вопрос: «есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожился бы неизбежной, предстоящей мне смертью?»
«И я искал объяснения на мои вопросы во весь тех знаниях, которые прибрели люди. И я мучительно и долго искал и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи, – искал, как ищет погибающей человек спасенья, – и ничего не нашел.
«Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что привело меня в отчаяние – бессмыслица жизни есть единственное несомненное знание, доступное человеку...
«Во все время этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, – во все это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорю, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием Бога....
«Помню, говорить Толстой, это было ранней весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал все об одном, как я постоянно думали все об одном и том последние три года. Я опять искал Бога...
«Но понятие мое о Боге, понятие-то это откуда взялось? И... при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл... Так чего же я ищу еще? – воскликнули во мне голос. Так вот Он. Он есть то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь.
«...И сильнее, чем когда-нибудь, все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидали меня...
«И я спасся от самоубийства... И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а та самая старая, та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни.
—541—
«Я вернулся во всем к самому прежнему, датскому и юношескому... Я вернулся к вере в Бога, в нравственное совершенствование и в предание, передавшее смысл жизни... И так как сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить...»
Отсюда Толстой делает следующий многознаменательный для нас вывод: «где жизнь, там и вера; с тех пор, как существует человечество, существует и вера, которая дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же... вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь верит. Если бы он не верил, что для чего-нибудь надо жить, до он бы не жил. Понятие бесконечного Бога, божественности души, связи дел людских с Богом, единства, сущности души, понятия нравственного добра и зла суть понятия, без которых не было бы жизни и меня самого». Так, Толстой догматом веры спас себя от самоубийства и вернул себе здоровое ощущение «сладости бытия».
Лишь под условием веры становится для нас ясным смысл миробытия, явной – тайна жизни, светлым – мрак истории. И, поняв мир и собственную жизнь из веры, не отрицая при этом, конечно, бесспорных данных науки, мы примиряемся с жизнью и спокойно продолжаем свой путь в обетованную землю блаженства. Нам предлагают верить в человека, в добро и другие ценности, чтобы совместную жизнь сделать более человечной, счастливой; точно также должны мы верить и в Бога, как Высшее Существо и Благо, чтобы иметь жизнь более ценной и сладостной. Кто из нас не хотел бы вернуть свое золотое детство с его светлою радостью жизни, не отрекаясь, конечно, от своего настоящего положительного содержания? Единственным средством для этого опять является вера, преобразующая взрослых в детей и вводящая их вместе с детьми в чертоги Царства небесного. И если Ле-Дантек, Джемс, Толстой, – люди не православного образа мыслей, даже, как один из них, атеисты, признают эту сладость веры, то что сказать о святых нашей Церкви; Cepгие, Серафиме,
—542—
Антонии, Феодосии и т. д., об этих светочах веры по преимуществу, этих малютках в мире земном и великанах в Царствии Божием? Не оттого ли им жизнь, не смотря на все тягости и невзгоды, казалась такой легкой и сладкой, не оттого ли так радостно несли они крест на своих бодрых, хотя часто и согбенных, плечах, что вера «спасе» их и шли они в «мире»? И эта сладость их веры, аромат их святого «жития», подобно душистому меду, разлиты по страницам их дивных писаний.
4. Романический тип самоубийства
Другой, романический, тип самоубийства возникает на почве не умственного разочарования в жизни, но сердечного. Высшей опоэтизированности этот тип достигает лишь в том случае, когда в жизни самоубийцы отсутствует грубый роман со всеми его тяжкими и в то же время пошлыми последствиями, когда не ревность или измена, не стыд или страх толкают человека на самоубийство, но сама любовь, царица жизни, становится виновницей смерти.
Психология самоубийства в последнем случае такова. Любовь есть жажда внутреннего объединения с идеалом, сладостного слияния одной души с другой, потребность настроить свою жизненную арфу на все высокие и низкие гаммы, расцветить свою жизнь всеми цветами радуги. Сердце, чувствующее любовь, переживает maximum блаженства. Оно в полном смысле является тогда средоточием жизни, солнцем всего внутреннего мира человека. И вот – представьте себе – это сердце, фокус жизни, поражено, насквозь пробито гранатой отчаяния. На его нежную, способную на все жертвы, бесконечную любовь отвечают равнодушием, иногда насмешкой, убийственной изменой. Этот единственный инструмент, на котором играет сама любовь песню вечности, разбит вдребезги. Свет жизни погас. Спектр радужного счастья померк навсегда. Святилище опустошено... Вместо блаженства уделом стал maximum страдания. И при этом еще чувство полного бессилия, чем-нибудь помочь себе, так как и Архимедов рычаг, способный перевернуть всю землю, не в состоянии повернуть такой маленький шарик, как сердце, в ту или другую сторону. Какой смысл после этого жить? – спрашивает тогда себя человек, и отвечает:
—543—
«Дар напрасный, дар случайный…».
Наилучший пример влюбленного самоубийцы представляет Желтков из рассказа Куприна: «Гранатовый браслет».
Сердце чиновника Желткова «Бог поразил» по выражению Гамсуна, любовью к княгине Вере Николаевне Шеиной. Коллежский регистратор и ее сиятельство – что тут общего? Но для серьезной человеческой любви, что могут значить подобные условности?
В день именин княгини Желтков прислал ей от себя подарок: небольшой ювелирный футляр из красного плюша, заключавшей в себе золотой браслет с ярко-красными гранатами-кабошонами. Вместе с браслетом княгиня нашла в футляре записку.
«Ваше Сиятельство, Глубокоуважаемая Княгиня Вера Николаевна!
Почтительно поздравляя Вас со светлым и радостным днем Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам свое скромное подношение».
«Ах, это – тот!» – с неудовольствием подумала Вера, но все-таки дочитала письмо.
Передав далее историю своего подарка, бывшего фамильной драгоценностью, Желтков продолжал:
«Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку, или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки».
«Умоляю Вас, не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости, семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите» и т. д.
Раздумывая над тем, – показывать мужу или нет присланный подарок, Вера Николаевна боится лишь того,
—544—
что не только «этот несчастный будет смешон», но и она вместе с ним. И опасения эти имели основание. Князь Василий Львович Шеин давно знал об этом обожании своей жены мелким чиновником и как раз именно сегодня потешал гостей между другими юмористическими рассказами и картинками, на которые он был весьма талантлив, повестью: «Княгиня Bepa и влюбленный телеграфист»:
«Начало относится к временам доисторическим» – повествовали князь. «В один прекрасный майский день одна девица, по имени Вера, получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке...
…Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. ...В конце скромная подпись: «по роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга».
«Проходит полгода. В вихре жизненного вальса, Вера забывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались... повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете».
Далее следуют новые превращения. «Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флаконы от духов, наполненный его слезами».
Такую комическую историю сочинил князь Василий Львович. Не так посмотрел на дело «дедушка», генерал Аносов, «тучный, высокий, серебряный старец», к которому сами Радецкий и Скобелев относились с исключительными уважением. Узнав от Веры Николаевны, в чем дело, – как неизвестный маленький чиновник начал преследовать ее своей любовью, еще за два года до ее замужества, – Аносовы сказали ей:
– Может быть, это просто ненормальный малый, маньяк, а – почем знать? – может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую более не способны мужчины».
Справедливым оказалось второе предположение. Вера
—545—
рассказала мужу о подарке. Началось совещание, – как прекратить подобные выходки, – в котором приняли участие: князь, сама Bepa и ее брат. Особенно горячился последний. Он хотел жаловаться губернатору, жандармскому полковнику и т. д., а когда Вера выразила жалость к этому несчастному, он резко заметил:
– Жалеть его нечего. Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвести его на конюшню и наказать розгами».
Вместо всех жалоб и преследований, и князь, и его шурин почли, однако, лучшим объясниться с Желтковыми лично. Найдя его в убогой обстановке, ютившимся чуть не на чердаке, они вернули ему гранатовый браслет и приступили к объяснению, причем по-прежнему кипятился Николай Николаевич. Желтков признался во всем и, между прочим, заявил князю:
– Трудно выговорить такую... фразу... что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это... Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда... Скажите, князь... скажите, – что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно и там так же я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в темницу? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно – смерть». Затем, Желтков попросили у князя позволения переговорить с Верой Николаевной по телефону: «можно ли мне остаться в городе, чтобы, хотя изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза». Князь, более снисходительный, нежели шурин и своим добрым сердцем почувствовавший, что он присутствуете при какой-то громадной трагедии души, – разрешили ему сделать это. Но княгиня Вера Николаевна не захотела говорить с Желтковыми. Она только ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее».
На другой день княгиня Вера Николаевна прочла в га-
—546—
зете о самоубийстве чиновника Контрольной палаты Желткова, мотивированном растратой казенных денег. Это ее ужасно расстроило. Она не знала, что это было: любовь или сумасшествие. Но слова Аносова: «почем знать, может быть, твой жизненный путь, пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь» не выходили у нее из ума.
«В 6 часов пришел почтальон и падал ей письмо от не существовавшего уже в живых Желткова».
Вот несколько выдержек из этого длинного и нежного письма.
«Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам... для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите меня за это... Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя – это не болезнь, не маниакальная идея – это любовь, которою Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: «Да святится имя Твое». Восемь лет тому назад я увидел Вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто воплотилась вся красота земли... Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Боги Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки»...
Княгиня поехала в город (они жили на даче) посмотреть на покойника.
Хозяйка стала говорить ей про Желткова:
– Коли бы вы знали, что это были за чудный человек, пани. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном».
—547—
– Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил», – попросила княгиня.
Хозяйка, между прочим, сообщала княгине, как Желтков попросили ее повесить на икону Матери Божией возвращенный ему браслет.
Когда Вера Николаевна вошла в бывшую комнату Желткова, она увидела в гробу покойника с такими умиротворенными выражением лица, какое раньше она наблюдала на масках великих страдальцев – Пушкина и Наполеона.
Оставшись одна без хозяйки, княгиня Шеина «вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа и правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее», та «большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет»915.
—548—
На Желткове я так долго остановился с тем намерением, чтобы показать всю серьезность и видимую поэзию самоубийства этого типа. Серьезность здесь прямо пропорциональна силе чувства, а поэтичность – его красоте. И я лично считаю счастливым и преклоняюсь перед тем, кто подобным образом может любить женщину. Но мне не приятен конец этой любви. Не следует думать, прежде всего, что такой конец неизбежен, что барьер этот настолько высок, что его нельзя перескочить и остаться в живых, что за неудовлетворением этого чувства уже навек потеряна «сладость бытия». Что конец этот, вообще говоря, не неизбежен, видно на примере Виктории, из повести Кнута Гамсуна того же имени, – Виктории, любив-
—549—
шей Гоганнеса не меньше Желткова и, однако, не убившей, себя, а давшей себе естественно сгорать в огне своих чувств.
Но этого мало. Конечно, только сердцем мы можем чувствовать «сладость бытия, высшая мера которой дана нам в любви. Совершенно верно, что наше сердце как бы сотворено для любви, и притом не одинокой любви, а взаимной. Но ведь нельзя же произвольно ограничивать потребность и способность нашей души к бесконечной любви одним временным, конечным объектом. Пусть святилище нашей души будет опустошено, пусть наша сильная, прекрасная, но человеческая любовь останется без ответа. Ведь за порогом, за внутренней завесой этого святилища человеческой любви лежит еще «святое-святых» любви божественной, куда наш, жаждущий преклонения, дух сам собой рвется, как к своей последней цеди, как к наивысшей святыне, чтобы здесь у подножия трона Бога-Любви излиться в сладостных слезах восторга и растаять от прикосновения, от объятий Всеблаженного. И отсюда уже нас никто не выгонит, такой любви некому оттолкнуть, некому осмеять; она будет взаимна, она будет разделена Самим Богом и на всю вечность. За спектром семи цветов радуги лежать новые спектры лучей ультрафиолетовых и инфракрасных, уловляемых, впрочем, не простым глазом, а особыми аппаратами. Так, за пределами любви человеческой лежит бесконечная область любви божественной, доступной сердцу праведников. Пусть судьба разобьет нашу земную арфу, сломает наше человеческое счастье, мы не смеем из-за этого убивать себя: в нас еще остается несокрушимый никаким ударом божественный оргáн, своими небесными сладкими звуками заглушающий «скучные песни земли»; нам остается еще, если мы имеем веру (здесь-то она и являет всю свою спасительность), надежда вступить в царство новой высшей любви, в царство сверхчеловеческого блаженства.
Носителями такой, божественной любви являются все христианские святые и особенно великие из них, так как и между святыми, как звездами, есть разница в силе блеска. Правда, внешность их по большей части малопривлекательна. Их чаще можно встретить в пустынях, нежели
—550—
в столицах; в пещерах, чем во дворцах. Одеты они в рубища, а не в пурпур, обуты в сандалии, а не шелковые чулки. Пища их – хлеб, а не устрицы, питье – вода, а не шампанское. Лица их бледны, а не нарумянены, из уст их слышатся вздохи, а не взрывы оглушительного хохота. Но – что из этого? Ведь мы говорим о сладости любви, а не о сытости желудка. Желтков был ничтожным чиновником, но чувствовал себя счастливее князя. Кто-то сказал: я хотел бы быть лучше несчастным гением, чем счастливым дураком916. То же самое можно сказать и о любви. Если уж необходим выбор, то лучше быть нищим и любить, чем миллиардером и не знать любви. Лучше жить с обворованным карманом, чем с обокраденным сердцем.
Виктор Гюго дал нам портрет «Человека, который смеется». Подвижник наоборот, являет собой тип «человека, который плачет». «Человек, который смеется», это не уник, а очень распространенный тип. Его можно встречать всюду: в семье, между товарищами, во всяком доме и на каждой улице. Он весел, жизнерадостен, верещит, как сорока, скачет, как белка; общителен, деловит, много кушает, не страдает бессонницей. И вдруг, вы узнаете: этот весельчак отравился или бросился под поезд. Все удивляются: такой жизнерадостный и какой печальный конец? Но ведь он же был «человеком, который смеется». Его внешность была маской. В то время, когда он рассказывал вам смешные анекдоты, он держал в кармане пузырек с ртутью. Когда он вам пел залихватские песни, его сердце грызла тоска, насквозь прокалывала игла сомнения. Внутри он был «человек, который плачет».
Всмотритесь теперь в человека, «который плачет», и Вы найдете; что в душе он – «человек, который смеется». Примером может служить † оптинский старец Амвросий. Всю почти свою долгую жизнь он проболел, жил в тесной келье, кушал, как ребенок, не имел
—551—
отдыха от посетителей. По внешнему облику жизни он «плакали». Но чистая душа его, от полноты божественной любви, была радостной, смеющейся, и эта радость часто проливалась наружу в очаровательных улыбках, в полных остроумия речах, в неземном свете лица. Жизнь подобного человека уже застрахована от всяких самопокушений. Что внутреннее блаженство таких людей не иллюзия, а факт, об этом одинаково говорят и слова, и дела их.
Maкарий Великий, например, говорить о душе человека, вступившего в неизреченное общение любви с Богом, что все в ней становится тогда светом, все – радости... все – веселием, все – любовно... все подобными Христу. Что может быть лучше этого, если ваша душа вся, без остатка, сделается любовью, как сундук, полный чистого золота, как колье, сплошь составленное из настоящих, а не фальшивых, жемчужин.
Пр. Павел Фивейский около ста лет провел в пустыне. На что это указывает? Мог ли человек все сто лет гоняться за тенью, ловить призраки? Конечно, он в себе самом носил сокровище, от сладости, обладания которыми он отверг все другие ценности.
Любовь человеческая есть образ любви Божественной. Счастливь и тот, кто носить на груди портрет любимого; но стократ блаженен тот, кто лобзает в самые уста своего Возлюбленного.
Эпилог
Итак, стоит ли жить?
«Быть или не быть?»
«Проклятый вопрос», волновавший человека за многое множество веков еще до Шекспира и Гамлета н обострившийся особенно теперь, в эпоху эпидемических самоубийств, когда образуются даже лиги самоуничтожения, и пессимизм † философа Гартмана начинает, по-видимому, воплощаться в конкретные формы.
Вот как, скажу сначала, отвечает на этот вопрос, с точки зрения только физического стимула были, один из цитированных выше писателей.
«Угол Невского и Литейного. Зима. Вечер. Оттепель.
—552—
«Влажный туман поднимается из земли и давит улицу. Сквозь его завесу не видно домов, но огромными голубыми и оранжевыми пятнами сияют электрические фонари, багрово горят окна кинематографов, и вдруг вырастают золотые злобные глаза ревущих автомобилей. Пешеходы, экипажи, моторы, трамваи, мальчишки лавами вливаются в этот перекресток, задерживаются и кружатся в нем, как в водовороте и растекаются дальше. Шерсть на лошадях вскурчавлена и дымится. И над людьми колеблются испарения.
«Какая толпа! Точно весь город бесконечными лентами развертывается перед глазами. Говор, смех, кашель, топот, звонки, окрики, гудки и беспрерывное, головокружительное движение. Лишь в самом центре сутолоки, величественный и спокойный, как монумент, дирижирует толпой, при помощи своей белой палочки, краснолицый и толстый городовой.
«...Трамвай останавливается, не доходя до перекрестка. Я вспоминаю о своей усталости и хочу сесть в вагон, отдохнуть. Но, Боже мой, какая дикая, яростная орда осаждает вагонные ступеньки! Угрожающе поднятые вверх локти, цепляющиеся пальцы, теснящиеся бедра, лица, искривленные злостью и нетерпением.
«Господа мужчины! Интеллигенты! Джентльмены! Покровители слабых!.. Вопрос всего в пятачке – не толкайте женщин, не давите детей! Дамы! Вы – украшение мира, лучшие перла в короне Создателя, образ ангелов на земле! Вообразите себе самих себя, лезущих на площадку с мужеством и манерами пожарного солдата, стремящегося по лестнице в огонь. Руки ваши растопырены врозь, шляпка на боку... Подумайте, с какой грустью созерцает это зрелище случайный юноша прохожий – в душе идеалист и романтик.
«Да не из чего было и ссориться. Вагон тронулся, и, посмотрите, все утряслись, умялись, расселись, всем хватило места»... И взгляд автора благодушно перебегает с одного лица на другое. Вот почтенная дама с очаровательным мальчиком. «На нем белая шапочка и белое пальтецо из мохнатого блестящего плюша. Такой прелестный белый медвежонок с розовой мордочкой и умными
—553—
черными глазами». Вот девушка от портнихи в веснушках и с багажом, педагог, «страдающий давнишним расстройством печени». Там сидит «толстый седоусый отставной полковник», барышня, берущая уроки музыки, два подрядчика, старушка, – любительница посутяжничать, аптекарский ученик, акушерка, супружеская чета: он – статистик, она – женщина-врач; оба в пенсне. «В самом углу, слегка прислонившись к стенке, полузакрыв глаза, спрятав руки в муфточку из серенького, шелковистого шеншиля, сидит дама или девушка, с милым-милым ласковым лицом, созданным для улыбки счастья. А против нее златокудрый, румянощекий студент... И вот я вижу, как он и она невинно и невольно ищут взглядов друг друга, встречаются на миг, точно нечаянно, глазами и сейчас же разбегаются, и опять сталкиваются, и опять уклоняются куда-то в сторону»...
То, что каждый из нас наблюдает в трамвае, повторяется, конечно, в большем масштабе, и в жизни. Наша Земля – тоже трамвай, «несущейся по какой-то загадочной спирали в вечность. Вагоновожатый – впереди нее незримое никем, покорное своим таинственным законам, Время. Кондуктор – Смерть.
«Синим билетам конец! – возглашает судьба, просунув голову в дверь.
«У меня как раз синий. «Конец, так конец», – думаю я. И я выхожу из трамвая на улицу, в туман, тьму и грязь.
«Милая барышня с серебристой муфточкой, когда настанет конец вашему билету, ступайте без ропота в темноту. Теперь вас, наверно, дома ждет обычный чай с крендельками и надоевшие картины на стенах, разговор о театре, о литературе, о сегодняшних газетах. А там, на главной станции – почем знать? – может быть, мы увидим сияющие дворцы под вечным небом, услышим нежную, сладкую музыку, насладимся ароматом невиданных цветов. И все будем прекрасны, веселы, целомудренно наги, чисты и преисполнены любви.
«Но об одном умоляю: не сходите с трамвая до полной остановки. Нерасчетливо, глупо и некрасиво».
Этот рассказ Куприна («В трамвае») я рекомендовал
—554—
бы прочитать сполна всякому пессимистически настроенному юноше и барышне.
Если одна физическая «сладость бытия» заставляет светского писателя преждевременно произвольный уход с трамвая жизни назвать «нерасчетливым, глупым и некрасивым», то, что сказать про тот же уход с точки зрения веры и любви, этих высших ценностей, сладостей бытия?
Безумно, безнравственно, безбожно!
«Страна, где мы впервые вкусили сладость бытия», в широком смысле слова это – вся наша земля. Пусть для многих она оказывается юдолью скорби, «страной» проклятья, но наступит время, когда она будет и «страной» благословенья. И тот, кто теперь отказывается делить ее горести, уже не достоин будет разделять ее радости, так как он отрекся от нее.
Но не будут их самоубийством с точки зрения именно «сладости бытия», такие акты добровольного отказа от жизни, как самоотвержение врача, заражающегося чумной бациллой, воина, проливающего кровь за отечество, самоотречение подвижника, мученическая смерть и т. д.? Нет, это не самоубийство! Здесь нет отвращения, ненависти к жизни, желания заснуть навеки. Здесь не отрицается жизнь, а, наоборот, утверждается, во-первых, в отношении к тем, за кого эта жертва приносится, а во-вторых, и в тех, кем она приносится. Ведь, это высшая радость, высшее счастье, высшая любовь – «положить душу свою задруги своя». Поэтому, если жизнь, вообще говоря, прекраснее смерти, то смерть, как жертва любви, прекраснее жизни.
Свою лекцию я окончу следующей картинкой. Перед нами – гора. У подножия ее льется кровь за отчизну и свободу. Ступенью выше – врачи, заражающиеся тифом, холерой, чумой; сестры милосердия, перевязывающие раны под градом боевых снарядов; ученые, производящие рискованные опыты и т. д. Под ними подвижники в пещерах и затворах, на столпах и даже, как птицы, на ветвях деревьев. А еще выше шипят костры, сжигающие мучеников, скрипят зубчатые колеса, дробятся их кости, поднимаются и опускаются обагренные их теплой кровью мечи... А выше всех, на самом темени горы, виден крест с
—555—
распятой на нем за весь мир Божественной Любовью. Назовем ли эту гору – горой самоубийств и этот крест – хоругвей смерти? Нет, это – гора страждущей любви, а –
Этот крест, этот Агнец в крови,
эта Жертва красы бесконечной, –
высший символ небесной любви,
знамя жизни и радости вечной.
Приложение917
В литературе последних дней имеются два произведения, на которые можно смотреть, как на протест против крайне нездорового извращения инстинкта жизни, как на пародию декадентствующего отрицания жизни во имя мнимовящшей красоты смерти. Правда, смерть может быть прекрасной, но не смерть самоубийцы, томящегося жизнью и млеющего от каких-то предвкушений незаслуженного блаженства. Прекрасная, «венчанная» смерть, это – смерть героическая, которая является подвигом любви и совершается не во имя смерти самой по себе, а ради опять-таки жизни, как жертва, а не блажь. – Два произведения, о которых идет речь и которые по затронутой в них теме близко подходят к предмету лекции, суть: «Жизнь и смерть» – И.Д. Боборыкина и «Сказка» – М. Горького.
Первое из названных произведений – повесть Боборыкина: «Жизнь и Смерть»918, выдвигает две пары: Радина и Елену, Кирова и Веру, два противоположные тина людей. Первая пара в неясных декадентских поисках смысла жизни тяготеет к смерти, другая хочет наслаждаться жизнью в ее реальном виде. Автор, разумеется, на стороне второй нары. Настроение же первой пары, особенно Радина, как лидера упадочников, он не прочь даже назвать «психопатическим».
—556—
Характерен диалог Радина с Еленой. Радин беседует о смерти:
« – Она одна не обманет! В ней одной – вечная красота, великая и непроницаемая тайна!
– Что же это?» – наивно промолвила Елена, не понимая, о чем он говорит.
– Смерть – замедленно проговорил он.
– Смерть? Но зачем вы призываете ее в эту минуту?».
Елена, почти влюбленная в Радина, ждала от него слов нежных, ласк, признания, а он ей проповедует о смерти!
– Не страшиться ее надо, – продолжал Радин, – а слипаться к ней всем своим существом.
– Но я жить хочу, Климент Сергеич!».
– Это одно и то же. Но жизнь может грязнить, а смерть никогда».
Этот «любовник смерти», как Боборыкин именует Радина устами одного из действующих лиц новости, подарил Елене изящный томик своих декадентских стишков с «посвящением», в котором одновременно было: и признание в любви, и призыв к «небытию».
Елена, дотоле вся принадлежавшая миру виверка, или прожигательница жизни, как ее называет автор повести, не может понять такого странного настроения поэта.
– Зачем – спрашивает она Радина: тут же, в этом чудном... посвящении – призыв к небытию?
– Зачем? – повторил он. – Но где же наши души могут слиться так всецело, как не там... по ту сторону завесы вечности?..
– Я не знаю, – промолвила Елена.
– Любовь только вестник из того мира, где нет ни печали, ни воздыхания.
Она почти испуганно взглянула на него и спросила:
– Вы... разве не хотите жить?
– Здесь, в этой долине скорби, мы только претерпеваем существование. И какое блаженство... двум душам, который долго искали одна другую, в один и тот же миг очутиться там, где нет ни времени, ни пространства, а только несказанное блаженство».
—557—
Говоря что, Радин как бы вошел в транс: голос его дрожал, глаза закатывались, и Елене от его вида сделалось жутко.
Киров, которому Радин был противен всем своим существом, не только как соперник по любви к Елене, но и как декадент-психопат, увидел в проповеди смерти нечто анархическое.
«– Это – последний крик умственной и нравственной анархии, – предостерегал он Елену.
– Тут что-то озарное, извращенное, или рисовка, под которой нет никакого содержания, необузданная и психопатическая проповедь мертвечины, «нетовщины», худшая секты «Морильщиков» и, тем более, буддийской нирваны».
Киров, присутствовавший на чтении Радиным своих стихов, вступил в полемику с ненавистным ему «психопатом», чтобы освободить Елену из-под гипноза Радина.
«Радин читал: – Кто же из нас не преклонится перед Великой Искупительницей, которую жалкие смертные, как подлые трусы, так страшатся и так клевещут на нее? И на мещански мелкожуирный клич: «Да здравствует жизнь!» – мы ответим другим кличем: «Да здравствует смерть»!
Это окончательно взбесило Кирова.
– Что такое смерть, перед которой вы так восторженно преклоняетесь? Разве это особое существо? – бросил он Радину...
Однако изъял его диспута с Радиным ничего не вышло. Елена продолжала быть очарованной «психопатом». Радин убедил ее развестись с мужем и покончить самоубийством вслед за ним, когда он, уйдя в иной мир, будете звать ее оттуда словами поэта:
«...Сердечный друг, желанный друг!
«Приди, приди!.. Я твой супруг!»
Елена, действительно, вскоре получила депешу с двустишием, написанным рукой Радина. Это означало, что Радин покончил с собой и приглашает теперь Елену следовать за ним.
Бурная сцена разрыва с мужем и особенно депеша так расстроили Елену, что она впала в жестокую истерику. И она, можно думать, последовала бы за Радиным, – такую
—558—
власть он приобрел над ней своим развенчанием жизни и воспеванием смерти, – если бы не Киров. Он дал понять Елене, что все это нелепо, дико, упадочно; как все это полно больной блажи и совсем даже не красиво.
Елена опомнилась. Что же касается последнего из четырех названных лиц повести – Веры, другой виверки, другой «прожигательницы жизни» в доме Подгурских: то, несмотря ни на внешние достоинства этой женщины, ни на сходство, даже родство настроений между ней и Кировым, она не могла его пленить собой, чего ей так хотелось. Ей оставалось лишь вместе с ним ухаживать за Еленой, спасать ее от психопата Радина для любимого ей самой человека.
«Сказка»919 М. Горького еще резче подчеркивает бессмыслие проповеди «ухода из жизни». Если к первому из двух произведений применимо название протеста по характеру главного противника Радина – Кирова, то второе именно является пародией: так много здесь иронии, сатиры и даже сарказма.
«Долго жил Евстигней Закивакин в тихой скромности, в робкой зависти и вдруг неожиданно прославился.
А случилось это так: однажды, после роскошной пирушки, он истратил последние свои шесть гривен и, проснувшись наутро в тяжелом похмелье, весьма удрученный, сел за свою привычную работу: сочинять объявление в стихах для «Анонимного бюро Похоронных процессий».
Сел и, пролив обильный пот, убедительно написал:
Бьют тебя по шее или в лоб, –
Все равно, ты ляжешь в темный гроб...
Честный человек ты иль прохвост, –
Все-таки оттащат на погост...
Правду ли ты скажешь, иль соврешь, –
Это все едино: ты умрешь!..
И так далее в этом роде, аршина полтора».
Свою работу Закивакин понес было в «Бюро похоронных процессий», но там отказали.
—559—
«В гибельном настроении духа ходит он по улицам и вдруг видит: вывеска, а на ней черными буквами по белому полю сказано: «Жатва Смерти».
Еще похоронное бюро, а я и не знал! – обрадовался Евстигней.
Но оказалось, что это не бюро, а редакция нового беспартийного и прогрессивного журнала для юношества и самообразования. Закивакина ласково принял сам редактор-издатель Мокей Говорухин, сын знаменитого салотопа и мыловара Антипы Говорухина, парень жизнедеятельный, хотя и худосочный.
Посмотрел Мокей стишки, – одобрил:
– Ваши, – говорит, – вдохновения как раз то самое, еще ни кем не сказанное слово новой поэзии, в поиски за которым я и снарядился, подобно аргонавту Герострату...
Конечно, все это он врал по внушению странствующего критика Лазаря Сыворотки, который тоже всегда врал, чем и создал себе громкое имя.
В редакции Евстигнею повезло: стихи его были приняты, под условием подписи псевдонимом. Редактор предложил ему подписаться «Смертяшкиным» ради стиля.
« – Все равно, – сказал Евстигней. – Мне бы гонорар получить: есть очень хочется...
Он был парень простодушный.
И через некоторое время стихи были напечатаны на первой странице первой книги журнала, под заголовком: «Голос вечной правды».
Евстигнея постигла слава поэта. Его стали расхваливать приглашать в дома на свадьбы, похороны и поминки, печатать, читать, благодарить...
Да и сам он стал зазнаваться: вырядился, говорили томным голосом, разводя глаза:
«– Ах, как это пошло – жизненно!».
Прочел заупокойную службу и стал употреблять разные «мрачные» выражения: «всуе» и пр.
Еще более утверждали его в самомнении разные критики, истощавшие его «гонорары» и внушавшие ему:
«– Углубляйся Евстигней, а мы поддержим.
—560—
И, действительно, когда вышла книжка «Некрологи мечтаний и эпитафии желаний, поэзы Евстигнея Смертяшкина», то критики весьма благосклонно отметили глубокую могильность настроений автора».
На радостях «Евстигнейка» даже решил жениться на некоей Нимфодоре Заваляшкиной.
«Она давно ожидала этого и, упав на грудь его, воркует, разлагаясь от счастья:
– Я согласна идти к смерти рука об руку с тобой!
– Обреченная уничтожению! – воскликнул Евстигней. – Нимфодора же, смертельно раненая страстью, отзывается:
– Мой бесследно исчезающий!
Но тотчас, вполне возвратясь к жизни, предложила:
– Мы обязательно должны устроить сильный быт! – Смертяшкин уже ко многому привык и сразу понял.
– Я, – говорит, – конечно, недосягаемо выше всех предрассудков, но если хочешь, давай обвенчаемся в кладбищенской церкви!
– Хочу ли? О, да! И пусть все шафера тотчас после свадьбы застрелятся!
– Все, пожалуй, не пойдут на это, а Кукин может, – он уже семь раз стрелялся. – И чтобы священник был ста-аренький, знаешь такой... наканунный смерти.
Смертяшкин настолько воодушевился, что даже без особого труда стихи сочинил и прошептал их черным шепотом в ухо будущему скелету возлюбленной:
Чу, смерть стучит рукою честной
По крышке гроба, точно в бубен,
Я слышу зов ея так ясно
Сквозь пошлый хаос скучных буден!
Жизнь спорит с нею, лживым кличем
Зовет людей к своим обманам;
Но мы с тобой не увеличим
Числа рабов, плененных ею!
Нас не подкупишь ложью сладкой,
Ведь, знаем мы с тобою оба,
Жизнь – только миг, больной и краткий,
А смысл ея – под крышкой гроба!
—561—
– Как мертво! – восхищалась Нимфодора. – Как тупомогильно!
Она все эти штуки превосходно понимала.
На сороковой день после этого они венчались у Николы на Тычке, в старенькой церкви, тесно окруженной самодовольными могилами переполненного кладбища. Ради стиля свидетелями брака подписались два могильщика, шаферами были заведомые кандидаты в самоубийцы; в подруги невеста выбрала трех истеричек, из которых одна уже вкушала уксусную эссенцию, друзья готовились к этому, и одна дала честное слово покончить с собой на девятый день после свадьбы.
А когда вышли на паперть, шафер, прыщеватый парень, изучавший на себе действие сальварсана, открыв дверь кареты, мрачно сказал:
– Вот катафалк!
Новобрачная, в белом платье с черными лентами и под черной фатой, умирала от восторга, а Смертяшкин, влажными глазами оглядывая публику, спрашивал шафера:
– Репортеры есть?
– И фотограф...
– Не шевелись, Нимфочка...
Репортеры, из уважения к поэту, оделись факельщиками, а фотограф – палачом, жители же, – им все равно, на что смотреть, было бы забавно, – жители одобряли:
– Quel chic!
И даже какой-то вечно голодающий мужичок согласился с ними:
– Charmant!
– Да-а, – говорил Смертяшкин новобрачной за ужином в ресторане, против кладбища: – Мы прекрасно похоронили нашу юность! Вот именно это и называется победой над жизнью!
– Ты помнишь, что это все мои идеи? – спросила нежно Нимфодора.
– Твои? Разве?
– Конечно!
– Ну, все равно:
Я и ты – одна душа и тело!
Мы с тобой теперь навеки слиты.
—562—
Это смерть так мудро повелела,
Мы – ея рабы и сателлиты...».
Не смотря, однако, на такую «глубокую могильность» настроения супругов, не смотря на их частые конфликты, у них родилось дитя – девочка.
Люльку, по настоянию Нимфодоры, заказали в виде гробика, чтобы публика и критика не могли упрекнуть поэта смерти в раздвоении и неискренности.
Нимфодора оказалась дамой весьма хозяйственной: солила огурцы, собирала все рецензии о муже, неодобрительные – уничтожая, а похвальные – издавая отдельными томиками за счет почитателей поэта.
С хорошей пищи она стала женщиной дородной, возбуждавшей в мужчинах роковую страсть, завела домашнего критика, с которыми читала стихи мужа.
«Тот первое время только мычал, а потом стал ежемесячно писать пламенные статьи о Смертяшкине, который «с непостижимой углубленностью проник в бездонность той черной тайны, которую мы, живые, зовем Смертью, а он полюбил чистой любовью призрачного ребенка. Его янтарная душа не отемнилась познанием ужаса безцельности бытия, но претворила этот ужас в тихую радость, в сладостный призыв к уничтожению той непрерывной пошлости, которую мы, слепые души, именуем Жизнью14.
«При благосклонной помощи критики, – по убеждениям он был мистик и эстет, по фамилии – Прохарчук, по профессии – парикмахер, – Нимфодора довела Евстигнейку до публичного чтения стихов: выйдет он на эстраду, развернет колонки направо-налево, смотрит на жителей белыми овечьими глазами и, покачивая угловатой головой, на которой росли разные разности мочального цвета, безучастно вещает:
В жизни мы – как будто на вокзале,
Пред отъездом в темный мир загробный...
Чем вы меньше чемоданов взяли,
Тем для вас и легче, и удобней!
Будем жить бессмысленно и просто.
Будь пустым, тогда и будешь чистым.
—563—
Краток путь от люльки до погоста!
Служит Смерть для жизни машинистом!..
– Браво-о! – кричат вполне удовлетворенные жители. – Спасибо-о!
– А, может, я и в самом деле – гений? – думал Смертяшкин, слушая одобрительный рев жителей. – Ведь, никто не знает, что такое гений; некоторые утверждали же, будто гении – полоумные... А если так...
И при встрече со знакомыми, сталь спрашивать их не о здоровье, а:
– Когда умрете?
Чем и приобрел еще большую популярность среди жителей.
А жена устроила гостиную в виде склепа: диванчики поставила зелененькие, в стиле могильных холмиков, а на стенах развесила снимки с Гойя, – все с Гойя, да еще и Вюртц!
Хвастается:
– У нас даже в детской веяние Смерти ощутимо: дети спят в гробиках, няня одета схимницей, – знаете, такой черный сарафан, с вышивками белым – черепа, кости и прочее, очень интересно! Евстигней, покажи дамам детскую! А мы, господа, пойдемте в спальню...
И, обаятельно улыбаясь, показывала убранство спальни: над кроватью, в форме саркофага, черный балдахин, с серебряной бахромой: поддерживали его выточенные из дуба черепа; орнамент – маленькие скелетики играют могильными червяками.
– Евстигней, – объясняла она, – так поглощен своей идеей, что даже спит в саване...
Евстигней, однако, скоро понял, что из всего этого выходит. Пока он писал стихи о сладости смерти и горечи жизни, его Нимфодора любезничала с критиком, наставляя ему длинные рога.
« – Как это правильно сказано, что для женщин и лакеев нет великих людей! – печально думал Смертяшкин».
Под влиянием таких размышлений, из-под его пера начали выходить стихи иного настроения.
—564—
«Сколько пошлостей и вздора
Написал я, Нимфодора,
Ради тряпок, ради шубок,
Ряди шляпок, кружев, юбок.
Его удерживали дети, которых было трое.
Их надо было одевать в черный бархат; каждый день в десять часов утра к крыльцу подавали изящный катафалк, и они ехали гулять на кладбище, – все это требовало денег.
И Смертяшкин уныло выводил строка за строкой:
Всюду жирный трупный запах
Смерть над миром пролила.
Жизнь в ее костлявых лапах,
Как овца в когтях орла.
– Видишь ли, что, Стегнышко, – любовно говорила Нимфодора. – Это не совсем... как тебе сказать? Как надо сказать, Мася?
– Это – не твое, Евстигней! – говорит Прохарчук басом и с полным знанием дела. – Ты – автор «Гимнов смерти», и пиши гимны...
– Но это же новый этап моих переживаний! – возражал Смертяшкин.
– Ну, милый, ну, наши переживания? – убеждала жена. – Надобно в Ялту ехать, а ты чудишь!
– Помни, – гробовым тоном внушал Прохарчук, – что ты обещал.
Прославить смерти власть
Беззлобно и покорно...
Однажды Смертяшкин, глядя, как его пятилетняя дочурка Лиза гуляет в саду, написал:
Маленькая девочка ходит среди сада.
Беленькая ручка дерзко рвет цветы...
Маленькая девочка, рвать цветы не надо.
Ведь они такие же хорошие, как ты!
Маленькая девочка! Черная, немая
За тобою следом тихо смерть идет,
Ты к земле наклонишься – косу поднимая,
Смерть оскалить зубы и смеется, ждет...
Маленькая девочка! Смерть и ты, как сестры.
Ты ненужно губишь яркие цветы,
—565—
А она косою острой, вечно острой.
Убивает деток, вот таких, как ты...
– Но это же сантиментально, Евстигней! – негодуя, крикнула Нимфодора. – Помилуй, куда ты идешь? Что ты делаешь с твоим талантом?
– Не хочу я больше, – мрачно заявил Смертяшкин.
– Чего не хочешь?
– Этого. Смерть, смерть, – довольно! Мне противно слово самое.
– Извини меня, но ты – дурак!
– Пускай! Никому неизвестно, что такое гений! А я больше не могу... К черту могильность и все это... Я – человек...
– Ах, вот как? – иронически воскликнула Нимфодора, – ты – только человек?
– Да. И люблю живое...
– Но современная критика доказала, что поэт не должен считаться с жизнью и, вообще, с пошлостью!
– Критика? – заорал Смертяшкин, – Молчи, бесстыдная женщина! Я видел, как современная критика целовала тебя в прихожей за шкапом!
– Это от восхищения твоими же стихами!
– А дети у нас – рыжая, – тоже от восхищения?
– Пошляк! Это может быть результатом чисто интеллектуального влияния!
И вдруг, упав в кресло, она заявила:
– Ах, я не могу больше жить с тобой!
Евстигнейка и обрадовался, и в то же время испугался.
– Не можешь? – с надеждой спросил он и со страхом. – А дети?
– Пополам!
– Троих-то?
Но она стояла на своем. Потом пришел Прохарчук. Узнав, в чем дело, он огорчился и укоризненно сказал Евстигнейке:
– Я думал, ты – большой человек, а ты – просто маленький мужчина!
И пошел собирать Нимфодорины шляпки. А пока он мрачно занялся этим, она говорила мужу правду:
—566—
– Ты выдохся, жалкий человек. У тебя нет больше ни таланта, ничего. Слышишь: ни-че-го!
Захлебнулась слюной честного негодования и докончила:
– У тебя и не было ничего, никогда! Если бы не я и Прохарчук, – ты так всю жизнь и писал бы объявления в стихах, слизняк! Негодяй, изломавший мою жизнь, похититель юности и красоты моей...
Она всегда в моменты возбуждения становилась очень красноречива.
Так и ушла она, а вскоре, под руководством и при фактическом участии Прохарчука, открыла «Институт красоты m-me Жизань из Парижа. Специальность – коренное уничтожение мозолей».
Прохарчук же, разумеется, напечатал разносную статью: «Мрачный мираж», обстоятельно доказав, что у Евстигнея не только не было таланта, но что, вообще, можно сомневаться, существовал ли таковой поэт. Если же существовал, и публика признавала его, то это – вина торопливой, неосторожной и неосмотрительной критики.
А Евстигнейка потосковал, потосковал, и, – русский человек быстро утешается! – видит: детей кормить надо!
Махнул рукой на прошлое, на всю смертельную поэзию, да и занялся старым, знакомым делом: веселые объявления для «Нового похоронного бюро» пишет, убеждая жителей:
Долго, сладостно и ярко
На земле мы любим жить,
Но придет однажды Парка
И обрежет жизни нить!
Обсудивши этот случай,
Не спеша, со всех сторон,
Предлагаем самый лучший
Матерьял для похорон!
Все у нас вполне блестяще,
Не истерто, не старо:
Заходите же, почаще,
В наше «Новое бюро»!
Так все и возвратились на стези своя».
—567—
И сколько подобных «психопатов» – Радиных или рогатых «дураков» – Смертяшкиных расплодилось от того, что пресыщенные жизнью люди стали находить какую-то прелесть в самой смерти, как мухи – в мышьяке! Они забыли, что мудрейший царь Соломон, испытав до тонкости утехи земные, признался:
– Суета сует, – все суета!
Лишь одно, впрочем, не «суетно», не может надоесть, не способно повергнуть в горечь отчаяния, в пессимизм смерти, – это остающееся постоянно сладким, умеренное пользование всеми благами при чистой совести, при вере в Бога и любви (Еккл.3:12 и др. – Деян.2:44–47 и подд.).
А. Туберовский
Спасский А.А. Эллинизм и христианство. [<...> 6. Платон и Ориген]. // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 3. С. 568–590. (4-я пагин.). (Продолжение).
—568—
Христиане твердо убеждены, что Иисус явился не как призрак или по виду, но действительно жил среди людей, и на каком основании можно предъявлять обвинение во лжи и обмане к Тому, Кто через явление в мир пришел спасти людей? Так некоторые, приводя ложные доказательства и имея соответственные нравы, подобно врачам, произносящим легкомысленные речи перед больными, увлекаются этой ложью как истиной920; что же неразумного в том, когда восстановлению здоровья близкого человека содействуют с помощью дружбы, и можно ли усматривать что-либо злое в Том, Кто так сильно возлюбил род человеческий, приложил подобные же средства к его выздоровлению, обычно употребляемые без особенного умысла в случайных и известных обстоятельствах? И когда человек теряет ум и сообразительность, разве дурно поступает Слово Божие, когда Оно возвращает потерянный ум, чтобы люди употребляли его на лучшие и полезные дела921?
4. Вопрос о христианском пророчестве922. Христиане могут собрать, если пожелают, у Аристотеля и его после-
—569—
дователей многие ответы и изречения богов, – ответы Аполлона в Дельфах, и доказать их сомнительность, и достигнуть этого результата было бы легко, если на основании Эпикура и его школы могли бы утверждать, что и среди эллинов не наблюдалось недостатка в людях, отвергавших ответы и предсказания богов, каким удивлялась греческая земля. Но даже признавая, что все ответы и изречения богов – не выдумки обманщиков и могут быть признаны за изречения богодухновенных мужей, должно исследовать, действительно ли люди, с полной уверенностью приписывающие предсказания богам, не заблуждаются. Таковы знаменитейшие ответы пифии, где дух предсказания проходит через ее чрево, когда она садится на устье Кастальского (река на Парнасе) источника и здесь предлагает божественные ответы всем вопрошающим. Должно обсудить самое место, избранное для пророчества: не указывает ли оно на нечистый и оскверненный ум этого духа? Он должен проходить чрез нужные и невидимые проходы человеческого тела и, будучи чище всякой женской утробы, возбуждает в душе пророческий дар, который по этим причинам не должно созерцать мудрому человеку, не говорить о нем и не касаться его, и он повторяет этот путь один два раза, не более. Но он продолжает движение каждый раз, как только пифия одухотворяется Аполлоном, чтобы она могла пророчествовать, причем принимающий пророчество выходит из себя и беснуется – признак, показывающий, что это не может быть действием Бога. Человек, увлеченный Духом Божиим, должен сначала в самом себе ощутить силу этого дара прежде, чем испытают ее другие, спрашивающие Бога о предметах общественных или гражданских, здоровье, торговле, образе жизни, и среди них нет ни одного разумного человека, который бы владел достаточным разумом и вообразил бы, как если бы дух снизошел на него923.
Пародия пророчества, нарисованная Цельсом924. В пророках или Сам Высочайший Бог выводился говорящим, или Сын, или Дух провещали Свою волю,
—570—
утверждали и осуществляли ее. Пророки увещевали людей к покаянию, провозвещали будущие события, и потому люди, жившие в их времена, записали их речи, чтобы потомки их, когда они будут читать эти речи, удивлялись божественному учению и внешнему выражению его, и не только почерпали в них наставления и предупреждения, но и пророчества, божественное происхождение которых доказывается исполнением их на деле, употребляли бы к своей пользе, сообразуя свое поведение с наставлениями и послушанием закону. Вследствие этого и заповеди, и наставления, служащие к улучшению жизни их читателей, по повелению Божию изложены ясно и свободно, без всякой темноты, чтобы были доступны и простым людям. Напротив, то, что полно тайны и труда, но понимается, то закон и пророки выразили в притчах и подобиях, загадочных оборотах и образах речи, чтобы читатели, движимые любовью к истине и добродетели, не боялись никаких трудов и охотно предприняли все старания исследовать и изыскать все, что сказано неясного в законе и пророками, и употребить сообразно указанию разума. Цельс ненавидит пророчество и позорит его словами: «Все эти предостережения и увещания выражались в речах, которых никто не мог уразуметь». Цельсу нужно напомнить о пророке, давшем о Цельсе и подобным ему людям такое предсказание: «Откуда пришел к тебе этот бешеный?» (2Цар.9:10). – Положим, что какое-либо событие предсказано Богом; должно ли необходимо верить, что это событие несомненно совершится, если истинный пророк возвестил о нем925? Здесь постановка вопроса не правильна, так как она при выведении следствий приводит к противоположным результатам. Если верно, что истинный пророк провозвестил от истинного Бога, что Сын придет в виде раба, сделается больным и даже умрет, то Бог должен был допустить все эти события, так как невозможно предположить, что истинный пророк мог говорить ложь. Прилагая к делу установленный выше логический принцип, Ориген рассуждает: основание спорного
—571—
вопроса таково: пророки провозвестили, что великий Бог станет рабом, подпадет болезни и даже умрет; по указанному выше логическому методу вытекает такое следствие: пророки никогда таких вещей и не предвещали. Принцип, лежавший в основании таких логических приемов, выражался в следующем тезисе: если первая из двух вещей истинна, а вторая неистинна, потому и первая неистинна. Стоики для изъяснения этого способа заключения давали следующий пример: «Знаешь, что ты умер, значит – ты мертв; знаешь, что ты мертв – тогда ты не умер, так как ты не знаешь, действительно ли ты умер? Или наоборот: знаешь ты, что не умер, значит – ты не умер; знаешь ты, что не умер, тогда ты мертв, так как ты действительно не знаешь, что ты не умер». Таков недостаток аргументации Цельса926. – Подвергая критическому обзору предъявленные Цельсом обвинения о противоречии предсказания Моисея с учением Иисуса из Назарета, Ориген всеми силами старается подобрать какие-нибудь аналогии, напоминающие проповедь Христа. Отношение к богатым: «Много скорбей у праведного и избавит от всех скорбей его Господь» (Пс.31:20). Наиболее близко к поставленному вопросу стоит изречение, взятое из притчей Соломона: «Богатый выкупает жизнь, а бедный не слышит угрозы, где наблюдается порицание богатства и высокомерное отношение к бедным» (Притч.XIII, 8). «Посмотрите на лилии» (Мф.6:28–29; Лк.12:24) – параллель: «Добрый оставляет наследство для внуков, а богатство грешника собирается для праведного» (Притч. Сол. XIII, 23). «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф.5:39) – удачнее: «И подставляй ланиту бьющему тебя, пресыщаясь поношением» (Плач Иер. III, 30). Впрочем, сам Ориген сознается, что он нашел мало материала об отношении закона, данного иудеям, к тому, что наблюдается теперь у христиан в учении Иисуса927.
О Трофонии, Амфиарае и Мопсе Цельс утверждает928, что они всегда позволяют видеть себя в человеческом теле и вполне открывают этот вид без всякого обмана,
—572—
и не только в своем прошлом, но и настоящем, давая понять, что Иисус явился по воскресении как призрак Своим ученикам, глаза которых, так сказать, устремлены в прошедшее, чтобы обмануть зрителей, что Иисус совершил великие чудеса после Своего воскресения. Но нужно обратить внимание на то, сколько ученики Его обратили к Его учению душ, могли переубедить людей все свое поведение устроить по воле Божией и жить, во всем отдавая отчет Господу. Возможно ли предположить, что призрак имел столько силы, чтобы при посредстве его изгонялись злые духи и совершались другие чудеса? Христиане проклинают богов, открывающихся пред взором всякого, и взывают не к призраку и не к идолу, а к умершему, несчастнейшему, чем все идолы (Цельс). – Такие искусственные обороты речи имеют свою пользу, когда нравы и обычаи тех, к кому направляется речь, известны в их правильном виде. Напротив, было бы безрассудством, когда выступают против кого-нибудь и влагают в уста речи, не соответствующие лицам и обстоятельствам. Допустим, что какой-либо варвар, или невежа, или раб, которые совершенно не ведают философии, дозволили говорить себе как философы, тогда должно сказать, что составители речей не опытны в философии и не могли многое усвоить из нее. Допустим, наконец, что некоторые, опытные в божественных вещах люди, дозволили себе говорить языком обычного человека, движимого страстями и живущего в невежестве, то кто был бы этим доволен? Гомер наследовал большую честь у эллинов за то, что никогда то расположение, какое он с самого начала питал к своим героям Нестору, Одиссею, Телемаху, Пенелопе, не изменял, но всегда обсуждал одинаковым образом. Еврипид же был осмеян в комедии Аристофана и на сцене назван был бессмысленным глупцом, так как он учение Анаксагора и других мудрых людей вложил в уста варварских женщин и бедных рабов929.
3. Эсхатология христиан.
—573—
– Христиане учат930: как мы можем познавать Бога, если Он не дает Себя знать посредством чувств? И какое посредство дано для приобретения познания, кроме чувства? – Это голос не человека, не души, а голос плоти. Несравненно дальше были бы они на пути познания истины, если бы взяли себе в пример Геркулеса, Эскулапа, Анаксарха и Эпиктета (Цельс). – Можно ли почитать Геркулеса за бога, удовлетворительный ответ на этот вопрос дают некоторые данные из его жизни: не говоря о позорной работе его у Омфалы, достаточно указать на другое событие его жизни, когда он похитил быка у крестьянина и съел на его глазах, причем крестьянин подвергал его проклятиям и ругани. Говорят, что по поводу этого случая был построен алтарь Геркулесу на месте похищения быка, на котором ежегодно Геркулесу приносилась жертва, сопровождаемая проклятиями и ругательствами по его адресу931. И что достойного сделал Орфей, стяжавший славу у каждого как вдохновенный от Бога муж, и жил ли он добродетельно? Надо думать, что лишь охота Цельса к спорам и желание унизить Иисуса побудили его не осуждать безбожные песни и басни его о богах, хотя Орфей оказывался более достойным подвергнуться изгнанию из благоустроенного государства, чем Гомер, так как он составил более неприличные и позорные рассказы о богах, чем Гомер932. Возгласы Анаксарха Ориген признавал примером, единственно достойным похвалы среди героев, о которых рассказывают эллины; его добродетель у всех людей вызывает похвалы, но всего этого еще недостаточно, чтобы признать его богом. Слова же, произнесенные Эпиктетом933, когда господин
—574—
подвергал его наказанию, не так важны, чтобы их сравнивать с делами и словами Иисуса934.
Разве страдания, понесенные эллинами, могут быть сравниваемы с тем мужественным терпением, какое показал Иисус? Молчание Иисуса, при всех наносимых Ему ударах, болях и биениях, более показало сильную крепость Его души и терпение, чем все, что эллины рассказывают о своих героях. Все чудесные события, происшедшие при страданиях Иисуса, записаны и среди них, как и молчание935, когда Его бичевали и побивали. Он сохранял кротость и спокойствие, когда сделали Ему венец из терний и дали Ему вместо скипетра палку936, и среди всех этих оскорблений Он не высказал никакого оскорбительного и гневливого слова против тех, которые так безбожно и нечестиво обращались с Ним. Движимый великодушием, Он молчал во время Своего мученичества, и всю неправду, какую причинили Ему люди, смеявшиеся над Ним и порочившие Его937, Он мужественно перенес. Какое же сходство можно находить между эллинскими героями и этой величайшей терпеливостью, так ярко выразившейся в смирении и полном молчании, проявленных Иисусом при невыносимых мучениях938?
Воскресение мертвых. Цельс обвиняет христиан, что Бог, как огонь, все сожжет, но он не понимает, что, по христианскому учению, Бог представляет собой всесожигающий и всеочищающий элемент. Было немало греческих философов, учивших о сожжении земли, но во что веровали пророки, это, быть может, давно уже было известно древнейшему народу евреев. Возможно, что огонь, назначенный для испытания, служит, подобно врачебному, для диагноза. Огонь сжигает, но сжигаемое не истребляется, так как в нем нет ничего, подлежащего испы-
—575—
танию. Так, строит ли кто дом на этом основании (Иисус Христос) из золота или серебра, драгоценных камней, дерева, сена и соломы, дело каждого обнаружится, и огонь испытает дело, каково оно есть (1Кор.3:11–14). Священное Писание говорит, что Бог, как огонь кузнеца, и при этом пылающий, к которому приблизиться нельзя, сожжет всех собирающих нечестие и грехи из глубины материи и очистит огнем, чтобы сделать из них железо, цинк и олово (Мал.3:2). Христиане не утверждают, что Бог, как повар, посылает огонь, как это свидетельствует Исаия в словах: «Это не такое счастье, чтобы быть согреваемым огнем, чтобы можно было сожигать»939. Писание, по понятию лучших читателей, обыкновенно из мудрых намерений печальные и неприятные вещи излагает темно и сокращенно, чтобы ими внушить боязнь пред страшными казнями тем, которые никоим образом не могут быть отвлечены от порочной жизни. Однако они не так темны, чтобы вдумчивый читатель не мог решить, действительно ли они имели в виду эти страшные казни, обещанные грешникам940. Все будет сожжено, и только христиане останутся невредимыми, и в том нет никакого чуда, что разделяющих среди христиан такие мнения Писание называет неблагородными мира сего и презираемыми. «Когда мир своей мудростью не познал Бога..., то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1Кор.1:21). Этот род людей не может постигнуть смысла Писаний и не дает никакого труда понять, действительно ли Иисус повелел последовать Писанию (Ин.5:39). Отсюда происходит то, что огонь, посылаемый Богом на мир, и зло, какое приносит он грешникам, они понимают в таком же смысле, как Цельс. Возможно, что первоначальный и буквальный смысл историков, говоривших о наказаниях грешников, т. е. тех людей, которых Писание называет невеждами, презираемыми и слабыми мира сего, имел в виду лишь чрез чувственные представления о будущем суде отвратить их от порока грехов. Но Слово Божие учит христиан тому, что если люди по учению жизни
—576—
и разума совершенно очистились, то Бог не нуждается, чтобы через огонь подвергнуть их испытаниям, если бы кто из них и заслуживал их, так как такие страдания возложены на них из мудрых и святых намерений, насколько справедливость Божия изволила наложить их на таких людей, которые созданы по образу Божию, но не так жили, как этого требовали предписания и природа Божественного образа941.
Писание дает ясные доказательства воскресения человека в его полном составе. «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут и мы изменимся и наши тела станут нетленны» (1Кор.15:51–52), и в Послании к Фессалоникийцам: «Мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предварим умерших, потому что Сам Господь при гласе Архангела... сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут первые и потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках в сретение Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Фес.4:15–17)942. Цельс порочит христианское учение о воскресении плоти, но если кто скажет: как могут воскреснуть мертвые и в каком теле придут? – мы ответим: «Безрассудный! То, что ты сеял, не оживет, если не умрет, но если ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно пшеничное или другое какое, но Бог даст ему тело, какое хочет, и каждому семени свое тело» (1Кор.15:35–38).
Христиане учат, что душа возвратится обратно не в изгнившее тело той же природы, какую она оставила (до воскресения из мертвых), но как совсем «умершее» зерно, которое снова сделается зерном и выпустит колос. Христиане тоже признают, что для Бога не все возможно. Но под этим словом они понимают ни взаимно противоположные вещи, ни то, что противно разуму. Они охотно могут утверждать вместе со своим противником, что Бог не делает ничего враждебного; так как если бы Бог совершил что-нибудь враждебное или противное Его при-
—577—
роде, то Он перестал бы быть Богом; Бог не творит ничего несообразного природе.
Если под термином «против природы» имеются в виду грехи и пороки, то и христиане согласны с тем, что Бог не желает ничего греховного, неразумного, и никто не может утверждать, что все то, что произошло по совету Бога, противно природе, хотя бы рассматриваемое само по себе это и казалось кому-нибудь невероятным. Удерживая единственно возможное значение этого слова, христиане могут сказать, что Бог может создавать вещи выше природы, взятой в таком понимании ее, какое соединяет с ней обычный разум. Бог может, например, возвысить человека над природой и сделать его участником высшей и божественной природы, и Он может удерживать его столь долго в этом состоянии, насколько человек своими делами и поступками желает утвердиться в этом состоянии943.
Так, христиане соглашаются и с тем, что Бог не может делать ничего такого, что для Него неприлично или неблагопристойно, так как перестал бы быть Богом, если бы Он возжелал таких вещей, но они должны так же признать, что никто, утвердившийся через свое нечестие в тех или других страстях, не может воображать, что Бог охотно делает то, что Он может делать, и это должно осуществляться реально. Не страсть к спорам побуждает Оригена проверять Цельса, но только любовь к истине, и он признает полное право за ним, когда он утверждает, что первоначало и источник всякого блага, а не Господь человеческих страстных желаний и необузданных удовольствий, управляет природой совершенной, упорядоченной и доброй. Христиане свободно исповедуют, что Бог не только дает душам бессмертную жизнь, но уже дал в действительности. По всем этим основаниям христиане не легко могут принять изречение Гераклита, «что мертвые подобны навозу», ибо навоз и нечистоты ничему не приносят пользы и извергаются вон, но с лишенными душ человеческими телами дело обстоит иначе, так как в них жила душа, и быть может – добродетельная, и потому хорошо воспитанные и расположенные народы, к каким всег-
—578—
да причисляют себя христиане, отдают знаки почести при погребении усопшего. – Нет ничего безрассудного в той вере, что зерно, посеянное в землю, даст колос, возросший из зерна, который снова произрастет и станет бессмертным. Цельс утверждает, что Бог – высший разум всех вещей, и, по мнению христиан, это – Сын Божий, о Котором один христианский мудрец говорит: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом» (Ин.1:1)944.
6. Платон и Ориген
Учение об общем благе945. Так высоко думающие о высшем благе посещают гавань города и поклоняются там Диане как богине, присутствуя при грубой и невежественной толпе, массами собирающейся на праздник. Они много говорят о природе души, о блаженстве, какое люди наследуют после смерти, и при этом забывают все истины, открытые Богом, и желают ради них приносить в жертву Эскулапу петуха946. Они созерцают невидимое существо Божие и через рассмотрение видимых сотворенных вещей возвышаются к такому состоянию, где можно видеть и познавать один только дух, и несмотря на то, они осуетились в своих мыслях, и их неразумное сердце билось в темной ночи и незнании предметов, относящихся к Богу и почитанию Его. Ясно, что эти люди, столь много воображающие о своей мудрости и познаниях, поверглись к ногам тварного человека, настолько унизились, что вместе с египтянами поклоняются многоногим птицам, ползающим животным, заменили истину ложью и служили твари вместо Творца.
Мудрые и высокоученые среди греков через свое заблуждение впали в столь позорную службу богам, и потому Бог избрал немудрых, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильных (1Кор.1:27). Находящие основу своих воззрений в священных книгах во всяком случае знают, что Бога нельзя описать словами947.
—579—
Платон говорит, что первое Благо открывается душе как свет, исходящий от огня948. Это христианские книги знали еще задолго до Платона. Так, один из древнейших пророков, живший прежде, чем устроено было царство Кира, и сорок человеческих возрастов раньше Кира, провозвестил: «Ты, Господи, мой свет и моя помощь; кого я могу убояться? (Пс.26:1). Слово Твое светит ноге моей и свет стези моей (Пс.118:105). Во свете Твоем узрим свет (Пс.35:10). Воссиял во тьме свет правым (Пс.111:4)». Можно уже из сказанного судить, насколько учение Платона о высшем Благе отличается от того, что пророки возвестили о свете блаженных949.
Платон думает, что он ничего главного в своей жизни не может совершить, если он высшие истины сделает доступными пониманию обычного человека950. Оставляя в стороне вопрос, знал ли Платон более высокие вещи по сравнению с теми, какие изложены в его сочинениях, Ориген находит нужным указать, что христианские пророки не все, что знали, излагали в своих письменах, но многое удерживали в своем разуме. Иезекиилю дан был книжный свиток с текстом, написанным внутри и на обратной стороне и наполненный плачем, стоном и горем. Божественный голос приказал ему съесть этот свиток, чтобы содержание его осталось неизвестным недостойным людям; Иоанн имел подобное видение и поступил так же (Откр.10:9–10). Апостол Павел слышал неизреченные глаголы, какие ни один человек не может слышать (2Кор.12:4). Также и Иисус, Который выше всех, преподавал своим ученикам Слово Божие, когда Он удалялся от народа (Мк.4:34), однако неизвестно, что Он предлагал им, но ученики Его верили, что предложенное им в тайне учение не должно сообщать ни письменно, ни устно простым людям. И потому великие мужи, просвещенные благодатью Божией, должны лучше видеть,
—580—
чем Платон, что может быть полезно для общего сведения, каким способом и формой оно должно осуществиться. Что может быть предложено в литературном произведении и о чем должно умолчать? Об этом различии и учил Иоанн, что он слышал звуки семи громов, многое от них воспринял, но не осмелился ни о чем писать (Ап.10:4)951.
Познание высшего Блага, говорит Платон, доступно немногим, но он не хотел закрывать уста желающим исследовать, что он такими словами хотел возвестить, и не повелевал верить, что Бог именно таков и имеет Сына, Который был послан и говорил с ним952. Аристандр рассказывает, что Платон не был сыном Аристона, а сыном духа, который в виде Аполлона сожительствовал с Амфиктионой, и описавшие жизнь этого учителя рассказывают об этом факте953. И что нужно думать о Пифагоре, о котором повествуется столь много чудес: так, однажды в многочисленном собрании он показывал свое бедро из слоновой кости и сожалел, что не имеет никакого щита, чтобы сокрыть его, выдавая себя за Евфорба; в один день его видели в двух местах954. И кто все, рассказанное о Сократе, пожелает считать за выдуманные чудеса? Сюда нужно причислить лебедя, виденного во сне Сократом, причем учитель, когда он призывал учеников в школу, должен был взывать: «Вот лебедь, которого я видел во сне»955. Что нужно думать о третьем глазе, виденном Платоном во сне956? И разве злобно
—581—
расположенные души, имеющие охоту порочить все, не найдут здесь удобного случая, чтобы все, происходившее с великими людьми, опорочить? Они даже демона Сократа957 считают за выдумку и подвергают насмешке. Христиане не рассказывают ни о каких выдуманных чудесах Иисуса, и у истинных учеников Его ничего подобного не наблюдается958.
Платон указывает средства для достижения истины: первое – речи, второе – образ, третье – наука. В качестве христианских параллелей Ориген противопоставляет Платону голос в пустыне Иоанну Крестителю (Мф.3;2 сл.), называя его похожим на то, что Платон называет именем; выражение Иоанна Богослова, что Слово стало плотью – это платоновская речь. Наименование «образ и идол» христиане считают отобразом человеческой души после того, как Иисус, Логос Божий, отпечатлел черты Своих язв. Можно ли четвертое, науку, сравнить с мудростью совершенных (ср.: 1Кор.2:6)? Ориген передает этот вопрос на обсуждение разумных людей959.
Христиане учат, что мудрость мира сего – безумие у Бога, но разве не говорит и Гераклит: люди судят не по правилам разума, только Бог поступает так; испытуемый человек стоит в таком же отношении к демону (проявлению божественного начала в мире), как дитя в отношении к взрослому (Цельс). – Отсюда видно, что, по учению мудрых людей, дана двоякая мудрость: божественная и человеческая. Божественная отличается от человеческой тем, что божественная часть ее должна быть рассматриваема не иначе, как дар Божий. Бог дарует ее людям подготовленным и достойным того, чтобы принять ее, и преимущественно умеющим отличить мудрость от всего прочего, и потому в своих молитвах они го-
—582—
ворят: твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла (Евр.5:14). Это мнение очень древнее и происходит, как говорит Цельс, от Платона и Гераклита. Учение о смирении заимствовано христианами у Платона960. Цельс не знает, что люди, жившие несравненно ранее Платона, в своих молитвах взывали к Богу: «Не надмевалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое и недостигаемое для меня. И не смирял ли я души моей?» (Пс.130:1–2). Из приведенного места ясно, что можно быть смиренным, но в то же время и при этой смиренности не презренным и униженным, подобным тем людям, наклоняющим голову, падающим на колени, облачающимся в разорванные одежды и посыпающим голову пеплом. Смиренные, о которых говорит пророк, стремились к большему «чудесному», действительно становились высокими и вызывающими к себе удивление, но в то же время и смиряющимися под властной рукой Бога (1Петр.5:6).
Иисус учил (Мф.19:24; Мк.10:25; Лк.18:25), что удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное; и Платон говорил, что невозможно быть в одно и то же время богатым и вместе с тем скромным и добродетельным961. Если бы Цельс был друг и любитель истины, то он должен был бы исследовать, почему это неуклюжее и толстое животное избрано для изображения именно богатых и какой смысл заключается в словах Иисуса: «Путь, ведущий в жизнь, узок и тесен» (Мф.7:14); он должен разъяснить, почему в законе это животное причисляется к нечистым, и обратить внимание на то, как должно понимать слова Писания об игольном ушке и в каких случаях оно упоминает о них. Он должен указать основания для того случая, когда Иисус, восхваляя бедных и карая богатых, имел ли в виду внешнюю или внутреннюю форму их проявления вовне, и всегда ли при этом предполагалось, что бедные несомненно заслуживают похвалу, а богатые всегда подпадают
—583—
наказанию. Никакой человек без всякого различия не будет восхвалять бедных, так как среди них находятся всегда много людей порочных и безбожных962.
Отвечая на рассуждения Критона по поводу заповеди Иисуса Христа: «Кто ударит тебя по ланите, ты подставь ему другую» (Мф.10:32 ср. Мр.5:39)963, Ориген руководится следующими соображениями. Цельс здесь, как и в других местах, если он не может отвергнуть христианского учения, то всегда предпочитает греков, если же учение полезно и спасительно людям, то не все ли равно, находится ли оно у Платона или у какого другого из греческих мудрецов, у Моисея, пророков, в учении Иисуса или Его апостолов. Никто не может воображать, что одно учение лучше потому, что оно написано на греческом языке с выработанными литературными приемами, в изящных выражениях; но разве уничтожится все достоинство сочинения, если христианин пишет свое сочинение без литературных украшений, простым и общедоступным языком? Между тем литературное наследство, дошедшее от иудеев и сохранившееся до нашего времени, отличается красотой, свойственной еврейскому языку, и скромными выражениями. И если кто пожелает сравнить Писание пророков и ученейших среди христиан, то он найдет, что при всем том общем, что они имеют с греческими писателями, их сочинения лучше и удачнее изложены. Это всего лучше можно понять, если сравнить литературную деятельность с пищей. Представим себе сначала хорошую пищу, пригодную для того, чтобы питаться и укрепляться, когда она принимается; с другой стороны – пищу, приготовленную с разнообразными приправами и приятную для вкушающих, к которой не привыкли бедные и земледельцы, вскормленные в скотских дворах; ее вкушают только богатые люди с изысканным вкусом, но можно вообразить себе такую пищу, которая пригодна не только для богатых с их роскошным столом, но и для бедных, земледельцев и для бесчисленного количества нуждающихся в пище для насыщения и укрепления здоровья;
—584—
такая пища должна всегда существовать, и потому люди, обязанные любить всех людей, должны способствовать общему добру, по возможности, подобно врачу, заботящемуся о здоровье всех людей, и быть полезнее миру, чем всякий другой, старающийся поддержать и спасти только некоторых людей964.
Подвергая критике учение Платона о Царствии Божием, Ориген утверждает, что христианские пророки, которые также были иудейскими, ничего не могли заимствовать у Платона, так как жили несравненно раньше его. Слова «все вещи окружают Царя мира и все создано для Него и Он причина всего»965 списаны не у Платона, так как христиане обладают еще лучшими познаниями, чем Платон, учениями, полученными у пророков после того, как Иисус и Его ученики объяснили христианам намерение Духа, говорившего через пророков. Платон не знал ни о чем превышающем видимое небо, но Давид, живший на много лет раньше его, показал, как велико и высоко познание Бога, постигаемое людьми, способными возвыситься над всеми видимыми и земными вещами, и в своих псалмах воспел Бога: «Хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес» (Пс.148:4).
Очень вероятно, что Платон различные понятия, какие он развивал в своем «Федре», заимствовал у евреев, или как некоторые свидетельствуют, читал пророков и из них извлек следующие мысли, – так как никто из наших поэтов не воспел еще места, лежащие выше всех небес, и никто по достоинству еще и не мог воспеть эти места. – Существо, обладающее истинным бытием, не имеет ни цвета, ни формы, ни других свойств, воспринимаемых чувствами, – это одна душа, и она истинно управляет и может созерцаться не иначе, как глазами разума, и все виды науки занимают это место966. Апостол Павел,
—585—
много занимавшийся изучением пророков, постиг все, что находится выше чувственных и сверхнебесных вещей, и в Послании к Коринфянам говорит так: «Страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, так как видимое временно, а невидимое вечно» (2Кор.4:17–18)967. – Не требуется какого-либо особого внимания, чтобы убедиться в том, что Платон под видимыми вещами понимал предметы, открывающиеся чувственному восприятию, а под невидимыми – те, которые усматриваются очами духа и постигаются разумом. Это созерцал уже Павел, и желание, объявшее его постигнуть сверхчувственное, настолько было в нем сильно, что он все свои несчастия и страдания считал легкими и не придавал им никакого значения. Он облегчал и успокаивал свои страдания так, что они казались ему ничтожными по сравнению с созерцаемыми им невидимыми благами, какие обещаны христианам именем великого Первосвященника – Иисуса, Сына Божия, Который благодаря Своей силе и мудрости прошел чрез небеса (Евр.4:14), и тем, которые божественные вещи рассматривают внимательно и в своем поведении согласуются с высшими понятиями, обещал показать путь к познанию высших предметов, сказав Своим ученикам: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам» (Ин.14:18). Это возбуждает надежду у христиан, что они, после того как преодолеют все труды и лишения этой жизни и покончат все споры, будут возведены к самому высшему небу, и после того как здесь из источника, дающего вечную жизнь, насладятся струями познания, двинутся в то место, где воды превыше небес (Пс.148:4) – к славе Божией. Когда они таким образом прославят Бога, то и круговое движение неба не задержит их и они беспрепятственно взойдут к созерцанию невидимого Бога, и это положение будет достигаться теперь не посредством познания Бога и Его дел, а лицом к лицу (1Кор.13:12)968.
—586—
Антихрист969. Цельс обвиняет христиан в безбожном заблуждении и неумении разрешить загадку о Сатане и Антихристе, не зная, что давно уже в книгах Моисея, писавшего ранее Гераклита, Ферекида и Гомера, рассказывается о змее, из которого Ферекид создал своего Офионея, который стал виновником падения первого человека после того, как жена его соблазнила обещанием стать равным Богу и достигнуть высшего блаженства; таким образом и муж был введен в падение. Действующей силой здесь был не кто иной, как злой дух. И тот губитель, о котором Моисей упоминает в книге Исход970, кто другой, как не этот противник (точнее: противолежащий, очевидно – в глубине ада, как равноправное Богу существо – Ормузд и Ариман), который людей, слушающих и не противодействующих его злобе, увлекает в погибель? И этот же самый враг или, как он называется по-еврейски, Азазель является козлом отпущения, когда по жребию решалось, что он, как проклятый за грехи народа, изгонялся в пустыню971. И что еще более, в книге Иова, более древней, чем книга Моисея, рассказывается, что Сатана явился перед Господом и испросил повеление у Него подвергнуть этого святого мужа тягчайшим страданиям: сначала он потерял всех детей и богатство, и потом был поражен ужаснейшей проказой (Иов 4:1–2)972.
Благо бывает двух родов: одно сообщается случайно, другое же по своему существу и природе благо. Между тем, в привлекаемом со стороны благе никогда не бывает недостатка, так сказать, животворящего тела, всегда принимаемого для питания и поддержания (ср.: Ин.6:5). И кто забыл, лишается его, и теряет его по собствен-
—587—
ной вине, так как он животворящий хлеб, содержащий его крылья, и истинное питие, каким он должен смачивать хлеб, потерял. Об этих крыльях премудрый Соломон сообщает следующее, когда он говорит об истинном Божестве: «Устремишь глаза на Него, и Его уже нет, потому что Он сделал Себе крылья и как орел улетел к небу» (Притч. Сол. 23:5). Так как Бог людям, по злобе своей отпавшим от Него, желал добра, то Он указал им место в низшем мире, чтобы предоставить им возможность борьбы, дабы имеющие желание напрягались с целью достигнуть драгоценного камня добродетели. Таким путем они очищаются, как золото и серебро в огне, и если они постараются разумную часть своего существа освободить от всякой нечистоты, то сделаются достойными достигнуть небесных благ или, говоря иначе, возвысятся на вершину главы высочайшего блаженства. Слово «Σατάν», которое в греческом употреблении заменено «сатаной», значит «противник», и всякий, кто порождает грехи и ведет жизнь, не соответственную добродетели, представляет собой противника Сына Божия, этой справедливости, истины и мудрости. Но в первом и точном смысле противником является тот, кто среди всех творений пользовался наибольшим блаженством, потерял свои крылья и ниспал в бездну. Об этом говорит Иезекииль: «Ты был печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты (28:13). Ты совершен был в путях своих, пока не нашлось в тебе беззакония (28:15). Погубил ты свою мудрость и низвержен был на землю для позора (18:19)». Вопрос этот заслуживает серьезных изысканий, и пусть внимательный и точный исследователь Писаний соберет все мысли его, где говорится о зле и его происхождении, чтобы правильно обсудить вопрос: это Цельс и его единомышленники под влиянием этих намерений, вызванных их учением о сатане, вводят в соблазн многих людей и отвращают от познания Бога и Его Слова, или все это учение о сатане Моисея и пророков представляет собой не что иное, как вызванный фантазией сон973.
—588—
Ориген желает сказать еще кое-что об Антихристе, так как Цельс, по всей вероятности, читал о нем то, что сказано Даниилом, написано ап. Павлом и провозвещено Спасителем в Его Евангелии. Как мало выражения лица людей похожи одно на другое, так же мало подобны и их сердца, и отсюда происходит то, что любящие добродетель в отношении к их сердцу не сходны между собой, так как они не все равно преуспевают в добре, и не все по одним и тем же предписаниям поступают; с другой стороны, и живущие в пороках и грехах – одни поступают злее и отвратительнее, чем другие. Отсюда следует – это неопровержимо и должно только об этом удивляться, что среди людей даны две высочайших вершины: вершина добра и вершина зла. Бог по Своему всеведению предвидит все, что касается этих двух исключительных направлений в человечестве, и потому чрез пророков дал понятия людям, чтобы они могли понимать пророков, следовать добру и оберегаться от зла. Существуют два великих образца: образец доброго, по всей справедливости долженствующий иметь преимущество – Сын Божий, другой образец противоположен первому, – это сын злого духа, сатана, называемый диаволом, и так как злое выступает под видом того же добра, то отсюда можно заключить, что зло сильно возрастает и достигнет высшей вершины, и тогда эта злая сила, это порождение сатаны придет со всеми своими властными силами, знамениями и чудесами по действию сатана, своего отца. Помощь, какую доставит им сатана, превзойдет всю силу, какою злые духи ослепляют и обращают к себе людей (ср.: 2Фес.2:9). Св. Павел об этом Антихристе совершенно открыто и ясно говорит, какого он рода, в какое время и по каким причинам придет в мир. Пусть исследуют его по его собственным словам, говорил ли он здесь очень внушительным и разумным образом или его слова заслуживают только насмешки974.
Учение христиан о вечном блаженстве. Цельс не знает о том, что Моисей, живший еще до изобретения букв,
—589—
исполняющим его законы обещал землю, текущую молоком и медом (Исх.3:8). Эта добрая земля лежит не на иудейской земле, как некоторые думают, так как эта земля с самого начала проклята вследствие греха Адама, но, несмотря на эти грехи и проклятия, древнейшие пророки воспевали эту радостную землю: «Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его! Прекрасная возвышенность, радость земли город Сион, на северной стороне его город великого Царя (Пс.47:3), и было в Иерусалиме жилище Его и пребывает Он в Сионе»; однако не все наследуют это святое место: делающие беззаконие истребятся, лишь уповающие на Господа наследуют святое место (Пс.36:9). Думается мне, говорит Ориген, что Платон, описывающий рай, как место, украшенное драгоценными камнями, блеск которых отражался на стенах, заимствовал этот рассказ из пророка Исаии: и положу камни твои на рубине и сделаю основание его из сапфира, окна из рубинов, ворота – из жемчужин и ограду из драгоценных камней (Ис.54:12, 16). Разъясняющие рассказы Платона и стремящиеся доказать в них нечто достойное уважения, относительно пророчества стараются исследовать, что Платон мог бы заимствовать от них. Сродные пророкам люди проводят божественную жизнь, каждый день предаваясь исследованию священных книг, проявляя себя как людей, способных через свою жизнь достигнуть чистоты и божественной мудрости975. Христиане же настаивают на том, что ни Платон, ни другие греки не были учителями в учении их о будущей земной жизни, напротив, вероятнее предположить, что они читали священные книги евреев, неточно поняли сказанное там неясно и темно и прямо заимствовали из них свое учение о блаженной земле и, хотя не так удачно, повторили ее. Пророк Аггей отличает «сушу и землю» и называет землю, на которой живут люди, «сушей», и он еще немало присоединяет к этому, говоря: потрясу небо, море и сушу (Агг.2:6). Платон в «Федоне» проводит ту мысль, что люди, по своей слабости, лишь с большим трудом возвышаются в страну благ. Ориген опять ссылается на места Св. Писания, говорящие о светлой земле, но материал у него уже доста-
—590—
точно истощился и он в главном и общем довольствуется упоминанием об «истинном свете на святом учении» (1Ин.5:20); праздник небесный (Евр.4:9), прославление Навуходоносором Царя небесного (Дан.4:34), даже цитры, гусли, вино и пиршество... а о деле Господнем забыли.
Вопрос о вечных мучениях976. Христиане не считают тело самой ценной частью своего человеческого состава и утверждают, что душа представляет собой самую благородную и наиболее важную часть их; они не верят, что Бог телесен, и не придают никакого значения ученикам Хрисиппа и Зенона977. Удовлетворение тела Цельс считает единственной целью того блаженного состояния, к какому христиане направляют свои желания, но если желание само по себе не худо и не добро, то христиане переносят свои желания на предметы, обещанные Богом: «Так, если они надеются на воскресение праведных, то впадают во внутреннее противоречие: с одной стороны, они говорят о блаженстве тела, хотя оно сделано было достойно, чтобы Бог оказывал ему честь, с другой стороны, что это же самое тело, как нечто недостойное и презрительное, будет подвергнуто всем родам мучений и наказаний» (Цельс), – но кто страдает из любви к Богу и наказание и мученичество считает своей добродетелью, разве можно усматривать здесь что-нибудь дурное и ничего не имеющее в себе достойного? Так учит Писание, когда оно говорит: «Кто боится Бога, тот пребывает в чести, кто же нарушит заповеди Его, то подвергнется вреду» (Прем.1:20–21).
Цельс думает, что христиане не заслуживают и того, чтобы говорить с ними о таких важных предметах. Общительность христиан не ограничивается только необузданными и неразумными людьми; Творец создал всех людей, чтобы они друг с другом поддерживали общение. Поэтому справедливо и заслуживает одобрения, что христиане находятся в постоянном общении со всем человечеством, окружающим их, и в своем общении делают его мудрым и более нравственным.
А. Спасский
(Продолжение следует).
Кузнецов Н.Д. К вопросу о молитвах за графа Л.Н. Толстого: Ответ священнику, совершившему отпевание на могиле графа Л.Н. Толстого // Богословский вестник. 1913, т. 1. № 3, с. с. 591–625 (4-я пагин.).
—591—
Все мы еще хорошо помним, сколько шуму, разных страстей и недоумений поднялось при смерти Л.Н. Толстого около вопроса об его церковном погребении и о молитвах за него.
Правда, очень многие старались воспользоваться именем Толстого в своих целях и устраивать своего рода демонстрант. В этом отношении русский писатель Арцыбашев справедливо обращал внимание, что одни, не принявшие в своей жизни ни одного слова из веры Толстого, изобразили такое отчаяние, точно потеряли голову. Другиe, которые открыто выявляли себя по духу врагами Толстого, запели в унисон осанну и вечную память. Третьи приспособили кончину Толстого для целей пропаганды идей, чуждых Толстому. Четвертые, которые соглашались с Толстым, в отрицание обрядностей церковных, искренно их отрицали и смотрели на молебны и панихиды, как на комедии, страшно испугались, как бы Толстого перед смертью не вернули в лоно Церкви, а потом в бешенство пришли, что по нём не хотят служить церковных панихид. Пятые его трупом, как дубиной, начали драться с правительством978.
При таких условиях в разных кругах и требованиях относительно Толстого, естественно, оказалось много лжи, лицемерия и партийных расчетов. Но нельзя, конечно,
—592—
отрицать, чтобы вместе с этими немало людей искренно желали, возможно, правильного решения вопроса, выдвинутого кончиной Толстого и останавливались перед ним в большом недоумении.
Как бы там ни было, а вопрос о молитвах за людей, не принадлежащих к Церкви, в связи с кончиной Толстого, резко выступил перед общественным сознанием и попытаться сделать о нем rub или другие разъяснения составляет одну из современных потребностей. Необходимость разъяснений по этому вопросу еще более увеличилась посаль того, как недавно на могиле гр. Толстого в Ясной Поляне было совершено каким-то приезжим священником отпевание его по православному обряду. По поводу этого случая много писалось в газетах, причем некоторые выражали даже сомнение, что все это мог проделать настояний православный священник. Теперь дело начинает все более и более разъясняться. В газетах появилось письмо священника, совершившего отпевание, в котором он открывает мотивы своего поступка.
Вот что пишет этот, все еще скрывающий себя, священник:
«Прочитав все, что касается молитвы на могиле и в доме Л.Н.Толстого, я со своей стороны, как главный виновник этого события, скажу несколько слов. Я никогда не думал, что это событие породит столько противоречивых толков и писаний во всех органах печати. По моему убеждению, молиться за кого бы то ни было никому не запрещено, и никто запретить не может. За самого тяжелого преступника просят милости у Владыки Mиpa сего, а ужели человеку за человека нельзя просить прощения грехов и заблуждений у Создавшего человека Милосердого, Всепрощающего Творца-Бога, Который Сына Своего Единородного послал на землю пролить Свою Божественную кровь за грехи Mиpa, а не известную группу людей, Который человеколюбия ради Своего прощал тяжких грешников, осужденных уже людьми. Иисус Христос заповедал нам, недостойным, молиться за врагов, и добро творить ненавидящим нас. Если Л.Н. Толстой – враг православия, каковым он и был, то разве нельзя о нем помолиться, да простит Господь Бог его прегрешения. Христиане пер-
—593—
вых веков, эти дети веры и любви, молились за своих гонителей и мучителей. Сам Господь Бог наш Иисус Христос, на кресте вися, молился за Своих мучителей, – «не ведят бо что творят». Душа человека после смерти отходить к своему Творцу, и Тот будет судить душу и укажет ей место вечного пребывания. Нам православным известно, что молитва и добрые дела за умершего грешника на земле приносят благодатную пользу душе на небе. Всякий христианин, а церковь – как любящая мать, должны помолиться о погибших своих чадах и братьях и просить у Создателя прощения грехов, а не запрещать молиться. Я глубоко верю в искупительную жертву Mиpa – Христа, и потому поехал на могилу Льва Николаевича и помолился Господу Богу и просил в своих грешных молитвах простить грехи его вольные и невольные. Разве можно, выражаясь языком земли, оставить душу человека-брата, сына одного Отца, на произвол судьбы, когда и после смерти можно дать облегчение душе? Нет, нельзя. «Молитесь за враги ваши», а не сказано – за каких: личных ли, или общественных. И я помолился, и всегда молюсь перед престолом Всевышнего «за всю братию, за вся христианы, за не пребывающих в свете Христовой веры и за любящия и ненавидящия ны».
Религиозных убеждений Л. Н-ча я никогда не разделял и не разделяю, потому что он, по моим убеждениям, заблуждается, а о прощении у Того, перед Кем он заблуждается, я помолился и молюсь. Совершая молитву, у меня не было и нет никаких целей, а только чистая молитва грешника за грешника, и я доволен уже теми, что доставил духовное утешение гр. Софии Андреевне, которой тяжело было, как глубоко верующей христианке, переносить «отвержение» своего любимого мужа.
Говорят, что абсурд – отпевать спустя два года после смерти. Глубоко ошибается, кто так думает: помолиться никогда не поздно. Чин отпевания не есть паспорт на проезд за границу мира сего в другой, как на земле, который нужен в момент переезда, а есть молитва... Да и в нашей православной церкви случается такая практика, что приходится совершать отпевание спустя некоторое время после погребения, например в Сибири и др. отдаленных
—594—
углах нашего отечества, где не всегда есть священник.
Я знал и знаю, что мне за это грозит со стороны Св. Синода, но если Св. Синод накажет меня, как любящая мать наказывает своего провинившегося сына, то наказание «приемлю и ничегоже вопреки глаголю». Священник, помолившийся о грешной душе раба Божия Льва.
24-го января 1913 года».
Тяжелое впечатление производит это разъяснение. Оно усиливает собой разные тревожные признаки той спутанности понятий, которая замечается теперь относительно церковной идеи и условий ее реализации в сознании многих современных людей и – грустно сказать – даже самих пастырей, призванных на служение Церкви.
Православный священник, появившись неизвестно откуда, вне пределов своего прихода и может быть даже своей епархии, совершает православное отпевание и кого же? – того, кто, по утверждению самого священника, быль врагом православия, кто при жизни быль объявлен отпавшим от Православной Церкви, кто в ответ на это ясно засвидетельствовал об отсутствии у него какой-либо связи с Церковью и даже о своей вражде к ней, кто открыто заявил, что понимать Христа Богом и Ему молиться он считает великим кощунством, кто смотрел на священников как на обманщиков, кто, по его собственным словам, написал в завещании своим близким, чтобы они при его смерти не допускали к нему церковных служителей979.
Свой образ действий неизвестный священник старается оправдать тем, что «молиться за кого бы то ни было никому не запрещено, и никто запретить не может». Христос, поясняет священник, заповедали нами молиться за врагов. Сами Они молился за Своих мучителей. Христиане первых веков молились за своих гонителей. «Всякий христианин, а Церковь, как любящая мать, должны помолиться о погибших своих чадах и братьях и просить у Создателя прощения грехов, а не запрещать молиться».
Прежде всего, в аргументах священника бросается в
—595—
глаза произвольная замена одного понятия другими и смешение разных понятий. Устанавливая на основании Евангелия необходимость молитвы за наших врагов, духовный автор письма в своих дальнейших рассуждениях понятие нашего врага подменяет понятием такого бы то ни было умершего лица, а затем сам вопрос о молитве за наших врагов она сливает с вопросом об употреблении церковного чина погребения православного христианина относительно людей, порвавших связь с Православной Церковью.
При таких логических дефектах, конечно, можно прийти к какому угодно заключению, но только не к тому, какое может нас убеждать.
Правда, Христос сказал: «молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф.5:44, Лк.6:28). Правда, первомученик Стефан, побиваемый камнями, воскликнул: «Господи, не вмени им греха сего». (Деян.7:60). Правда, Спаситель молился о распинающих Его: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают» (Лк.23:34). Но каким логическим приемом можно вывести отсюда необходимость молитвы за всех умерших людей без исключения, например, за сознательных врагов Самого Христа?
Напротив, в Св. Писании, на котором старается обосноваться священник, встречаются ясные указания, что молитва обязательна далеко не по отношению ко всем. Священнику, конечно, хорошо известно приглашение великого проповедника любви к ближним Св. ап. и ев. Иоанна Богослова молиться за брата, согрешающего грехом не к смерти со сделанной апостолом оговоркой: «Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился» (1Ин.5:16). Что же это за грех? Но разъяснения VII Вселенского Собора, «грехом к смерти называется такой грех, когда совершающие его, остаются неисправимыми. Но хуже этого то, когда гордо восстают против благочестия и истины, предпочитают мамону повиновению Богу и не держатся Его постановлений»980.
Священник, конечно, знает слова Христа, приводимый у трех евангелистов: «Кто будет хулить Духа Святого,
—596—
тому не будет прощения во веки, но подлежит он вечному осуждению» (Мк.3:29. Ср. Мф.11:30–32 и Лк.11:9–10).
Священник не может забыть указание прощальной беседы Спасителя с учениками: «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе свем» (Ин.15:22).
В книге пророка Иеремии находится указание, что великие беззакония людей могут вести к тому, что Бог отвергает их от Своего лица. Относительно таких людей пророку было сказано. «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения и не ходатайствуй передо Мной, ибо Я не услышу тебя» (Иер.7:15–16).
– Очевидно, возможны случаи, когда молитва человека за других является бесплодной.
Утверждая, что в Евангелии заповедано: «молитесь за враги ваша», священник поясняет: «а не сказано – за каких: личных ли или общественных». Если к слову враги присоединяется слово ваши, то этими понятие врага ограничивается отношением его к моей личности, но как при таком сочетании слов вывести отсюда понятие врага общественного, да и что значит в этом случае враг общественный? – остается совершенно неясными.
Во всяком случае из слов о молитве за врагов вовсе не видно, чтобы Спаситель заповедовал нам молиться за людей умерших сознательными врагами не нас лично, а Его Самого.
Когда первые христиане в лице мученика Стефана просили не поставить своим гонителям в грех лишение их жизни, то они имели в виду этот факт, как зло наносимое ими лично, а вовсе не отвержение гонителями Самого Христа, которые уже умерли. Спаситель в Своей молитве за распинающих ясно указали ее основание в том, что они были исполнителями чужой воли и не сознавали, что делали.
Переходя к гр. Толстому, приходиться сказать, что ни сам священник, и никто другой не считает его своим личным врагом, и центр вопроса не в этом. Все соображения о молитве за личных врагов в отношении цер-
—597—
ковного погребения Толстого не могут решать данного вопроса.
Не будем входить здесь в обсуждение религиозных взглядов Толстого, но одно лишь ясно, всем, что гр. Толстой сам объявил себя отвергающим Божество Христа и все его дело, связанное с основанием Церкви и вверенное этой Церкви. О гр. Толстом мы совершенно не можем сказать, чтобы он поступал так, не ведая, что творит.
Против этого освидетельствуют его сочинения и, наверное, восстали бы его близкие люди и многочисленные поклонники. О молитве же за таких умерших людей Евангелие не говорит.
Еще страннее, чтобы не сказать больше, настаивание священника о необходимости совершить церковное погребение Толстого.
Неужели священник не понимает, что Церковь представляет из себя особого рода организацию со своим собственным жизненным миросозерцанием, со своими порядками и правилами и, что важнее всего, с особым процессом, духовной жизни, который, так сказать, переливается в ее живые члены?
В этом процессе на первый план выступает вера во Христа, как Сына Божия, и в необходимость благодатного воздействия Его на поврежденную грехом человеческую природу. Процесс этот вызывает, затем, стремление распространять в мире не какое-либо свое, а подлинное историческое христианство, ощущаемое человеком как основание его духовной жизни.
Церковная молитва является плодом этого процесса и, в свою очередь, способствует поддержанию его в душе людей. Соответствующие молитвы, естественно, установлены и на такой важный момент в жизни членов Церкви, как их кончина. Весь церковный чин погребения и соединенные с ним молитвы об умершем рассчитаны исключительно на членов Церкви. Через эти молитвы происходит наше церковное общение с усопшими. Молитвы эти требуют присутствия в душе человека, хотя основных представлений и чувств, связанных с мировоззрением Церкви на нашу земную жизнь и на ее отношение к жизни загробной. Они полны какого-то таинственного
—598—
созерцания самой глубины нашей жизни и назначения человека и стремятся вызвать у нас представление об умершем, как о члене того великого общения существующего мире на протяжении веков, главой которого является Сам Спаситель, которое называется Церковью и которой даны великие обетования и милости. Только по отношению к человеку, с которым мы можем связать такое представление, погребальные молитвы достигают и другой цели. Среди сложной и запутанной смены иногда очень тяжелых мыслей и чувств, какие обыкновенно нам приходится переживать в виду смерти, погребальное богослужение может вызывать в душе настроение, основанное на вере в воскресение Христа и соответствующее словам апостола, чтобы христиане не скорбели об умерших как прочие, не имеющие надежды (1Фес.6:13–14).
Один из историков церковного богослужения по поводу песнопений, составленных св. Иоанном Дамаскиным и вошедших в чин погребения, утверждает, что они одушевлены сильным чувством и вызывают похвалы даже от людей, порицающих греческое песнопение вообще. В них оплакивается краткость человеческой жизни и напрасные суетные заботы людей о временном и преходящем; напоминается о смерти, о неведомом пути, куда отходить почивший и среди умиленнейших молитв ко Христу Спасителю происходят трогательные обращения к собравшимся на гроб, иногда от лица умершего981. Конечно, под формой этих обращений в уста и сердце почившего вкладываются мысли и чувства, который он мог высказать в качестве члена Церкви им – своим сочленам, объединенным, прежде всего, верой во Христа Сына Божия, пришедшего спасти людей.
Но обращения от лица умершего члена Церкви в погребальных молитвах происходят не только к оставшимся живым ее сочленам, но и к Самому Христу Спасителю и к предстательству перед Ним Богоматери. Умерший как бы сам совершает молитву, постоянно вспоминая о значении веры во Христа Сына Божия, ради нас
—599—
распятого и воскресшего, искупившего род человеческий от греха и вечной смерти; прибегая к божественному милосердию Христа, прося помощи и молитв у Богоматери, ссылаясь на обетования Спасителя, данные Церкви и т. п. Подобно этому и молитвы об умершем от лица живых проникнуты тем же содержанием, причем в них постоянно указывается, что умерший, хотя и не совсем чист от греха, но возложил свое упование на Бога и веровал в Божественное милосердие и великое значение крестной жертвы Спасителя.
Неужели же в уста умершего Толстого можно вложить, например, слова заупокойной службы, свидетельствующие, что Толстой признавал себя погибшей овцой, которую может спасти вера в Христа как Бога, что он последовал Христу верой?
Неужели от лица Толстого можно восклицать: «Христос – моя сила, Бог и Господь»?
Неужели относительно умершего Толстого можно петь стихиру: «О кресте Твоем веселяся, о кресте Твоем наделся раб Твой к Тебе преставися»?
Неужели относительно Толстого можно обращаться с молитвой к Божией Матери о томи, чтобы Она умилостивила Бога за душу в православной вере отошедшую, указывая, что умерший до кончины исповедовал в Спасителе истинного Бога и совершенного человека, а в Богоматери – Матерь Божию и Деву Чистую.
Словом, если вместо понятия православного христианина подставить во всех погребальных молитвах личность Толстого, какой мы ее знаем, то у каждого сознательно молящегося человека едва ли повернется язык читать и петь эти молитвы.
Молитва же должна быть делом сознательным. «Стану молиться духом, стану молиться и умом, – утверждает апостол Павел, – буду петь духом, буду петь и умом» (1Кор.14:15). Несознательная молитва едва ли можешь иметь значение. Апостол убеждает христиан не быть детьми умом (1Кор. 14:20), а тот, кто составил много молитв к Богу в виде известных всем нам псалмов приглашает петь Богу разумно (Пс.46). Этим, как поясняет, например, Феодорит, мы научаемся не только произносить песнь языком, но и возбуждать мысль
—600—
к разумению произносимого982. «Мы должны, – справедливо говорит Ориген, – знать, о чем молимся, разумно относиться и к роду и к образу молитвы»983.
Применение же церковного чина погребения ко всякому человеку, независимо от его принадлежности к Церкви, обнаружило бы, что самому содержанию в нем молитв не придается значения и Богу можно петь что угодно, не справляясь со смыслом молитв.
Весь обряд погребения соединен затем с разными символическими действиями, выражающими воззрение Церкви на земную и загробную жизнь. Например, умерший полагается во гроб лицом, устремленным к небу и руками, сложенными крестообразно, во свидетельство его веры в Распятого Христа. В знак этой же веры возлагается на руки умершего крест или икона. Тело умершего вместе с гробом накрывается покровом, в знак того, что умерший освящен таинствами и находится под покровом Христа. Перенесение тела умершего для отпевания в храм или для погребения на кладбище, сопровождается пением «Святый Боже» во свидетельство, что умерший и в земной жизни служил Пресвятой Троице и теперь переселяется в жизнь вечную для славословия Триединого Бога984. Словом, все погребение рассчитано на то, что его никогда не придется применять к таким людям, каким показал себя Толстой.
При таких условиях довольно странным представляется ходатайство некоторых духовных лиц, о котором сообщает Архиепископ Волынский Антоний, о разрешении хоронить Толстого со священником при пении «Святый Боже», как это делается в отношении иноверцев, не имеющих вблизи своего духовенства985. Сколько было таких духов-
—601—
ных лиц, неизвестно. Полагаем, что очень мало, но знаем, как и многие другие, что во главе этих лиц был сам архиепископ Антоний.
Просители, очевидно, имели в виду Указ Св. Синода от 24 августа 1797 года, которым было дозволено полковым священникам провожать до кладбища в ризах и опускать в землю при пении «Святый Боже» тела умерших военных католического, реформатского и лютеранского исповеданий, если не окажется их духовных лиц. Основанием для такого разрешения Св. Синод указал, что люди этих исповеданий «ученее евангельское содержав и надежду полагают во Христе Спасителе всего миpa и притом определили себя на защищение правоверного нашего отечества»986.
Это постановление Св. Синода с теми или иными дополнениями повторялось затем в его определениях 20 февраля 1800 г., 3 августа 1817 г., 10 июня 1818 г., в определении 10–15 марта 1847 г. с дополнениями, предложенными Митрополитом Филаретом и, наконец, в определении 28 января 1904 года. Но ведь при всех этих определениях Св. Синода совершенно не имелись в виду такие люди, как Толстой, что вполне ясно, например, из мотивов, приводимых Синодом в его основном указе 1797 г. Поэтому все эти определения Синода не могут иметь силу в отношении Толстого, который не принадлежали ни к каким христианскими исповеданиям, отвергать Божество Христа, Троичность лиц в Боге и т. д. и учил этому других, а духовных лиц всяких исповеданий считали не более как обманщиками.
Во всяком случае странное ходатайство некоторых духовных, лиц Св. Синод естественно оставили без удовлетворения.
Церковь, призванная к распространенно в мире новой жизни, должна отличать себя и своих членов от не признающего ее мира. Церковные молитвы о ее членах уже в силу этого не могут совпадать по своему содержанию с молитвами о других людях. Употребление же их одинаково относительно тех и других между прочими пока-
—602—
зывало бы, что представители Церкви потеряли сознание различия ее от миpa.
Откуда затем усматривает священник возможность совершать церковное отпевание людей, не принадлежащих, к Церкви, в какое угодно время после их кончины и фактического погребения? Ведь если стать на подобную точку зрения и не стесняться ни временем смерти человека, ни отсутствием у него связи с Церковью, то почему бы не совершить теперь церковного погребения, например, над Apием, Евтихием и даже каким-либо знакомым нам магометанином. Но на это уже едва ли решился бы и священник, отпевший неправославного Толстого спустя 2 года после его смерти.
Конечно, чин церковного погребения есть молитва, а не паспорт на проезд за границу мира сего, как к чему-то напоминает автор письма в расчете кого-то упрекнуть. Но ведь чин погребения есть сознательная молитва определенного содержания и, без сомнения, она не может быть применяема ко всем без различия. Отношение к чину погребения как к своего рода паспорту на тот свет, который выдается во всякое время и всеми, независимо от их религиозных убеждений, скорее обнаруживается, может быть и бессознательно, именно у тех, которые находят возможными употреблять чин погребения для умерших, не обращая внимания, принадлежат ли они к Церкви или нет.
Наконец, Церковь, представляя из себя известную внешнюю организацию, требует, чтобы члены ее даже в своей частной жизни соблюдали известные правила, например, посты, домашние молитвы и т. и. Подобные требования со стороны Церкви тем необходимее относительно общественной церковной жизни и тех действий, которые совершаются от имени Церкви, например, церковного богослужения. Допущение поступать в этом по произволу и соображениям каждого, хотя бы он был священник или даже епископ, могло бы повести к беспорядкам в церковном обществе.
Ведь не только Церковь, но и другие общества не могут же допускать дифференцирования себя на отдельных людей с разными взглядами и в своих действиях не связан-
—603—
ных никакими общеобязательными нормами и миросозерцанием.
Священник в своей пастырской деятельности связан с Церковью, и сохранение этой связи есть необходимое условие для реализации им своего назначения. Нормы, установленные Церковью по вопросам пастырского служения, представляют выражение и собственной воли священника, поскольку он желает быть служителем Церкви. Он обязан подчиняться им не из-за страха, как раб, трепещущий перед Церковью, а в силу того, что коллективные действия Церкви, регулируемые теми или иными ее нормами, являются первым шагом к осуществлению пастырских целей самого священника. Пренебрежение же этими нормами во многих случаях трудно бывает рассматривать иначе как своего рода самоубийство в качестве пастыря.
Несоблюдение церковной дисциплины помимо всего другого вызывает весьма вредное для деятельности Церкви ослабление обнаружения ее в качестве одного коллективного целого, существующего на протяжении веков. Если один священник или епископ в своих важных действиях будет поступать так, а другой иначе, да еще противоположно первому, то естественно они будут подрывать этим в окружающей среде понятие церковного действия, совершаемого от имени всей Церкви и всегда заключающего в себе, начало соборности, а не личного усмотрения.
Для предупреждения этого в Церкви возникли разные правила. Правила эти, между прочим, стремятся оградить церковное общество от возможного произвола и злоупотребления отдельных лиц, на какой бы ступени иерархии эти лица ни находились. Они способствуют обеспечению того важного условия иерархического служения, чтобы церковные действия отдельных лиц не были самочинными, но несли на себе печать соборности, исходили бы от имени всей Церкви. Часть этих правил устанавливает права и обязанности священников, определяет их положение в Церкви, отношения к другим членам иерархии и т. п. Как епископам, так естественно и священникам, церковные правила воспрещают священнослужение и проповедь в чужих епархиях без разрешения местного
—604—
епископа (5 правило IV Вселенского Собора, 20 правило Трульского, 105 Карфагенского и др.).
В своих отношениях к Толстому священник должен был считаться с этим правилом, а также и с тем, что высшая духовная власть в России объявила Толстого отпавшими от Православной Церкви, а это, естественно, вызывало и лишение Толстого церковного погребения в случае его смерти без обращения к Церкви.
При таких условиях, каким образом священник, понимающий свои права и обязанности, свое положение в Церкви, мог решиться самовольно отменить то, что постановлено епископом, да еще не одним, а целым их собранием в Св. Синоде? Неужели священник забыл напоминание такого великого представителя христианства, пролившего за него свою кровь, как св. Киприан Карфагенский, о том, что первенство в Церкви принадлежит епископам987. Неужели священник отрицает предписание, например, 39 Апостольского правила, что пресвитеры и диаконы не должны ничего совершать без воли епископа? В разъяснение этого правила, принятого в Славянскую Кормчую, указано, что пресвитеру и диакону без воли своего епископа не позволяется ни отлучать людей, ни увеличивать или уменьшать епитимьи, или делать что-либо другое подобное. Во всех вопросах, возбуждающих недоумение, к которым, по меньшей мере, должен быть отнесен вопрос и о молитвах за умершего Толстого, священник по церковным правилам должен обращаться к епископу. Об этом, как известно, напоминается священнику даже в так называемой, Ставленой грамоте, вручаемой ему епископом по его посвящении. По этой грамоте священник обязывается «неудоборазсудные вины епископу предлагать», а не поступать в этих случаях только по своему желанию.
К удивлению, священник, отпевавший Толстого, по-видимому, с каким-то сомнением относится к факту признания Толстого отпавшим от Церкви. По крайней мере, упоминая об отвержении Толстого, он в своем письме
—605—
в газете ставить слово «отвержение» в кавычках. Что же смущает здесь автора письма?
Надеемся, что он понимает необходимость отлучения от Церкви и его смысл. Никакое общество не может считать своими членами людей, к нему не принадлежащих, или тем более отвергающих его задачи и порядки жизни. В интересах своего самосохранения общество вынуждено исключать таких лиц из своей среды и объявлять, что они не имеют с ним ничего общего.
Церковь, которой вверено хранение и распространение в мире христианства, обязана зорко смотреть, чтобы христианская истина, несмотря на все усилия враждебного ей мира, продолжала стоять перед сознанием людей так, как она была нам открыта. А подобная задача Церкви, естественно, вызывает для нее необходимость постоянно отличать себя от всякого рода взглядов и учении, которые часто лишь прикрываются христианскими словами и формами.
Особенно это необходимо, когда, как это бывает у нас, человек значится по паспорту православным, т. е. принадлежащими к членам Церкви, а в действительности чужд ей по духу и распространяет в окружающих вражду к Церкви и к хранимой ею христианской истине. В этом случае органы церковного управления не исполнили бы своей важной обязанности объявлять во всеобщее сведение о том, что такие люди по своими убеждениям и деятельности не имеют ничего общего с Церковью и хранимой ею истиной, и должны считаться исключенными из церковного общества.
Кто знаком с историей разных религиозных учений первых веков христианства, для того ясно, как необходимо было для Церкви открыто отвергнуть, например, учения Apия, Евтихия, Нестория, Македония и др., и исключить этих лиц из церковного общества, тем более, что, прикрываясь своими духовными саном (Арий – саном пресвитера, Евтихий – архимандрита, а Несторий и Македоний – саном епископа, они могли вносить большое разложение в церковную жизнь.
Вот, например, приговор III-го Вселенского Ефесского Собора по делу Нестория:
«Собор изрек: Так как нечестивейший Несторий сверх
—606—
прочего, не захотел повиноваться нашему приглашению и не принял посланных от нас святейших и благочестивейших епископов, то мы вынужденными нашлись исследовать нечестивое его учение. Открывши же (частью из его писем, частью из других сочинений, частью из бесед, которые он недавно имел в сей митрополии (Ефесе) и которые подтверждены свидетелями), что он и мыслит, и проповедует нечестиво, мы вынуждены были, на основании канонов и посланий святейшего отца и сослужителя нашего Целестина, епископа римского, произнести против него, хотя не без горьких слез, следующее горестное определение:
«Господь наш Иисус Христос, на Которого он изрыгал хулы, устами сего святейшего собора определяет лишить его епископского сана и отлучить от общенья церковного»988.
Право Церкви поступать таким образом основывают на словах Спасителя: «если и Церковь не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь» (Мф.18:17) и на заявлении Св. апостола Павла, что если бы даже апостолы или Ангел с неба стал благовествовать людям не то, что они благовествовали, да будет анафема (Гал.1:8). Это указание апостола, по утверждению, например, Епископа Феофана при разъяснении им Послания к Галатам, служило и служит для Церкви правилом и руководством, как поступать с благовествующими иначе или лучше с зловещающими и с теми, которые сами охотно им последуют. Смысл анафемы тот, что подвергшийся ей извергается из Церкви и, становясь вне Церкви, не только лишается ее благодати, но и подвергается всем последствиям безблагодатия, которое вне Церкви989.
Помимо всего другого открытое объявление человека отпавшим от Церкви может иметь большое значение для него самого. Оно доставляет ему повод более сознательно самоопределить себя в отношении к Церкви. Человек, как показывает опыт, часто делается более способным почувствовать опасность своего духовного состояния. Он
—607—
начинает тщательнее обдумывать направление своей жизни и нередко во время раскаивается в своих заблуждениях, снова присоединяясь к церковному обществу.
Исключение из Церкви человека, отвергающего ее основания, нужно бывает и в духовных интересах других людей. Факт этот способствует укреплению в сознании людей значения церковных норм и предупреждения их нарушения. На это обращают внимание многие великие представители Церкви. «Обличение нечестия, по разъяснению, например, св. Афанасия Великого, служит и желающим дает повод к благочестию здоровой о Христе вере»... Осуждение нечестия есть достаточное уже ко благочестию ведение990.
Или, может быть, священник сомневается лишь в правильности отлучения Толстого Св. Синодом?
Конечно, нечего скрывать, что у нас очень поколеблен авторитет Св. Синода, чему, к удивлению, немало способствуют те русские епископы, которые, заседая сами в Св. Синоде и принимая звание его членов, всюду заявляют о неканоничности Синода. Не разъясняя этого понятия народу, они уничтожают в сознании и русских людей последние остатки уважения к высшему церковному управлению. Многие по простоте душевной или по желанию опорочить Русскую Церковь – в слово «неканоничный», слышимое по адресу Синода из уст самих епископов, вкладывают понятие чего-то антицерковного, чуть ли даже не разорвавшего связь с вселенским христианством, и к действиям Синода, естественно, начинают относиться с недоверием, не придавая им должного значения. Уж не принадлежит ли к числу таких людей и священник, отпевший Толстого? Если так, то это, при отношении к Синоду некоторых епископов, конечно, может служить снисхождением к его поступку.
Нечего затем скрывать, что наши бюрократические порядки церковного управления, соединенные с неумеренной его централизацией, вытеснили многие древние формы, позволявшие церковной жизни развертываться в более ши-
—608—
роком масштабе, и обнаруживать более самостоятельности на местах. А все это способствует разрыву духовно-нравственной связи церковного управления с народом и вызывает к его действиям, по меньшей мере, лишь чисто внешнее отношение. Вместо того, чтобы выдвигать теперь на первый план неясное для народа понятие «неканоничности» русского Синода, следовало бы лучше разъяснять, что недостатки церковного управления не помрачили основную жизнь Русской Церкви и что она в лице того же Св. Синода всегда старалась тщательно хранить полученную христианскую истину и не порывать свою связь с Церковью Вселенской.
Одним из больших недостатков нашего церковного управления является отсутствие открытого суда, замененного бумажными канцелярскими производством в отсутствии самого обвиняемого.
Суд над Толстым не составлял исключения, и это, конечно, подало повод к разным неблагоприятным для Синода толкам и не способствовало авторитету постановления Св. Синода по делу о Толстом.
Но как бы там ни было, а по существу приговор Синода о Толстом является вполне правильным и согласным со вселенским церковным пониманием. Все лица, которые подобно Арию или Толстому отвергают Божество Христа и Троичность Лиц Божества, уже давно отлучены Вселенской Церковью на ее Вселенских Соборах.
Изложив исповедание Божества Христа, I-ый Вселенский Собор перечисляет людей, в разных формах отрицающих Божество Христа, которых кафолическая и апостольская Церковь предает анафеме991. Далее, еще V-ый Вселенский Собор постановил, что кто называет Пресвятую Деву – «человекородицей или христородицей, как будто бы Христос не был Богом, и кто не исповедует, что она есть Богородица действительно и по истине, потому что Бог Слово, рожденный от Отца прежде веков, в последние дни воплотился от нее, и что так именно и святой Халкидонский собор благочестиво исповедал, ее Богородицей, – тот да будет анафема».
—609—
Между другими постановлениями относительно разных еретических убеждений V Вселенский Собор сделал и такое: «Если кто не исповедует, что распятый плотью Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и Господь славы и один из Святой Троицы, тот да будет анафема»992.
Во всех этих случаях Вселенские соборы имели, конечно, в виду и то христианское сознание, которое еще ранее ясно выражено словами Св. ап. и ев. Иоанна Богослова:
«Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире (1Ин. 4:2–3).
Таким образом, то, чему поучал Толстой, осуждено Церковью уже давно и притом такими ее органами, как вселенские соборы. Уже в силу этого Св. Синод обязан был признать Толстого отпавшим от Церкви. Иначе Русский Синод мог подвергнуться тяжелому обвинению в том, что он не хранит в России чистоту оснований христианской веры. Св. Синод, как видим, явно действовал в этом случае от имени Вселенской Церкви. Признание же самим Толстым в его ответе Синоду справедливости возводимых на него обвинений в отрицании оснований христианской веры, казалось бы, для всех должно было уже вполне ясно подтвердить правильность постановления Синода о Толстом, хотя бы с формальной стороны этому постановлению и следовало состояться при ином порядке церковного суда.
Вообще по отношению к гр. Толстому представители Православной Церкви обязаны были действовать твердо и решительно и по примеру св. Григория Богослова «не заключать мира во вред учению истины, уступая что-нибудь ради славы именоваться снисходительными»993.
С Толстым и его учением связан большой соблазн.
—610—
В мире давно уже замечается все более и более усиливающаяся тенденция к появлению мнений и учений, который, пользуясь христианскими формами, словами и заповедями, влагают в них, однако, иной, чуждый христианству дух. Они, как выразился еще св. Киприан Карфагенский, тонко под покровом истины предлагая ложь, обольщают людей простодушных. В общем, они стремятся разорвать связь нравственной жизни человечества с Божественной Личностью Христа Спасителя. К числу распространителей таких мнений и учений нужно отнести и Толстого. Для многих слабых духом и колеблющихся подобные учения представляют тонкую сеть, в которой современный человек легко запутывается, чему немало способствует и свойственный ему религиозный индифферентизм и все более и более обнаруживающееся в сознании человека затемнение церковной идеи.
Уже одно соответствие оснований учения Толстого с указанными тенденциями не может не способствовать его влиянию. Но этому немало помогает еще и великое литературно-художественное значение Толстого и его мировая известность.
Если перед гением Толстого преклоняется громадное большинство, то разве я, человек неизвестный, могу считать его заблуждающимся? Кто Толстой и кто я вью сравнении с его мировой известностью? Если весь мир, как кажется некоторым, прославляет Толстого, то разве он мог так глубоко ошибаться? Вот мысли, которые в той или иной форме приходят теперь в голову многим, иногда бессознательно испытывающим на себе влияние тирании большинства, склонного покушаться даже на внутреннюю свободу человеческой личности.
Большинство голосов, – вот основание, которое заставляет нас терять свое значение не только в вопросах политики. В качестве какого-то мерила истины оно имеет тенденции распространяться и на другие области жизни, обращая людей в числа и приучая их смотреть на себя, как на единицы одинаковой величины. Подобно увеличение числа от сложения единиц растет в глазах многих и значение разных учений по мере признания их все большим и большим количеством людей. Ободрением боль-
—611—
шинства нередко оправдывается и свое невежество, и свои низменные стремления.
Христианство, возвысившее достоинство человеческой личности и открывшее ей путь к высшей свободе духа, естественно отрицает подобное значение в человечестве числа и связанного с ним понятия большинства. Склонным уступать во всем давлению большинства, следует помнить слова Спасителя: «Не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать царство» (Лк.12:32).
Или вот другое указание Спасителя, обыкновенно забываемое людьми, зараженными честолюбием и тщеславием, которые любят добиваться похвал большинства и, по выражению Григория Богослова, «умеют похищать благосклонность ласкательствами». Горе вам, – сказал Христос, – когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их» (Лк.6:25).
В предупреждение рабства перед большинством Св. ап. Павел обращает внимание, что «не во множайших благоволи Бог» (1Кор.10:5).
А св. Григорий Богослов поясняет, что трое, собранные во имя Господа, перед Богом составляют большее число, чем многие отрицающиеся Божеством. Неужели, – спрашивает Григорий Богослов, – Хананеев, сколько их ни есть, предпочтешь одному Аврааму или содомлян одному Лоту?.. Триста ли человек, которые у Гедеона мужественно пили воду или тысячи обратившихся в бегство994.
Вспомним, наконец, сколько приходилось и приходится бороться самому христианству с большинством человеческого рода. Какими потоками христианской крови был залит и каким количеством христианских костей был усеян путь христианства в истории человечества! Если бы приноровиться к стремлениям большинства и спрашивать его, то христианство, наверно, не появилось бы в мире и человечество, может быть, давно уже погибло бы от нравственного саморазложения.
Чтобы охранить слабые души от давления большинства, склонного вообще к вражде против христианства, предста-
—612—
вители Церкви должны всегда высоко держать сними истины, во время снимать христианскую маску с разных прикрывающихся его именем учений, кто бы ни были их распространители и с каким бы раболепством ни относился к ним мир, – и открыто перед всеми свидетельствовать о несовместимости их с теми, что Церковь содержит с самого начала.
Священнику Православной Церкви, очевидно, уже никак не следовало слово «отвержение» по отношению к Толстому ставить в кавычках и тем вызывать в читателях сомнение в значении определения Св. Синода о Толстом. Если Синод, как мы видим, но отношению к Толстому действовал от имени Вселенской Церкви, то каким образом священник, призванный в силу своего рукоположения, действовать при совершении богослужения, по выражению А.С. Хомякова, от всей Церкви, мог решиться на церковное отпевание Толстого? Приходится думать, уж не пропала ли в нем основная черта пастырского сознания поступать во вверенном ему служении от имени всей Церкви, а для этого получать на свои действия согласие своего епископа и проверять их общецерковным сознанием.
Во всяком случае, Церковь не может противоречить сама себе, да и священником, очевидно, не соблюдены эти условия. А все это не может сделать отпевание Толстого действием церковными и по существу и по форме.
Священник склонен, кажется, очень упрощать свое служение и рассматривать его как нечто, вполне зависящее только от него самого. Он полагает, по-видимому, что для него достаточно одного факта получения пресвитерского сана и в силу этого он уже может по собственному усмотрению совершать церковное богослужение, где и над кем угодно, забывая о необходимости действовать в этом по уполномочию Церкви.
После всего сказанного, естественно, выступает вопрос, не относится ли молитва священника на могиле Толстого в форме церковного отпевания к таким, о которых в Св. Писании сказано: «И молитва его да будет в грех» (Пс.108).
Поэтому напрасно, если верить сообщению священника, вдова покойного Толстого, графиня Софья Андреевна, слу-
—613—
жение его на могиле мужа считает для себя духовным утешением. Конечно, люди по разным причинам могут утешаться разнообразными способами. Но если графиня, как утверждает священник, глубоко верующая христианка, то именно ей то и странно утешаться, по меньшей мере, наивным поступком священника.
Если бы кто-нибудь в виду веры жены, например, похитил Св. Дары и пожелал бы приобщить ими ее неверующего мужа, то ведь глубоко верующая христианка не только не получила бы утешение от такого действия, а скорее не допустила бы до него. Нечто напоминающее подобное безрассудное действие чувствуется и в поступке священника, вопреки церковному сознанию и постановлению, отпевшего наворовавшего во Христа Толстого.
Никто не спорит, что Церковь, основанная для спасения мира, уже в силу этого находит нужным молиться за всех людей. Еще Св. ап. Павел заповедал творить молитвы за всех людей (1Тим.2:1).
Св. Иоанн Златоуст по поводу этих слов апостола утверждает, что нами должно приносить молитвы за ближних не только за верных, но и за неверных995. При совершении Таинства Св. Евхаристии, по убеждению Св. Иоанна Златоуста, должны быть приносимы молитвы и за язычников.
Путь спасения для мира указан христианством через Церковь и потому, естественно, молитвы за людей, к ней не принадлежащих, выражаются в ходатайстве об их обращении к Церкви.
«Не молимся ли мы, – замечает св. И.Златоуст, чтобы все обратились ко спасению?». Такая цель молитвы за неверных подтверждается и свидетельствами представителей Церкви еще более ранних веков. Например, св. Ириней Лионский говорит, что христиане молятся за еретиков, чтобы они не остались в той яме, которую сами выкопали, чтобы они оставили тьму и законно родились, обратившись к Церкви Божией, и чтобы Христос образовался
—614—
в них996. А вот свидетельство об этом св. Иустина-философа, относящееся к XI веку: «Мы и за вас (иудеев), и за всех других гонителей наших молим, чтобы вы раскаялись вместе с ними и не хулили Христа... мы молим, чтобы вы уверовали в Него и спаслись в будущее славное пришествие Его и не были осуждены Им на огонь»997.
В древних литургиях, в этом сосредоточии христианского общественного богослужения всех времен, постоянно встречаются подобные молитвы за людей, не принадлежащих к Церкви. Например, в литургии Апостольских постановлений диакон, между прочим, должен возглашать:
«О врагах и ненавидящих нас помолимся, о гонящих нас за имя Господне помолимся, чтобы Господь, укротив ярость их, рассеял гнев их против нас. О внешних и заблудших помолимся». Архиерей затем также произносил: «Еще молимся Тебе и о ненавидящих нас и гонящих нас за имя Твое, за внешних и заблудших, чтобы Ты обратили их ко благу и укротили ярость их»998. Под внешними здесь разумеют нехристиан, а под заблудшими – еретиков999.
Молитвы за заблудших об их обращении в той или иной форме входят в состав литургии греческой Св. ап. Иакова1000, сирской Св. ап. Иакова1001, Св. ап. Фадея и Мария1002, греческой и сирской литургии св. Василия Великого1003, коптской литургии св. Кирилла Александрийского1004, литургии Св. ап. и ев. Марка.
В последней, например, священник должен молиться о заблудших, чтобы Бог привел их на путь спасения и присоединил их к святой Его пастве1005.
—615—
В книге «Кормчая» в главе XV при толковании 66 правила собора Карфагенского об отношении к древними раскольникам-данатистам разъясняется, что к отпавшим от Церкви нужно приходить с кротостью, беседовать с ними и молиться о них, чтобы оставили прелесть и познали истину1006. Далее в Православном Исповедании Кафолической и Апостольской Церкви Восточной идет речь о молитвах за еретиков и раскольников, чтобы они обратились к вере православной прежде конца своей жизни»1007.
Таким образом, вполне справедливо сделанное в форме вопроса замечание блж. Августина: «Когда же не возносилась в Церкви молитва за неверных и за врагов Христовых, чтобы они уверовали?».
Значение подобной молитвы хорошо разъясняет св. Иоанн Златоуст: «Священник, – говорит он, – есть как бы общий отец вселенной. Поэтому прилично ему заботиться обо всем подобно тому, как печется о всех Бог, на службу Которому он поставлен. Вследствие того апостол и заповедует молиться за всех. Отсюда проистекают два блага. С одной стороны, через это разрушается ненависть, которую иные питают ко внешним (не принадлежащим к Церкви), потому что никто не может питать враждебных чувств к тому, о ком моление творит. С другой – и они становятся лучше отчасти потому, что за них возносят молитвы, отчасти и потому, что они отлагают ожесточение против нас. Подлинно ничто не содействует столько успеху учения, как то, чтобы любить и быть любимым. Подумай также о том, что значило для тех, которые злоумышляли, наносили побои, изгоняли, умерщвляли христиан, услыхать, что те, которые переносят такие страдания, возносят к Богу прилежные молитвы за причиняющих им эти страдания. Видишь ли, в какой степени согласно с желанием апостола христианин должен быть выше всех?1008. Подобно тому, как к малым детям нисколько не уменьшается любовь, хотя бы дитя взятое на
—616—
руки, даже ударило своего отца по лицу, так и мы нисколько не должны уменьшать нашей любви к внешним, хотя бы мы переносили от них и удары»1009.
Нужно очень пожалеть, что высшее церковное управление, после объявления Толстого отпавшим от Церкви, не призвало вместе с тем к совершению церковной молитвы об его обращении. Правда, в определении Св. Синода от 20–22 февраля 1901 года № 557 с «Посланием верным чадам Православной Греко-Российской Церкви о графе Льве Толстом» Св. Синод в конце послания высказывает, что, свидетельствуя об отпадении Толстого от Церкви, «вместе молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины. Молимтися, милосердый Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй и обрати его к Святой Твоей Церкви». Но эта молитва Св. Синода, как видим, вполне соответствующая требованию церковного сознания, кажется, так и осталась лишь на бумаге. По крайней мере, никакого распоряжения о совершении церковных молитв за Толстого сделано не было, и многие духовные лица считали их даже невозможными. Когда насколько лет тому назад в России пожелали отметить 80-летнюю годовщину со дня рождения Толстого, были случаи попыток просить некоторых духовных лиц о совершении за Толстого церковных молитв. Но в этом было отказано. Конечно, мы не имеем здесь в виду те просьбы, которые вызывались не верой в значение Церкви и не признанием необходимости для Толстого обращения к ней, а стремлением устроить демонстрацию.
Между тем церковные молитвы об обращении Толстого в день его юбилея могли бы приобрести большое значение и в разных отношениях благотворно повлиять на Толстого. Они, как указывает св. Иоанн Златоуст, могли бы способствовать уничтожению того ожесточения к Церкви, какое иногда обнаруживал Толстой. Возможность этого подтверждается самими обстоятельствами кончины Толстого, в которых чувствовались проблески какого-то иного с его стороны отношения к Церкви и какой-то трагедии в его душе. Во всяком случае получение известия о смерти Толстого у
—617—
многих, преданных Церкви людей, сопровождалось, как нам они говорили, какой-то непонятной тяжестью на душе и каким-то неясным ощущением неисполнения своей обязанности. Может быть, это было вызвано именно недостаточностью церковной молитвы об обращении Толстого или, может быть, сознанием, что члены Церкви не пожелали или не сумели, применяясь к запросам Толстого, раскрыть ему во всей полноте и величии церковную идею о христианстве. Ведь нужно же признаться, что при жизни Толстого этого не было сделано, и, может быть, по причине именно этого многое у него, по-видимому, основано на недоразумении или на постороннем влиянии, от которого он был не в силах освободиться. Кто знает, может быть, недоразумение, во время разъясненное, или влияние, во время ослабленное, удержали бы Толстого от дальнейшего движения по пути отвержения оснований христианства и среди них Церкви.
Во всяком случае, мы, современники Толстого, в качестве представителей Православной Церкви, едва ли можем спокойно умыть руки в отношении к тому, что произошло с этим, во многом очень несчастным человеком, одаренным великим литературно-художественным талантом.
Но как бы там ни было, а Толстой, к несчастью, умер без раскаяния и соединения с Церковью.
Не касаясь здесь вопроса о возможности спасения для таких умерших, мы, во всяком случае, должны признать, что путь спасения нам указан лишь через Церковь и совершенно ничего не открыто о каком-либо ином пути для человека после его смерти. Поэтому вероятно, Церковь разрывала уже всякие отношения к лицам умершим вне общения с ней, предавая их милосердию Божию. Замечательно, что тот же св. Иоанн Златоуст, который так настойчиво выяснял возможность и даже необходимость церковных молитв за людей живых, находящихся вне Церкви и даже враждебных ей, рассуждает иначе, когда вопрос касается таких людей, уже умерших. Вот что говорит св. И.Златоуст: «Не напрасно установили апостолы, чтобы при совершении страшных таин поминать усопших. Они знали, что от этого много им выгод и
—618—
много пользы, когда весь народ и священный лик стоит с воздеянием рук и когда предлежит страшная жертва, то как не умолять Бога, прося о них (умерших). Но это», – прибавляет Златоуст, – «говорим о тех, которые скончались в вере». Даже умершие оглашенными, по утверждению Златоуста, лишены такой молитвенной помощи и он советует подавать за них бедным в надежде, что это может доставить им некоторую отраду1010.
В другом месте св. Златоуст не напрасными называет молитвы за литургией «о всех во Христе умерших»1011.
Поминовение на литургии умершего в глазах, например, св. Феодора Студита, является принятием его в православное общение. Поэтому св. Феодор, по его собственному утверждению, воспретил поминать в церковных молитвах одного еретика, умершего без соединения с Церковью. Это распоряжение он объяснил тем, что как можно вчинять такого в православное общение, когда он отошел в общении с ересью1012.
Подобно этому и в разных древних литургиях, содержащих молитвы о живых врагах христианства, мы совершенно не находим молитв о людях, умерших вне общения с Церковью. Молитвы об умерших имеют в виду исключительно «усопших верных»1013, в истинной вере»1014
—619—
или в надежде воскресения к жизни вечной1015 скончавшихся, тех, которые имели надежду на единородного Сына Твоего1016, умерших в мире с Церковью1017, облекшихся в Тебя в крещении и принявших Тебя с жертвенника1018, тех, которые со знаменем веры предварили нас и спят сном мира1019.
Замечательно, что в чинопоследовании одной из древних литургий Мозарабской при включении в молитву священника перед началом литургии рядом прошений за живых и усопших сказано «за грехи всех живых и умерших верных»1020.
Если же во время такого богослужения, как литургия, когда приносится Евхаристическая жертва, не встречается молитв за умерших, отвергавших основания христианства и Церковь, то уже один этот факт свидетельствует о том, что подобный молитвы в Церкви вообще не допущены.
Иначе, по-видимому, приходится ответить на вопрос о возможности за таких людей молитв частных или домашних. К сожалению, по этому вопросу нет какого-либо общецерковного решения, выраженного в тех или иных соборных постановлениях. Поэтому остается здесь пока руководствоваться или каким-либо преданием или советами людей, отличавшихся высотой духовной жизни и пониманием цели и значения молитвы.
По преданию, известный подвижник Востока св. Макарий Великий, живший в IV веке, совершал молитву даже за языческих жрецов1021. Но какое было содержание этой молитвы и когда она совершалась – об этом ничего неизвестно. Во всяком случае, если бы это была общецерковная молитва, то о содержании ее должны были сохраниться cве-
—620—
дения. Если бы это была общеобязательная молитва, пригодная для исполнения всеми, то Макарий Великий, естественно, научил бы и других, как это сделано им, например, относительно молитв, вошедших во всеобщее употребление в число молитв утренних и на сон грядущим1022.
При указании на молитву св. Макария о языческих жрецах нужно затем иметь в виду, что св. Макарий Великий принадлежал к числу тех людей, внутреннее состоящее которых он характеризует, очевидно, по собственному опыту следующими чертами:
«Теми, которые сподобились сделаться чадами Божьими и в себе имеют просвещающего их Христа, различно и многообразно управляет Дух, и в сокровенности их сердце согревает их благодать. Но всего лучше представить на вид некоторый из видимых мирских наслаждений для уподобления им Божественных утешений благодати в душе. Ибо сподобившиеся сих утешений иногда веселятся как-бы на царской какой вечери, и радуются какой-то невыразимой и неизреченной радостно; то соуслаждаются духовно, как невеста с женихом; то, как бесплотные некие ангелы, чувствуют такую удободвижность и легкость в теле, что не почитают себя даже облеченными в тело. Иногда они бывают приведены в веселие как-бы каким-то питьем, и упоеваются невыразимым упоением духовных таин; иногда же в плаче и сетовании слезно молятся они о спасении всех человеков; потому что горя Божественной духовной любовью ко всем человекам, восприемлют на себя плач целого Адама; а иногда, при услаждении духа, неописуемом словами, возгораются такою любовью, что, если бы можно было, всякого человека сердобольно укрыли бы они в собственном лоне своем, не делая никакого различия между худым и добрым; иногда столько унижают себя, что не представляют и человека, который был бы их ниже, но себя почитают из всех последними; то поглощаются неизглаголанною радостью Духа; то, подобно какому-нибудь сильному мужу, облекшемуся во всеоружие царское, исшедшему на брань и обратившему в
—621—
бегство сопротивных, и они таким же образом, оградив себя духовными оружиями, выходят против невидимых врагов, и низлагают их к ногам своим. В иное время окружает их великая тишина и безмолвие, покоит мир, и бывают они объяты чудным услаждением; в другое же время разумением, Божественной мудростью и неизследимым ведением Духа, по благодати Христовой, умудряются в том, чего никаким языком невозможно изречь; а бывает время, что увидишь их ничем не отличающимися, по видимости, от каждого из людей»1023.
По разъяснению великих подвижников христианства содержание молитвы находится в зависимости от степени духовной жизни человека. Молитва в своем существе не есть лишь произнесение слов, который не находят отклика в душе, а является живым выражением потребности духа и свойственного ему интуитивного восприятия Бога и мира. Молитва наша, например, о милости Божией к человеку будет тем живее и действительнее, чем более сердце наше наполнено расположением и милосердием к нему. В людях под влиянием не нужно христианской жизни может образоваться «милующее сердце». Великий подвижник св. Исаак Сирин указывает, что это есть «возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них, очи у человека источают слезы, от великой сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умаляется сердце его и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварию. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносить молитву, чтобы сохранились и очистились; а также и об естестве пресмыкающихся молится с велико жалости, какая без меры возбуждается в сердце его по уподоблению в семь Богу»1024.
Очевидно, что молитва, исходящая от такого сердца, может иметь иной объем, иное содержание, чем обыкновенно.
—622—
Она может, так сказать, не вмещаться в душу обыкновенного человека, оказаться для нее чем-то внешним, искусственным и потому бесплодным. Она может служить для нас идеалом молитвы, а не примером, которому мы были бы в состоянии сейчас же подражать вполне.
Другое предание о молитве за умершего, не принадлежащего к Церкви, связано с именем св. Феодора Студита, известного борца за православие в VIII веке во время иконоборческих смут. Один диакон обратился к св. Феодору с вопросом о молитве за умершего еретика иконоборца. Феодор Студит ответил в том смысле, что за него допустима молитва, но домашняя, а не церковно-общественная.
В последнее время по вопросу о молитвах за людей умерших вне общения с Церковью высказывался, например, недавно усопший русский подвижник и богослов епископ Феофан, много сделавший для разъяснения разных сторон духовной жизни человека. Одно лицо обратилось к еп. Феофану с вопросом, как поминать умерших в сектантстве родителей.
«В своей частной молитве, – писал ему еп. Феофан, – поминайте их и молитесь о них, обращаясь к беспредельной милости Божией и ей предавайте их участь. В церкви же нечего их поминать. Церковь молится о чадах своих, да сохраняют веру свою и преуспевают в ней, о сущих же вне Церкви молится обратить их к вере и присоединить к Церкви. Как обращение cие должно совершиться здесь на земле, то и сила сей молитвы ограничивается пребыванием на земле тех, о коих идет молитва... Предайте Богу участь родителей своих и молитесь о них в своей частной молитве сотворит с ними по Божием милосердии и по вере вашей в cиe милосердие»1025.
Другое авторитетное в деле духовной жизни лицо, Оптинский старец о. Амвросий, имел случай дать совет по поводу молитвы за самоубийц. Известно, что самоубийство, совершаемое в состоянии вменяемости, является тяжким
—623—
грехом уже в силу того, что оно сразу же лишает человека возможности покаяния.
Одну из основных заповедей «не убий» нет основания ограничивать лишь понятием другого. Она воспрещает всякое убийство человека и не менее других самого себя. Христианство указывает, что мы должны в течение нашей жизни выработать в себе христианскую личность. В нас всю жизнь должен происходить процесс образования внутреннего человека (2Кор.4:16). С достижением свойственной данному лицу степени развился этот внутренний человек подобно гусенице, сбрасывающей свою внешнюю оболочку и обращающейся в бабочку, улетает из тела в иной мир. Убийство себя есть насильственное прекращение этого жизненного процесса, оно прерывает духовное развитие человека, может быть в самый вредный для него момент и вызывает появление какого-то духовного недоноска, уже в силу этого обреченного на те или другие страдания. Нечего, конечно, и говорить, что такое насильственное прекращение своей жизни свидетельствует не о силе, а о слабости духа человека, особенно ярко выражающейся в неумении поддерживать жизненный интерес.
Поэтому, естественно, что древние церковные правила воспрещают молитвы и приношения за самоубийц. На священнослужителей, согласно 14 каноническому ответу св. Тимофея Александрийского, возлагается обязанность тщательно исследовать, в каком состоянии произошло самоубийство, вне ума или нет. Близкие люди предупреждают это правило, часто скрывают правду и объявляют самоубийцу действовавшим без ума, желая добиться за них молитв и приношении. Если окажется, что человек убил себя от малодушия, под влиянием обиды или по какому-либо другому случаю, то о таком, как сказано в правиле, не подобает быть приношению1026. В связи, очевидно, с этим церковным правилом старец Амвросий писал одной монахине, что по церковным правилам поминать самоубийцу в церкви не следует, а сестра и его родные могут молиться о нем келейно, как старец Леонид разрешил Павлу Тамбовцеву молиться об его родителе. «Выпиши эту
—624—
молитву (она напечатана в приложении к жизнеописанию старца Леонида), и дай ее родным несчастного. Нам известны, – прибавляет о. Амвросий, – многие примеры, что молитва, переданная старцем Леонидом, многих успокаивала и утешала, и оказывалась действительною перед Господом»1027.
Очевидно, о. Амвросий имеет здесь в виду следующий случай. У одного из почитателей старца Леонида, в схиме Льва, Павла Тамбовцева, отец окончил жизнь самоубийством. Великая скорбь по этому поводу охватила сына, и он просил наставления и утешения у старца. «Вручай, – отвечал ему о. Леонид, – как себя так и участь родителя воле Господней, премудрой, всемогущей. Не испытывай Вышнего чудес. Старайся смиренномудрием укреплять себя в пределах умедренной печали. Молись Преблагому Создателю, исполняя тем долг любви и обязанности сыновней». В разъяснение же того, каким образом совершать молитву, старец Леонид поучал: «по духу добродетельных и мудрых, – так: «Взыщи Господи погибшую душу отца моего; аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех сей молитвы моей. Но да будет Святая воля Твоя!». Молись же просто, без испытания, передавая сердце твое в десницу Вышнего. Конечно, не было воли Божией на столь горестную кончину родителя твоего; но ныне он совершенно в воле Могущего и душу и тело ввергнуть в пещь огненную, и Который и смиряет и высит, мертвит и живит, низводит в ад и возводит. При этом Он столь милосерд, всемогущ и любвеобилен, что благие качества всех земнородных перед Его Высочайшей благости – ничто. Для сего, ты не должен чрезмерно печалиться. Ты скажешь: «я люблю моего родителя, почему и скорблю неутешно». – Справедливо. Но Бог без сравнения более чем ты любил, и любит его. Значит, тебе остается предоставить вечную участь родителя твоего благости и милосердию Бога, Который, если соблаговолить миловать, то кто может противиться Ему»1028.
—625—
Возвращаясь к вопросу о молитве за Л.Н. Толстого, мы не можем, конечно, относить непосредственно к нему все эти мнения выдающихся по своей духовной жизни людей, высказанные по другим случаям и относительно других лиц с иным настроением. Но все-таки в этих мнениях мы находим некоторые, заслуживающие внимания, данные по вопросу о молитве за людей, умерших вне общения с Церковью, к каким принадлежит и Толстой.
Таким образом, священник, по поводу письма которого в газете идет речь, если у него в достаточной степени образовалось «милующее сердце», еще мог совершить на могиле Толстого, применяясь к особенностям его личности, свою частную молитву, а никак не церковное отпевание.
Н. Кузнецов
Сахаров Н.Н., свящ. Кризис в немецком протестантстве (1910–1912 гг.) // Богословский вестник. 1913, т. 1., № 3, с. с. 626–640 (4-я пагин.). (Продолжение.)
—626—
4. Печать и общество по поводу привлечения Ято к суду
Ответь пастора Ято на запрос верховного церковного совета составлены в таких ясных и определенных выражениях, что не оставляет ни малейшего сомнения в истинных убеждениях автора. Теперь, казалось бы, невозможно было защищать Ято с христианской точки зрения: человек, упорно и открыто отрицающий и ниспровергающий основные истины христианства, – идею личного Бога, Божество Спасителя, богооткровенный характер христианской религии, первородный грех, загробную жизнь, – казалось бы, только по недоразумению может называть себя христианином и не может быть терпим в качестве христианского священника. Но этот, по-видимому, очевидный вывод из ответа Ято оказался вовсе не очевидным для немецких либералов: верные принципам реформации, они усмотрели в решении в. ц. совета отдать Ято под суд – посягательство на «евангелическую» свободу веры и решительно восстали против этого, по их мнению, вредного направления в протестантстве. С другой стороны, волновались и «верующие» протестанты, глубоко возмущенные радикальными воззрениями Кёльнского пастора. В течение первой половины 1911 года, – со времени опубликования ответа Ято и до суда над ним, – весь религиозный мир Германии переживает крайне напряженное настроение: всюду созываются собрания, выносятся
—627—
резолюции, собираются подписи, посылаются в в. ц. совет протесты1029, петиции, запросы, пасторы с церковных кафедр громят – одни Ято, другие, Spruchkollegium, смотря по направлении, профессора на лекциях разъясняют свое отношение к злободневному вопросу, вся печать, – не только богословская, но и светская, – принимает живое участие в споре. Либералы действуют в пользу оправдания Ято, консервативные – в целях устранения его от должности. Укажем несколько наиболее важных выступлений.
Одним из первых выступил пресвитерий (совет старейшин вместе с пасторами) Кёльнской общины. Ему поручено было в. д. советом представить подробный отзыв о личности и деятельности Ято; исполняя это поручение пресвитера организовать несколько совещаний, но уже на первом совещании выяснилась полная невозможность составить единогласный отзыв в виду непримиримости взглядов либерального большинства и консервативного меньшинства. Приходилось совещаться отдельно, по партиям, и подать два отдельных отзыва. Отзыв либералов, подписанный одним пастором и 21 мирянином, составлен в самых лестных для Ято выражениях: Ято наиболее выдающийся и наиболее популярный из современных пасторов; церковь всегда переполнена, когда он проповедует, чего далеко нельзя сказать о его коллегах; именно его деятельности обязана Прусская церковь тем, что пропаганда выступления из нее (Austrittsbewegung), которую столь успешно ведут монисты, социал-демократы и пр., в других городах, в Кёльне потерпела почти полное фиаско. Успех проповеди Ято и популярность его либералы объясняют не только его необычайным ораторским талантом, покоряющим даже несогласных с ним, и не только его симпатичной и энергичной личностью, о которой ничего дурного не могут сказать даже враги его, но и самим мировоззрением Ято, нисколько, будто бы, не противоречащим христианству: сущность учения Ято состоит в том, что религиозное мировоззрение человека не есть нечто
—628—
законченное и неизменное, но лишь искание Бога, естественно, изменяющееся сообразно с различными условиями той или другой эпохи; а так как это искание Бога, говорят либералы, составляет и сущность учения Христа, то Кёльнская община вполне солидарна с учением своего пастора и уверена, что его от нее не отнимут. – Позитивные в своем отзыве, подписанном шестью пасторами и только четырьмя мирянами, готовы признать, что Ято, как пастор, вел себя вполне достойно и даже в отношениях к ним был всегда вежлив и любезен; не отрицают они и того, что, благодаря его выдающемуся ораторскому таланту и воодушевлению, проповедь его имела большой успех; но, с другой стороны, они не могут умолчать и о том, что за последнее десятилетие под влиянием либерально-богословских, философских и эстетических течений, в религиозных убеждениях Ято произошел переворот: то, что он теперь проповедует своей общине, стоит в полном противоречии с основными пунктами христианства; и если в некоторых атеистах Ято, действительно, удалось пробудить интерес к религиозным вопросам, то, с другой стороны, многих верующих протестантов он отклонил своим радикализмом от евангелической церкви и в Кёльнской общине поселил раздор и смуту; многих верующих смущает то, что со стороны церковной власти не было принято до сих пор никаких мерь против вредной деятельности Ято, и позитивные члены пресвитерия надеются, что в. ц. совет предпримет, наконец, что-либо решительное, чтобы не дать злу распространяться далее.
Не только пресвитер Кёльнской общины, но и сама община поспешила высказать свое отношение к делу Ято. Так, например, 29 янв. 1911 г. состоялось в Кёльне многочисленное собрание либералов (до 2000 человек), которое постановило выразить в. ц. совету глубокое недоумение и огорчение (Schmerzliches Befremden) по поводу того, что он, привлекая пастора к суду, не нашел нужными спросить саму общину, какого она мнения о своем пасторе. Являясь представителем огромного большинства Кёльнских протестантов1030, собрание считает себя поэтому вынужденным
—629—
заявить перед лицами всей Прусской церкви и всего мира (?), что Ято в течение всей своей свыше 20-летней жизни в Кёльне, был образцом благочестия; именно его воодушевленной проповеди обязана община тем, что место церковного отчуждения и индифферентизма заступила в ней радостная ревность по вере и оживленная церковная деятельность; те убеждения, к которым пришел Яго по вопросам о Боге, Иисусе, загробной жизни и пр., не могут быть названы ересью, так как в евангелической церкви должна господствовать полная свобода совести и богословского исследования; в виду этого, собравшиеся заявляют, что они и впредь будут держаться Ято, какая бы судьба его ни постигла, и призывают всех протестантов поддерживать их в предстоящей борьбе, от которой они ожидают не падения, а блага церкви1031.
Многочисленные бывшие ученики Ято (по Кёльну), в особенности те, которых он подготовлял к конфирмации, подали в. ц. совету петицию, в которой заявляют, что все они с восторгом и благодарностью вспоминают то время, когда Ято на своих уроках и беседах увлекательно раскрывал перед ними красоту Библии, высоту божественного откровения, жизненное значение христианства, – что его проповеди пробуждали в них интерес к религиозным вопросами и обогащали их религиозные познания; поэтому они просят в. ц. совет сохранить для Кёльнской общины пастора Ято, которому она столь многим обязана.
—630—
Общество «Друзей Христианского Мира» (Freundе dеr Christlichen Welt), весьма влиятельное в либеральных кругах, высказываясь против суда над Ято, приводит два аргумента: 1) в Кёльнской общине нет недостатка в пасторах всевозможных богословских направлений, и потому тот, кому Ято и его деятельность не нравятся, может беспрепятственно перейти к другому пастору; 2) сотни и тысячи прихожан Ято признают его деятельность благодетельной, и потому, если Ято устранят со службы, это будет тяжким ударом для Кёльнской общины и поведет, несомненно, к отчуждению многих от протестантской церкви.
Журнал «Chronik der Christlichen Welt» (1911, № 16. S. 184 u. ff), обыкновенно довольно спокойно и объективно обсуждающий злободневные вопросы, в этом случае весьма резко выступает против привлечения Ято к суду. Прежде всего, журнал находит, что закон, по которому собираются судить Ято, устарел, ибо масштабом истинного служения церкви закон признает исповедание веры XVI века, утратившее теперь всякое значение: теперь от членов церкви протестантской следует требовать не веры в устарелые догматы, в которые сами судьи не верят, а только того, чтобы они «искали Бога по примеру Ииcyca и любили своих ближних» (не Bekenntnisskirche, а Pesinnungkirche). Журнал признает большой ошибкой со стороны в. ц. совета предлагать Ято догматические вопросы, а еще большей ошибкой – со стороны Ято – отвечать на эти вопросы, так как догматика для него давно уже потеряла всякое значение: его царство – царство мистики, необъемлемой интеллектом. Кроме того, журнал не думает, чтобы устранение Ято с официальной службы принесло кому- либо пользу, даже позитивными пасторами, так как никто и ничто не может помешать Ято продолжать свою проповедь по-прежнему, хотя бы и не с церковной кафедры. Напротив, осуждение Ято, по мнению журнала, может причинить протестантству вред большой и непоправимый.
Известный Лейпцигский профессор, авторитет по церковному праву, Рудольф Зом (R.Sohm) с двумя коллегами (М.Lеnz из Берлина и Р.Natorp из Марбурга)
—631—
выступили с открытыми письмом1032 против Spruchkollegium, подписанным, кроме них, еще 430 общественными деятелями1033. В этом письме указывается на противоречие нового закона с протестантским церковным правосознанием: во времена реформации церковной власти принадлежало право (и обязанность) решения вопросов веры и надзора за тем, чтобы все строго держались церковного исповедания; наше время не мирится с этим правом и с этой обязанностью, и прусская церковная власть сама созналась в своей некомпетентности, сложив с себя право суда по догматическим вопросам на Spruchkollegium. Но тем резче выступает противоречие: выходит так, что суд определяет учение Христово! Судебными приговорами и насильственным приведением их в исполнение думают помочь делу Евангелия: Зом уверен, что протестантству грозит великая опасность, если духовная деятельность пасторов будет связана постоянным страхом суда и если пасторов-модернистов, пустивших, как, например, Ято, столь глубокие корни в своих общинах, будут насильственно разлучать с этими общинами1034...
Что касается консервативной печати, то она, конечно, весьма сочувственно отнеслась к тому, что радикального пастора привлекли, наконец, к ответственности. Например, Evargelisch-kirchlicher Anzeiger vou Berlin (1911, № 9), отвечая на замечание одного парламентского депутата, – будто церковная власть, осуждая Ято, тем самым ограничивает деятельность пастора узкими рамками догматики, – возражает, что дело не в догматических формулах, а в решении вопроса, можно ли признавать учение Ято, вообще, христианским; веры в букву символических книг никто
—632—
и не требует, требуется лишь признание сущности христианства; христианская церковь должна знать свои границы, должна объявить, что модный монизм, проповедуемый Ято, не есть христианство. В. ц. совет, но мнению журнала, слишком деликатно обращается с Ято, спрашивая, не угодно ли ему будет несколько изменить свои взгляды и приблизиться к учению церкви, – ему, который уже несколько лет открыто проповедует язычество; необходимо, как можно скорей, очистить церковь от таких ложных пророков1035.
Берлинская «Die Reformation» (1911, № 5), полемизируя с «Christliche Freiheit» (орган радикального пастора Трауба), берет в. ц. совать под свою защиту, доказывая, что церковная власть исполняет лишь свой долг, привлекая еретика-пастора к ответственности: издав специальный закон о ересях (Irrlehregesetz) и не прилагая его к делу, она подверглась бы только общему осмеянию...
Даже социал-демократическая печать приняла участие в общем споре из-за Ято и, – как это ни удивительно, – высказалась против либералов. «Церкви принадлежит право исключать из своей среды того или другого члена», – говорит «Leipziger Volkszeitung» (от 8 апр. 1911 г.); – «и в данном случае дело идет об этом праве, от которого не может отказаться никакое общество, никакая пария. Ято в своем учении зашел далеко за пределы евангелической церкви, и говорить о какой-либо нетерпимости, о насилии над совестью со стороны этой церкви могут только либералы, которые всегда возмущаются не там, где следует... Ято признается всем, даже противникам, за честного, прямого человека, и тот, кто его знает, не может удивляться, почему он сам не сбросит с себя рясы и не порвет окончательно связи с церковью, с которой у него так мало общего»...
Защищает Spruсhcollegium и профессор А. Гарнак1036, который, полемизируя с проф. Зомом, выставляет след.
—633—
тезисы: 1) неверно, будто в лице Spruchcollegium «суд определяет учение Евангелия»: Spruchkollegium решает только, принадлежит ли такой-то пастор по своим религиозным убеждениям Прусской евангелической церкви; 2) существование Прусской евангелической церкви неоспоримо, неоспоримо и то, что она не есть только национальная церковь, объединяющая в себе всех некатоликов и неиудеев без различия убеждений; 3) а раз эта церковь обладает известным исповеданием веры, то она должна хранить и защищать его; 4) исповедание это не есть лишь правовой документ известной эпохи, но живое свидетельство евангелического образа мыслей, основанное на Св. Писании, символических книгах реформации и на христианском coзнании позднейшего времени; 5) сделать из этого исповедания веры мерило (Masstab) для евангелического пастора (измеряться должна вся деятельность его, а не одни лишь богословская убеждения) – и есть настоящая задача, которая может быть разрешена, конечно, только несовершенно, но которая должна быть разрешена, так как, в противном случае, прусская евангелическая церковь или должна погибнуть, или пойти по пути католического формализма; другого исхода нет; 6) возложить эту задачу на церковную власть не соответствовало бы протестантским принципам, следовательно, надо было создать особый церковный орган, который, по возможности, являлся бы представителем церкви, мог бы разобраться в каждом отдельном случае и удовлетворять нуждам отдельной общины; 7) таким органом, и является Spruchkollegium; 8) протест против подробностей нового суда понятен, но протест против его основного принципа может исходить лишь из ложных предпосылок.
5. Суд над пастором Ято
Так как Ято в своем ответе в. ц. совету не выказал ни малейшей готовности изменить своих религиозных убеждений и даже еще далее развили их и подтвердили, но дело передано было на решение Spruchkollegium. 23 и 24 июня 1911 года в Берлине, в помещениии в. ц, совета, состоялось два заседания судебной коллегии. В качестве судей присутствовали: президент в. ц. совета Voigts, ко-
—634—
Торый был и председателем коллеги; 2) и 3) оба вице-президента в. ц. совета – духовный Dryander (придворный проповедник) и светский Мöller; 4) старший член в. н. совета Koch; 5) и 6) два профессора богословия, назначенные императором Вильгельмом по представлению в. ц. совета – Haussleiter из Грейфсвадьда и Loofs из Галле1037: 7), 8) и 9) три члена Прусского Генерального синода по выбору – Graf Hohenthal, супер-интендант Wetzel и проф. Каhl (составитель нового закона); 10) заместитель генерального супер-интенданта, советник консистории Mettgenberg; 11), 12) и 13) три члена провинциального синода по выбору: супер-интендант – Stursberg, пфаррер – Hafner и коммерции советник – Conze. Ято явился с двумя своими защитниками, проф. Баумгартеном из Киля и пастором Трау-
—635—
бом из Дортмунда. Публика и представители печати не были допущены на заседание, но некоторым лицам (членам в. ц. совета, родственникам подсудимого, представителям берлинского протестантского духовенства и Кёльнской общины, редакторам некоторых богословских журналов и пр.) председатель разрешил присутствовать. Из 11 свидетелей, выставленных защитой, выслушан был почему-то только один, да и то совершенно случайный, – не из Кёльна, а из Эльберфельда, где подсудимый когда-то читали рефераты; показание этого свидетеля не имели, конечно, никакого значения. Началось заседание 23-го июня, пятичасовым рефератом члена коллегии Коха, изложившего подробно всю историю дела Ято. Затем приступили к допросу обвиняемого, продолжавшемуся часа три. Установив некоторые биографические данные Ято, председатель спросил его, помнит ли он еще текст священнической присяги, которую он должен был произнести при поступлении в пасторы 31 год тому назад, а также текст грамоты (Berufungsurkunde), которая подписана была им при назначении в Кёльн и в которой говорится, между прочим, что ересь есть яд для общины. Ято был крайне удивлен таким вопросом и отвечал отрицательно. И грамота, и присяга были ему вновь прочитаны. Тогда перешли к обсуждению догматических вопросов, и началась весьма интересная и характерная беседа между Ято и его защитниками, с одной стороны, и членами суда, с другой; из последних главную роль при допросе обвиняемого играл Дриандер. Ято, по предложению председателя, повторил еще раз, что он не признает внемирового Бога, что Бог для него есть Мир и Mир – Бог. Трауб, видя, что Ято и не думает смягчить своих прежних показаний, сделал попытку, спасая своего клиента, завязать богословский диспут, в котором он, вероятно, остался бы победителем: указав на то, что Ято, согласно § 1 закона о ересях, судится не за то, что он отступил от учения церкви, а за то, что он слишком далеко отступил (dergestalt, dass...), – недалеко отступить, очевидно, можно, Трауб задал суду коварный вопрос: где же та мерка, та граница, которая отличает законную, так сказать, степень отступления от незаконной, другими словами – на основании
—636—
какой нормы могут судить и решать члены коллегии о том, имеет ли право тот или другой пастор оставаться в церкви или нет. Если бы судьи подняли перчатку, брошенную им Траубом, то они, несомненно, поставили бы себя в очень неловкое положение и, пожалуй, из судей превратились бы в подсудимых, так как в протестантстве нет и не может быть такой нормы, и, следовательно, такое или иное решение сводится исключительно к субъективному суждению 13 человек, которые сами несогласны между собой в основных пунктах вероучения и из которых ни один, вероятно, не подписался бы под каким-нибудь Аугсбургским Исповеданием или Формулой Согласия, на основании которых они собираются судить Ято. Коллегию спас Дриандер (придворный проповедник), сразу понявший опасность и заявивший Траубу, что не дело Коллегии вести богословский диспут, – и допрос продолжался:
– Вы – пастор христианской общины, член христианской церкви, – говорил председатель – как таковой, Вы должны признавать совершенство христианства.
– Христианство, – упорствует Ято – не есть единая истинная религия; во всех религиях есть доля истины и доля заблуждения, и только путем мирного соревнования между собой религии могут достигать высшего совершенства.
– Не думали ли Вы когда-либо о том, что Вы нарушаете Вашу священническую присягу? И разве Церковь, взявшая с Вас эту присягу, не имеет для Вас никакого авторитета?
– Внешним авторитетом для меня является только моя община, но еще выше авторитета для меня – это моя совесть, мои убеждения...
На вопрос о грехе, Ято отвечал, что человек рождается, так сказать, нейтральным, обладающим способностью развития и может развиваться и в сторону добра, и в сторону зла; поэтому человек не нуждается в крещении, крещение – лишь обряд приема в христианскую общину.
– Что же такое, по-Вашему, грех? – спрашивает Дриандер, – чувствуете ли Вы страх пред Богом?
– Страх, – отвечает Ято, – есть самое ужасное состояние души; страх и есть грех».
Что касается учения церкви о Божестве Иисуса Христа, то Ято еще раз заявляет, что он отрицает это учение: никакого посредничества между Богом и людьми, никакого примирителя он не признает, не признает и
—637—
факта искупления. Не верит он и в загробную жизнь: зло и добро существуют, по его мнению, лишь на нашей планете; что происходит на других планетах, он не знает; с гибелью нашей планеты, погибнет все, а что дальше будет, – не знает никто, ни он, ни члены коллегии. Председатель заявляет, что он, несмотря на показания Ято, считает своим долгом спросить его в последний раз, остается ли он при своих убеждениях. Ято отвечает утвердительно, но при этом прибавляет, что за свои убеждения в будущем он не может ручаться, как и никто другой, так как человек развивается и изменяется. Гауслейтер спросил Ято, неужели совесть не подсказывала ему, что ему нельзя, будучи монистом, оставаться протестантским пастором, и как он мог молиться, раз молитва для него есть лишь беседа с самим собой, как он мог, например, на праздники Рождества, Пасхи и Троицы петь церковные песни, в которых говорится о Божестве Иисуса Христа, раз он в это Божество не верит? На это Ято отвечал: «Мой единственный ответ на все это – моя Кёльнская община»… У него нет такого чувства, что он находится вне протестантской церкви. Душевную борьбу в молитве он выдержал, может быть, более сильную, чем другие... Церковные песнопения содержать в себе так много высокой поэзии, и почему же и ему не наслаждаться этой поэзией? Никакого названия для своего учения он не признает; он не пантеист и не монист, но если уже непременно хотят как-нибудь назвать его, то пусть называют панэнтеистом1038. Гафнер спросил, как относится к основной мысли Библии – искуплении. Ято отвечал, что в Библии есть много разных мыслей, и важных, и менее важных, и совсем неважных (gute Gedanktai, minderwertige und wertlose), но никакой основной мысли нет. Дриандер указал на то, что, так как для Ято никакой необходимости в существовании Христа нет, то почему бы ему не порвать совсем с христианством, которое для него все равно не имеет никакого значения. Ято заявил
—638—
на это, что он не хочет брать на себя ответственности за тот переполоха. (Konfusion), который произошел бы, если бы он порвал с христианством; каждый верить в то и так, что и как он переживает; Христос для него есть идея гения человечества.
На другой день, 24-го, заседание открылось речью защитника, проф. Баумгартена; он говорил 2,5 часа, но едва ли произвел на слушателей сильное впечатление в пользу Ято. Он должен быль сознаться, что Ято, действительно, слишком далеко отступил от общепринятого церковного учения и притом в своих ответах на суде; – еще далее, чем в своих прежних показаниях, и что он сам, Баумгартен, не разделяют его радикальных взглядов. Но он указывает в защиту Ято на то, что догматика никогда и не играла для последнего сколько-нибудь значительной роли: он плохой богослов и плохой философ, он, скорее, поэт, энтузиаст, он знаменит своим нравственным влиянием на паству; церковь, где он проповедовал, бывало всегда переполнена, он пользовался уважением всех, с кем ему приходилось встречаться. В подтверждение этого Баумгартен ссылается на многочисленные (до 150) письма к Ято, находящаяся в его распоряжении, и штук 30 из них читает судьям; письма эти доказывают, как высоко ценили Ято в Кельне, и какое сильное и благотворное влияние имел он на свою паству. Что касается присяги, – проповедовать в чистоте Евангелие Иисуса, – которую Ято давал при поступлении в пасторы, то, по убеждению защитника, он и не нарушал этой присяги, так как то, что Ято проповедовал, и было именно Евангелием Иисуса, как он себе его представлял. Ято никогда не был разрушителем, анархистом; напротив, вся деятельность его носит позитивный, созидательный характер и осуждение его, несомненно, повлечет за собой отчуждение многих от церкви... Другой защитник, пастор Трауб, рассматривал, главным образом, юридическую сторону процесса. Он отрицал компетентность нового суда: как в принцип, так и по составу коллегии, и по условиям судопроизводства, – в принципе потому, что в протестантстве нет объективной нормы для суждения о том, что составляет ересь; по составу коллегии потому,
—639—
что ни народ, ни, в особенности, Кёльнская община не имеют в ней своих представителей, – по условиям судопроизводства потому, что не следовало начинать судебного дела только из-за доноса какого-то Вуппермана и др., когда целая Кёльнская община, даже позитивное меньшинство, высказалась одобрительно о деятельности Ято; кроме того, Ято судят, главными образом, за такие дела, которые совершены были за последние пять лет, тогда как 29 лет его службы не приняты вовсе во внимание... В своем заключительном слове Ято сказали, что для него лично совершенно безразлично, осудят его или оправдают; они до сих пор уверен, что его деятельность не расходится с принципами протестантской церкви и что он мог бы оставаться протестантскими пастором. Ему жаль лишь своей Кёльнской паствы, если ему придется разлучиться ей ней, другой такой они не найдет нигде...
После двухчасового совещания вынесен был обвинительный приговор: «Судебная коллегия констатирует, – на основании данных судебного расследования, согласно § 1 закона о ересях, – что дальнейшая деятельность пфаррера Ято в Прусской евангелической церкви старых провинций несовместима с отношением его к исповеданию веры этой церкви».
В силу этого приговора Ято потеряли право совершать официальные функции пастора в старых провинциях Пруссии. Следовательно, если бы его пригласили перейти в один из городов новых провинций или в другое какое-либо государство, входящее в состав Германской империи (Бавария, Саксония, Вюртемберг, Баден и др.), то он мог бы там продолжать свою службу, так как протестантские церкви отдельных государств Германии (так наз. Landeskirchen) совершенно независимы одна от другой. Но и в своем Кельне Ято может оставаться пастором, только неофициальным, и он, действительно, остался в Кёльне. Там нанято особое помещение под церковь, где часть его прежней общины продолжает слушать его проповеди. Таким образом, в духовном смысле осужденный потерял немного. Но еще менее он потерял в материальном отношении; он лишился казенного жалования (6800 марок) и казенной квартиры, но получил заслуженную им пенсию за
—640—
свыше 30-летнюю службу в количестве 6000 марок в год. Кроме того, его единомышленники собрали особый капитал, так наз. Jathospende (достигший уже через месяц 180000 марок1039, проценты с которого идут в пособие, низложенным либеральным пасторам, т. е. прежде всего, – ему. Наконец, пользуясь сенсационным характером процесса, он разъезжает по более крупным центрам Германии и всюду читает рефераты о своем деле при довольно высокой иногда входной плате, что также доставляет ему никоторую поддержку1040. Не говорим уже о его журнальной деятельности, о бойкой торговле его брошюрами, проповедями и проч.
Розанов В.В. Впечатления мирянина: (об анафематствовании) // Богословский вестник. 1913. Т. 1. № 3. С. 641–650 (4-я пагин.).
—641—
1. «Торжество Православия» в служении Антиохийского Патриарха
Уй, как страшна «анафема», – тоскливая, печальная... Церковь всегда благословляет, все 364 дня в году благословляет: но один день, 365-й, она проклинает. И это проклятие такое страшное1041.
Его произносит протодиакон: «анафема!» – как выковырнул ломом булыжник из мостовой. И повторяет трижды хор, причем два первых повторения – тягучих и страшных, «с какой-то тоской в сердце», а третье повторение уже в обычных церковных тонах, и как будто говорит «ничего». Иерархи же молчат. Но ведь и протодиакон, и хор – второстепенные чины богослужения. Я же уядовитил анафему, вложив ее сперва – в первой линии – в уста детей, отроков, мальчиков, и, затем, перенося в уста иерархов церкви, старцев, стоящих тут же, лицом к лицу, в два ряда. Это пение иерархов, старое и некрасивое, всегда в богослужении производит неизгладимое впечатление. И понятно – это главное: это глагол Церкви.
Я взял у студента «Чин службы Торжества Православия», и заглянул: «Отметающим бессмертие души – анафема!». Как?! Это так нужно нам, старым, слабыми, больными: но мы не смеем надеяться, нет веры, знания, доводов. Ничего
—642—
нет, душа истрепана. Вдруг, можно сказать, «перед всеми правительством» и вообще столь официально, торжественно, этим заставляющим дребезжать стекла в окнах голосом протодиакона – Церковь проклинает каждого, кто усомнился бы... в чем?
О чем мы только шепчем нерешительно и молим Бога и Судьбу в грезах... Неужели Церковь так твердо знает, что душа не умрет? что моя мамаша и сестра Верочка не умерли, что А.С.Суворин – не умер, и все только «перенеслись куда-то». «Перенеслись» и «исчезли» – совсем разница: одно – нет! птичка убита! а другое – просто птичка умерла, и ничего страшного не содержит в себе.
«Нет, я не верю этому»... – Анафема! выворачивает протодиакон.
Платон тут клевал кое-что в «Федоне», но такие длинные доводы, что даже и не поймешь скоро. И «куда птичка улетела»? Если – «к Богу», то ведь вот Куприн, и Арцыбашев говорят, что «и Бога вовсе нет»...
– Отвергающим быmие Божие – анафема! – раскатывается по всему Исаакию Далматинскому.
Ах!.. Да что же это такое? Так перед всеми чиновниками, перед «зрителями», каков и я грешный, можно сказать перед публикой и народом, собравшимся с Невского и из департаментов, Церковь «отрекает» и «проклинает» всех, кто дерзает колебать вслух, или даже лично для себя сомневаться ...в чем?
Что... мне всего дороже, нужнее, за что я не усумнился бы «самую жизнь отдать», если бы эта «отдача жизни», – жертва очень маленькая и никому ненужная, – могла сколько-нибудь пособить. Но ничего не «пособить», – если я и умру за эту идею, – «существованию теперь» нашей дочки Надюши, скончавшейся почти двадцать лет назад...
– Анафема!
Выходить что-то странное, как будто Церковь «уже умерла» за эту идею, – боролась, вынесла битье и победила «за эту идею», и вынесла победу в мир, и вот теперь мне, в уголку Исайя, шепчет, что наша Надюша – не умерла, что моя мать – не умерла, что друзья мои – не умерли, и все живы, я живы вечно!
—643—
Шепот души... моя личная тайная мечта; да и не мечта, – куда! – а ужас, что «невозможно» и «нет».
И протодьяконский рев (простите!), кричащий победу, – именно победу в самом голосе: «есть», «живы», «вечны».
Что же такое и где я присутствую? Дым ладана, горящие свечи, колонны, простор, великолепие. Все-таки я учил учебнички, и, мне кажется, – я опять в Парфеноне, около которого Платон «клевал» о бессмертии души, но далеко не так твердо, как этот демонский протодиакон... Да и один ли Парфенон; встает «первый на земле» Египет, начала которого никто не видел и не знает, и который первый из людей «выдумал Бога», и сегодняшняя «анафема» «сомневающимся в бытии Божием» защищает уже не одного Платона и Парфенон, но защищает и этот Египет, с его пирамидами, загадками и вечностью... на все «наше легкомыслие», которое мутит около вечных оснований всемирной цивилизации – не христианской только, и даже не только европейской, а как она росла из Египта через Грецию, Сирию, Афины и Рим, к нам.
Я отдал «Чин» студенту, и, посмотрев, шепнул с улыбкой: «Слышали – отвергающим бессмертие души: т. е. всем университетам, ибо кто же из научившихся в университете, и все профессора их, не отвергают бессмертия души?».
Он улыбнулся и кивнул головой. А я додумал:
– Какая пустельга все это. Ну, что такое «наши университеты» против одного вот этого богослужения 2-го марта у Исаакия: где мне шепнули в уголок души обещание, что все живы и никогда не умрем? Кто же из профессоров в это знает и кто выговорить с уверенностью? У них, бедных, тоже дети умирают, и они бедные сами себе не смеют сказать утешения. Церковь же говорит не себе и не шепотом про себя. Всему человечеству, на всю планету она гремит победные истины, которые одна держит в руках и не выронила, держит от пирамид и от Платона до нас: и не только их защищает, эту драгоценную мечту всякого, это счастье души всякого, это утешение в скорби каждому: но поднимает дреколья и хочет бить каждого, кто посягнул бы на утешение рода человеческого.
—644—
Да, «дреколья»: ибо протодьяконский голос именно как «дреколье».
Одна – осмелилась!
Одна – знает!
Одна верит!
Одна устояла против волн суеты, легкомыслия и не «заигрывала с Вольтером».
Была серьезна.
Была трагична.
Не помутила.
Не улыбнулась.
И не уронила фиал с вином от Самого Христа, Сына Божия.
И сердце мечтало: анафема! анафема!
2. Не нужно давать амнистию эмигрантам
«Молю вас, остановите, компанию «Нового Времени» против амнистии. У меня нет средств общения с вами кроме письма, которое идет 8 дней. Я хотел телеграфировать вам, но боялся, что вы были бы удивлены моей смелостью – настойчиво беспокоить вас».
«Кому будет плохо, если сотни и тысячи несчастных, истерзанных, замученных жестокой судьбой, вернутся в семьи? Зачем поддерживать эту жестокость, это посрамление всего лучшего, что есть в неокончательно загаженной человеческой душе? Я спрашиваю вас, во имя чего это новое надругательство, новый черный позор? Кому помешают полутрупы, из которых может быть половине суждено только приехать умереть в России? Зачем еще мучить, травить, изгонять? Видали вы эмигрантов за границей? Наблюдали вы их беспросветную жизнь, их муки? Кто искупить их, чем они будут искуплены?
«А тюрьмы, клоповники, очаги тифа, низости человекообразных зверей, гнусные насилия? Мы вместили в душе вашей много, очень много. Страшно вас читать, мучительно о вас думать. Как бы я хотел вас умолить, чтобы вы сами вам одному известными способами и путями сделали что-нибудь, что нужно сделать, – за что вы отдадите отчет (Богу? В.Р.), когда наше «чтение» окон-
—645—
чится и нужно будет сдавать экзамен по «прочитанному», – когда настанет вечный (†), как вы раз писали, после «Со святыми упокой», как вы тоже писали».
Вот можно сказать вопль души, – в частном письме, мной сейчас полученном, от корреспондента из Вены, который перебросился до этого письма со мной одним- двумя письмами на историко-религиозные темы. Корреспондент мне лично вовсе неизвестен. Фамилия – русская или может быть польская (на «-ский»).
Отвечаю таким же воплем, и, может быть, тоже отчаяния.
Что же нам делать с этими детьми, проклявшими родную землю, – и проклинавшими ее все время, пока они жили в России, проклинавшими устно, проклинавшими печатно), звавшими ее не «отечеством», а «клоповником», «черным позором» человечества, «тюрьмой» народов ее населяющих и ей подвластных?! Что вообще делать матери с сыном, вонзающим в грудь ей нож? Ибо таков смысл революции, хохотавшей в спину русскими солдатами, убиваемыми в Манчжурии, хохотавшей над ледяной водой, покрывшей русские броненосцы при Цусиме, – хохочущей и хохотавшей над всем русским, – от Чернышевского и до сих пор, т. е. почти полвека? Об этой матери в этой «загранице» они рассказывают, что она всего только блудница и всего только воровка, которую давно надо удавить на грязной веревке, и звали сплетать эту петлю на родину кого попало, – Шваба, Чухонца, Армянина, Еврея, Поляка, Литовца, Латыша. «Давите эту собаку – Россию, – давите ее ко благу всего просвещенного и всего свободного человечества: ибо она насылает на человечество мор, голод, болезни и всего больше клопов». Вот литература эмигрантов, засыпающая вас сейчас как вы переедете через Вержболово и границу. Был ли из этих «эмигрантов» хоть один человек, который обмолвился бы добрыми словом о родине, добрыми вздохом о России? Напечатайте, если есть доброе слово. Нет ни одного! Ни одного слова доброго за много лет! Что же вы мучите Россию, что же вы тянете жилы у старухи 900-летней старости, 900-летнего труда, 900-летнего терпения, которая собирала дом свой 900 лет, и
—646—
вот напоследок «деточки», обретясь к северу, югу, востоку и западу, восклицают: «Тащите все по бревнам, по доске, тащите, кому что надо – бери один крышу, другой стены, третий забирай печь, убивайте скот ее, коровенку ее, лошадь ее, жгите гумно и хлеба, ломайте соху и борону, и грабли, и заступ, и серп, и прялку!».
Вот смысл революции!
Они захотели, эти «деточки» – «могилки на родной стороне». Нет у них «родной стороны». Родная сторона их – «заграница», там, где в Ницце покоится величественный прах Герцена. И все они «величественные», эти эмигранты: «великий» Лавров, «великий» Крапоткин, «замечательный философ» Плеханов и «пророчественная» Екатерина Брешковская, не говоря уже о праведнице и сотруднице «Русских Ведомостей» Вере Фигнер. Величия столько, что не оберешься, и кто же «за границей», читающий «эмигрантскую литературу» и слушавший «эмигрантские разговоры», не знает той истины, что есть две России: клоповник к востоку от Вержболова и «рай в изгнании» – к западу от Вержболова. Это – «райские люди», все наши эмигранты, невинные, непорочные, без грехопадения в себе и только немного нуждающееся в деньгах. Вот некоторое «мамашино наследство» им интересно, а нисколько не «могилка на родине». Переехав сюда, они сейчас же найдут применение талантами и врожденному усердию нашептывать, внушать, распространять. Они будить нашептывать нашими детям, еще гимназистам и гимназисткам, что мать их – воровка и потаскушка, что теперь, когда они по малолетству не в силах ей всадить нож, то, по крайней мере, должны понатыкать булавок в ее постель, в ее стулья и диваны, набить гвоздиков везде на полу... и пусть мамаша ходит и кровянится, ляжет и кровянится, сядет и кровянится. Эти гвоздочки они будут рассыпать по газеткам. Евреи сейчас им дадут «литературный заработок»: в «Копейке» ли, в «Шиповнике» ли, в «Энциклопедии ли Брокгауза и Эфрона» будут платить полным рублем за всякую клевету на родину и за всякую злобу против родины. «Делишки» поправятся у эмигрантов, и они могут кушать не то что в кухмистерской, но иногда и у Балкина. О, какие они
—647—
«полутрупы»! – отличные женихи: ведь они ходят петухом, гордость в лице невыносимая, «демонический взгляд» и опаленные крылья Абадонны. Такой меньше генеральской дочери не возьмет. Свадеб в России, конечно, увеличится, и с этой точки зрения я готов бы посочувствовать. Но, с другой стороны, – беспокоит судьба этих генеральских дочерей и дочерей обедневших княжеских и вообще титулованных девиц, до которых женихи «демократического вида» очень охотливы. Видал я таких «титулованных дочек», посаженных демократом в закуту, в провинцию, а то так и совсем за городом, пока муженек-демократ разваливается в креслах и проповедует замечательные свои идеи то у банкира, то у богачки-помещицы, то у многотысячного инженера. Извините за подробности, которые нам видны в России и, может быть, не видны в Вене, Париже и в Женеве. Вернуться в Россию ищут не евангельские «блудные сыны»; и больше, нежели Христос указал сделать отцу в отношении возвращающегося «домой» сына, – вы не можете, и никто не может требовать от России. Раскаявшегося – да, отец примет, и Россия примет. Но не раскаявшегося, по-прежнему злобного, по-прежнему с криком и шепотом «жги, уноси, растаскивай, ломай», кто же примет, и какой отец обязан принять в свой дом?!
Христос – не указал.
А я отвечу корреспонденту: не нужно.
Не нужно звать «погрома» в Белосток, не надо «погрома» звать и в Россию: ибо «революция» есть «погром Poccии», а эмигранты – «погромщики» всего русского: русского воспитания, русской семьи, русских детей, русских сел и городов, как все Господь устроил и Господь благословил.
Да, Господь благословили Россию, несмотря на все ваши проклятия и все ваши «гвоздочки». Гимназистом шестого класса я читывал в «Отечественных Записках» в отчетном январском (или декабрьском) номере: 75 тыс. населения, и 670 тыс. годового дохода. Теперь мне 57 лет, а прошло с того времени всего сорок лет, и Россия удвоилась – населения 160 миллионов, а дохода более 2 миллиардов, чуть ли не подползает к трем. Вы ее про-
—648—
клинаете, – а она все богатеет, вы ее презираете, – а она все могуществует. И много всякого «добра» уродил Господь России: кроме «поразительного» Крапоткина есть у нас Менделеев, Бутлеров, Меншуткин, Зимин; кроме «философа» Плеханова есть «истиннорусский философ» Страхов, да был еще «благочестивый» Сковорода. Кроме «праведницы» Веры Фигнер, у нас была истинная героиня подвига милосердия – княжна Дондукова-Корсакова. Кроме «большевиков» и «меньшевиков» социал-демократы! были Никита Панин, Сперанский, Милютин, Блудов. Poccия вообще не оставлена своими детьми, вы напрасно думаете, и эмигранты тоже напрасно это думаютъ. Около той безграничной ненависти, какую к ней питают заграничные refugiés (термин Герцена), параллельно ей горит восторг к ней, восторг и уважение, восторг и преданность все забыть и простить матери, простить ее ошибки, простить ее увлечения, простить ее слепоту – просто за то одно, что она нас родила – других ее сынов, – тех, заплеванных эмигрантами (начиная именно с Герцена) и проклятых эмигрантами сынов, из коих – если ограничиться литературой – последними были Н.Я. Данилевский, Н.Н. Страхов, Ап. Григорьев, С.А. Рачинский, средними – Тютчев, Аксаковы и Самарины, а старыми – Хомяков, Киреевские и князь Одоевский. А если не ограничиваться литературой – то были все смиренные строители домов и хижин в Poccии, все заводившие коровенок и лошаденок в Poccии, все умиравшие на полях Манчжурии и в Турции за освобождение Славян. Вообще, было довольно. И не «великим шлиссельбуржцам» говорит, что они «терпели и страдали», не героям вроде Савенкова-Ропшина кричать, что они были «в подвиге и крови»...
Господа, имейте стыд!:
Да рота солдат, идущая на штурм – вот вам целый Шлиссельбург с его «многотерпением». Да в каждом батальоне «героизма и самопожертвования» больше, чем во всей революции, со всеми ее героями и вшами...
Что вы расхвастались? О чем вы писали в «Былом»: все «Былое», в своих глупеньких двадцати томах, не рассказало того, не рассказало столького героизма сколько
—649—
есть ну хоть в каком-нибудь «Псковском полку», в «Зарайском полку», который сражался и при Суворова, и при Кутузове.
Что расхвастались?
Сидите смирно!
Вы подвига этого не видели, потому что вам об этом не рассказывали в «Былом», но этот подвиг был в молчании и смирении пронесенный: но Россия-то его видела, знает, а «проклятое правительство» тоже знает и оплачивает раны в государственном казначействе на Литейном. Там есть целое окошечко: «за раны и увечья воинским чинам», и подходят к нему с костылями, подходят старые, подходят убогие, подходят старухи или дочери павших и изувеченных воинов. Нет, наша мать – не «воровка», вы напрасно блудили и блудите языком; и эта мать – не франтиха-блудница, как вы тоже расславляли в «эмиграции». Она все сосчитала, все подвиги записала; мать эта – была героиней, бывали минуты – становилась она и святой, мученицей; теперь и пока и вовсе не вечно – она чиновница и экономка. Но и это – порядочное занятие и лучше, чем шляться заграницей и болтать попусту.
Вообще, наша мать – почтенная.
И почитающие ее сыны не хотят, чтобы она прощала и возвращала тех негодных сынов, которые ей изменили и предали врагам дома свой.
И если они вернутся: раскроются раны и заточатся вновь кровью всех настоящих мучеников русских, погибших при Цусиме, в Манчжурии, в Турции, в Польше, на Кавказе.
Вот наши герои.
Нам не нужно других.
Выбор нужно сделать такой: чтобы Россия отвернулась от своих тысячелетних хранителей и сберегателей, проливших за нее кровь и точивших мозг свой в труде, для нее, и, уже воистину перерядясь в мачеху, в нарядную кокотку, вдруг поклонилась Плеханову, Крапоткину и «женатому» Морозову с «Грозой и бурей» в кармане, сказав:
«Pardon, mon fils! J’etais grande pecheresse coutre toi. Allons a cancan…»
—650—
Не будет.
Не будет гадостей.
И эмигранты не вернутся.
«Дом» их сожжен ими самими. Сожжен ими в сердце своем. Нет у них «родной земли». Нет им ни жизни, ни могилы в проклятой, «отреченной» земле.
Отреклись – пусть отречение будет полным. Ни киселя, ни помады, ни крапленых карт.
Златоустов П.С. Выборы Константинопольского патриарха Германа V // Богословский вестник. 1913. Т. 1. № 3. С. 651–670 (4-я пагин.)
—651—
13 ноября 1912 года скончался константинопольский патриарх Иоаким III. Осиротевшей церкви предстояло выбрать преемника ему. Если бы почивший был заурядным патриархом и человеком, то выборы нового патриарха могли бы дать место надеждам на лучшее, и к ним можно бы было приступить с бодрящей уверенностью – выбрать достойного пастыря церкви. Но выбрать преемника Иоакиму III было нелегко.

† Патриарх Иоаким III
—652—
И в первое (1878–1884), и во второе (1901–1912) патриаршество Иоаким III оказался на высоте своего положения. Клир и народ знали хорошо, кого они выбирали, и после его первой отставки, при неоднократных выборах новых патриархов, снова указывали на него, и только Порта вычеркивала его имя из списка кандидатов. Действительно, Иоаким III не занимал только патриарший престол, а управлял церковью, стараясь направлять все ко благу ее. На все стороны ее жизни он обратил внимание. Он замечал разъединение духовенства и мирян, и желал их сближения; он пытался возвысить положение клира, но хотел и мирянам предоставить соответствующее участие в церковном управлении; он образовал народный смешанный совет (τὸ Διαρκὲς Ἐθνικὸν Μικτὸν Συμβούλιον) из 12 членов (4-духовных и 8-мирян); в организации Священного Синода он внес улучшения, также о порядке избрания apxиереев; он стремился упорядочить монастырскую жизнь; поднял экономическое состояние патриархии: улучшил устройство приходской жизни; реформировал брачное право; он много заботился о церковно-школьном деле; покровительствовал богословской науке и основал журналы «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια»; вел энергичную борьбу с католической и протестантской пропагандой и с религиозным индифферентизмом среди самих греков; сам благотворил и других призывал к благотворительности.
Успел ли покойный патриарх осуществить все, что он желал сделать? Такой исключительный успех редко выпадает на долю общественных деятелей. Так и Иоакиму III многое удалось совершить, но многое постигла и неудача. В некоторых случаях ему мешало турецкое правительство, из борьбы с которым он, впрочем, часто выходил с успехом (вопрос о разводе, о суде над клириками, о праве составлять духовные завещания и др.). Были у него стремления и такого рода, которые невозможно было осуществить сразу и без участия заинтересованных сторон: так, например, он не мог достичь единения между клиром и народом. Рознь эта существует и теперь, и она вызывает печальные явления («Πρόοδος», 23 января 1913 г.)
Когда была объявлена в Турции конституция, Иоаким III
—653—
не обманывал себя надеждой на то, что сейчас же наступит для всей оттоманской империи общее блаженное житие, как склонны были думать греки. И перед новым правительством он с твердостью отстаивал интересы своего парода. Но зато он и сам понимал трудность проведения в жизнь принципов нового режима и был гораздо умереннее своих единоплеменников в недовольстве новым строем государства. Часто, например, в патриархию приходили солдаты-греки и жаловались на свою тяжелую службу в турецких войсках. И патриарх обещал им снестись с властями, но, прежде всего, убеждал их возвратиться в казармы и исполнять свой долг. Недаром орган младотурок «Le jeune Turc» писал после смерти Иоакима III: «его будут оплакивать все, кто ратует за согласие и единение различных народностей империи». А султан при приеме местоблюстителя сказал следующие знаменательные слова: «покойный патриарх служил верно отечеству, и я не сомневаюсь, что местоблюститель последует его примеру».
Что касается известной болгарской схизмы, то Иоаким III был долго неуступчив. Он настойчиво противился, например, перенесению болгарской экзархии из Ортакея в Константинополь: он поднимал вопрос о запрещении болгарскому духовенству носить одежду такого же покроя, каким шьется одежда греческого клира. Только в последнее время началось сближение между греческой и болгарской церквами, и Иоаким III способствовали этому. Но, надо сказать правду, причиной этого сближения послужило не христианское миролюбие той и другой стороны, а одинаковое положение греков и болгар в оттоманской империи. И те, и другие находили свою жизнь невыносимой, и пришли к мысли о необходимости объединения для борьбы с общим врагом – турками. И, собственно с христианской точки зрения, толки об уничтожении схизмы не могли и не могут, поэтому, особенно радовать того, кто видел, как еще недавно грек не мог без ненависти говорить о болгарине, а последний отвечал ему тем же. В данном вопросе патриарх Иоаким III оказался настоящим греком. Говорят, когда болгары грозили занять Константинополь Иоаким III обратился к правительству с требованием
—654—
передать ему ключи от Айя-Софии. Если это правда, то отсюда видно, как он боялся, чтобы эта величайшая национальная святыня греков не попала в руки болгарам.
В проведении своих мероприятий Иоаким III был весьма настойчив. Встречал ли он полное сочувствие своим планам, находил ли ярых противников им, – он до конца отстаивал свои решения, хотя бы это и грозило его положению. Он не задумался выйти в отставку в 1884 году, когда Порта объявила об ограничении архиерейских привилегий и выдала касторийскому митрополиту берат (грамота с указанием прав) в измененном виде. Несколько раз он сталкивался с членами Синода и заявлял об отказе от патриаршества. Но все знали, что к нему пойдут депутации и упросят его остаться на престоле. Настолько для всех казалась невозможной мысль, чтобы Иоаким III покинул патриархию.
Но особенное впечатление производит на всех Иоаким III своей добротой. Эта сторона его личности хорошо оценена не только его единоверцами и единоплеменниками, но и иноверной константинопольской печатью. Католический «The levant Herald» писал по поводу смерти патриарха: «сегодня мы оплакиваем смерть Иоакима III, как человека глубоко доброго, филантропа, оставшегося верным заветам доброго Пастыря и никогда не уклонившегося от пути подражания Христу. Здесь мы не касаемся политических и религиозных вопросов, но оплакиваем потерю такой личности, которая олицетворяла человеческую доброту, блистала ею в течение всей своей жизни. Это был муж золотого сердца, забывавший себя ради других. Он отдавал свою одежду неимущим, свой хлеб – голодным. Он совершал благодеяния так, что о них и не знали. Сам он жил и умер бедным. По этой-то причине он, прежде всего, велик и достоин почтения». Отзыв католического органа нашел подтверждение в протестантском «Der osmanischer Lloyd». Армянский «Пузатион», между прочим, назвал почившего патриарха другом армянского народа; турецкий «Алемдар» отметил у Иоакима III украшавшие его высшие личные свойства и сказал, что его смерть опечалила не только греков, но и всех оттоманов.
—655—
Таков был покойный патриарх.
Для управления церковью до избрания нового патриарха так называемые Τὰ Δύο τῆς Ἐκκλησίας Σώματα1042 (12 митрополитов и 8 мирян) выбирают местоблюстителя (ὁ Τοποτηρητής) вселенского трона. 20 ноября был выбран и таковым амасийский митрополит Герман. Тогда же был составлен «мазбата» (грамота, направляемая патриархией к правительству), переданный потом в министерство юстиции и исповеданий. Отсюда он переслан был в Порту для обсуждения в совет министров. 23 ноября чиновник министерства исповеданий доставил в патриархию «буйурулды» (грамота правительства к местоблюстителю). В этом указе кратко сказано, что избрание митрополита Германа местоблюстителем признается законным и утверждается султаном.
Местоблюстителю присваивается церковная, административная и судебная власть, но не в полном объеме, как патриарху. Он стоит при богослужении на патриаршем месте (χοροστασία): ведает дела константинопольской епархии; председательствует в Синоде и в Δύο Σώματα; сносится с правительством, автокефальными церквами, посольствами и пр. Но в Синоде под его председательством не может быть сделано постановление о замещении какой-либо вакантной епископской кафедры или о хиротонии в епископы.
Но у местоблюстителя есть и особые права и обязанности. Он должен сделать все необходимые распоряжения, касающиеся избрания патриархa. В этом деле он руководится особым уставом – οἱ Ἐθνικοὶ Κανονισμοὶ περὶ ἐκλογῆς τοῦ πατριάρχου. Прежде всего, он рассылает извещение (ἐγκύκλιος – составляется и подписывается местоблюстителем и членами Синода) ко всем митрополитам патриархата с приглашением в течение 41 дня прислать в Константинополь письмо с указанием достойного кандидата патриарший престол. «Пусть ваше преосвященство подаст, согласно правилам о выборе патриарха, свой голос (ἡ ψῆφος) за того из числа иерархов нашей страны (τοῦ καθ΄ ἡμᾶς κλίματος), которого считает по своему епископскому благоусмотрению
—656—
и по нелицеприятному суду своей совести, действительно обладающим определенными в уставе качествами и могущим управлять кораблям церкви спасительно и славно, с без пристрастием и справедливостью предстательствовать и трудиться ко благу ее, особенно при настоящих обстоятельствах. Пусть ваше преосвященство напишет имя кандидата на листке (δελτίον), запечатает листок без своей подписи в конверт, приложит три печати и подпишет), просто «Δελτίον ψήφου», а пакет этот пусть пришлет в патриархию при письме на имя местоблюстителя: (Ἡ πατριαρχικὴ ἐγκύκλιος τῃ 26 Νοεμβρίου 1912). Так как 28 епархий имеют право посылать на выборы по одному депутату – мирянину, то в приведенном послании прибавлено и предписание озаботиться благовременно выбрать этих представителей. Члены Синода и митрополиты, случайно проживающие в это время в столице, за пять дней до выборов тоже подают каждый свое письменное мнение (ψηφοδέλτιον). Непременно должен быть на это время в столице митрополит гераклийский: он вручает избранному патриарху жезл. Это древнее установление, напоминающее то время, когда константинопольская епархия входила в состав гераклийской митрополии и константинопольский епископ находился в подчинении гераклийскому митрополиту. К указанным таким способом кандидатам во время самого избрания мирские члены собрания могут присоединить еще и своих кандидатов; нужно только, чтобы кандидатура указанных лиц получила одобрение, по крайней мере, трети духовных членов собрания.
Качества, требуемые от кандидата на патриарший престол следующие: турецкое подданство его и его предков, по крайней мере, его отца; почтенный возраст, безукоризненное семилетнее служение в качестве митрополита, богословское образование (диплом какого-либо православного высшего учебного заведения или халкинской школы), безупречное отношение к народу и доверие со стороны турецкого правительства, твердость в вере, догматах и преданиях Восточной церкви и, наконец, вообще добрая жизнь.
Само избирательное собрание (ἡ ἐκλογικὴ Συνέλευσις) составляется довольно сложно. В нем участвуют – 1) все члены Священного Синода (12); 2) случайно пребывающие (παρεπιδημοῦντες) в столице митрополиты
—657—
и митрополит гераклийский; если кто-либо из них уже взял до кончины патриарха документ для отъезда, тот не имеет права участвовать в собрании; 3) все мирские члены (8) Смешанного Народного Совета; 4) 21 лицо, избранные (большинством голосов) в Δύο Σώματα, а именно: а) 3 чиновника патриархии, между ними непременно великий логофет, б) 3 гражданских сановника 1 и 2-го класса, в) 2 военных в чине «миралай» (полковник), г) 3 гражданских чиновника, д) 4 наиболее известных ученых, е) 1 банкир, ж) 5 коммерсантов; 5) 10 представителей от столичных цехов (συντεχνίαι); цехи эти следующие: а) продавцы драгоценных вещей и золотых дел мастера (Τζοβαερδζῆδες καὶ Κουγιουμδζῆδες), б) продавцы медной посуды и лудильщики (Καζανδζῆδες καὶ Καλαηδζῆδες), в) продавцы лесного материала (Κερεστεδζῆδες), г) менялы (Ἀργυραμουβοί), д) торговцы бакалейными товарами, икрой, сыром и сладостями (Παντοπώλαι, Χαβιαράδες, Τυράδες καὶ Ζαξρεδζῆδες), е) хлебники (Ἀρτοποιοί), ж) продавцы материй и ниток, лент и т. п. (Τζανφεστσῆδες καὶ Τσοφτσῆδες), з) продавцы мехов и сукон (Γουναράδες καὶ Τσοχαδζῆδες), и) виноторговцы (Κάπηλοι), к) мясники (Κρεωπώλαι); 6) 2 избирателя от Константинополя; сначала каждый приход выбирает своего представителя; потом все представители сходятся в патриархии и под председательством местоблюстителя или протосинкелла выбирают из своей среды двоих; 7) правитель о. Самоса или представитель его; 8) 28 депутатов от 28 епархий (из числа 87 всех епархий патриархата1043; порядок избрания их различен: в одних епархиях митрополит и члены особого гражданского совета в митрополии (το Συμβούλιον τῶν δημογερόντων) назначают депутата (это по старому обычаю), в других – митрополит призывает представителей городов и селений, и депутат избирается по жребию. Таким образом, определенное количество членов избирательного собрания 82; к нему надо присоединить неопределенное
—658—
число случайно находящихся в столице епископов и гераклийского митрополита.
За 5 дней до истечения 41-дневного срока со дня посылки извещений по епархиям местоблюститель рассылает всем членам имеющего быть избирательного собрания повестки с указанием дня и часа первого заседания. Председателем собрания является местоблюститель. В случае разделения избирателей на две равные партии голос местоблюстителя дает перевес.1044
Такова в общих чертах система выборов патриарха. Перейдем теперь к только что окончившимся выборам.
Как выше сказано, трудно было избрать преемника такому патриарху, каким был почивший Иоаким III. Почти все сходились на том, что только митрополит халкидонский Герман может быть его достойным преемником1045. Но, к глубокому всеобщему сожалению, иерарх этот отказался выставить свою кандидатуру по преклонности лет и по болезни. Помимо же него, среди митрополитов не оказывалось ни одного, кто обладал бы общепризнанными, очевидными для всех качествами, требуемыми от патриарха. Было бы не трудно избрать почтенного, дельного митрополита, прекрасно управляющего своей епархией; но не было уверенности, чтобы он так же хорошо справлялся с целым патриархатом, особенно в настоящее, трудное для вселенской церкви время. «Ныне не может быть и речи о том, чтобы мы поступили по известному принципу:
—659—
патриарх умер, да здравствует патриарх! Нет, патриархом должен быть только тот, кто, соответственно настоящим обстоятельствам сможет держаться новой системы в управлении, благодаря чему только и может быть упрочено настоящее и будущее положение вселенского престола» («Νεολόγος» 28 ноября 1912 г.). Конечно, в канонах об избрании патриарха указаны качества, требуемые от него, и ими официально обладают многие митрополиты; но паства дополняла эти правила своими пожеланиями. «Тот, кто взойдет ныне на престол Златоуста, должен иметь, прежде всего, глубокое понимание прошлого, настоящего и будущего положения его; должен быть политическим и дипломатическим умом, вполне знакомым с более новыми идеями в этой области; должен быть истинным христианином, верующим в религию и народ свой (πιστεύων εἰς τὴν θρησκείαν καὶ τὸ ἔθνος τοῦ); должен быть честным и добродетельным, поистине образованным и притом по-европейски: должен быть почтенным и представительным и с теми вообще свойствами, которые народ любит видеть в своих вождях; должен приходить на помощь в духовных нуждах христиан: должен быть выше всех страстей, выше человеческих слабостей и преданным своему долгу» (Πρόοδος 16 декабря 1912 г.). Но тот же «Πρόοδος» жалуется, что такого кандидата не так легко найти между нынешними иерархами, что вообще не воспитывают клириков в таком духе и не подготовляют их к высшему служению, какое может выпасть на долю их.
Перебирая предполагаемых кандидатов на патриарший престол, одна газета указала, между прочим, на китийского митрополита Мелетия (кипрской церкви). Официальный орган константинопольской патриархии «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλὴθεια» обиделся на это: «Великая церковь в состоянии избрать лучшего из просвещеннейших и опытнейших иерархов своих, которых, к счастью, вселенский престол может найти у себя в изобилии». Это решительное заявление, однако, не внесло успокоения, но произвело впечатление некоторого самовосхваления, не вполне соответствующего действительности.
Вообще, во время выборов не мало горьких слов пришлось
—660—
выслушать членам Синода и высшему клиру. Кампанию против них вел, главным образом, «Πρόοδος», орган, всегда с благоговением вспоминающий почившего Иоакима III. «В нашей церкви много значит личность. Западная церковь так совершенно организована, что отдельные лица там не имеют особенного значения. У нас же и в церковной жизни, и в народной – всюду важны личный авторитет и влияние. Пусть же члены Синода укажут нам таких лиц, если они их имеют. Мы ищем человека, ищем лицо, которое может быть избранником церкви и народа. Где оно? Кто его знает? Почему его не называют? Покажите нам его, чтобы мы все собрались около него. Мы прославим его. Мы воздадим ему честь. Мы примем его со всей любовью нашей. Будем служить ему преданно. Будем помогать ему проводить в жизнь идеи, направленные к спасению и величию церкви и народа. Мы принесем и жертвы. Все будет за него, как выразителя идеи церкви и народа. Но такого человека нам не указывают и не могут указать, потому что нет его» («Πρόοδος» 20 декабря 1912 г.). «На этот раз выбор может быть произведен по необходимости между лицами среднего достоинства (μεταξὺ μετριοτήτων)». «Как было хорошо во времена великого Фотия, когда можно было избрать в патриархи простого иерея и даже мирянина. К сожалению, теперь это невозможно, да и не полезно поступать вопреки канонам». («Πρόοδος», 16 дек. 1912 г.).
Кто же ближе к истине: Синод ли, заверявший, что Константинопольская церковь изобилует лицами, достойными занять патриарший престол, или «Πρόοδος», который совсем не находил таких лиц? На это в значительной мере отвечает тот факт, что когда в избирательном собрании составили список кандидатов, то их оказалось 28, причем ни за одного не было подано большого количества голосов; следовательно, ни один избираемый не был особенно отличен среди всех, никто не превосходил явно своими качествами всех других. Поэтому-то, даже накануне последнего заседания избирательного собрания неизвестно было, кто взойдет на патриарший престол.
Такая разбросанность мнений при выборах уже показывает, что если не было борьбы из-за выдающихся личностей,
—661—
то не было и сильной борьбы резко определившихся партий. Можно сказать, что партии только намечались, и дальше образования отдельных групп дело не пошло. Вернее, большая часть мнений подавалась по личным взглядам и симпатиям в отношении к тому или другому лицу. Этим объясняется и то странное явление, что члены двух совершенно различных групп, выставляющих своих кандидатов, неожиданно указывают на одно и то же лицо.
К концу выборов только обозначились более определенно две партии: духовные избиратели и их единомышленники (κληρικόφρονες) и партия мирян (λαϊκόν κόμμα), членов которой иногда называют иоакимистами, так как в нее вошли многие ревностные почитатели покойного патриарха Иоакима III. Первые желали избрать патриархом такое лицо, которое охраняло бы предания патриархии, было бы защитником интересов клира и вообще твердо держалось установившихся начал в управлении. Другая партия хотела иметь такого патриарха, который не был бы только «простым преемником своих предшественников, но был бы и истинным предшественником своих преемников (ὁ προκάτοχος τῶν διαδόχων τοῦ)», чтобы он развивал и укреплял начатое Иоакимом III и был способен наметить новые меры, на благо церкви, в связи с изменяющимися условиями церковно-общественной жизни. Естественно, что первая партия искала кандидатов на патриарший престол среди почтенных митрополитов, твердо держащихся традиций прошлого. Противная же партия считала этих старцев (γέροντας) совсем неудовлетворяющими требованиям, какие в настоящее время должны быть предъявлены к патриарху; она предпочитала более молодых иерархов, которые скорее могли бы понять современные условия жизни и стать в управлении церковью на надлежащий путь. Но обе партии, отмежевываясь одна от другой по указанным принципам, сами-то, каждая в отдельности, не могли, как следует, сплотиться и наметить определенно собственных кандидатов на патриарший престол. При отсутствии партийной сплоченности избиратели руководились, главным образом, личными взглядами и симпатиями, что лишало весь ход выборов планомерности
—662—
определенности. «Мы находимся в каком-то хаосе», – писал «Πρόοδος», – «и предстоящие выборы патриарха могут поразить самой невероятной неожиданностью» (20 января 1913 г.). Теперь-то снова подумали об единственном, можно сказать, не вызывавшим споров, кандидате, авторитетном халкидонском митрополите Германе, и явилась мысль еще раз попытаться уговорить его не отказываться от патриаршего жезла.
Таково было настроение избирателей, когда они шли на первое заседание избирательного собрания 21 января 1913 года.
В зале, назначенном для заседаний, собрались к 10 ч. утра избиратели, корреспонденты и чиновники патриархии. Два мангала поставлены для согревания комнаты; они являются остатками старины, которая все более и более забывается. Появление великого логофета в особенной одежде тоже вызывает воспоминание о старых византийских обычаях. По объявлении заседания открытым, прочитывается список избирателей. По разным причинам некоторые из них не явились; присутствовали же 81 человек. После краткой речи председателя-местоблюстителя, просит слова депутат Бycиос. Его речь имела большое значение, почему заслуживает быть воспроизведенной, хотя бы в главном. Речь касалась общего устава о патриарших выборах.
Составители правил о выборе патриарха имели в виду дать соответствующее значение в выборах клиру и мирянам. Конечно, клир получил значение преимущественное, что и понятно. Вот его преимущества; 1) кандидаты выбираются только из среды клира; 2) их указывают иерархи; з) кандидаты же мирских членов собрания могут быть допущены в список, лишь, будучи одобрены, по крайней мере, третью духовных избирателей; 4) большинство членов в Δύο Σώματα, в учреждении, которое имеет большое значение при выборах, духовные лица; 5) число случайно находящихся в столице митрополитов может быть очень значительно; 6) последняя стадия выборов находится всецело в руках духовных членов избирательного собрания; только они окончательно избирают из 3-х намеченных собранием кандидатов одного. Пользуясь этими преимуществами, клир, по мнению оратора, слишком расширил их, что уже является нарушением равновесия
—663—
в значении клира и мирян. Оратор находит не совсем ясным для себя, почему Δύο Σώματα назначили избирателями вот этих лиц, а не других. Особенно он указывал на то, что в уставе (Ἐθνικοὶ Κανονισμοί) совсем не сказано, что представители от ученых, коммерсантов и банкиров избираются в Δύο Σώματα. Скорее, согласно уставу, их должны выбирать сами эти сословия, каковое право предоставлено цехами, – теми более, что ведь это наиболее образованные классы общества. Затем, оратор находит плохо организованными выборы от цехов: 1) в патриархии нет обстоятельного списка цехов, 2) непонятно, почему не имеют права посылать своих представителей такие значительные цехи, как портные, сапожники, столяры, парикмахеры и др. В правилах о выборе депутатов от 28 епархий оратор тоже находит недостаток основательности: после выделения из константинопольского патриархата некоторых епархий, имевших право посылать депутатов, каковы епархии тырновская, ларисская, видинская, софийская, они были заменены другими, но почему, например, иконийской, а не касторийской, родосской, а не веррийской и т. д.? Наконец, замечается в правилах недоговоренность и относительно качеств депутатов; указано только, что они должны быть турецкими подданными, но не определено, какого возраста они должны быть, могут ли быть избираемы в депутаты лица обанкротившиеся, судившиеся за преступления и т. п. Кончает оратор заключением, на основании всех вышеуказанных недостатков в организации выборов патриарха, о необходимости пересмотреть и изменить правила этих выборов. Пусть этим вопросом займутся Δύο Σώματα непосредственно после выборов патриарха.
Речь депутата Бycиoca сильно взволновала членов собрания, потому что, с одной стороны, она затрагивала интересы и клира, и мирян; с другой стороны, оратор прямо указывал на незаконное присутствие в собрании некоторых определенных лиц. Неоднократно во время нее и ее обсуждения поднимался в зале сильный шум, депутаты пререкались друг с другом, некоторые грозили покинуть собрание и т. п. Не трудно видеть, что речь была направлена отчасти против привилегий клира, так как
—664—
предполагается, что пересмотренный устав о выборе патриарха отведет мирянам бо́льшую долю участия в них, чем какая предоставлена им по ныне действующим правилам. Но даже духовные члены собрания признали некоторые недостатки этих правил, и поэтому после прений по данному вопросу собрание постановило выразить пожелание, чтобы новый патриарх и Δύο Σώματα, прежде всего, назначили комиссию для пересмотра устава о выборе патриарха.
После этого собрание приступило к распечатыванию пакетов, присланных митрополитами с указанием кандидатов. При этом происходит следующий эпизод. Местоблюститель назначает двух митрополитов производить подсчет избирательных записок (τῶν ψήφων). Депутат Спатарис восклицает: «Господин (κύριε) председатель! Назначьте еще одного из мирян. Почему вы все делаете по-домашнему?». Поднимается большой шум. Председатель долго звонит и, когда все понемногу успокаиваются, назначает еще одного депутата-мирянина для подсчета голосов.
Вскрывают первый пакет. К удивлению многих, в нем подан голос за китийского митрополита Мелетия. После вскрытия всех конвертов ставится на обсуждение вопрос, может ли быть указан кандидатом китийский митрополит, не входящий в число иерархов константинопольской церкви. Духовные члены собрания утверждают, что его кандидатура не может быть принята, потому что в уставе ясно сказано: патриарх выбирается из митрополитов вселенского патриархата. На это депутат Бусиос читает устав на турецком языке и замечает, что там вовсе нет указания на епархии или диоцез, а просто сказано, что кандидат должен быть турецкий подданный и управлять епархией не менее 7 лет. Но ему возражают, что надо иметь в виду греческий текст, потому что с него уже сделан перевод на турецкий язык. Но оказывается, что и в греческом тексте есть неясность в этом пункте. Тогда один митрополит прямо заявляет: «Ведь мы поступаем по канонам константинопольской церкви; следовательно, об иерархии этой только церкви и может идти речь». Таким образом, одни члены собрания (миряне) давали широкое толкование этому спорному пункту устава;
—665—
другие (главным образом, митрополиты) понимали его ограничительно. Последние потом прямо стали на официальную почву: «мы даже не знаем официально, клирик ли (κληρικός) митрополит китийский, имеет ли он все требуемые канонами качества» (слова брусского митрополита); «прежде всего, Синод должен еще знать, хиротонисаны ли этот китийский» (слова халдийского митрополита). Тогда местоблюститель заявляет: «Законы часто толкуются обычаем. Патриархи нашей церкви никогда не избирались из другой церкви: поэтому-то и циркуляр (об избрании) рассылается только митрополитам вселенского престола. Но ему возражают, что при выборах 1845 г. баллотировался кипрский митрополит Софроний, хотя, впрочем, правительство вычеркнуло его из списка кандидатов, как не числящегося в составе митрополитов вселенского патриархата. Видя, что поднятый вопрос далек от решения, председатель хотел было даже закрыть заседание, но дело ограничилось только коротким перерывом.
После перерыва местоблюститель предлагает передать вопросы на обсуждение имеющей собраться для пересмотра τῶν ἐθνικῶν κανονισμῶν комиссии. Но противники требуют, чтобы было теперь же вынесено окончательное постановление о кандидатуре митрополита китийского, иначе угрожают уйти из залы собрания. Общее возбуждение: все на ногах; председатель тщетно звонит. Наконец, приходят к соглашению, что вопрос сейчас же должен решить Священный Синод. Члены Синода удаляются из залы, совещаются около четверти часа, и потом местоблюститель объявляет их решение: «Синоды единогласно решили, на каноническом основании, что преосвященный китийский митрополит не может быть кандидатом на патриарший престол Константинополя».
Дальше заседание идет более спокойно. Члены-миряне указывают своих кандидатов: одни из них одобряются митрополитами, другие – нет.
Затем составляется список всех кандидатов, даже получивших один голос. Их оказалось 28. Между ними и халкидонский митрополит Герман, который, несмотря на заявление о своей болезни, все-таки получает за себя несколько голосов. Перед концом заседания брусский
—666—
митрополит вносит еще два предложения: 1) просить конституционное правительство не вычеркивать из списка ни одного кандидата и 2) послать депутацию из двух духовных лиц и двух мирян к халкидонскому митрополиту с просьбой не отказываться от патриаршества, потому что «он объединит около себя, по крайней мере, две трети церкви и народа». Первое предложение несколько видоизменяется; второе – официально не голосуется, хотя многими разделяется. Находят только неудобным посылать официальную депутацию, так как это будет не совсем деликатно по отношению к другим кандидатам и вместе с тем явится как бы предызбранием патриарха. В 3 часа заседание закрывается. Сейчас же в канцелярии составляется «мазбата» об избрании кандидатов на патриарший престол и подписывается местоблюстителем, членами Синода и членами Смешанного Совета. Потом капу-кехайя (чиновник, через которого патриархат сносится с Портой) передал его министру юстиции и исповеданий.
Еще несколько слов о заседании. Ораторов в нем выступало немного. Старейшие (кроме одного-двух) или молчали, или своими словами не производили никакого впечатления. Из 19 митрополитов только 4 принимали участие в прениях, остальные не произнесли ни одного слова. Но и среди молодых депутатов оказалось немного ораторов; большинство словесно не выступало, и лишь прерывало речи ораторов шумом, выражавшим одобрение или порицание. Прения шли только лишь между немногими членами собрания и часто носили слишком явный отпечаток личных объяснений. Нужно заметить, что и с внешней стороны собрание не было обставлено соответственно его важности. Чиновники патриархии почему-то присутствовали в самой зале и производили шум. Во время перерыва члены собрания всюду накурили; некоторые курили даже в самой зале. Конечно, на Востоке особые обычаи, но и здешнее общественное мнение осудило подобное отношение к такому важному дело. Поэтому-то в следующем заседании уже были приняты меры против этих непорядков.
24 января был возвращен Портой в патриархию список
—667—
кандидатов. Правительство вычеркнуло из них 7 видных митрополитов (салоникского, критского, драмского, смирнского, митиленского, самосского и кесарийского). Все они оказались нежелательны для правительства по мотивам политическими. В этот же день Δύο Σώματα назначили заседание для окончательного выбора патриарха на 28 января.
В каком же виде имели явиться на последнее заседание две наметившиеся партии? – Все в том же мало организованном. 25 января «Πρόοδος» писал: «В той и другой парии есть люди убежденные, но ни в той, ни в другой они не образуют большинства. Большинство состоит из колеблющихся, готовых голосовать по своему выбору, независимо от указаний партий». И сам «Πρόοδος» отражает такое настроение избирателей. Эта газета называла себя как бы органом партии мирян, а между тем особенно восставала против первого кандидата этой партии, местоблюстителя, и напечатала против него в высшей степени резкую статью. Наоборот, она горячо одобряла кандидатуру халкидонского митрополита, поддерживаемую партией клириков.
В виду неопределенных положений, взоры большинства обратились на халкидонского митрополита Германа. К нему отправилась депутация (неофициальная) из митрополитов, и мирян и усердно просила не отказываться от патриаршего престола. Наконец, почтенный иерарх согласился. «Ἰδοὺ ὁ δοῦλος Κυρίου, γενηθήτω κατὰ τό θέλημα Αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ Αὐτοῦ», т. е.: «я раб Господа; пусть будет по воле Его и народа Его», – ответил он депутации. Когда весть об этом разнеслась, все облегченно и радостно вздохнули, ибо «церковь обрела твердую руку, а народ – крепкого защитника» («Νεοκόγος», 26 янв. 1913 г.). Только главари партии мирян были не особенно довольны такими оборотом дела.
На заседании 28-го января, прежде всего, было выражено сожаление, что правительство вычеркнуло 7 кандидатов. Затем приступили к выборами трех кандидатов из всех утвержденных правительством. Большее количество голосов получили митрополиты халкидонский (47), адрианопольский (42) и амасийский (42).
—668—
Заключительный момент выборов происходит в храме. Сюда идут все члены избирательного собрания, но только духовные члены принимают участие в выборе патриарха из трех кандидатов. На солее приготовлен стол с избирательной урной. После молитвы митрополиты подают свои жребии. Затем начинается подсчет. Когда первые десять голосов (из числа 19 митрополитов) оказались все за халкидонского митроп. Германа, в храме раздались клики: «Ἄξιος, ἄξιος. Ζήτω, ζήτω ὁ νέος Πατριάρχης Γερμανός ὁ Ε». Подсчет идет дальше. Оказывается единогласно избранным на патриаршую кафедру халкидонский митроп. Герман.
После избрания составляется «мазбата» об избрании патриарха, который подписывают члены Синода и Совета и члены Собрания. Капу-кехайя передает «мазбата» в министерство юстиции и исповеданий. В ответ на него, 1-го февраля были присланы правительством два тескере, одно – патриарху, другое местоблюстителю, с извещением об утверждении выборов султаном.
5 февраля состоялась торжественная интронизация (ἡ ἐνθρόνισις) нового патриарха. После прощания со своей паствой в Халкидоне (нынешний Кады-кей) Герман V отправился на султанском катере во дворец. При представлении султану патриарх сказал: «Ваше величество! Народ мой и церковь моя избрали меня своим патриархом, а ваше величество утвердили это избрание. Находясь перед лицом вашим, я изъявляю беспредельную признательность и глубокую преданность мою и народа моего, молясь сердечно за продление жизни вашего величества и за славное конституционное государство». Султан ответил на это: «Очень благодарю за ваши слова. Я весьма доволен избранием вашего святейшества и убежден, что вы верно и преданно будете исполнять свой долг». Из дворца патриарх со своей свитой отправился в Порту, затем к председателю Государственного Совета, в министерства – внутренних дел, иностранных дел, юстиции и исповеданий, а отсюда, наконец, в патриархию. Как на особенность этой процессии, можно указать на то, что патриаршую карету сопровождало верхом несколько архимандритов, иереев и диаконов.
—669—
В патриархии громадная толпа восторженными криками встретила своего нового пастыря и вождя. Патриарх прошел прямо в храм. После молитвы к нему обратился великий логофет с речью (τὸ μέγα μήνυμα), в которой приглашали его от имени церкви и народа взойти на «апостольский и вселенский престол». Затем, гераклийский митрополит вручил ему патриарший жезл, причем они по старому обычаю поцеловали друг другу руку. Взойдя на свой престол, патриарх обратился с речью к присутствующим. Он говорил о тяжелом бремени, которое возложили на него церковь и народ, и от которого он отказывался было по болезни и старости. «Теперь я беру крест самоотвержения и восхожу на Голгофу. Вместо всякой программы, я скажу перед лицом всех, что отныне посвящаю всего себя на исполнение своего долга. Я сознаю важность уже назревших вопросов – канонических и церковных, и всяких других, которые возникнут из нынешних политических перемен, и я надеюсь, что они успешно разрешатся». Вслед затем, один из архимандритов (ὁ μ. ἱεροκήρυξ) обратился к патриарху, по обычаю, с похвальной речью (πανηγυρικὸς λόγος), но через несколько минут крики народа в честь нового патриарха прервали ее. Встреча закончилась многолетием новому патриарху Герману V. Патриарх Герман V, в мире Георгий Кавакопуло, родился 6 декабря 1835 года в Батате, близ Фанара. Образование получил в иерусалимской школе Св. Креста, потом в афинской гимназии и, наконец, в богословской халкинской школе. По окончании образования, он был определен великим экклизиархом, а затем перемещен экзархом в Анхиал. В 1864 г. он был назначен великим архидиаконом и, в следующем году, во время холеры, один заведовал всей патриархией, так как все диаконы, до последнего, покинули Фанар. В 1866 г. он был хиротонисан в епископа косского (Κώου). В 1872 г. послан управлять церковью на Крит, а в следующем году – в Карпафон (Κάρπαθον). В 1874 г. был призван в Синод, где, между прочим, участвовал в собрании по пересмотру τῶν ἐθνικῶν κανονισμῶν. В 1876 г. был избран епископом Родоса. В 1885 г. назначен экзархом
—670—
на Самос, а в следующем году – в Миры Ликийские. В 1888 г. был избран митрополитом гераклийским. В 1890 г. получил назначение в синодальные члены и много потрудился в разных комиссиях. В этом же году он сыграл большую роль в столкновении патриархии с Портой; именно, он усиленно поддерживал патр. Дионисия в борьбе с правительством за прономии (права и привилегии) патриарха. По его совету Дионисий V издал энциклику, в которой объявил, что, в виде протеста против правительства, патриарх закрывается, богослужение в храмах прекращается, как приостанавливаются и все вообще церковные требы. Он участвовал и в переговорах с правительством об улаживании этого инцидента, что и удалось сделать как раз накануне Рождества Христова. Эта заслуга гераклийского митрополита Германа всегда вспоминается греками с признательностью. В следующие годы он тоже неоднократно присутствовал в Синоде, трудясь в комиссиях. В 1897 г. он был избран халкидонским митрополитом и с 1910 года снова состоял членом Синода до января 1912 г. При отправлении служебных обязанностей, в своих словах и делах, он всегда отличался твердостью и поэтому неоднократно сталкивался с почившим патриархом Иоакимом III. Из халкидонской митрополии митр. Герман и был избран на патриарший престол.
Павел Златоустов
Константинополь
Адамов И.И. [Рец. на:] Прохоров Г.В. Нравственное учение св. Амвросия, еп. Медиоланского. СПб., 1912 // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3, с. с. 671–676 (4-я пагин.)
—671—
Вышедшее под таким заглавием исследование г-на Прохорова, кроме небольшого предисловия (III–VIII), заключает в себе три части: 1) часть первую (вводную) с кратким очерком жизни св. Амвросия Медиоланского и его литературной деятельности; 2) часть вторую с изложением нравственного учения св. Амвросия и 3) часть третью, специально занимающуюся выяснением отношений De officiis ministrorum св. Амвросия к De officiis Цицерона. К книге приложены 1) перечень источников и важнейших пособий, 2) тезисы, извлеченные из сочинения, и 3) алфавитный указатель собственных имен, упоминаемых в книге.
Как можно было ожидать на основании заглавия книги и как это объясняет сам автор в предисловии к своему исследованию, самой важной и центральной частью работы является вторая (с. V), так что на остальные две части можно смотреть как на части второстепенные, служебные в отношении к центральной.
Так, в первой части своего труда автор, по собственному своему заявлению, далек «от намеренья представить полную биографию св. отца» и, согласно своей основной задаче, ограничивается лишь краткими биографическими сведениями, подчеркивая те факты из жизни св. Амвросия и те черты его характера, которые имеют такое или иное отношение к его нравоучению; он предупреждает читателя, что он довольствуется «иногда в этой части тем, что дают» ему «вторые руки, не находя при этом необходи-
—672—
мым обращаться к первоисточникам» (с. с. IV–V). – Мы и не считаем себя вправе требовать в этом случае от него бо́льшего. Но и при этом рассматриваемая нами часть не лишена значения и сама по себе, особенно в нашей русской литературе. Если задача автора ни в каком случае не могла обязывать его полно и самостоятельно исследовать вопросы о жизни св. Амвросия, его творениях и об общих его отношениях к многочисленным другим писателям классическим, иудейским и христианским, восточным и западным, то за то в этой области он является хорошим знатоком дела, предлагая читателю самый доброкачественный материал и вводя его в круг самых свежих научных исследований по этим вопросам.
Много сложнее и труднее была задача автора во второй части его труда. Здесь он предполагает исследовать нравственные воззрения св. Амвросия на основании всех вообще его весьма многочисленных творений, справедливо полагая, «что книга «об обязанностях священнослужителей» не только не является характерной для нравоучения миланского епископа, а даже, наоборот, вследствие исключительной своей близости к языческому произведению Цицерона, стоящей несколько особняком от других творений св. отца, – что подлинные нравственные воззрения св. Амвроcия нужно искать не столько в De officiis ministrorum, сколько в других богословско-этических писаниях святителя» (с. III). Автор намечает своему исследованию в этом случае довольно широкие границы: не ограничиваясь изложением собственно-нравственных воззрений св. Амвросия, он, где это считает необходимым для своей главной цели, входит в изыскания некоторых вопросов догматических; не излагая всей догматической системы Амвросия, он останавливается на вопросах антропологических, на учении о зле, о падении, о сущности первородного греха, об оправдании, благодати и некоторых других. Наконец, свое изложение в этой части г-н Прохоров иллюстрирует значительным количеством параллелей из других писателей, например, Филона Александрийского, Климента Александрийского, Оригена, св. Василия Великого, блаж. Августина.
Центральное значение рассматриваемой части дает нам основание остановиться на ней подробнее.
—673—
Нам представляется, что всякое патрологическое исследование должно преследовать две цели: 1) выяснить взгляды исследуемого писателя по тому или иному вопросу или же всю его систему и 2) указать его значение в истории церковной литературы. Они настолько тесно связаны между собой, что достигаются одна при помощи другой. Для этого необходимо определение всей совокупности литературных влияний, если они имели место, столь же, сколько и сопоставление с идеями предшествовавшего времени. Св. Амвpocий, благодаря внешним обстоятельствам своей жизни и внутренним особенностям своего литературного творчества, требует этого в особенности. Он принадлежит эпохе, когда богословский запад в процессе борьбы с арианством вошел в близкое соприкосновение с церковной литературой востока; его собственные произведения отражают в себе довольно многочисленные течения богословской мысли на востоке. Но это вовсе не значит, чтобы западное богословие совсем не имело своего прошлого или чтобы теперь оно отрекалось от своего прежнего достояния. Ни одно крупное историческое явление не вырастает таким образом. Нет, и богословский запад времен св. Амвросия продолжал довольно твердо стоять на почве своих старых местных традиций, видоизменяя лишь их так, как того требовали новые обстоятельства. В этом направлении и можно искать исторические заслуги литературной деятельности св. Амвросия.
Собственно говоря, в этой плоскости движется и исследующая мысль г-на Прохорова. Однако, с его постановкой дела можно соглашаться не вполне. Охарактеризовав римлян, как практиков, людей настоящего дня, не имевших большого влечения к отвлеченным исследованиям, признав, что и «в идейно-культурной области они всегда стояли ниже греков, повторяя большей частью лишь то, что давали им греческое просвещение и наука», он замечает: «теми же свойствами, т. е. духом практицизма и зависимости от Востока отличается и западное богословие» (с. 75). Хотя несомненно, что уже при самом возникновении научно-богословской литературы Запада дело не обошлось без толчка и руководящего влияния Востока, однако, было бы не совсем справедливо полагать, что все
—674—
здесь, помимо практицизма, сводилось к этой зависимости и влиянию; доамвросианское богословие Запада имело свою довольно определенную и отличную от Востока физиономию. Автор и сам в этом смысле дает характеристику Запада на с. с. 75–80 своей работы. А между тем эта низкая оценка западного богословия отразилась на всем ходе исследования. Г-н Прохоров говорит: «св. Амвросий, без сомнения, знавший Илария, является при всей своей зависимости от Востока более типичным выразителем характера богословской мысли Запада, несмотря даже на то, что его знакомство с отцами западного богословия – Тертуллианом или, по крайней мере, со св. Киприаном является проблематичным» (с. с. 84–85). Но как раз этого он и не обосновывает и не показывает подробно, в чем именно и насколько Амвросий быль типичным западным писателем. А если бы он, не ограничиваясь вышеприведенным общим замечанием, попытался пунктуально, шаг за шагом, вскрывать чисто западные элементы в мышлении Амвросия или же преломление у него западных традиций под восточным влиянием, и само изложение учения Амвросия было бы рельефнее, и отношение его к своим западным предшественникам, а вместе с этими и его историческое значение выиграли бы в отчетливости.
Исходя из несомненного факта зависимости св. Амвросия от восточных писателей, г-н Прохоров вполне резонно при изложении учения Амвросия делает экскурсы в область творений этих последних. Это, конечно, потребовало от него громаднейшего труда и времени. Указывая на эго, как на ценное украшение работы, можно, однако, позволить себе высказать одно пожелание касательно большей тщательности в подборе параллелей. Стоя обычно на высоте своей задачи, изредка автор приводит параллели или слишком общие, или же недостаточно характерные, и взглядов Амвросия не выясняющие. Так, учение Оригена об искуплении излагается столь обще, что только редкому писателю его нельзя было бы приписать (с. с. 166–167); если об оригеновской pia fraus еще идет мимоходом речь на с. 173, то представление Оригена об Умилостивительной Жертве, если не считать самого названия, почти обойдено молчанием. Или: зачем понадобились те, слишком общие выра-
—675—
жения различных писателей о Таинстве Крещения, которые приводятся на с. 195, и, в частности, выражения св. Василия Великого, тогда как свойственный св. Василию, впрочем, как и многим другим писателям, взгляд на Крещение, как на изображение Смерти и Воскресения Христа, обходится молчанием, хотя господство этого взгляда в творениях Амвросия верно подмечается самими же автором.
Можно, наконец, не соглашаться и с некоторыми, правда, весьма немногочисленными частными положениями автора при изложении нравственных воззрений св. Амвросия. Так, несколько сильным может показаться утверждение, что «обязанности или добродетели человека в отношении к самому себе носят у св. Амвросия ярко окрашенный аскетический характер пренебрежительного и даже презрительного отношения к плоти, миру и, вообще, чувственному и материальному» (с. 269). Если в подобных выражениях у св. Амвросия, действительно, нет недостатка, то они в значительной мере уравновешиваются выражениями противоположного характера, где миланский епископ признает дозволительными для своего мудреца удовольствия в здоровье тела, в детях, в отсутствии скорбей (De lacob et vita beata. I, 8, 33), где для совершенного блаженства (bеatitudo) считаются необходимыми блага души, тела и блага внешние (De Abrah. II, 10, 68).
В третьей части своего труда автор путем критики противоположных взглядов на отношение De offic. ministr. св. Амвросия к De officiis Цицерона и путем весьма тщательного и детального анализа, и сопоставления этих трактатов, устанавливает собственный взгляд на отношения св. Амвросия к Цицерону. При этом он не ограничивается внешним, механическим сопоставлением одноименных трактатов, но всюду руководствуется общим духом философии того и другого; если относительно этики св. Амвросия он мог основываться в этом случае на второй части своего исследования, то нравственное учение Цицерона он истолковывает на общем фоне учения стои, изученного им на основании специальной литературы и первоисточников.
Переходя к общей оценке исследования, мы, несмотря на некоторые вышеизложенные пожелания, не можем не признать его в научном отношении работой очень ценной.
—676—
Отличаясь большой широтой кругозора, оно имеет целью изложить и объяснить всю область нравственных воззрений св. Амвросия, чем до сих пор занимались мало. С внушительной эрудицией и осведомленностью г-н Прохоров соединяет обычно ясную мысль. Не только в области нравственных воззрений св. Амвросия, но и по поводу некоторых затрагиваемых в работе догматических вопросов автор судит не как дилетант, но как вполне компетентный исследователь, разбирающийся в деталях и обычно оттеняющий важную и существенную сторону вопроса. Кроме всего этого, г-н Прохоров обнаруживает редкий и счастливый талант с научностью, специальностью и серьезностью исследования совмещать легкость, простоту и красоту изложения, благодаря чему его работа может быть легко и с удовольствием прочитана не только лицами, специально занимающимися предметом его исследования, но и всеми, интересующимися учением и личностью св. Амвpocия.
Само собой понятно, что в ряду других исследований об Амвросии его хорошая книга не может быть лишней.
И. Адамов
Муретов М.Д. [Рец. на:] Троицкий В. Очерки из истории догмата о Церкви. Сергиев Посад, 1912 // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3, с. с. 677–692 (4-я пагин.). (Окончание.)
—677—
5. Некоторые неточности в переводах. С латинского: стр. III: «таинственная жизнь в Церкви не может, конечно, быть во всей своей глубине предметом логических определений и научных исследований, – она непосредственно дается тому, кто в ней участвуешь, как это высказал еще Иларий Пиктавийский в словах: hoc ecclesiae proprium est, ut tunc intelligatur, cum arguitur». В подлиннике место читается так: hoc ecclesiae proprium est, ut tunc vincat cum Iaeditur, tunc intelligatur cum arguitur, tunc obtineat cum deseritur, – и имеет совсем иной смысл, именно: «таково свойство Церкви, что она тогда побеждает, когда ей наносится вред,– тогда уразумевается, когда подвергается обвинению, – тогда овладевает, когда оставляется».
Стр. 160–161: О словах Иринея Contra haer. III. 3. 2: «Ad hanc enim ecclesiam (разумеется Римская церковь) propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fi deles, in qua semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea, quae ab Apostolis, traditio» автор говорит, что «нет никаких оснований навязывать слову convenire значение, которого оно иметь не может, т. е. «согласоваться», между тем, судя по всему, оно должно здесь иметь именно это значение, а не «сходиться».
Эти слова автор переводит: «ибо к сей церкви, ради высокого достоинства (надо: высшего т. е. сравн. степень, пред
—678—
другими церквами – главенства, авторитета, начальства, – ср. II. I. 2: a foris eircumdatus ab altera principalitate, quam necesse est majorem esse – edit. Stieren, p. 279) имеет нужду (надо: необходимо – речь не о нуждах практического свойства, а о теоретической необходимости, – рассуждение проф. Болотова в лекциях о необходимости – ἀνάγκη и долге – δεῖ, хотя и тонко, но в применении к данному случаю едва ли может иметь значение, ибо необходимость можетъ быть и каноническаго характера) приходить (? приходить к Римской Церкви? притом буквально бы надо: сходиться к Церкви?!, – лат. ad. соотв. πρὸς τὴν... и convenire соотв. συμβαίνείν) всякая церковь (omnem ecclesiam, но можно и «всей церкви» соотв. греч. πᾶσαν τὴν ἐκκλησίαν, – и сам автор, являясь непоследовательным, на следующей странице переводит: «вся церковь», – но разве допустимо, что бы вся церковь могла сходиться к Римской церкви или в Рим? Т. е. все верующие всей вселенной), то есть отовсюду сущие верующие (undique автор понимает въ значении «отовсюду» и относит к convenire, с. 161: «undique означает место, откуда собираются верные к Римской церкви, – они собираются отовсюду, – собирается таким образом вся церковь», – но мы уже говорили, что это невозможно, – притом undique может значить и «везде, повсюду» и относится не к convenire, а к sunt), в которой (естественнее относить к Римской церкви, а не ко всякой церкви, так как дальнейшее ab his qui sunt undique в предыдущем относится к omnis ecclesia) предание от апостолов (надо: которое от апостолов, апостольское) всегда было хранимо (est conservata: есть хранимо, сохранено, сохраняется) сими отовсюду сущими верующими (надо: «от этих, кои суть везде»). Но convenire ad соотв. греческому συμβαίνειν κρὸς вместо неестественного «сходиться к Римской церкви» естественнее переводить переносным «сходствовать с, соответствовать, согласоваться» (ср. IV. 37. 7. Stieren 697–698: ad figuram соaptatur). Перевод будет такой: «ибо с этой церковью, ради высшего (преимущественная перед другими церквями) главенства (авторитетности, начальства, власти) необходимо согласоваться всей (или всякой) Церкви, то есть повсюду сущим верным, в коей всегда повсюду сущими (верными) сохраняется предание, которое от апостолов». Латин-
—679—
ский переводчик Иринея проявляет здесь общеримскую тенденцию к вселенскому главенству Рима и в отношении к Церкви. Разделял ли эту тенденцию сам Ириней, это другой вопрос.
С греческого: с. 180 ἡ πίστις ἡ δἰ αὐνοῦ автор переводит: «вера Его», надо: вера чрез Него. На с. 474 из Симпосиона Мефодия Патарского: «которое (семя духовное) Логос всевает в глубину духа», – надо: которое сеет (σπείρει) Сам (Логос), внушая (ὑπηχῶν – автор опускает эти и следующие слова, а вместе с тем и заключающуюся в них глубочайшую мысль, – значит, искажает подлинник) и насаждая в глубине духа (νοός)». Далее автор: «Церковь принимает это семя и развиваешь (?) его, как женщина, умножая (?) и воспитывая добродетель», – надо: Церковь же принимает и образует (μορφοῖ, а не «развивает») подобно женщине для того, чтобы порождать (εἰς τὸ γεννᾶν – а вовсе не «умножая», – притом неопределенное цели, а не деепричастие) и воспитывать добродетель. Далее автор: «Церковь ежедневно возрастает в величии, красоте и численности, благодаря содействию (sic? διὰ τὴν σύνερξιν – неверно и неточно передает мысль Св. Отца, надо: по причине союза, так как речь о браке Христа с Церковью, как мужа с женой, – от συν – ειργω, а не συν –εργεω) и общению Логоса».
С. 474. «Христос уснул экстазом страданий» – ὕπνωσε τὴν ἔκστασιν τοῦ παθους. Термин экстаз, имеющий особое религиозно-психологическое значение, здесь неприложим, как видно из контекста: «слова «плодитесь и множитесь» надлежащим образом исполняются, когда Церковь со дня на день возрастает в величии, красоте и численности, вследствие союза и общения со Словом, Которое еще и теперь нисходит к нам и подвергается истощанию (ἐξισταμένου) при воспоминании страдания (Его). Иначе Церковь не могла бы собрать верующих и возродить их банею пакибытия, если бы Христос, истощив Себя за них (διὰ νούτους κενώσας εαυτόν), чтобы вместиться в них через возобновление страданий, снова не умирал... Бог, по истощании Христа, то есть после вочеловечения и страдания (ἔκστασιν)». Итак, ἔκστασις тоже, что κένωσις. И тем досаднее эти lapsus’ы, что их легко было избежать, если бы автор воспользо-
—680—
вался цитуемым им, хотя и старинным, но превосходным переводом проф. Ловягина.
И, вообще, перевод и изложение автором Мефодия Патарского меня не удовлетворяют. Даже в Corrigenda есть ошибка: μεματηκέναι.
6. Некоторые излишества в подробностях и справках по соприкосновенным предметам, отвлекающие внимание читателя от главного предмета, каковым лучшее помещениe было бы в приложениях, в конце книги.
7. В некоторых случаях желательны доказательства и обоснования аподиктически высказываемых автором положений. Например, с. 211: «епископство установлено апостолами для хранения истины в Церкви до скончания века». С. 237: «Епископы, как испытанные лица, молодость которых может быть иногда восходила ко временам апостолов, не могли изменить истине и впасть в такое заблуждение, как докетизм». С. 263. «Мысль о возможности заблуждения, уклонения от истины и епископа лежала как бы вне мыслимого горизонта церковных писателей второго века». Почему? Ср. 1Ин.2:19, – 3Ин., – Ап.2:15. 20, – 3:1. 3, – Деян.20. 30 ср. 2Тим.4:3, Мф.7:15. 22–23 др. С. 266: «Относительно всякого общества можно утверждать, что чем больше и разнообразнее состав его членов, тем менее в нем единства, тем ниже его общее качество. То же самое должно было непременно случиться и с Церковью». (Но можно сравнить Коринфскую Церковь времени Св. Ап. Павла и греческую после вселенских соборов или русскую 14–15 века). Иногда автор отсылает к немецким книгам за такими подробностями, которые имеют существенное значение в исследуемом предмете, например, «подробнее учение Нового Завета о том, что Церковь есть истинный Израиль см. у R.Knopf’a» (с. 74 прим. 9, – ср. подобное же с. 78 прим. 1, – с. 157 прим. 4, – с. 222 прим.2 и др.).
Дает себя знать невыясненность понятий «святости», «чистоты», «совершенства» и «аскетизма», о которых идет речь на с. с. 262 дал. 275 дал. 278 сл. и др.: автор, по-видимому, обращается с этими терминами, как совершенно тожественными в нравственно-религиозном отношении.
8. Некоторый места книги вызывают недоумения и тре-
—681—
буют пояснений. С. 74: «Буквальный смысл Ветхого Завета потерял всякое значение» (? в Новом Завете). С. с. 237–238: «На послания св. Игнатия нельзя смотреть с абсолютной точки зрения; их значение по самому их назначению и характеру было только относительным; как частные письма, они имели значение местное и временное» (стало быть, только историческое, а не догматическое и не каноническое?! И для нас не имеют значения?!). С. 253: «То или другое понятие о Церкви всегда в истории было тесно связано с самой церковной жизнью; те или иные формы жизни церковной оказывали свое влияние на определение понятия о Церкви (? Ergo: понятие о Церкви изменялось в истории Церкви?!). С. 265 ср. 267: «Мысль о скорой кончине мира мы встречаем и у новозаветных писателей», (а Лк. 21, 24,–2Фес. 2); 236: «Поминайте в молитве вашей Сирскую Церковь, у ней вместо меня пастырь теперь Бог», – и далее: «один Иисус Христос да надзирает ее (ἐπισκοπήσει αὐνήν – будет епископом над ней?!) и ваша любовь»: к этим словам св. Игнатия Богоносца не излишне было бы пояснение, в виду старообрядческого воззрения на непрерывность епископства в Церкви. Надо при этом заметить, что в распространенной редакции читается так: «Господь (вместо: Бог), сказавший «Я есмь Пастырь Добрый», – и Он один будет епископствовать над ней и ваша к Нему любовь». В догматическом отношении обе редакции одинаково важны.
Стр. 57 58. 59: «Христианская жизнь никогда не идет по юридическому пути... Церковь (первохристианская) для выражения идеи своего единства не нуждалась в искуственных юридических нормах (что такое?)... Те формы общения Церквей, которые можно отметить в первые времена бытия Церкви, больше свидетельствуют о проникновенности христиан идеей единой Церкви, чем формы общения позднейшего чисто формального, юридического, бумажного... Христианам того времени не могло даже и представиться (?), что может настать время, когда христианская вера покорить мир и будет единая, внешне организованная Церковь» (А Ин.10:16, – 1Ин.5:4–5, – Мф.8:11, – 24:14, –28:19 др.). Все эти фразы требуют пояснений.
9. Наконец, несколько стилистических шероховатостей.
—682—
С. 11: «Малое стадо Христовых последователей, согласно Его (?) повелении, пребывало в Иерусалиме». С. 7l: «иудействующие, замкнувшись в своих легалистических (?) тенденциях». С. 74: «В послании к евреям дается критика (?) ветхого закона... говорит о смысле ветхозаветных институтов (?)» – ср. с. 544: «Церковь, как видимый институт (?)“. С. 77: «Этот γνῶσις, по посланию, есть ни что иное, как аллегорически метод (?) толкования ветхозаветных книг» (знание есть метод?). С. 237: «Эту мысль св. Игнатий высказывает почти безапелляционно (?)».
Вот и все недостатки, какие смогла заметить моя, быть может, крайне придирчивая критика. Но все они, как корабельные отбросы в океане, совершенно исчезают в огромном труде г. Троицкого. Едва заметные и сами по себе, эти мелочи совсем теряются на общем фоне следующих, весьма крупных, достоинств книги:
А) За немногими исключениями, которые все почти указаны выше, частные свойства Церкви – апостоличности, единства и святости, – аскрыты автором, в гранях поставленной им себе задачи, едва не с предельной полнотой, в стройной логической связи, при строгой исторической последовательности и отчетливо-ясным языком.
Б) С особенной тщательностью и весьма тонко разработано учение Иринея и Киприана о предании и учение того же Киприана, Оптата и Августина о единстве и святости Церкви. Кроме того мы должны здесь отметить еще и следующие частности: с. 160–167: доказательство той мысли, что Ириней и Тертуллиан не признавали главенства и непогрешимости римской церкви, – с. 187 дал. опровержение мнения новейших протестантов (Гарнака и др.), что епископально-иерархический строй церкви был новостью по сравнению с древнейшим и подлинно апостольским харизматическим, – ср. с. 435 сл., – с. 194 и дал. о преемстве (иерархическом, – с. 201: «не отдельные лица, а вся Церковь, по учению Св. Ап. Павла, есть столп и утверждение истины», – с. 209: «служение апостолов в собственном смысле (т. е. Двенадцати) было беспреемственно» – с. 319 дал. о епископской» власти ключей», с. с. 326, 335, 369. – против протестантов, – с. 382: опровержение мнения католических ученых, что св. Киприан учил о
—683—
примате Св. Ап. Петра и римского епископа с. 397, – напротив, св. Кияриан, по исследовании автора, средоточием епископата считал только соборное единение и единомыслие епископов с. 407, – с. 410: «единство епископата выражается не только в общем согласии (церкви?), но также и в соборном поставлении и посвящении каждого нового епископа: для правильного поставления все ближайшие епископы должны собираться в ту паству, для которой поставляется предстоятель, и избирать епископа в присутствии народа, вполне знающего жизнь и ознакомившаяся с делами избираемая через свое обращение с ним». И другое многое, что невозможно выписывать, чтобы не довести рецензию до ненормальных размеров.
В) Превосходная лингвистическая подготовка молодого ученого дала ему полную возможность не только изучить предмет по многотомному первоисточнику на латинском и греческом языках, но и широко и основательно познакомиться со всеми наиболее существенными пособиями на немецком и французском языках (английская литература отсутствует сполна), и при том не только по догматике, но и по всем другим соприкосновенным дисциплинам – церковной истории, канонике, экзегетике и т. д. В этом отношении книга автора может служить прекрасным энциклопедическим руководством к православному изучении излагаемых автором предметов.
Г) В русской научно-богословской литературе автор имеет только трех предшественников: Архимандрита, потом епископа, проф. и ректора Киевской Духовной Академии Сильвестра. Учение о церкви в первые три века христианства. Киев, 1872 – Мансветова И. Новозаветное учение о Церкви, М., 1879 – и Аквилонова Е., проф. СПб Духовной Академии, потом протопресвитера. Научные определения Церкви и апостольское учение о ней, как о теле Христовом. СПб., 1894. Но эти три диссертации, из коих, надо заметить, одна докторская (Арх. Сильвестра), уже не только устарели хронологически, но и ограничиваются лишь изложением, притом очень кратким и отрывочным, учения о Церкви Нового Завета и церковных писателей только древнейших – без всякой исторической перспективы, – без изучения иностранной литературы и без полемики с
—684—
протестантством и католичеством. Работа г. Троицкого выгодно отличается от них не только своим внешним громадным объемом (XVI – 559 страниц убористой печати, со множеством петитных сносок, более чем вдвое превосходит диссертации Сильвестра и Аквилонова), но, что гораздо важнее конечно, своим содержанием. Она охватываешь около четырех с половиной веков, т. е. весь золотой период церковной литературы. Она, затем, излагает предмет в логической и исторической последовательности. Она, наконец, всецело насыщена новейшей иностранной литературой и критическим отношением к ней. Труд г. Троицкого не только восполняет, но и всецело превосходит работы его русских предшественников.
Д) Многочисленный цитаты, в изобилии рассеянные по всей книге, по несколько цитат на каждой почти странице, везде отличаются полнотой и точностью, причем иногда параллельно цитуются два издания, а при цитации новейших изданий помечаются даже и строки.
Е) По образцу хороших заграничных изданий, книга снабжена указателями мест Священного Писания, имен, предметов и подробным, едва не постраничным, оглавлением, что весьма облегчает пользование ею и проверку ее. За это я лично, как рецензент, не только должен похвалить автора, но и принести ему благодарность, так как эти указатели и оглавление освободили меня от повторного чтения книги при проверке возникших по прочтении ее недоумений и разных частных справках.
Ж) И, наконец, хотя автор излагает предмет с полной научно-исторической объективностью, но повсюду дает себя знать строго-православный тон и направление работы, не только, в общем, построена и конечных выводах, но, как мы знаем уже, и в раскрытии частных сторон, например о предании, иерархии, единстве Церкви и пр. А во многих случаях, повторим это, автор вступаешь и в прямую и победоносную полемику с новейшими католическими и протестантскими богословами, – особенно по вопросу о примате римской церкви и главенстве римского епископа – с католиками, – и о мнимом уклонении Церкви от первоначального харизматизма к епископскому строю, причем первый, как древнейший будто бы и подлинно
—685—
апостольской, был осужден позднейшей, допустившей новаторство, церковью, как еретический (цитаты в пункте Б) – с новейшими протестантами. Этим автор отклонил от себя упрек Самарина и проф. Суворова русским богословским работам по догмату о Церкви, «что в них обходятся все вопросы, в которых бы могла определить себя Церковь Православная против католиков и протестантов, – или если не обходятся вполне, то излагаются таким образом, что, при всякой попытке сопоставления отдельных пунктов православного учения с соответствующими пунктами противоположных одна другой систем католической и протестантской, пришлось бы нередко ставить вопросительные знаки, вместо точно определенного положения». (Данные для биографии Самарина Ю.Ф. С. XIV и предисловие проф. Суворова Н. к первому книги Кестлина Ю. Существо Церкви. Ярославль, 1882, с. XV).
К сказанному считаем нужным присоединить еще несколько замечаний.
Мы говорили уже, что в книге нет, да автор, по-видимому, и не имеет точного догматического определения понятий, составляющих предмет его работы: церкви, догмата и истории. Благодаря этому значительно ослабляется, а иногда даже и совсем теряется догматический характер его работы.
Так в отношении к Церкви, кроме всего вышесказанного, когда автор касается вопроса о преемственности епископата и непрерывной наличности иерархии, как признаке истинной (апостоличности) Церкви, он не задается естественно и даже необходимо при сем возникающими вопросами: имеется ли в древне-церковном догматическом веросознании мысль о так называемом «вдовстве Церкви?» сколько времени и в скольких церквях одновременно может быть допустимо отсутствие епископа в Церкви? Как понимать изречение Игнатия, что в Церкви Антиохийской, за отсутствием его – Игнатия, епископствует Сам Бог или Иисус Христос и любовь Церкви к Нему? возможно ли было в Церкви восстановление епископата через пресвитериат? возможно ли в Церкви «пустое рукоположение?» и пр. (с. с. 187 ср. 195, 236 ср. 417–418, 470). Подобное же в отношении к соборности Церкви: на с. 56
—686—
автор дает новозаветное о предел еще этого свойства Церкви, как «единства церковного тела», – затем на с. 248 он толкует учение Климента Александрийского о кафоличности Церкви в смысле «единства веры», – далее на с. 392 кафоличность по Киприану понимается в смысле соборного общения епископов вселенской Церкви, – а на с. 484–485 излагается учение Оптата и на с. 498 Августина о кафоличности в смысле вселенскости, – и, наконец, донатисты (с. 498) понимают кафоличность не в смысле ее пространственной повсеместности, а в смысле полноты учения и таинств (ср. с. 503). А сам автор, по-видимому, понимает кафоличность в смысле Киприановского «кафолического епископства, на котором покоится единство всей вселенской Церкви и посредством которого каждая отдельная Церковь стоит в неразрывной внешней (именно внешней) связи со всей вселенской Церковью, что осуществляется на соборе, и именно вселенском» (с. 413–414). Все эти, исключая первое – новозаветное, определения кафоличности Церкви, – скорее канонико-юридические, чем догматические, – вызывают ряд недоумений, оставленных автором без всякого разъяснения, а именно: о внешнем объеме Церкви по отношению к пространству и количеству народов земли, – входит ли в понятие соборности реальное общение Церкви земной с небесною (умершими святыми и Ангелами), – могут ли составить кафолическую Церковь трое, собравшиеся во имя Христа, верующие, среди коих присутствует Господь (Мф. 18:20 в связи с идеей Церкви – ср. ст. 17–19), особенно перед вторым явлением Христа, когда «Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18:8). Сюда же можем отнести понятие видимой и невидимой сторон Церкви, не разграниченных и даже, по-видимому, ясно не различаемых (с. с. 15, 422) автором: можно ли видеть церковное единение или общение, и будет ли оно видимым и телесным или невидимым и духовным, например, в тех случаях, когда православные богословы, – не только миряне, но и высшие иерархи – русские и греческие, – пользуются изданиями, исследованиями, общими идеями, аргументами и пр. богословов инославных, не только католических, но и протестантских? Не имеем ли здесь только другую фор-
—687—
му общения, именно духовного, – или, говоря словами св. Иринея, «как бы одну душу и то же самое сердце и согласную проповедь и учете, какъ бы одни уста»? (Contra Haer. 1. 10. 2 ed. Stieren, р. 120). В отношении к представителям древне-христианской экклесиологии, особенно к Иринею, Августину и др., исключая быть может, одного Киприана, дает знать отсутствие целостно-систематического построения, – то есть именно догматического, требующегося догматической методой, – их екклесиологий. Благодаря этому остаются невыясненными некоторый стороны их екклесиологий, например, соборность Церкви у Иринея, – учение Августина о предопределении, о Церкви невидимой, – рекомендуемое Августином насилие по отношении к еретикам и раскольникам не только не уясняется из общих начал Августиновой экклесиологии, а даже и совсем почему-то умалчивается.
Второй термин заглавия книги – догмат. В Ефес. 2:15 ср. Кол. 2:14 догматами названо учение Христа, Евангелие, частное – средоточие Евангелия – десять блаженств Нагорной Проповеди, в соответствии десяти заповедям скрижалей, как средоточии ветхозаветного закона Моисеева, – вообще Евангелие или учение Христа (Barnabae epist. I. 6: τρία δόγματά ἐστιν Κυρίου ζωῆς ἐλπὶς ἀρχὴ καὶ τέλος πίστεως ἡμῶν, και δικαιοσύνη κρίσεως ἀρχὴ και τέλος, ἀγάπη εύφροσύνης και ἀγαλλιάσεως ἔργων δυκαιοσύνης μαρτυρία– Ignatii epist. 1 ред. Magnes. XIII. 1: σπουδάζετε βεβαιωθῆναι ἐν ταῑς δόγμασιν τοῦ Κυρίου καὶ τῶνἀποστόλων– учетние Христа и апостолов, – Didach. XI. 3 τὸ δόγμα τοῡ εύαγγελίου – подобное же Ореген, Василий Великий, Златоуст, Кирилл Александрийский и др.), – постановление апостольского собора в Иерусаламе (Деян.16:4), – Кирилл Иерусалимский – учение в отличие от дел: ὁ τῆς θεοσεβείας τρόπος ἐκ δύο τούτων συνέστηκε δογμάτων εὐσεβῶν ἀκριβείας καὶ πράξεων άγαθων – Оглас. Сл. IV. 2 Reischl, I. 90, – Василий Великий различает две части христианского учения: τὰ κηρύγματα καὶ τὰ δόγματα, одни мы имеем в писанном учении, а другие – мы приняли из апостольского предания, как переданные нам в таинстве, – эти умалчиваются, а те возвещаются, – эти суть всем возвещаемое и ясное учение христианское, а те суть священнодействия, коих смысл не для всех ясен – крестное знамение, молитвенное обрашение на во-
—688—
сток, слова призывания над евхаристическим хлебом и Чашей благословения, благословение крещальной воды, елеопомазания и пр. (О Святом Духе. XXVII. ср. XXIX. 66 71, Magne gr. XXXII. 185 sq. 200) – подобное же Евлогий Александрийский, у Фотия (Bibl. cod. 230 ed. Bekkeri, p. р. 267–268); служителями Слова (апостолами) предано Церкви учение в виде догматов и проповедей, – различие такое: догматы возвещаются с прикровением и мудростью и часто нарочно облекаются неясностью, чтобы не выставлять святыни нечистым и не бросать жемчуг свиньям, – а проповеди возвещаются без всякого прикровения, и преимущественно те, кои относятся к числу заповедей и к соблюдению божественного страха, – но есть между догматами еще и некоторые наиболее таинственные, кои, так сказать, всецело умалчиваются и таинственно преподаются только тем, кои через живое слово имеют духовную мудрость предлагать это верным». (Preuschen. Hdw., – и Suicer, Thesaurus art. δόγμα). Такая неустановленность древнехристианской терминологии требовала от автора точно определить понятие догмата в отношении к Церкви и тщательно отграничить это понятие от соприкосновенных с ним в экклесиологии: символа, канона, обряда, дисциплины.
Третье понятие, входящее в заглавие книги – история. На первой странице в примечании автор говорит, что «предмет его исследования – истории догмата о Церкви» и что «в этом исследовании он может дать только самый общий очерк новозаветного учения о Церкви, который, не имея самостоятельного и безотносительного значения, может служить только как бы введением к истории собственно догмата о Церкви». Но когда же начинается сама «история собственно догмата о Церкви?». Мы говорили уже, что автор не имеет точного ответа на вопрос о времени основания Церкви (пункт 2: видимая и земная Церковь должна иметь и определенный исторический термин своего начала) и что истории он понимает не как прагматическое и органическое развит идеи Церкви, но как внешнее только проявление некоторых экклесиологических идей в церковной полемике против антицерковных движений первыхъ четырех веков. Он довольствуется только общим изложением результатов этой полемики, без восстановления того жизненно-исторического процесса, в
—689—
коем раскрывалось животворное начало этого процесса – идея Церкви или ее таинственно-духовная сущность. Этим объясняются весьма существенные опущения, о коих мы говорили выше, в экклесиологии восточной и западной, – и главнейшие из них: Дионисий Ареопагит – на Востоке и Августиново De civitate Dei – на Западе. В зависимость от такого понимания истории догмата о Церкви должно поставить и то, что понятие Церкви и ближайшее к нему и существеннейшее понятие кафоличности ее в книге остаются без исторического освещения и мало раскрыты, – точно также идея предсуществования Церкви считается случайностью в истории догмата о Церкви. Напротив, вопрос о примате Римского епископа, споры о перекрещивании еретиков, схизматиков и падших, – полемика с новацианами и донатистами и под. обсуждаются как существенные явления в этой истории.
Всего сказанного считаем достаточным для окончательной и общей характеристики труда В.А.Троицкого. Это – исторический комментарий к символьному члену веры о Церкви, и именно к указанным здесь предикатам Церкви – единства, святости и апостоличности, – причем, однако ж, само основное понятие Церкви – ἐκκλησία и ближайший к нему по значению предикат соборности – καθολική остаются в труде автора без прагматико-исторического и богословско-догматического освещения. Поэтому, в конце концов, книга представляет не столько общую «историю догмата о Церкви», в собственном и строгом смысле этих понятий, или «из истории догмата о Церкви» сколько частный материал для некоторых отдельных сторон истории догмата о Церкви. А объясняется это, по признанию самого автора в его речи перед коллоквиумом, специальной задачей труда как «историко-догматической апологии девятого члена Символа Веры» против новейших западных построений истории первохристианства. Таким образом, как в постановке задачи своего труда, так и в решении ее, автор, как апологет православия, стоял в зависимости от современного положения вопроса в западной науке.
Но этим конечно не исключается и не удовлетворяется потребность в независимом от частных целей православной апологии и совершенно самостоятельном православ-
—690—
ном освещении истории догмата Церкви, каковое мы, хотя и мечтательно, позволяем себе набросать в конце рецензии.
Воскресший и одесную Бога Отца Сидящий Спаситель – Богочеловек как реальная основа, – а Его Евангелие и учение, как идеальный тип Церкви, – есть зерно догмата о Церкви.
Боговдохновенные созерцания Св. Ап. Павла о Церкви, как живом организме таинственного Тела Христова, постепенно, стройно и целокупно или соборно растущего в меру возраста полноты Христа, Наполняющего все во всем, к домостроении в любви, – представлять ствол, произросший из евангельского зерна и раскрывший его сущность и основную идею.
Затем, ствол этот разветвляется на восточную и западную Церкви, отчасти восприявшие в себя и в своей истории, отразившие еще дохристианские черты своих духовных направлений и культурных особенностей.
На западе: более практическое направление, внешняя организация, строгая дисциплина, стройный законопорядок, наклон к превращению догмы в канон и возведению канона, обряда и дисциплины в догму, вообще реализм во всем. На востоке во всем, как и здесь, – царственный путь истины и жизни – средина, – преобладание внутренней культуры духа (в мистическом аскетизме), нравственно-религиозный идеализм, мистико-догматическое направление. Там Церковь есть общество христиан, внешне-юридически стройно и строго сорганизованное и господствующее над личностью до подавления индивидуальности, – здесь Церковь есть собрание христиан в живой и самодеятельный организм таинственного Тела Христова, при сохранении должной самостоятельности каждого верующего, не только не теряющегося в Церкви, но деятельно участвующего в домостроении церковном.
Наиболее ярко и типично эти особенности проявились в последних и гениальных представителях западной и восточной церквей золотого века: Августине и Дионисии Ареопагите.
В лице Августина практичный запад кончает истории догмы о Церкви гениальнейшим «De civitate Dei – универ-
—691—
сальным государством Божиим», наклоном к смещении в религии нравственных и правовых норм и требований, догмы и канона, веры и дисциплины – обряда, – к слиянию царства Христова с царством мира, – даже с насилием над иномыслящими – с одной стороны, – и предопределением, идею невидимой церкви, свободой личности и индивидуальной самостоятельностью в деле веры и толкования Писания – с другой стороны.
В лице Псевдо-Дионисия идеалистичный Восток раскрывает религиозно-мистическую основу Церкви, как таинственного Тела Христова и полноты Наполняющего все во всем, – идеей обожения человечества и постепенного движения его к богочеловечеству, – полным отделением царства Христова и Церкви от мира сего, – вдохновенным веросозерцанием таинственной системы единения небесной и церковной иерархии и средоточием этого универсального единения неба с землей и Бога с человеком в величайшей «тайне (или таинстве) собрания – μυσνήριον συνάξεως» – тайне взаимоединения любви божеской и человеческой.
Различие это заметно и в дальнейшей истории Востока и Запада, до настоящего времени.
Августинизм, как типичное проявление Запада, продолжался в двух направлениях: правом и левом. Правое: Григорий VII, мирское владычество Рима в средние века, инквизиция, (иерархический абсолютизм до устранения мирян от деятельного участия в церковной жизни и папской непогрешимости, вообще церковно-клерикальный папизм. Левое: Лютер, Кальвин и др., протестантизм, своеволие личности, полный индивидуализм и, вообще, папизм личный и государственно-политический.
На Востоке, напротив, живет и жизненно осуществляется Ареопагитова тайна собрания и начало соборности во взаимоединении церквей, их равночестности и братстве, выражаясь преимущественно во внецерковных или вселенских соборах. Правда, после седьмого вселенского собора и до настоящего времени, по причине изволением Божиим допущенных исторических обстоятельств, эта форма осуществления соборности Церкви прекращена, причем конечно не престали все другие проявления соборного начала церковного, например, в богослужебном общении, письменных сно-
—692—
шениях и др. Но в новейшее время, и именно в Русской Церкви, начиная с вдохновенных интуиций Хомякова, идея соборности оживает с особенной силой, если и не на деле, то в разуме и слове.
Союз Августиново «Царства Божия» (в его истинно-христианских сторонах, конечно) с Ареопагитовой «Тайной Собрания», примирение папы с Собором Церкви, – реально-практического начала церковной жизни с идеально-догматическим и соборным, объединение народов не на почве космополитических интересов и национального эгоизма, а на нравственно-религиозном начала христианской любви евангельского идеала-обетования об одном духовном стаде и одном духовном Пастыре: – такова задача, прошлой историей Церкви поставленная для осуществления Церкви настоящего и последующего времени. И мы веруем, что и Русской Церкви Промыслом Божиим суждено иметь действенное, и притом не малое, участие в решении этой великой задачи Христианства.
Возвращаясь к книге В.А.Троицкого, могу окончательно определить задачу историка догмата о Церкви за данный период так:
Хотя бы кратко, но полно, т. е. во всех сторонах церковной жизни, а не в одной только полемике с ересями и расколами, – проследить: как Восток постепенно и прагматически породил Дионисия Ареопагита с его Небесной и Церковной Иерархией, а Запад – Августина с его De civitate Dei.
Задача эта ждет своего православно-русского работника1046.
М. Муретов
Журналы собраний Совета Московской Духовной Академии за 1912 год // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3, с. с. 321–384 (5-я пагин.)
–321–
из некоторых других сочинений того же автора, рассмотреть философскую концепцию с научно-методологической стороны и поставить ее в перспективу теистической аксиологии. Эту задачу автор и выполнил, – выполнил, во всяком случае, так, как этого можно было ожидать от даровитого, трудоспособного, хорошо знающего немецкий язык и богословско-философски солидно образованного студента.
Высказывая о труде г. Муратова такое заключение, мы имеем в виду оттенить, что подлинный нерв идейных комбинаций Мюнстерберга уяснился для него, – как это видно отчасти и из сочинения, отчасти же и, главным образом, уяснилось для рецензента из многократных бесед с самим автором, – лишь в конце его годичной работы (что, обыкновенно, бывает со студентами), вследствие чего и распланировка целого, по его собственному сознанию, не вполне совпадает с той, какой она могла бы и, пожалуй, должна была бы быть, если бы писал не студент, всегда робкий и неуверенный в себе, не имеющий достаточно широких, общих философских перспектив и, главное, связанный временем. Всеми этими условиями работы, во всяком случае, достаточно объясняется то обстоятельство, что вместо борьбы с Мюнстербергом в принципе, он атакует его в отдельных тезисах, присоединяя свои замечания, – иногда, правда, весьма дельные, но всегда фрагментарные, – к частным положениям и отделам книги.
Впрочем, следует заметить, что, в конце концов, автору все же удалось занять относительно Мюнстерберга – как это ни трудно было в его положении – позицию определенную и достаточно твердую.
Соглашаясь с ним в том его тезисе, что «ценности» даны нам в тожественных у всех нас переживаниях, он справедливо, однако же, расходится с ним в том существенном пункте, что, тогда как Мюнстерберг, отправляясь от переживаний, проектирует ценности, как возможности или идеальности, наш автор истолковывает их, как необходимые реальные предположения жизни и мысли, – как реальности, из века осуществленные в Реальности Абсолютной; в теистически понимаемом Боже-
—322—
стве. В заключительных тезисах сочинения эта точка зрения автора намечена достаточно определенно.
При переработке для русского читателя книги Мюнстерберга, написанной языком чрезвычайно отвлеченным, автору приходилось иметь дело с большими техническими трудностями. Правда, он не всегда одинаково успешно с ними справляется. Встречаются в его переводе выражения громоздкие, неточные, например: «бесценный» (вместо «лишенный ценности», с. 120 и др. повторно), «со-хотимый» (с. 284), «хочется сама вещь» (с. 237), «красовало вечной красотой» (с. 304), «само-смысл» (с. 310), «само спасение, сама помощь хотимы» (с. 304) и мн. др. Но все же, только солидное знание немецкого языка дало автору возможность справиться, в общем, довольно удовлетворительно, с громадными техническими трудностями передачи содержания книги в достаточно удобопонятном изложении.
Степени кандидата богословия г. Муратов за представленное им сочинение, написанное вдумчиво, с приемами строго-научными и обнаруживающее недюжинное философское дарование, заслуживает вполне».
б) Ординарного профессора С.С. Глаголева:
«Г. Муратов в своем сочинении (XII+446) постарался тщательно изложить воззрения Мюнстерберга и каждый отдел труда Мюнстерберга подверг критическому разбору. Все разборы его (за исключением заключения) похожи один на другой: он обвиняет Мюнстерберга в формализме, особенно неудачность Мюнстербергской философии открывается в вопросе о Боге; Бог для Мюнстерберга, хотя есть и высшая ценность, но ценность, вопрос о реальности которой остается открытым. При такой постановке дела, по г. Муратову, падает ценность всех ценностей.
Без сомнения, он прав в этом. Но было бы желательно, чтобы его критика была более строгой и полной. Он часто хвалит Мюнстерберга за высказываемые им банальные положения, и в его критике нередко подчеркиваются с недостаточной резкостью заблуждения Мюнстерберга. Теория ценностей это – тема, которая задана современным философам, на нее писал Гефдинг (о сохранении ценностей), написал Мюнстерберг, кроме них писали
—323—
десятки лиц, но пока, мне кажется, в сокровищницу философии они не вложили ничего кроме новых слов.
Затем в сочинении г. Муратова нет критики Мюнстерберга по частным пунктам. Раскрытие того, что Мюнстерберг делает иногда выводы из несуществующих фактов или что, по крайней мере, его сообщения нуждаются в проверке, думаю, изменят взгляд на его философию.
На с. 406 Мюнстерберг говорит совершенный вздор, о Тао, как древнейшем божестве – Творце.
На с. 409 написано: «при Гаммураби, со времени основания Вавилонской монархии, царем богов сделался Мардук». Здесь все положения, выражаясь мягко, не отвечают действительности. Вавилонская монархия была основана не при Гаммураби, Мардук царем богов в вавилонском богословии не считался, сам Гаммураби получил законы от Шамаса, а не от Мардука.
На с. 411: «Иегова, Израильский Бог, сначала представлялся Богом грозы и молнии». Положение это утверждалось многими, но думаю, что Мюнстерберг не сумел его защитить.
Можно отметить поспешно принятие положения и у нашего автора.
Он пишет и, по-видимому, принимает, что истину теперь понимают не статически, а динамически (V). Положим, и покойный Кудрявцев писал, что истина есть то, что должно быть. Но истина, если она есть, то, прежде всего, она есть Бог. Затем если истиной и не является осуществляемая действительность, а только действительность, которая должна осуществиться, то и тогда истина есть данный изначала идеал.
С. с. 113–114: Вопрос о чистой воле автор решает слишком поспешно. Если бы он знал учение Шеллинга о двух волях в Абсолютном, он, может быть, побольше остановился бы над ним.
С. 213: Автор соглашается с Мюнстербергом, что причина и действие существуют раздельно. Это совершенно неверно. Бытие есть процесс. Самомалейшая частица постоянно находится в движении, таким образом, каждое А в действительности является соединенным с В (движущим его началом) и это только очень простая схема для сложного факта.
—324—
С. 292: «Естественно единство в эпосе, где тоже может быть борьба, но между одним героем и окружающей природой». Что хотел сказать этими словами Мюнстерберг и как он смотрит на Илиаду?
Может быть, последнее Мюнстерберг объяснит, но, несомненно, по его теории ценностей он нередко писал о том, чего не знал. Не мешало бы кое-где отметить это критику.
За всем тем сочинение г. Муратова представляет собой труд нелегкий, полезный и добросовестный. Написано сочинение ясным и простым языком. Видна у автора осведомленность в философских терминах. Вообще, сочинение производит на читателя благоприятное впечатление. Степени кандидата автор заслуживает».
36) О сочинении студента священника Надеждина Александра на тему: «Хлыстовство. Его происхождение, природа и виды».
а) Экстраординарного профессора А.И. Орлова:
«Задачей о. Надеждина по смыслу избранной им темы было – представить на основании существующей литературы о хлыстовстве, сжатую монографию об этой секте, обратив преимущественное внимание на отмеченные в самой теме вопросы: о происхождении природе и видах хлыстовства. Предполагалось, что автор в первой главе, разобравшись в различного рода гипотезах об историческом (иностранном или самобытно-русском) происхождении хлыстовства, установить свой взгляд по этому вопросу; – во II главе сделает посильное выяснение психопатологической природы хлыстовства, – выяснение взаимоотношения в нем интеллектуальных (догматических), эмоциональных и волевых (нравственно-практических) элементов, – и, наконец, в III-й главе, сделает с точки зрения выясненного понятия о природе хлыстовства общий обзор его главнейших видов или разветвлений. Автор в своей работе, однако, дал иную постановку своей теме, с одной стороны, упростив свою задачу, а с другой, – осложнив ее побочными вопросами, что сообщило сочинению о. Надеждина спутанный, неотчетливый характер. – Работа о. Надеждина разделяется, как бы в соответствие теме, на III главы,
—325—
но насколько изложение автора расходится с содержанием темы, – видно уже из сделанного самим автором (в предисловии) общего обзора его работы. «Первая глава – пишет о. Надеждин, – обнимает собой истории хлыстовщины от ее зарождения до последних дней. Здесь рассмотрены литературные памятники, так или иначе трактующие о хлыстовстве; указаны места первоначального возникновения секты; поименованы основатели, продолжатели и замечательные организаторы секты. Параллельно с внешней историей хлыстовства, изложено учение и обряды хлыстов, но лишь в той мере, в какой они постепенно становились достоянием русского общества. Затем во второй части (этой же главы) представлено вероучение хлыстов, но уже в более или менее стройной системе». Автор, действительно, в этой главе (с. с. 1–128), наряду с вопросом об историческом зарождении хлыстовства, рассмотренным довольно обще, дает краткий очерк главнейших моментов всей истории хлыстовства (Данила Филиппович и Иван Суслов; судебные дела о хлыстах в 18 в.; «Изъяснение» священника Сергеева; кружок Татариновой; Аввакум Копылов; Радаев; Порфирий Катасонов; судебное дело о хлыстах с. Сунопева в 1895 и 1903 гг.), равно так сообщает более или менее подробные сведения о хлыстовской догматике, морали, культе. Написание этой главы едва ли доставило автору много труда – ввиду достаточной разработанности этих вопросов в использованной автором литературе о хлыстовстве, – а допущенное о. Надеждиным произвольное уклонение от темы, конечно, не составляет достоинства его работы. Более, по-видимому, отношения к теме автора имеет II-я глава его сочинения (с. с. 129–208). Она, как формулирует сам автор ее содержание в своем «предисловии», «в первой своей части посвящена определению природы хлыстовства. Здесь приводятся мнения о природе хлыстовщины специалистов исследователей, делаются к ним посильные критические примечания, а потом высказывается автором свой взгляд на природу этой секты. Во второй части указываются те причины, которые способствовали зарождению и распространению наследуемой секты». Автор, однако, и к этой главе своего сочинения не дает ясной и отчетливой постановки
—326—
вопроса. Многое из того, что автор говорит в этой главе, относится собственно не к вопросу о природе хлыстовства, а об его историческом происхождении (например, разбор гипотез об иноземном происхождении этой секты: характеристика русской религиозно-культурной жизни в 16–17 вв. и др.), и являлось бы уместным в I-й главе, его сочинения. Те страницы работы автора, которые имеют действительное отношение к вопросу о природе хлыстовства, у о. Надеждина теряются среди не идущего к делу материала. Лишь III-я глава (с. с. 208–248) работы автора, хотя написана довольно поверхностно, но прямо отвечает на вопрос темы. Отмеченная спутанность в постановке вопросов темы, и вытекающая отсюда расплывчатость содержания работы о. Надеждина, и составляют главный, т. е. органический ее недостаток.
Из более мелких промахов отмечу несколько недосмотров и малоосновательных суждений. На с. 54 автор, цитируя Кутепова: Секты хлыстов и скопцов. С. с. 63–64, пишет: «так возник громадный корабль в селе Преображенском, Зарайского уезда. В числе членов этого корабля числилось семейство попа Петра, что в Барашах церкви, семейство пономаря Казанского собора и др.». На цитованой странице у Кутепова ничего подобного не говорится. Автор, видимо, соединил в одно два различных известия и поставил неверную цитату. На с. 70 автор заявляет, будто «священник Сергеев... не только посвящен был во все тайны хлыстовства, но и сам впал в ту же ересь». На с. 101 автор пишет: «обрядовая сторона, очевидно, развилась в хлыстовстве ранее всего». Из контекста речи видно, что под обрядовой стороной автор разумеет хлыстовскую «иерархию лжехристов, апостолов, пророков и богородиц» (ib). Но эта «обрядовая сторона», конечно, не могла возникнуть «ранее всего», а предполагает, как свой prius, не только известного рода мистико-патологические переживания, но и своеобразную идеологию. На с. с. 105–110 автор, переоценивая историческое значение хлыстовских сказаний и распевцев (о Даниле Филипповиче и др.), слишком рационализирует процесс развития хлыстовской «догмы», заявляя, что «при возникновении хлыстовщины реально (?) выдвинут был
—327—
догмат о единоличности божества», поскольку «в первой заповеди Данила Филиппович коротко и ясно заявляет о своем божественном достоинстве и отвергает всякое существование своих соперников». «Но этот первоначальный догмат о единоличности божества терпит скоро изменение», когда Данила Филипповичи признал Суслова «возлюбленным Сыном – Христом!». Таким образом, еще при начале хлыстовщины, понятие о божестве расширилось; бог явился уже в двух лицах – в лице Саваофа и Христа. В 12 заповеди хлысты призывают к вере в Св. Духа. На первых порах личность Св. Духа не описывается, но потом в учении хлыстов и Св. Духа, является, как лице божественное»...
Не дав в своей работе вполне определенного и отчетливого ответа на намеченные в теме вопросы, о. Надеждин, однако, видимо немало потрудился над своими сочинениями, собрал и перечитал значительную литературу о хлыстовстве, реферировав ее выводы в ясной и литературной, с немногими исключениями (с. с. 7, 55, 100, 180, 190), форме. Кандидатской степени о. Надеждин заслуживает».
б) И. д. доцента Ф.М. Pоссейкина:
«Сочинение о. Надеждина представляет посильный опыт дать сводку имеющегося материала о хлыстовстве. Имея под руками по существенным вопросам темы ряда готовых решений, автор в отдельных случаях пытается отнестись к ним критически и обосновать свое собственное мнение (ср. гл. II ч. 1). Желание быть самостоятельным и, вместе с тем, осторожным, обнаруживает автор в наиболее трудных и ответственных вопросах, на которые наталкивается исследователь хлыстовства в вопросах о ритуальных убийствах (с. с. 173–176) и свальном грехе (с. с. 166–173). Первый факт о. Надеждин склонен отрицать, опираясь на заключения наиболее осторожных последователей и, главное, на отсутствие улик, добытых судебным следователем. Второй факт он признает, но со значительными ограничениями – допуская его, скорее, в виде исключения и лишь в отдельных хлыстовских кораблях – и в особом освещении, подсказана ему мате-ко-
—328—
Реалами III-го Миссионерского Съезда в Казани. О. Надеждину можно только поставить вопрос: если ему известно, что судебное следствие не установило с достоверностью спорного факта (с. 166), то какие данные принуждают его признавать этот факт? Эти данные он должен был выяснить обстоятельнее; иначе у читателя может остаться впечатление, что автор уступает, в данном случае, общепринятому мнение без достаточных оснований.
Некоторое недоумение может вызвать план сочинения. Автор располагает основной материал в таком порядке: история хлыстовщины, система хлыстовского вероучения, природа хлыстовства и, наконец, причины возникновения и распространения секты. Вопрос о причинах исторического явления естественно связан с фактом самого его зарождения и первоначального развития. Если автор хочет трактовать о причинах хлыстовства лишь после изложения его истории и вероучения и выяснения природы секты, он должен объяснить, почему он так поступает; сделать это необходимо, так как об избранном им плане вовсе нельзя сказать, чтобы он сам собой предполагался.
Степени кандидата богословия о. Надеждин заслуживает».
37) О сочинении студента Никольского Василия на тему: «Учение Р. Эйкена о духовной жизни и его апологетическое значение».
а) Ординарного профессора М.М. Тареева:
«Духовная жизнь в системе Р. Эйкена есть метафизическое единство всех духовно-культурных явлений – религии, нравственности, права, искусства, науки. Конкретное обнаружение итого единства дается в тех исторических системах культурной жизни, которые отличаются одна от другой во всех областях. Но Эйкен углубляет это единство до метафизической существенности. Духовная жизнь есть одновременно и сокровище, из которого почерпается всякое культурное содержание, и вместе с тем – идеал, осуществляемый в нашей деятельности, – это то, что Эйкен называет «единством свободы и зависимости». Он убежден, что духовно-культурная работа лишь в
—329—
том случае может принести непреходящее результаты, если она соединяется в обоих этих смыслах с над-мирной и над-индивидуальной духовностью, в которой закрепляется человеческая деятельность, и без связи с которой все историческое подпадает позитивной призрачности. Отсюда легко видеть, что философия Эйкена более чем какая-либо другая из современных философских систем, может быть использована в интересах апологетики.
Работа г. Никольского, не имеющая ни видимых делений, ни предварительного или заключительного обозрения содержания, может быть разделена на три части. В первой части дается общая характеристика философии Эйкена, во второй – намечается его отношение к Платону, Плотину, Канту и Фихте. Обе эти части крайне кратки, конспективны. В третьей части предлагается более подробно обоснование духовной жизни как в общем, так и в разных ее сферах. Общая мысль изложенного здесь та, что человеческая жизнь более чем просто природное явление, имеет более глубокие корни. Это критика натурализма.
Сочинение г. Никольского страдает многими крупными недостатками. То обстоятельство, что автор опирается лишь на некоторые, более популярные, а не на все труды Эйкена, ему не вменяется в качестве недочета. Эти границы работы были установлены заранее, вследствие заявленного автором условия – работать при строго ограниченном материале на немецком языке. Общая характеристика философии Эйкена и сравнение ее с системами его великих предшественников изложены слишком кратко и фразами, очевидно, схваченными там или здесь, без признаков знакомства автора с историей философии. В третьей части автор работает вполне самостоятельно, но система Эйкена в его изложении не получает достаточной ясности ни в общей мысли, ни в частностях; не встречаем здесь и полноты изложения, которой рецензент в праве был бы ожидать. Хотя не подлежит спору склонность автора к вдумчивости и некоторой углубленности мысли, но совершенно не видно знакомства с философской терминологией и привычки к философскому языку. Переводы из Эйкена крайне неуклюжи, часто неверны. На с. 60 автор пишет:
—330—
«Ничего нет характернее для мышления, чем факт логического противоречия. Противоречие не могло бы даже почувствоваться, если бы мышление не связывало множественность общей деятельностью, оно не могло бы также стать настолько невыносимым, как это бывает на самом деле, в том случае, если бы оно не обладало огромной силой и гнетущей убедительностью». По справке с немецким подлинником оказывается, что здесь автор – думает что – переводит следующее место: Ein Widespruch liesse sich gar nicht empfinden, wiirde nicht im Denken die Vielheit von einer Gesamttaligkeit umspannt, und er konnte nicht so unertraglich sein wie er es ist, ware nicht das Yerlangen nacli Einheit von gewaltiger Starke (Geistige Stromungen der Gegenwart. 4 Aufl. S. 143). «Гнетущая убедительность противоречия» оказывается мифом. Явно бессмысленный перевод на с. 74: «Почему такая забота и старания, все человеческое существование, обнимающее лицемерие, и откуда сам вид, если бы мы совершенно исчерпывались природой?». С. 81: «освобождение (?) нашей жизни от чистой (?) природы» (в подлиннике: ein Hinauswachsen unseres Lebens iiber die blosse Natur. Grundlinien einer neuen Lebensanschauung, S. 97). С. 95: «Первоначально зло значило духовной работе как нечто природное (das Bose gait der geistigen Arbeit anfanglich als etwas Naturgegebenes. Der Kampf um einengeistigen Lebensinhalt. 2 Aufl. S. 79). С. 137: «Человек не мирится с чистым (?) существованием. Без переживающего или созерцающего единства нет вообще движения». И т. д. Изумительно при этом упорство, с каким автор избегает справляться с существующими переводами употребительных терминов или обычных выражений. Даже целые, переводимые столь нескладно, отрывки иногда уже известны в хороших в переводах, о которых он, вероятно, не знает. Так на с. 45 он дает дурной перевод отрывка, приводимого у Эйкена, из книги Оливера Лоджа Жизнь и материя, имеющейся в недурном русском переводе.
Решительным недостатком сочинения нужно считать отсутствие какого-либо указания на апологетическое значение учения Эйкена. Автор вообще не обсуждает, не оценивает излагаемой системы. Сочинение не заканчивается, а обрывается. Дочитывая небольшую тетрадку, читатель испыты-
—331—
вает неудовлетворенность: перед ним стоит вопрос: ценности изложенной системы, на который нет ответа.
Несмотря на эти крупные недостатки, я признаю диссертацию г. Никольского удовлетворительной для степени кандидата философии. Он изучил три-четыре немецких книги Эйкена и некоторую литературу об Эйкене. Бесспорно, что Эйкена понимать и излагать очень трудно – в виду крайней отвлеченности его сочинений. Не владея в желательной мере немецким языком и не имея достаточных познаний по истории философии, г. Никольский должен быль встретить при изучении Эйкена затруднения, который он мог как-никак преодолеть лишь благодаря своей выдающейся энергии. Рецензент был свидетелем, той напряженной работы, которой стоила г. Никольскому его диссертация. При всех неблагоприятных (указанных) усилиях ему удалось овладеть мыслями Эйкена и изложить их более или менее связно и вдумчиво. Соглашаясь с собственным признанием г. Никольского, что он не без пользы для себя провел этот год, и, ценя его выдающуюся работоспособность, я без колебаний считаю его достойным кандидата богословия».
б) Ординарного профессора А.И. Введенского:
«Определив основную точку зрения Эйкена, как «пантеизм» (с. 13), автор, в сводном изложении систематизирует мысли Эйкена в пределах темы. Сочинение небольшое (всего 155 с.), не весьма глубокое и не везде одинаково обработано в формально-литературном отношении, но все же достаточно толковое, «Апологетическое значение» философии Эйкена оттенено довольно слабо. В конце сочинения дан перечень трудов, как самого философа, так и монографии о нем. Едва ли, однако, автор много пользовался последними (разумеем немецкие подлинники), да и из сочинений самого философа он извлек далеко не все, что могло бы представлять для него интерес и ценность.
В общем, сочинение не блестящее, но степени кандидата все же заслуживает».
38) О сочинении студента Новгородского Павла на тему: «Хозяйство Троицкого Сергиева монастыря до секуляризации и после нее».
—332—
а) Ординарного профессора М.М. Богословского:
«Сочинение г. Новгородского состоит из двух частей: хозяйство Сергиева монастыря до 1764 г. и после указа о секуляризации. Автор начинает первую часть определением хозяйства, с которым едва ли можно согласиться. «Хозяйство, – пишет он, – есть собственно домоводство, домоустройство вообще. А как натуральное – оно есть возделывание земли и уход за ней, есть именно земледелие» (с. 11). Но не одно только земледелие входит в понятие натурального хозяйства; скотоводство, рыболовство, охота также представляют собой хозяйственные операции. В первой части автор останавливается с особым вниманием на одном вопросе: на постепенном росте земельных владений Троицкого монастыря с его основания до 1764 г. К исследованию он привлек, и это составляет ценную часть его работы, рукописные материалы монастырской библиотеки, из которых приводить нисколько документов в примечаниях. Данные этих источников он затем объединяет в общие наглядные таблицы. Автор критически разбирает вопрос о земельных пожалованиях монастырю еще при жизни его святого основателя и выясняет между прочими подложность двух грамот (с. 33). Но автор занимается гораздо более юридической стороной землевладения, чем его хозяйственной стороной. Он много говорить о тех юридических путях, которыми многочисленные земли попадали в руки монастыря (пожалование, вклад, залоги и др.) и гораздо менее о самих хозяйственных операциях, которые монастырем в его владениях велись. Следует отметить в первой части работы некоторую сбивчивость плана, благодаря которой изложение переходит от одного предмета к другому и от одной эпохи к другой без особого порядка, например, от монастырского скотоводства к столовому довольствию братии, от столового довольствия в XVII в. к стряпческим конторам в Москве и Петербурге в XVIII в., а от этого предмета к занятиям монастырских слуг и служебников. Нить изложения уловить здесь трудно. Укажем также допущенную в этой части неточность объяснения термина «выть». Объяснение почему-то берется из словаря Даля, тогда как этот термин в его
—333—
податном значении достаточно разъяснен в нашей исторической литературе (с. 54). То, что в разных монастырских имениях (автор напрасно иногда употребляет по отношению к монастырским землям очень определенный для XVI и XVII в. термин «поместье») существовали житницы, не указывает еще на существование в этих имениях собственной запашки монастыря: житницы могли быть предназначены для хранения того посыпного хлеба, который вносился монастырскими крестьянами в качестве оброка. Автор – горячий противник монастырского землевладения и настолько сторонник Указа 1764 г. о секуляризации, что день издания этого указа ставит выше дня 19 февр. 1861 г. Эти личные взгляды лишают его изложение объективности и спокойствия тона; резко, даже иногда страстно критикуя недостатки монастырского хозяйства, он перестает считаться с исторической перспективой. Если русский монастырь получил в своем историческом развитии, между прочим, значение хозяйственной общины, то причины этого следует искать в общем ходе исторического процессам, скорее объяснять это явление в прошлом, чем обличать.
Во второй части автор видимо уже забыл о данном им определении хозяйства, как «возделывания земли» и увлекся вычислениями монастырских доходов разных категорий, притом основывая эти вычисления на данных, который едва ли можно признать научными. Вот почему и результаты этих вычислений весьма спорны. Сведения, здесь приводимые, относятся уже к концу XIX в. и к настоящему времени. А можно было бы, руководясь документами монастыря, дать сравнение его хозяйства в первую и во вторую половину XVIII в. и выяснить, таким образом, значение перелома 1764 г. Увлечение, отклонившее автора от этой задачи, можно объяснить тем одушевлением, с которыми он относился к своей работе. В общем, я признаю сочинение заслуживающими искомой степени».
б) Экстраординарного профессора И.В. Попова:
«Соответственно заглавию сочинение г. Новгородского распадается на две части: в первой – автор дает очерки монастырского хозяйства до 1764 года, а во второй – говорит об экономическом положении Сергиевой Лавры после из-
—334—
дания указа о секуляризации. Вопросом, взятым для своей кандидатской работы, автор, видимо, интересовался и усердно занимался своим делом. В поисках материалов автор не ограничивался опубликованными и напечатанными документами, но использовал и рукописные источники, извлеченные из монастырской библиотеки. К своим источникам он относится критически, доказывая, например, подложность некоторых дарственных грамот. Все это составляет положительную сторону сочинения г. Новгородского. Самым же крупным его недостатком является несоответствие содержания теме. Прочитав заглавие труда, приступаешь к ознакомлению с ним в надежде найти на его страницах исследование исключительно экономического характера, но очень скоро убеждаешься, что интерес автора двоится, постоянно колеблясь между моралью и экономикой. Г. Новгородский посвящает много места рассуждениям о нраве монашества пользоваться обширными имуществами, характеризует высокую религиозно-нравственную личность Основателя Троице-Сергиевой лавры, входит в исследование побуждений, в силу которых состоятельные лица жертвовали монастырю земельные угодья или оставляли в его пользу недвижимость и деньги по завещанию, оценивает с моральной точки зрения некоторые способы приобретения, практиковавшиеся монастырями. Все это в сочинении экономического характера излишне и без нужды осложняет дело. В противоположность этому освещение чисто экономической стороны вопроса представляется не достаточно полным. Автор говорит преимущественно о росте доходных статей, которыми располагала лавра, и о количестве ее доходов, но почти не затрагивает вопроса, каким образом эти доходы извлекались из хозяйства и каким способом эксплуатировались обширные монастырские имущества и различные доходные статьи.
В общем, сочинение г. Новгородского удовлетворительно и дает ему право на получение степени кандидата богословия».
39) О сочинении студента Носова Константина на тему: «Преподобный Нил Сорский, его жизнь и аскетические воззрения».
—335—
а) Ректора Академии Епископа Феодора:
«В истории русского монашества личность прп. Нила Сорского является настолько крупной фигурой, что не только историку русского монашества, но даже историку вообще русской жизни и историку русской письменности и литературы было бы непростительно не уделить своего внимания этой личности. Вот почему и автор настоящего сочинения имел возможность для своего труда пользоваться весьма обильным материалом в виде «рукописей» и «сборников» и в виде целых исследований, посвященных личности прп. Нила. Нужно сказать в похвалу автора, что он в сочинении своем собрал и в приложении к своему труду указал подробно всю имеющуюся литературу о прп. Ниле и те первоисточники, которые являются фундаментом для его работы и для работ его предшественников. Это широкое обследование автором источников и литературы предмета сказалось благоприятно на его работе. Жизнь прп. Нила (гл. I сочинения); его литературная деятельность (гл. II) и аскетические воззрения (гл. III) обследованы и раскрыты полно и толково.
Выделено все характерное для личности прп. Нила Сорского как в его жизни, так и в деятельности чисто монашеской. При обследовании литературных памятников, оставшихся от прп. Нила, автор устанавливает очень определенно адресат того или иного послания прп. Нила. Например, спорный вопрос о том, кто является адресатом «послания великого старца Нила к брату, просившему у него написать ему, еже на пользу души», автор на основании анализа Софийского Сборника и рукописи в библиотеке Троице-Сергиевой Лавры устанавливает, что послание, несомненно, написано к белозерскому старцу Герману. Точно также при изложении аскетических взглядов прп. Нила автор вполне верно подмечает ту особенность аскетического мировоззрения и личного настроения итого великого подвижника, которая занесла его имя на страницы истории. Прп. Нил не только представитель строго созерцательного подвижничества, а проводник в монашескую жизнь начала старчества, поборник этой идеи и, если можно так выразиться, возродитель ее в истории русского монашества, ка-
—336—
ким впоследствии явился Паисий Величковский и Оптинcкиe старцы. В этом его громадная услуга в истории монашества на Руси; этой идей и строгому созерцанию он остался верен до смерти, явив в этом случае дух и силу восточных отцов-аскетов.
Есть у автора в сочинении некоторые детали, с которыми, пожалуй, не вполне можно соглашаться.
Так, говоря об «умном делании» и определяя его в узком смысле слова как «умная молитва», автор (с. 108), между прочим, замечает: «делания собственно нет... есть только витание и бытие подвижника в особом состоянии». Это не вполне верно: делание в смысле подвига остается всегда, особенно в области «помысла», и автор, сам же далее говорит об этом (с. 109), а раньше на с. 35 даже подробно определил, в чем это «делание» и «борьба». «Умное делание» всегда должно совершаться подвижником, на какой бы ступени совершенства он ни стоял; им – «этим умным деланием» должно проникаться «телесное делание» и в этом смысле последнего: им должно проникаться все и дальнейшее созидание, и устроение духовной жизни подвижника. Кажется, так думает и сам автор на с. 111 своего сочинения.
Думается, что это недостаточное проникновение автором в глубину «духовного делания» стоит у него в связи с недостаточным раскрытием процесса «страсти»; ее образования и борьбы с ней. У него больше описательное, нежели психологическое раскрытие понятия «страсти», ее образования, развития и борьбы. Нет у него, например, различия в понятиях «страсть», «грех». Это лишило автора естественно возможности проникнуть в глубину духовной природы и жизни подвижника и узнать этот сокровенный мир в его действительном, а не видимом только облике.
Есть у автора еще недочеты в цитации: он, например, часто упоминает «Предание учеником» (см. с. с. 24, 29, 30 и др.), а во II главе, перечисляя литературные памятники, оставшиеся от прп. Нила, такого сочинения не указывает. Приходится уже самому читателю делать вывод из сопоставления разных мест, что это как будто по автору «Малый устав», упоминаемый автором на с. 68.
В общем же сочинение производит приятное впечатле-
—337—
ниe и вполне достаточно для присуждения автору его степени кандидата богословия».
о) И. д. доцента А.М. Туберовского:
«Физиономической» чертой курсового сочинения г. Носова выступает его простота. Не замысловата, прежде всего, внешняя архитектоника сочинения. Вся работа разделена автором на три главы: I. Жизнь Преподобного Нила; II. Литературная деятельность прп. Нила Сорского (глава, не предуказанная темой); III. Аскетические воззрения прп. Нила Сорского. Впереди имеется небольшое (с. с. 1–2) «Предисловие», а позади – перечень «источников и пособий». – Безыскусным является, далее, и слог автора. Он ясен, точен, общепонятен. Но в нем нет ни образности, ни музыкальности. Не сложно также и самое содержание работы. Рецензент не нашел здесь ни широких обобщений, ни метких сопоставлений. – Такому характеру сочинения соответствует, как нельзя лучше, наконец, объем его – 1–214 с. – Таково отличительное свойство рассматриваемой диссертации, не заслуживающее, впрочем, ни похвалы, ни порицания.
Если за что можно хвалить автора, так, во-первых, за вполне соответствующий теме религиозно-благочестивый тон всего сочинения; во-вторых, за обнаруженное, особенно в подстрочнике, трудолюбие и еще за логическую последовательность в развитии темы. – Автор настолько проникся духом творений Преподобного Нила Сорского, что его диссертация производит впечатление своего рода «Предания учеником». Особенно это следуете заметить о фразе: «сказали отцы», – фразе, неожиданно замыкающей во многих случаях изложение автора. – Из поименованных автором 44 «источников и пособий» особенно важно было знакомство с рукописями и творениями самого прп. Нила, как первоисточниками для данной темы. – Последовательность изложения можно уподобить, в связи с отмеченной простотой, спокойному, тихоструйному течению какого-нибудь полевого ручья, без крутых изломов перебегающего ниву за нивой, одну полосу за другой.
В виду указанных достоинств, работу г. Носова можно было бы признать в высокой степени удовлетворительной,
—338—
если бы этому не мешали столь же явно выраженные недостатки. Сюда нужно отнести: 1) нескладные выражения (вроде – «гораздо более худшие условия» на с. 1 «Предисловия»); 2) грамматические ошибки, иногда довольно грубые (например, – «телесных» на с. 200); 3) множество lapsus manus; 4) пропуски и недописки; 5) повторение одних и тех же выдержек (с. с. 177–178 и 195; стр. 38 и 208) и др. Но главный недостаток заключается, конечно, не в этих мелочах, а в обидном умолчании о том огромном значении, которое прп. Нил Сорский, как представитель созерцательного направления и скитского жития, имеет в истории русской аскетики.
Искомой степени «Кандидата Богословия» автор, без сомнения, со стороны рецензента, заслуживает».
40) О сочинении студента священника Овсянникова Григория на тему: «Национальность и церковность в русском воспитании».
а) Инспектора Академии – и. д. ординарного, заслуженного профессора А.П. Шостьина:
«Во введении (с. с. 1–32) автор решительно восстает против тех руководств к воспитанию, которые «забывают о личности воспитанника и предписывают образовать из него отвлеченный тип общечеловека» (с.5). В противовес этому автор доказывает, что «главная основа воспитания есть народность», что «каков характер народа, таков и характер его воспитания» (с. 23). Другим, не менее важным фактором воспитания автор признает народную религию (с. 24), собственно, христианскую (с. 28), а для русских даже частнее – православие. «С первых дней исторического существования России, – говорит он, – православие всесторонне проникает собой всю жизнь народа и налагает свою неизгладимую печать на все проявления этой жизни; можно сказать: православие создало великое тело России и одухотворило его, стало поистине душой России. Столь тесного сближения и такого, так сказать, проникновенного взаимного сочетания веры и народности, как в России, не представляет еще ни один известный истории народ» (с. 6).
Этими словами определяется как дальнейшее содержание
—339—
рассматриваемого сочинения, так и характер суждений автора. Большая часть сочинения посвящается историческому очерку развития русской педагогики, допетровской (гл. гл. I–III) и послепетровской (гл. гл. IV–VIII), причем автор тщательно отмечает, насколько благодетельно было для русского общества строго национальное и церковное воспитание и какими пагубными следствиями должно было сопровождаться уклонение от исконных русских начале в сторону западноевропейских образцов.
B последних двух главах автор излагает свои доводы и соображения о национальности и церковности в русском воспитании, именно – в главе IX он раскрывает мысль, что чувство народности отнюдь не противоречит общечеловеческой любви и что изучение отечественной истории и словесности суть важнейшие средства для воспитания национального самосознания, а в гл. X довольно подробно говорит о воспитательном значении обрядов православной церкви.
Всюду о. Овсянников дает заметить старательное изучение литературы по взятому им вопросу и стремление разрешить его ее возможной полнотой; от того в его сочинении множество буквальных выписок из разных русских педагогов, историков и даже поэтов. К сожалению, при этой полноте и объективности он не всегда находит нужным отметить и как-либо примирить встречающиеся по местам противоречия у избранных авторитетов. Немало также и стилистических погрешностей в его сочинении.
Но, конечно, эти мелкие несогласованности и случайные недосмотры не препятствуют нам признать труд о. Овсянникова совершенно достаточным для присуждения ему степени кандидата богословия».
б) Экстраординарного профессора священника Д.В. Рождественского:
«По прочтении сочинения о. Григория, рецензирующему невольно хочется сказать несколько слов о выборе им темы. Видно, что автору недостаточно было только получить кандидатскую степень, обнаружив при разработке первой попавшейся темы свои дарования и свою работоспособность, – с тем, чтобы, по выходе из Академии, забыть о своем
—340—
труде, как это нередко бывает. Нет, он хотел серьезно поработать именно над таким предметом, который и до поступления в Академию, очевидно, представлял для него живой интерес и научная разработка которого должна иметь значение для его послеакадемической деятельности, в качестве пастыря и учителя. Читающему вполне ясно, что он писал не с чужих только слов, а изложил результаты своих собственных размышлений, своего собственного педагогического опыта.
Изучение литературы предмета самое добросовестное. Ряд выдающихся русских историков, педагогов, философов и поэтов проходит перед взором читателя. Глубокие и оригинальные мысли их, приведенные в стройную систему автором сочинения, овладевают вниманием рецензента и делают труд его легким и приятным. Детальная разработка плана и подробные оглавления свидетельствуют о продуманности и основательном изучении обширного материала. Можно, впрочем, заметить, что напрасно автор не обратил внимания на слова преосв. Иоанна Смоленского: «о духовном просвещении России» (Правосл. Собеседник. 1858, III) и «о вере в народном просвещении России» (Id. 1859, I). Сочинение написано языком, вообще, хорошим; в некоторых только случаях автор пишет витиевато и многословно.
Из недостатков сочинения, прежде всего, следует отметить то, что автор по местам слишком увлекается подбором оправдательных документов и избегает говорить своими словами иногда даже в тех случаях, когда прочно усвоенное и продуманное им самим с удобством можно было бы изложить без всяких ссылок. Отсюда у него обилие цитат и обширных выдержек (IX–ХI, ХХ, ХХIII–ХХIV, 16, 261–262 и др.). Затем, все сочинение изложено в положительном тоне, и критический элемент совершенно отсутствует. Здесь так часто встречаются вносныя предложения: «как справедливо замечает такой-то», «нельзя не согласиться с тем-то» и под. В сочинении нет ни примечаний, ни приложений; а между тем, автор дает слишком обширные исторические справки, выделенные в особую главу. Эту главу, которую сам автор неоднократно называет экскурсом, сле-
—341—
довало бы снести по частям в примечания или поместить в приложении. Мелкие недочеты, как и в каждом большом и спешно написанном труде, есть: погрешности против стиля (I, III, 2, 3, 5, 13, 74, 208 и др.), грубые выражения (140, 160, 166), немало описок; из них необходимо отметить следующая: с. 27: «се суть исходника (очевидно, вм. исходища) мудрости»; с. 125: Сборника в. Соборника; стр. 138: сатир вм. сатирик.
Сократив выписки из пособий, подвергнув некоторые мнения педагогов и историков самостоятельной критике, кое-где исправив стиль, автор мог бы напечатать свой весьма интересный трактат; степени кандидата он вполне достоин».
41) О сочинении студента Орлова Василия на тему: «Сектантская религиозная психология перед судом православной аскетики».
а) Ректора Академии Епископа Феодора:
«В духовной подвижнической жизни, когда она совершается даже в нормальных условиях церковно-благодатной жизни, как свидетельствует опыт самих подвижников, возможны явления чисто болезненного мистического характера. Обратившийся от греховной жизни на путь спасительный переживает совершенно новые внутренние состояния своей религиозной веры; он по-новому воспринимает все, имеющее к нему отношение, начиная с внешней обстановки, по-новому мыслит, чувствует, по-новому располагает всю свою жизнь и по-новому воспринимает и переживает во внутреннем своем опыте раскрывающиеся в нем начала религиозной жизни. Вот почему для всякого, ставшего на путь спасительный, необходимым является опытный руководитель, духовный отец или старец, который бы на основе своего личного духовного опыта помогали новичку в духовной жизни разбираться в своих переживаниях, правильно оценивать их, соразмерять свой подвиг с силами своими, и в последовательном развитии и возрастании неуклонно соделать свое спасение. Всякий, кто хотя немного знаком с житиями свв. подвижников и
—342—
их писаниями, знает, что и главной причиной духовной гибели многих, ревнующих о спасении, является «самочинность» в устроении своей духовной жизни, отрицание необходимости опытного руководства, и поставление своего разума и воли во главу угла своей жизни. То, что на языке святоотеческом и подвижническом называется «прелестью», и есть результат «самочинной» духовной жизни и означает собой такое состояние подвижника, когда он принимает или совершенно бесполезное, или далее прямо гибельное состояние своего религиозного настроения за нормальное и благодатное и, упорствуя в этом состоянии, извращает путь своей духовной жизни и погибает не только духовно, но часто и телесно.
Здесь кроется возможность самых разнообразных извращений пути духовной жизни, потому что человеческая воля и разум, сами в себе носящие уже залог известного творчества при несомненном и неоспоримом воздействии на них демонов, сообразно индивидуальным склонностям непременно постараются проложить свои пути и создать свои приемы к устроению спасительной жизни.
В этом объяснение разнообразия сект и ересей.
Автор размариваемого сочинения совершенно верно подводит и явление религиозного сектантства, и его религиозной психологии под этот общий в духовно-религиозной жизни закон «самочинности» религиозной жизни и неизбежной отсюда «прелести», в смысле прельщения от демонов и возникающего отсюда заблуждения и совращения с истинно-церковного благодатного пути жизни. Это основная точка зрения автора на сектантство в смысле объяснения причины его появления в недрах церкви: оно есть духовная прелесть и религиозная психология сектанта есть психология духовно прельщенного подвижника или, вообще, человека ревнующего о спасении, но утвердившегося в устроении своей жизни только на своем разуме и своей воле. По мысли автора, конечно верной, сектанты – люди, ищущие живой религиозной веры и оправдания, но уклонившиеся в устроении своей духовной религиозной жизни от Церкви, от пастырского руководства и потому извратившие самые нормы религиозной жизни. Автор подробно развивает эту мысль на протяжении почти
—343—
300 страниц своего сочинения по методу вполне естественному: он раскрывает учение и изображает религиозную жизнь сектантов разного толка, преимущественно хлыстов, духоборов, и для оценки явлений религиозной жизни и учения сектантов противопоставляет им данные православной аскетики: учение святых отцов-подвижников о тех сторонах религиозной жизни, которые собственно и извращены сектантами, иллюстрируя свои положения примерами из жизни подвижников. Получается везде вполне определенное впечатление: все проявления сектантства есть извращение религиозной жизни на почве самочинного устроения жизни и все они не имеют ничего общего с нормальной духовной спасительной жизнью, как она должна строиться по примеру и учению св. отцов. Со стороны обилия цитат и извлечений из православной аскетики, со стороны весьма рельефных сопоставлений проявлений сектантской религиозной жизни с явлениями духовной жизни свв. отцов, сочинение г. Орлова весьма интересно и полезно в смысле миссионерского его употребления. Но вот вопрос: почему же сектант, т. е. всякий христианин, принадлежащий сначала к православной Церкви, при пробуждении в нем живой веры и жажды спасения (об этом автор говорит в своем сочинении, с. с. 1–20), идет для удовлетворения своей живой религиозной потребности не к пастырю Церкви, не к Церкви с ее благодатными средствами, а к сектантскому учителю и в секту? Это у автора совершенно не объяснено. Правда, у него на с. 21 говорится, что «в ту минуту, когда человек переживает свой религиозный кризис, около него не оказалось духовного отца». Но куда же девался пастырь Церкви и откуда, и почему вдруг взялся сектантский учитель? Автор даже противоречит себе: тут же на с. 21 он говорит далее: «да если бы он (т. е. духовный отец) и явился, то сектант и не пожелал бы признать себя его сыном...». Выходит, что сектантом человек делается уже в сам момент духовного кризиса и что в этот момент у него что-то происходит, и кто-то его уже отвращает от Церкви и пастыря. Так, в конце концов, автор и говорит: по его словам, этот шаг в сторону от Церкви человек, переживший духовный кризис, делает под влиянием и насилием де-
—344—
мона (с. 21). Так автор уясняем этот главный момент в религиозной жизни сектантства, и в дальнейшем у него ссылка на власть и влияние демона очень часто заменяем раскрытие тех сторон религиозной психологи сектантства, которые являются особо сложными и интересными, например, сочетание понятий святости с путем нравственной нечистоты и прямого разврата. Хотелось бы уяснить несколько тот психологический процесс и те законы, кои действуют в человеке, извращая его моральное чувство и понятия. Но у автора везде один более легкий способ объяснения: он излагает, например, прием в секту и потом вместо объяснений просто восклицаем: разве это не влияние демона! И так очень часто (см. с. с. 135, 146, 148 и др.). Вообще, у него мало психологии и много демонологии. Вот почему мы пожелали бы автору, если он надумает продолжать свою работу для печати, обратить свое внимание на эту сторону ее. В остальном же сочинение г. Орлова как с внешней, так и с внутренней стороны заслуживает одобрения, и присуждение автору его степени кандидата богословия является делом вполне справедливым».
б) И. д. доцента А.М. Туберовского:
«Разделенное на четыре главы сочинение г. Орлова, не обширное по объему (1–257 с.), но обильное по материалу, трактует о различных явлениях религиозной жизни скопцов, хлыстов, молокан, духоборов и штундо-баптистов, освещая каждое из них сиянием святоотеческого учения о подвижничестве. Совершенно верно определяем автор причину зарождения всякой секты, указывая ее в самочинном проложении пути ко спасению помимо имеющегося в Церкви пастырства. И эта святоотеческая точка зрения, равно как и высказанный взгляд на происхождение сектантства, вместе с потребовавшим не малого труда обилием материала дают автору полное право на получение первой ученой степени.
Не понятной читателю и критику сочинения г. Орлова представляется та настойчивость, с какой автор стремится при каждом случае доказать, что сектанты всецело находятся во власти дьявола, что учение их бесовское. Если по суще-
—345—
ству такой вывод и правилен, то в отношении к частным вопросам и явлениям он или односторонен, или даже ложен. Ведь и Святыми Отцами-аскетами не все творимое человеком зло приписывалось дьяволу, но многое относилось и на счет, если не простой немощи, то испорченной грехопадением воли. Что же касается того добра, которое возможно не только в христианском сектантстве, но и в язычестве, то подводить и его под действие дьявола совершенно невозможно. В этом отношении попытка автора увидеть действие сатаны даже в акте «обращения» сектанта не может быть признана удачной.
Нельзя также не пожалеть о неряшливой внешности сочинения, о многих допущенных автором грамматических ошибках или описках, о неисправности в некоторых случаях подстрочника и т. п. мелких дефектах.
Работа, как сказано, дает автору полное право на получение степени «Кандидата Богословия».
42) О сочинении студента священника Перехвальского Валентина на тему: «Перевод хорошим русским языком и подробный филологический разбор творений: Св. Василия Великого Ὁμλία εἰς μέρος τεσσαρεσκαιδεκάτου ψαλμοῦ καί κατάτῶν τοκιζύντων, и Св. Григория Ὁμλία κατά τῶν τοκιζόντων».
а) Ординарного профессора С.И.Соболевского:
«Сочинение свящ. Перехвальского – только перевод и разбор указанного в заголовке творения св. Василия Великого, так что в нем исполнена лишь половина заданной темы. Но это не имеет значения для оценки работы, так как и в ней степень познаний автора в греческом языке вполне выяснилась.
Работа исполнена добросовестно: дан перевод проповеди Св. Василия, дан филологический комментарий к ней. Недостатков в работе много: перевод часто сделан не достаточно хорошим русским языком; многие места подлинника переданы в переводе неверно; много неправильных объяснений в комментарии; комментарий по большей части слишком элементарен; напротив, явления языка, наиболее интересные с филологической точки зрения у такого писателя, как Св. Василий (главным образом, явления позднего
—346—
языка), остались не отмеченными, например, значения слов κατασχηματίζομαι (с. 23), ἐπισημαίνω (с. 36), πλεονασμός (с. 16). Но, во всяком случае, хорошо уже то, что крупных ошибок (этимологических) в работе нет. В оправдание автора надо сказать, что трудов такого типа (филологическое толкование произведений духовной литературы) ни на русском, ни даже на иностранных языках почти совсем нет. В то время, как университетские студенты, подающие работы такого типа, имеют дело с языческими писателями, к которым имеется масса комментированных изданий, откуда можно почерпать объяснения в изобилии, – у о. Перехвальского, – конечно, новичка в этом деле, так как и в семинариях подобными работами не занимаются, – пособиями были только словарь, грамматика и два перевода (латинский Magne’я, да русский), ему приходилось разрабатывать почти не тронутую почву. Ввиду этого нахожу справедливым оценить его работу, несмотря на многочисленные недостатки ее, баллом 4».
б) И. д. доцента В.П. Виноградова:
«Работа о. Перехвальского выполнена в масштабе не ученого исследования, а учебного упражнения. Рассматриваемая с этой точки зрения, она должна быть признана выполненной добросовестно, но далеко не вполне удачно. При филологическом разборе автор делает ряд ошибок, свидетельствующих, что он бредет здесь ощупью, постоянно спотыкаясь. Писать хорошим русским языком, по-видимому, – вообще, не удел нашего автора, наполняющего свой «хороший русский перевод» фразами топорной работы, вроде: «не берись за случай (с. 47)», «пригвождаем себя к росту (с. 59)», «предпочли удавку (с. 85)».
Степени кандидата богословия автор может быть удостоен».
43) О сочинении студента Петропавловского Василия на тему: «Оценка сектантского (сектантов-рационалистов) взгляда на спасение со святоотеческой точки зрения на этот предмет».
а) Ректора Академии Епископа Феодора:
«Уже самой темой сочинения г. Петропавловского вполне
—347—
определенно указывается та область, на которой он должен был сосредоточить преимущественное свое внимание: это литература сектантов-рационалистов, преимущественно, конечно, писания их самих, и литература святоотеческая, преимущественно аскетическая. С этой стороны, труд г. Петропавловского может быть признан удовлетворительным: из того перечня «первоисточников, источников и пособий», который он делает в конце своей работы, видно, что автор познакомился с сектантством по их собственным сочинениям и перечитал этих сочинений очень много – по крайней мере, по приблизительному подсчету свыше 150 разных авторов и наименований, не включая сюда тех периодических журналов, которые издаются баптистами («Вера», «Баптист», «Радостная весть»), евангелистами («Христианин», приложение к журналу «Христианин» под наименованием «Братский листок», «Молодой виноградник») и адвентистов («Маслина»), тоже проштудированных автором в довольно большом количестве. Об этих первоисточниках для своей работы сам же автор говорит, что они добыты им у Петербургских и Московских (и промосковских) сектантов – баптистов, евангелистов и адвентистов, употреблявших означенные сочинения на своих молитвенных и частных собраниях. Таким образом, в смысле первоисточников работа г. Петропавловского выдерживает полную научную пробу. Для знакомства со святоотеческим учением о спасении автор изучил: «Добротолюбие», творения прп. Симеона Нового Богослова, еп. Феофана и др. и значительное количество монографий и исследований из области аскетики, обличительного богословия и, вообще, богословия в нашей русской литературе. Конечно, знакомство со святоотеческим учением только по «Доброголюбию» далеко не может равняться изучению святоотеческой письменности, но ведь это последнее было бы и не под силу автору; вот почему изучение «Добротолюбия» все же явилось для него лучшим выходом из затруднительного положения, создавшегося благодаря небольшому сроку работы и обилию литературного материала. Сущность святоотеческой точки зрения на спасение хорошо выражено и в «Добротолюбии» и притом не в мышлении и опыте одного отца, а очень многих и авторитетных.
—348—
Из сочинения г. Петропавловского видно, что он понял вполне эту святоотеческую точку зрения на спасение и сумел уловить то существенное различие, какое лежит в этом пункте между сектантской сотериологией и нашей православной церковной, как она выражается в понимании св. отцов. Вполне верно подмечено г. Петропавловским, что у сектантов нет понятия о спасении как об известном процессе нравственного развития, совершаемом путем подвига самим человеком при помощи благодати Божией. Это основная точка зрения в понимании спасения у свв. отцов. А у сектантов спасение есть простой акт доверия или уверенности, что каждый человек уже спасен, если он поверит в спасительный подвиг, совершенный Господом Иисусом Христом. Никакой жизнедеятельности, никакого подвига, никакого процесса постепенного нравственного развития у сектантов не признается. Отсюда все сочинение г. Петропавловского строится на одной определенной задаче или мысли: опровергнуть это неправильное учение сектантов о спасении, совершающемся будто бы помимо сил человека и нравственного подвига; для этой цели автор довольно подробно раскрывает учение о вере в понимании ее сектантами (см. с. с. 140–157 и др.), сопоставляя это учение о вере с учением о том же предмете свв. отцов.
Стройное по плану, вполне определенное по задаче и добросовестное по изучению источников сектантского учения, сочинение г. Петропавловского страдает только поверхностью в раскрытии тех частных предметов и пунктов вероучения, коих ему необходимо пришлось касаться. Этот недостаток и общий всему сочинению характер спешности, конечно, зависел от краткости срока работы. Он помешал ему, например, сделать более или менее обстоятельную характеристику отдельных сект. Хорошо было бы, если бы автор в будущем разработал свое сочинение, из конспекта превратив его в солидный труд на пользу противосектантской литературы.
Степени кандидата богословия автор заслуживает».
б) И. д. доцента А.М. Туберовского:
«Главной заслугой автора названного сочинения является, но нашему мнению, верное понимание существенного пункта
—349—
вероучения рационалистических сект. Таким пунктом служит именно заимствованное из протестантской доктрины учение об оправдании одной верой. Все другие части вероучения сектантов-рационалистов, как и давшего им начало лютеранства, определяются логически и психологически этим центральным догматом пассивного оправдания.
Другим достоинством работы г. Петропавловского нужно признать обширное знакомство с литературой предмета и совершенно правильное уловление или постижение святоотеческой точки зрения на дело спасения, с каковой последнее представляет, вопреки учению рационалистических сект, совокупную работу в человеке Божественной благодати и личной свободы каждого верующего.
Из погрешностей рассматриваемого сочинения следует указать на очень многие грамматические неправильности, например, смешивание отрицательных частиц: «не» и «ни» употребление несколько странных оборотов (пример на с. 30: «произойдя от семени Адамова, пишет вероучение баптистов, люди сделались...») и т. д.
Есть недочеты и со стороны содержания. Укажем на один из них, наиболее важный. Рассуждая о «значении и плодах искупительной жертвы Христовой» (с. с. 94–97), автор говорит, собственно, о цели воплощения Сына Божия, тогда как поставленной в данном месте задачей требовалось, в противовес сектантскому учению, изложить взгляд Святых Отцов на спасительные плоды смерти Христовой. И напрасно автор силится доказать, что учение сектантов, даже в догмате об искуплении, где оно наиболее близко подходит к общехристианскому верованию в примирение нас с Богом кровью Сына Его, есть одно сплошное заблуждение, что на этом теле нет ни одного здорового места и что, наконец, благодаря критике самого автора от сектантской доктрины по вопросу о спасении не остается камня на камне.
Для своей цели работа г. Петропавловского вполне удовлетворительна».
44) О сочинении студента Писова Стефана на тему: «Архимандрит Феодор (Бухарев) и его богословские воззрения».
—350—
а) Ректора Академии Епископа Феодора:
«Личность бывшего архимандрита Феодора (Бухарева) и его своеобразная концепция богословской мысли заслуживали бы, кажется, большого внимания со стороны представителей богословского знания и науки, нежели какое ему уделялось доселе. Правда, несколько лет тому назад печатались статьи проф. П.В.Знаменского, посвященные памяти Бухарева, и воспоминания о нем прот. Лаврского, издана была вновь и небольшая часть его сочинений под заглавием «О православии в отношении к современности», но какой-либо определенной попытки к обстоятельному изложению богословских воззрений Бухарева, к уяснению его личности со стороны научно-богословской, ее места и значения в истории нашей русской богословской мысли у нас не было, и нет. А между тем, несомненно, в лице Бухарева наша богословская мысль имеет весьма оригинальное и своеобразное явление, многих смущавшее, но очень многих и привлекавшее и пленявшее. Концепция богословской мысли Бухарева резко отличается от того шаблона, по которому мыслили, писали, и учили представители современной Бухареву школы и позднейшего времени.
Оригинальность, глубина мысли, несомненное проникновение всего мышления глубокими пониманием Св. Писания и творений свв. отцов и в то же время постоянная верность во всем излюбленной своей идее, центральной для всего богословствования и проникающей все его частные пункты, – вот характерные черты богословского мышления Бухарева. Нам думается, что не будет особенно характерным, если назвать богословскую систему Бухарева «сотерилогической», как делает это автор рассматриваемого сочинения, г. Писов. Бухарев имеет центром своего богословского мировоззрения личность Господа Иисуса Христа воплотившегося, и в воплощении Господа Иисуса Христа он, согласно и учению Слова Божия и святоотеческому, указывает факт исключительной значимости для всей мировой истории. У него целая метафизика жизни, исходящая из идеи воплощения Христа, в глубоком и своеобразном понимании ее с прикладными выводами для всех сторон человеческой жизни. Проблема жизни на основе православной христологии – вот
—351—
что, кажется, более может определять основное содержание богословетвования Бухарева. Автор настоящего сочинения, к сожалению, больше уделил труда и внимания биографии Бухарева, а на изложение его системы – не много, и уже совсем почти ничего – на оценку и критику этой системы.
Биография получилась у него полная, очень живо написанная и так как личность Бухарева сама по себе очень оригинальная и симпатичная, то и биография его у г. Писова читается с большим интересом и искренним сочувствием к Бухареву. Изложение богословских воззрений – краткое по плану, выработанному самим автором, и без попытки воссоздать систему Бухарева, исходя из основной его идеи, но методу обычному в подобного рода работах, т. е. через выписку из сочинений Бухарева тех мест, которые подтверждают мысль автора. Нужно бы, конечно, при этом извлечении из сочинений Бухарева выдержек, хотя бы несколько их пояснять и раскрывать: например, на с. 155 автор приводит слово Бухарева о воплощении Иисуса Христа, где, между прочим, говорится, что Бог Слово восприял в саму свою личность истинное и полное человеческое естество и с ним – и всю греховность... Нужно было уяснить эту последнюю фразу Бухарева, ибо, несомненно, его мысль не о том, что Господь Иисус Христос причастен так же греху, как и телу человеческому. Равным образом, на с. с. 157, 159 автор оставляет без всякого пояснения фразу Бухарева, взятую не из контекста, что Сын Божий явил в Себе «некоторое тожество бытия и небытия».
Чем более своеобразна система богословского мышления Бухарева, тем более обязан был автор осторожно относиться к частным мыслям и положениям этого мыслителя и не только механически их излагать, но и уяснять, как они возможны и что они значат.
Нужно сказать, вообще, что у г. Писова критики в сочинении вообще нет. Вот почему и выводов у него из работы нет; разумеем оценку системы Бухарева, его место в ряду наших мыслителей и влияние на некоторых из них. А оно, несомненно, есть. По крайней мере, нам думается, что такой крупный мыслитель, как В.С.Соловьев, многое из идей Бухарева воспроизводит в своем понимании
—352—
и раскрытии идеи Царства Божия. Автор не указал даже, в чем коренная ошибка мышления Бухарева.
Конечно, спасибо ему и за то, что он сделал: спасибо за первую попытку вывести на свет замечательную в своем роде личность и указать, что богословские воззрения Бухарева должны быть предметом серьезного научного исследования.
Степени кандидата богословия автор заслуживает».
б) Ординарного профессора С.И. Соболевского:
«Это сочинение представляет собой интересное исследование, и притом проникнутое любовью к описываемому лицу. Автор изучил литературу, касающуюся Архимандрита Феодора, и сделал из нее извлечения, а отчасти даже воспользовался не изданными еще рукописными материалами, а именно «Автобиографией» о. Феодора, хранящейся в Румянцевской библиотеке. Работа распадается на две части, почти равные по величине: в одной – дается биография о. Феодора, в другой – излагаются богословские воззрения его. Соответственно сюжету этих двух частей, и изложение в них не одинаково: первая часть читается легко, вторая – гораздо труднее. Едва ли, конечно, можно винить за это автора: может быть, и нельзя было изложить в легкой форме богословские воззрения о. Феодора, который и современникам его казались темными. Впрочем, и в первой части встречаются шероховатости слога: так, на с. 46 «Давидской песни»; на с. 6 (введения) «XIX век был уже усвоен нашим обществом»; на с. 7 (введения) «век... трепещущий приступит малейшего приказания моды, им же понимаемой в своей ничтожности». Но, в общем, сочинение хорошо. Я оцениваю его баллом 5».
45) О сочинении студента Прилуцкого Сергея на тему: «Раскольничьи смуты второй половины XVII века».
а) Доцента Н.В. Лысогорского:
«В кратком, довольно неудачно составленном предисловии, автор определяет задачу своего сочинения в смысле рассмотрения «старого вопроса о том, какое явление раскол, церковное или гражданское-политическое». «При
—353—
этом он признает желательным «расширить рамки поставленной задачи, посвятив предварительно несколько страниц характеристике XVII века, как эпохе преобразований, тесно связанных с возникновением раскола». В рассмотрении раскольничьих смут XVII в. «применительно к своей задаче», в подведении «итога, сказанному об этих событиях по отношению к своему вопросу», автор усматривает «небесполезность» предпринятой им работы (гл. гл. I–V).
В действительности, однако, сочинение г. Прилуцкого далеко не представляет предшествующему материалу «итога», расположенного соответственно главной идее сочинения. Работа автора совершается упрощенным способом. Мысли для своего сочинения г. Прилуцкий заимствует у авторитетных исследователей, писавших прямо или косвенно по затронутому вопросу – у историка Соловьева, Ключевского, Субботина, Каптерева, митр. Макария и т. д., но обыкновенно не после сравнительной оценки достоинства их, а по неизвестным для читателя мотивам. Автор выбирает и группирует то, что ему более нравится у того или другого исследователя. Отсюда сочинение г. Прилуцкого имеет не научно-критический характер, при котором только и возможен итог предшествующему, а характер повествования, которое притом иногда переходит в простой пересказ какого-либо существующего исследования. Так, история движения раскольников на Дону у Прилуцкого есть воспроизведение в сокращении книги Дружинина: «Раскол на Дону в XVII в.». Далее при повествовании автор нередко ведет длинный рассказ событий почти безотносительно к своей задаче, оставляя читателя в недоумении. В такой форме он передает слишком на 90 страницах (с. с. 29–121) истории богатого внешнего положения Соловецкого монастыря в XVII в., развития пороков в его братии, личной вражды ее к Никону, усиления в монастыре старообрядческих тенденций. И только, говоря о первой соловецкой челобитной (на с. 122), он заявляет: у челобитчиков не было никаких политических требований; они стояли за одно сохранение старых обрядов. Также долго читатель остается неудовлетворенным по отношению к главной идее, знакомясь с движением раскольников на Дону. – Своей характеристике эпохи XVII века г. Прилуц-
—354—
кий не дает ясного реального применения в последующих отделах своего сочинения, не показывает с очевидностью связи ее с раскольничьими движениями.
Цитация автора не всегда безупречна. Например, на с. с. 151–152 не указан том цитируемых «Материалов». На с. 185: «Медведев. ibid. 18 с.». Между тем на трех предшествующих страницах указаны цитаты лишь из Саввы Романова и т. д.
Но при некоторых недостатках сочинение г. Прилуцкого имеет и достоинства. Автор изучил свой предмет достаточно. Не ограничиваясь пособиями, он ознакомился и с доступными ему первоисточниками. Добытый материал он расположил в системе и выразил языком, за немногими исключениями, ясным и живым. Степени кандидата г. Прилуцкий за свое сочинение вполне заслуживает».
б) Инспектора Академии – и. д. ординарного, заслуженного профессора А.П. Шостьина:
«Г. Прилуцкий обнаруживает в своем сочинении похвальное трудолюбие: он собрал и старательно изучил обширную литературу по избранному им вопросу, заключающуюся не только в крупных произведениях Соловьева, Ключевского, митр. Макария, Субботина, Голубинского, Каптерева и мн. др., но и в мелких статьях повременных изданий (вроде «Донских Епарх. Ведомостей», «Странника», «Чтений в Общ. любителей дух. просвещения» и т. под.). Тем более внимательно он отнесся к известным «Материалам для истории раскола» и к «Актам историческим».
При таком трудолюбии он проявил и достаточный навык разбираться в массе добытого материала, и излагать его в должном порядке и правильным языком.
Для степени кандидата богословия труд г. Прилуцкого считаю совершенно удовлетворительным».
46) О сочинении студента Прокоповича Бориса на тему: «Основная мысль Книги Иова. (Проблема невинных страданий при свете религиозного опыта)».
а) Экстраординарного профессора священника Е.А.Воронцова:
«Автор рецензируемого сочинения определяет содержа-
—355—
ниe Книги Иова, как служащее раскрытию вопроса о невинных страданиях при свете религиозного опыта лица, являющегося центральным в этом библейском памятнике. Сочинение распадается на вступление и 3 главы, причем окончание третьей главы, основной в сочинении, может считаться и резюмирующим всю работу эпилогом. Во введении г. Прокопович характеризует метод своего исследования, аргументируя в пользу опущения в своем библиологическом изыскании исагогических данных. Наш автор – сторонник психологического метода, причем «общечеловеческий характер анализируемой священной книги делали для него необязательным определение исторических условий ее происхождения». Рецензент считает, что вся Библия имеет общечеловеческий, а не национально-партикуляристический характер, однако введения в отдельные священные книги обычно пишутся; другое дело, насколько они основательны и, вообще, возможны при тех более чем скромных данных, какими мы обладаем, приступая к детальному определению исторического фона, на каком рельефно отобразилась бы среда и внешние условия возникновения известного священного памятника. Определение духовного климата известной эпохи бесконечно труднее воссоздания пережитых стадий внешней культуры по материальным остаткам прошлого. Непонятно рецензенту и замечания автора об отсутствии толкований на Книгу Иова, современных ее писателю, – но какие же библейские памятники имеют подобные комментарии? – Что касается плана сочинения г. Прокоповича, то он не возбуждает возражений.
В первой главе сочинения г. Прокопович дает опыт истолковательного перевода подлинного текста, как неособенно часто встречающийся метод комментирования, только автор напрасно стремился стать за священным писателем, длительно выписывая подлинный текст в перифразе, лучше были бы абзацы, краткие и выразительные, вместо удержания всех образов и оборотов мысли самого священного писателя. Когда хотят узнать постройку, просят показать ее план, схема сочинения иногда яснее говорит, чем его связный текст, г. Прокопович же показывает читателю даже и не одно стройное здание священного памятника, его
—356—
архитектонику, но и все леса и сооружения, служившие к его возведению.
Во второй главе автор наследует круг главнейших идей Книги Иова, ее теологию и антропологию, останавливаясь особенно пристально на вопросе о бессмертии души и мздовоздаянии, как эти учения выразились в изучаемом им памятнике. Когда рассматривают положение вопроса о бессмертии души в писаниях Ветхого Завета, обычно отводят видное место эсхатологии Книги Иова, но без обращения к подлиннику никакие сравнения переводов не могли восполнить г. Прокоповичу нюансировку гебраистических выражений. Вопрос остался, как и следовало ожидать, sub judice. Вообще, содержание этой главы могло бы быть растворено в следующей и последней главе сочинения, собственно отвечающей тематическому положению и заставляющей все написанное г. Прокоповичем до нее считать за отдел служебно-пропедевтический, а не знаменательный в сочинении.
В третьей главе наш автор устанавливает этапы в религиозной эволюции человеческого духа, применительно к вопросу о провиденциальном характере земных страданий. Сначала человек держится номистической точки зрения, формулируемой в положении: святость получает награду, грешники бедствуют. Потом наблюдения над жизнью уничтожают веру в абсолютность земных наград и наказаний, опыт, говорящий о внешнем благополучии грешников и о внешнем бедствии благочестивых, заставляет искать новых путей для истолкования подобного внешнего несоответствия между течением земной жизни людей и представлением о промышлении всеблагого и правосудного Бога. Наступает третья фаза в религиозном развитии личности: познание педагогического значения земных страданий вместо прежней точки зрения религиозного эвдемонизма и гедонизма, сорастворяемое с мистическим пониманием ценности земной жизни и всей совокупной земной действительности. Страдания здесь являются мостом, связывающим душу с Небом. Автор приписывает первый тип религиозного сознанья друзьям Иова, второй – Элиую и самому Иову, но вряд ли ветхозаветные люди и говорящий их устами священный писатель книги, могли возвыситься до мистического оправдания невинных земных страданий,
—357—
а поэтому для читателя древности и был поставлен эпилог книги с тенденцией эвдемонизма. Здесь на лицах древних лежало покрывало, снятое Христом. Явление Бога ставит предел религиозному диспуту ветхозаветных мудрецов и приводит на путь новых благодатных исканий, однако возможность идти по этому пути дана только с явлением Христа и Евангельской проповедью, когда сообщились верующему человечеству силы грядущего мира. Так в мир вступила осязающая вера, давшая царственное значение опыту внутреннему. Педагогический характер невинных страданий исчерпывался для древних представлением о возможности падений для праведников, так что невинные страдания являлись только предостережением от возбуждения гордости и самомнения и обусловливались всеведением Божиим, между тем при мистическом понимании страданий они выступают как совместное несение с Христом Его земного креста. Автор правильно замечал, что область нравственного совершенства, употребляя геометрическую аналогию, – парабола, ветви которой уходят в бесконечность, и потому здесь все человек познает асимптотически – приблизительно, и древний священный писатель Книги Иова влек и влечет читателя и слушателя своего творения на рубеж двух заветов. Автор верно замечает, что мистическое решение проблем является постулатом там, где ум признает себя бессильным, где зрение ума уступает место зрению веры. Автор правильно выделяет речь Элиуя, как ставившую своей задачей «защитить правду Божию, не отвергая благочестия Иова», а поэтому и бывшую прологом к Богоявлению (только почему он называет его то Элигу, то Элиуй?). Вообще, суждения автора отличаются мерностью и деловитостью, у него философский язык и писательский навык; что мог, он выполнил и заслуживает кандидатской степени».
и) Экстраординарного профессора священника Д.В. Рождественского:
«При разработке своей темы, автор обнаружил близкое знакомство с философскими науками, а также – склонность и способность к самостоятельному философствованию. Характерно в этом отношении то, что сама схема, которой он
—358—
держится при решении вопроса о невинных страданиях по Книге Иова, заимствована им из гегельянской философии. На с. 163 читаем: «анализируя книгу Иова, легко заметить, что в ней религиозно-теоретическая мысль... проходит три стадии развития... На первой стадии своего развитая религиозно-теоретическая мысль в лице трех друзей Иова защищает тот тезис, которым утверждается, что между жизненным поведением и судьбой существует полное соответствие». С. 164: «Вторая стадия является антитезисом по отношению к первой. Ее выражением служат речи самого Иова». «Наконец, третья стадия в развитии религиозной мысли книги Иова, является синтезом, который примиряет противоречия и разрешает проблему». (См. также с. с. 160–162).
Будучи всюду самостоятельным в своих суждениях и почти не делая ссылок на использованные им пособия, в заключительном самом интересном, но очень кратком отделе (с. с. 228–231), автор говорит, однако, только выписками из пособий. Очевидно, утомление и необходимость закончить сочинение к назначенному сроку не дали ему возможности и этот отдел обработать с надлежащей полнотой и обстоятельностью. Философствуя самостоятельно и имея дело исключительно с Книгой Иова, автор почти нигде не приводит текстов Писания из других священных книг. Но в одном случай он настолько увлекся возвышенностью и красотой священного языка, что выписывает значительную часть Вт. 28 и Лев. 26. Начиная выписывать текст этих глав на с. 166, он только в середине с. 170 ставит: «и т. д.». В данном случай, совершенно достаточно было бы проставить цитату или выписать несколько стихов. Понятия об исагогике, комментарии, переводы, изложение Писания, их значении и взаимном отношении у автора недостаточно ясны; а рассуждения его о ненужности исагогики и экзегетики для идеологии совершенно неосновательны (с. 1 и сл.). На с. с. 4–5 г. Прокопович говорит с излишними подробностями о злободневности и о газетных фельетонах; но неясно, что он разумеет под злободневностью, и каково должно быть, но его мнению, содержание фельетонов. Он, по-видимому, не допускает того, чтобы злободневными могли быть в
—359—
известное время и в известной среде и «общечеловеческие проблемы» и «проклятые вопросы» (с. 3). На с. с. 154–155 возбуждают сомнение следующие фразы: «определить главную мысль Книги Иова... значит набросать в общем очерке идейную эволюцию религиозного развития взглядов данной книги по вопросу об отношении высшей справедливости к страданиям праведников». «Указание соответствия между развитием религиозных взглядов Книги Иова... с установленной... общей схемой идейной эволюции религиозного сознания» (один из вопросов, подлежащих решению автора рецензируемого сочинения). Выражения: «развитие», «стадии развитая» (с. 163), «эволюция» едва ли здесь уместны. И, во всяком случае, такое словоупотребление невольно вызывает вопросы, признает ли автор Книгу Иова повествованием о действительном происшествии или вымыслом, признает ли он единство этой книги и пр. Конечно, автор не задавался подобными вопросами, как видно из введения к его сочинению; а, между тем, отсутствие хотя бы кратких исагогических замечаний о Книге Иова может повести к серьезным недоумениям.
Изложение по местами растянутое, со множеством, вычурных выражений и иностранных слов (с. с. 4, 156–158 и мн. др.). Пособия все на русском языке (написанные на русском или переведенные на русский с иностранных языков). Почему Венское издание Библии автор предпочел Синодальному, не объяснено.
Сочинение представляет попытку самостоятельного решения вопроса о невинных страданиях по Книге Иова, – попытку, нужно признать, довольно удачную. В этом главное достоинство сочинения. Кроме того, в сочинении обнаружено обстоятельное изучение содержания Книги Иова; план строго выработанный и выполненный в точности, за исключением последнего отдела; изложение, за немногими исключениями, точное и ясное. Эти достоинства перевешивают перечисленные выше недостатки, как частности, в такой мере, что сочинение можно признать заслуживающим почти высшей степени одобрения. Степени кандидата богословия автор, без сомнения, заслуживает».
—360—
47) О сочинении студента иеромонаха Варфоломея (Ремова) на тему: «Книга пророка Аввакума. Исагогико-экзегетическое исследование».
а) Экстраординарного профессора священника Д.В. Рождественского:
«Книга пр. Аввакума, который о. Варфоломей посвятил последний год своего академического курса, состоит только из трех небольших глав. Но изучить эту книгу было, во всяком случай, не менее трудно, как и другую священную книгу, большую по объему. Что касается исагогических вопросов, то в отношении большинства из них, трудность и сложность их решения, можно сказать, совершенно не зависит от объема книги. А книга пр. Аввакума, кроме того, представляет некоторые специальные трудности при ее изучении. Для многих священных книг вопрос об авторе и времени написания книги облегчается указаниями от лица автора места его происхождения, имен его предков, времени его жизни и деятельности, – в частности, по отношению к пророкам, времени призвания к пророческому служению и продолжительности пророческого служения. (А определенным решением этих вопросов облегчается изучение книги как в исагогической, так и в экзегетической части вообще). Сведений этого рода в книге Аввакума не имеем. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум (1, 1) и молитва Аввакума пророка, для пения (3, I) и только. В самом содержании книги нет сколько-нибудь определенных указаний исторических, географических, генеалогических, которые могли бы дать основание для таких или иных суждений о времени и месте происхождения, жизни и деятельности автора. Истолкование книги пр. Аввакума представляет особую трудность по обилию в ней ἅπαζ λεγόμενα, по множеству поэтических выражений, трудных для изъяснения, по разногласию во многих случаях между текстами масоретским и LXX. Наконец, третья глава наследуемой пророческой книги представляет не обыкновенную пророческую речь, а «молитву... по образцу псалмов» (по Венскому изд.). Это обстоятельство налагало на исследователя обязанность ближайшего ознакомления с еврейской метри-
—361—
кой, а вопрос этот пока еще не имеет общепринятого решения; следовательно, автору необходимо было разбираться в различных теориях еврейского метра. Мерной речью изложена и вторая глава в книге пр. Аввакума; для нее, как и для главы третьей, нужно было ознакомиться с теорией строфического деления поэтических произведений Ветхого Завета. Итак, работы для автора рецензируемого сочинения в истекший год было более чем достаточно.
Сочинение о. Варфоломея не отличается объемом, но это зависит от особой манеры изложения изученного материала. С этой манерой автора рецензенту пришлось познакомиться три года тому назад. Его семестровое сочинение по библейской истории, написанное, помнится, на трех листах, включало столь длинный перечень использованных пособий, что, по замечанию профессора, которому писано сочинение, этого количества достаточно было бы для написания магистерского сочинения. Автор излагает только то, что стало прочным его достоянием; он не повторяется и не многословит, не делает длинных выписок, не уклоняется в сторону от предмета своего исследования. Таким образом, можно утверждать, что о. Варфоломей, представив небольшое по объему сочинение, свою задачу – сложную и обширную – выполнил умело и вполне добросовестно. В этом можно убедиться из краткого обзора содержания, который покажет, что все вопросы, имеющие существенно важное значение при изучении книги пр. Аввакума, решены им с достаточной основательностью и полнотой.
После краткого предисловия и указания источников и пособий (с. с. 1–15), в исатогическом отделе сочинения автор трактует о личности священного писателя и, прежде всего, об имени пророка. В данном случае, уяснение этимологического происхождения и значения имени חבקוק есть бездельный экскурс в область еврейской лексикологии и грамматики. Нет, исследование об этом имени имеет важное значение – апологетическое, в виду утверждения Фридриха Делича и его последователей, что имя חבקוּק ассирийского происхождения. А такое производство дает Деличу повод лишний раз «подчеркнуть идейную зависимость Библии от Вавилона и... подвинуть поближе к эпохе Р. X. время написания книги» (с. 22 реценз. соч.). Затем
—362—
автор переходит к данным для определения личности пророка. Прямых свидетельств ни в исследуемой книге, ни вообще в канонической священной письменности не имеется, и автору пришлось обратиться к одному из неканонических отделов книги пр. Даниила и обозреть различные версии легендарных сказаний о пророках. После того, ввиду скудости и сомнительности сведений, почерпаемых из этих источников, он вынужден быль определять время жизни пророка и написания им книги его имени из самого ее содержания. Исследование содержания пророческой книги с этой целью привело автора к довольно удовлетворительным результатам. Затем говорится о единстве книги пр. Аввакума, о мессианскими значении его пророчеств и о «строении» книги (языки книги, диалогическая форма изложения гл. I-й, деление на строфы глав II-й и III-й). Только после этого автор переходить к последовательному истолкованию книги стих за стихом, слово за словом (об истолковательной части сочинения ниже будет сказано подробнее).
О. Варфоломей использовал большое число пособий на языках немецком, французском, английском, латинском и русском. Им изучены комментарии на книгу пр. Аввакума, начиная со святоотеческих и кончая комментариями самого последнего времени; не оставлены без внимания и комментаторы еврейские. Поименовав 78 номеров пособий, изученных им, автор добавляет, что мелкие заметки и журнальный статьи, а равно и такие исследования, которыми он пользовался только в некоторых случаях, в общем перечне не указаны. При перечислении пособий даны по местам заметки библиографического характера. Необходимо заметить, что цитат, взятых из вторых рук, в исследовании встречаем очень незначительное количество. Что касается использованной автором литературы, то можно сделать лишь несколько несущественных замечаний. 1) Странно, почему автор, знающий английский язык и прочитавший по-английски более десятка пособий экзегетического и библейско-богословского содержания, имеющих своим предметом книгу пр. Аввакума, Driver’oм пользуется в немецком переводе, а не в подлиннике. 2) Комментарий Феодора Мопсуестийского, читали по изданию Wegnern’a, а не Миня,
—363—
как другие сочинения патриотического периода. 3) О примечаниях к переводу творений св. Кирилла Александрийского в изд. Московской Духовной Академии о. Варфоломей мог бы выразиться яснее, назвав автора примечаний, который, без сомнения, ему известен (с. 12 и прим. 71). 4) В прим. 39 на с. 395 читаем: «и переводы древние не читают, насколько мы знаем, – תטות לא (мы можем с уверенностью сказать это о 70-ти, Симмахе, Вульгате, других не знаем». Отчего бы не навести справку (по латинскому переводу) в полиглоте Вальтона, которая в перечне источников и пособий значится под № 1 ? 5). Из сочинения не видно, чтобы авторы использовал издание Baer’а, – именно, приложение к тексту о масоретских замечаниях, параллельных местах в пределах наследуемой книги; разночтениях и пр.
В сочинении обнаружено не только основательное изучение перечисленных пособий, но вместе с тем самостоятельность и независимость от взглядов комментаторов и критическое к ним отношение. Автор относится с должным вниманием и уважением к авторитетным ученым и, в особенности, к свв. отцам; но ясно видно, что для него magis amica veritas (см., например, с. с. 136 и 204). Но относясь критически к своим пособиям, и, будучи всюду самостоятельным в своих суждениях, автор, однако, далек от того, чтобы держаться принципа nil incertum, и в своих выводах всюду соблюдает должную осторожность и некоторые вопросы, за недостатком данных для определенного их решения, оставляет открытыми (с. с. 293, 339 и др.). Необходимо заметить, что авторы не отдает последовательно предпочтения ни масоретскому тексту, ни авторитетнейшему из переводов – переводу LXX. В одних случаях он предпочитает масоретский текст, в других – готовы корректировать подлинный текст по тексту LXX. Такое отношение к делу необходимо признать наиболее правильными: с одной стороны, мы встречаемся у LXX с явно неправильно прочитанным или понятым выражениям подлинника: а другой текст LXX в некоторых случаях показывает, что переводчики имели еврейский текст въ более (исправном виде, чем современный textus receptus (с. с. 118–119 и пp. 14, с. 148). В сочинении обнаружено близкое знакомство со всей вообще Библией, и парал-
—364—
лелей для книги пp. Аввакума из Ветхого и Нового Завета автором приведено огромное количество (с. с. 71, 259, 340, 341, 356, 367, 380 и мн. др.).
Знание еврейского языка обнаружено в исследовании вполне основательное. Во всех случаях, где необходимо, дается обстоятельный филологический анализ слов и выражений подлинного текста пророческой книги (с. с. 200–201, 217, 221–223, 215, 278, 296, 298, 310, 311, 320–321, 325, 335, 348, 361 и мн. др ). Есть множество опытов сопоставления и сближения масор. текста с текстом LXX или объяснения того, как из подлинного текста могло получиться несоответствующее чтение в переводе LXX (с. с. 116–117, 168, 184, 191, 245, 270, 291, 344, 372–373 и др.). Есть, впрочем, в этом отношении пробелы. Нет объяснений соответствия между חָמָם и ἀδικούμενος в 1. 2 (см. с. 110), между נורָא и ἐπιφανής в 1, 7 (с. 142), между תוֹדִיעַ и ἐπιγνωσθήσῃ в 3, 2 (с. 268 и дал.). На с. 156 происхождение чтения LXX ἐξιλάσεται из אָשֵׁם в 1, 11 выяснено недостаточно. При объяснении различия в чтении и между мас. текстом и LXX в ст. 12 гл. I-ой (с. 168) автор напрасно последовали Peiser’ у (Der Prophet Habakuk в Mitteilungen der Uorderasiatischen Gesellschaft 1903, I, S. 29). Конец стиха по масор. читается так יְסַדַתּוֹ לְחוֹכִיחַ וְצוּר по LXX: καί ἔπλασέν με τοῦ ἐλέγχειν παιδείαν αὐτοῦ – слав.: и созда мя обличати наказание его. Предположение, что LXX вм. וְצוּר читали ויצר, не вызывает возражений; но предполагаемое Peiser’ом и следующим за ним автором рецензируемого сочинения чтение ילדתו вм. יסדתו не может быть признано иравдоподобным. ילדתו, по Гез., может значить или: Iunglingsalter, Iugend, или: junge Mannschaft; ни то, ни другое значение не соответствует греч. παιδεία (или παιδία, как стоит в код. א), и греч. παιδεύω имеет совсем иное значение по сравнению с евр. יִלד. Более вероятно, что LXX читали здесь существительное, производное от глагола יסר (züchtigen, zurechtweisen, erziehen), по значению вполне соответствующего греч. παιδεύω (ср. Ос. 10:10; Ис. 94:10 по мас. и LXX). Правда, употребительное в Библии существительное от этого корня с значением, соответствующим греч. παιδεία, – מוּסר графически значительно отличается от יסדתו , но, возможно, что LXX могли здесь иметь в виду одну из позднейших форм – например, יסּוּרָא (Züchtigung) в st. cstr. Тогда
—365—
различие между יסּוּרָא масор. т. и чтением, предполагавшимся LXX-ю, объясняется смешением букв далет и реш; это смешение гораздо вероятнее и наблюдается гораздо чаще, нежели смешение букв самех и ламед.
Можно указать на несколько таких случаев, когда выражения подлинника выяснены недостаточно полно или не совсем правильно. На с. 30 высказана мысль, что נביא: само по себе, без ближайшего определения, означает боговдохновенного пророка, посланника 1еговы. Между тем, נביא может обозначать и пророков ложных, и, не имея при себе никакого определения (Зах. 13:2–4). На с. 107-ой בי- (ידבר- מח) оставлено без разъяснения. Выражение ст. 7 гл. I ושאתו משפּטו (с. с. 143–144), кажется, лучше всего принимать в смысле оборота, известного под именем Hendiadys. Непонятно выражение на с. 319: ידחו (Stat. Emph – ידיו). Не обращено внимания на то, что в первой половине ст. 1 гл. II поставлены две глагольные формы не простого impf., a cohort. Автор не заметил довольно частых случаев хиастического словорасположения в книге пр. Аввакума (3:3ас; 2:1а; 19а; 3:3b и др.). Ἅπαζ λεγόμενα следовало обозреть систематически и уделить им больше внимания.
Несколько замечаний, касающихся частностей. О. Варфоломей неканонические прибавления к книгам каноническими и легендарный сказания считает, по-видимому, документами одинаковой ценности и достоинства (с. с. 40–46). На с. 45 он рассуждает: «пророк не называет себя ни храмовым певцом, ни левитом даже. Если бы пророк был таковым, он, подобно Иеремии и Иезекиилю, назвал бы свое служение». Argumenta е silentio вообще неубедительны; и кроме того, можно указать на пр. Зaxapию, который, несомненно, был священником, но в своей книге не упомянули об этом. На с. 27 возбуждает недоумение фраза: «пророк... объят любовью к родному еврейскому (Иудейскому) народу». С. 68 и прим.: назвав сначала пр. Аввакума младшим современником Иcaии, Михея и Наума, в конце примечания, впадая в противоречие, автор заявляет, что необходимо признать Аввакума жившим позже названных пророков. На с. с. 166–167 выражено сомнение в том, что в 1:12 первоначально читалось תטות לא вм. נטות לא, которое имеем в textus receptus. Между
—366—
тем, это один из общепризнанных примеров соферимских корректур. – На с. 183 читаем: «у пророков это прозвание (חכשדים) равнозначно имени Вавилон בבל, подобно как Израиль и Иуда». Необходимо заметить, что отношение между первыми двумя названиями и между вторыми далеко не одно и то же.
Что касается изложения сочинения, то здесь резко бросается в глаза стремление автора излагать свои суждения со всевозможной краткостью, даже какая-то боязнь сказать такое слово, без которого можно обойтись. Это, конечно, можно считать достоинством, если обратить внимание на то, что многословие и растянутость изложения – обычные недостатки студенческих работ. Но, с другой стороны, это и существенный недостаток. Вследствие необыкновенной сжатости, изложение нередко становится туманным и вызывает немало недоумений (с. с. 46, 52–53, 60, 94, 131, 153, 156, 265 и др.). Можно отметить несколько случаев неправильного строения фразы и употребления неудобных в различных отношениях выражений (с. с. 21, 22, 42, 46, 47, 52, 62, 69, 86, 90, 113, 147, 192, 209, 210, 238, 241, 260, 292, 326). Есть описки: с.8: douse prophets, с. 81: מְשיח (вне связи речи), с. 149: כדימח (на с. 151 правильно קדימח), с. 282: שוד вм. חור.
Резюмируя все сказанное, рецензент должен признать сочинение, по его существу, заслуживающим высшей похвалы, но внешняя его сторона требует всестороннего исправления и усовершенствования. Автор вполне заслуживает степени кандидата богословия, а его работу рецензент долгом считает рекомендовать особому вниманию Совета».
б) Экстраординарного профессора священника Е.А. Воронцова:
«Почтенный труд о. Варфоломея состоит из двух частей: исагогической и экзегетической. В исагогической части о. Варфоломей последовательно занимается вопросами: об имени пророка, о данных для определения личности пророка, об иудейских и христианских преданиях, касающихся пророка Аввакума, о времени написания его пророчественной книги, о религиозно-нравственном состоянии иудейского народа, современного пророку, о единстве книги про-
—367—
рока Аввакума, о Мессианском (типологическом) значении пророчеств Аввакума и, наконец, о строении книги пророка. Исагогическая часть в сочинении занимает 96 страниц, а истолковательная – 285 страниц, что уже одно заставляет видеть в первой части отдел пропедевтической и полагать центр тяжести в работе во второй части – экзегетической. Наш автор прочитал с пользой много иностранных сочинений, внушительный перечень которых дает на с. с. 4–12 во введении. Патристические комментарии также ему хорошо известны, особенно толкования Иеронима. Из погрешностей этой части можно было бы только указать на отсутствие отдела о языке книги пророка Аввакума со стороны его лексики и грамматики, но составление такого отдела потребовало бы обширных знаний по еврейскому языку в его исторических формациях, каких и трудно ожидать от начинающего ученого. Следовало бы также сказать о переводах книги пророка Аввакума: сирском, эфиопском, коптском и др. Касательно сожаления, высказываемого автором, по поводу неиспользования им арабских параллелей к тексту книги Аввакума рецензент должен заметить, что если здесь разумеются параллели к ветхозаветным текстам, напечатанные в книге венского профессора Мюллера: «Пророки в их первоначальном виде», то сожаление о. Варфоломея напрасно, потому что эти параллели важны только при допускаемой Мюллером конкатенации и, вообще, при теории строфизма.
В экзегетической части, кажется, было бы уместным приведение славянского текста книги пророка Аввакума, тем более, что о. Варфоломей приводит 2 текста, еврейский и греческий LXX. К экзегетическому обзору каждой главы или ее подотделов удобнее было бы прилагать экзегетическое resumé, как делается в западных препарациях, относящихся к семинарию Ветхого Завета. Толкования у нашего автора – исчерпывающие, язык изложения – литературный. Степени кандидата богословия он заслуживает с похвалой».
48) О сочинении студента Реутова Валентина на тему: «История Вятского Успенского Трифонова монастыря со дня основания и до настоящих дней (1580–1912 гг.).»
—368—
а) Ректора Академии Епископа Феодора:
«Работа добросовестная, но не в смысле научной разработки архивного материала, относящегося к исторической судьбе Вятского Трифонова монастыря, а только в смысле достаточно обработанного, связного изложения научного материала уже из вторых рук. Во введении (с. 12) автор сам указывает ту литературу, которая легла в основу его исторической работы, и собственно не отступает от нее в описании исторической судьбы Трифонова монастыря. И напрасно стали бы у него искать какого-либо критического элемента в сочинении в смысле поверки данных, взятых из вторых рук, более ценными архивными справками. Правда, у автора есть извинение: на с. 13 введения он говорит, что архив Трифонова монастыря до 1775 года истреблен пожаром, а сохранившийся архив с 177 5 г. беден «ценными сведениями» и там большей частью не подлинники, а копии или черновики бумаги. Насколько нам известно, автор перед началом своей работы нарочито ездил в Вятский Трифонов монастырь, и там изучал архив с целью извлечения оттуда потребного материала, и если его усердие не увенчалось успехом и работать пришлось не по первоисточникам, то в этом не вина автора. Хорошо и то, что автор использовал уже изданные материалы, каковы: «Грамоты и акты Вятского Успенского Трифонова монастыря», изданным в 1907 г. А. Верещагиным; «Дозорный книги Хлыновского (Вятского) Успенского монастыря, городового приказчика Феодора Рязанцева (1601 г.), издание А. Верещагина, 1902, г. Вятка и некоторые другие. Вообще, нужно сказать, что литературу, относящуюся к данной теме, автор собрал полно и изучил добросовестно, и в этом отношении работа его весьма прилична в смысле ее назначения для ученой кандидатской степени.
План работы г. Реутова в общем естественный: в первых шести главах с 1–112 страницы он говорит о внешней исторической судьбе монастыря, VII и VIII главы – посвящает описанию внутреннего состояния обители. XI глава, вполне естественно, заканчивает сочинение указатель на «значение Успенского Трифонова монастыря для Вятского края», с. с. 224–249. И только, нам кажется, напрасно автор IX (средства содержания) и X (земельные владения Трифонова монастыря) главы
—369—
поместил в той части сочинения, которая, начинаясь с VII главы, имела в виду внутреннее состояние обители. Лучшее было бы отнести эти две главы – IX и X – к первой половине сочинения, которая посвящена внешней судьба монастыря, тогда и сочинение строго бы распалось на 2 совершенно различные по характеру материала части. Кроме этой частности, относящейся к некоторой невыдержанности плана, у автора в l-й части сочинения (с I–VII глл.) собственно нет строго выдержанного исторического метода работы. Уделив только 37 страниц на историю основания монастыря с биографическими сведениями о личности основателя – прп. Трифона, – автор с III гл. (с. 37) просто описывает наличность монастыря: церкви, колокольню, часовню, братские кельи, библиотеку, архив и пр. с историческими справками из их прошлого. А во 2-й части глл. VII и VIII под именем внутренней истории считает достаточным сказать только о числе братии в разное время, приводит список настоятелей с прп. Трифона и до настоящих дней, говорит и о прочих должностных лицах монастыря. Внутренней стороны жизни обители автор совсем не касается: нет речи ни об уставе: ни о службе церковной, ни о нравственном облике монахов и, вообще, этой обители. Автор слишком внешне понял свою задачу и этим лишил ее того интереса, который она должна представлять с точки зрения аскетики. Степени кандидата богословия автор заслуживает».
б) Ординарного профессора С.И. Соболевским:
«Сочинение Реутова дает более чем говорит его заглавие: тут не только история монастыря в собственном смысле, но и его описание, занимающее значительную часть сочинения (с. с. 37–111). Насколько верно изображена в нем фактическая сторона, а также насколько оно самостоятельно, я не берусь решать, не зная ни самого монастыря, ни литературы о нем. Но читается сочинение легко; история монастыря изложена очень подробно (например, в гл. VIII, с. с. 126–169, перечислены все настоятели монастыря). В виду этого думаю, что эту работу следует оценить баллом 5».
—370—
49) О сочинении студента Руднева Николая на тему: «Пастырская деятельность Платона (Левшина), митрополита Московского».
а) И. д. доцента В.И. Виноградова:
«Тема работы г. Руднева обусловлена предстоящей (11 ноября 1912 г.) столетней юбилейной годовщиной со дня смерти выдающегося отечественного иерарха. В нашей литературе жизнедеятельность последнего освещалась с разных сторон, но доселе не была еще обследована с пасторологической точки зрения; к предстоящему юбилею г. Руднев и принял на себя задачу восполнить этого недостаток. Соответственно указанному мотиву работы, она и выполнена автором с большой любовью и усердием. Помимо 20-томного собрания сочинений м. Платона и почти всей существующей о нем литературы, г. Руднев не пожалел труда привлечь к делу необходимый, мало затронутый доселе сырой материал в виде хранящихся в Архиве Московской Консистории дел с резолюциями митр. Платона, а также связанных с деятельностью митр. Платона дел Архивов Московской Конторы Святейшего Синода и Московской Синодальной Типографии. Изучение дел Архива Консистории, в силу связанных с ним затруднений, было для автора поистине научным подвигом. «Еще Н.В.Лысогорский, – говорит автор в предисловии, – работавший в этом же Архиве для своей диссертации: «Московский митр. Платон Левшин, как противораскольничий деятель», жаловался в предисловии к своему труду на отсутствие описи дел до 1812 года. Не улучшилось положение этого ценного материала и в настоящее время. Описи нет по-прежнему. Дела находятся в громадных связках, количеством своим достигающих до 500, и помещаются в полутемном подвальном этаже. Правда, многие дела отобраны по годам, а частью даже – по церквам (Московских сороков). Но это нисколько не облегчает труда занимающегося. Приходится все равно просматривать связку за связкой, бумагу за бумагой. Да при том еще и дела сохранились не полностью, большей частью встречаются отрывки дел, или просто даже отдельные бумаги (например, «прошение», «репорт», «заявление» и т. п.). Часто среди дел Мо-
—371—
сковской епархии попадаются дела епархий Переславской и Крутицкой, попавшие в Архив, по-видимому, после присоединения указанных епархий к Московской (в 1788 г.). В силу этого пришлось затратить много времени на чисто механическую работу: отборку нужных документов, связанных с деятельностью м. Платона. – В результате г. Руднев дал очень интересное, удачно построенное и хорошо изложенное сочинение, состоящее из следующих четырех глав: 1) краткий очерк жизни митр. Платона, 2) взгляд митр. Платона на пастырство, 3) пастырская деятельность митр. Платона, 4) архипастырская деятельность митр. Платона. Предисловие указывает мотивы и метод работы, заключение дает общую характеристику пастырской деятельности м. Платона.
Наиболее интересная часть сочинения четвертая глава; как построенная преимущественно на неизданных материалах, она является ценным вкладом в научную литературу о м. Платоне, и было бы очень желательно появление ее в печати. Главы 2 и 3 по местам страдают от того, что автор, употребив большую часть времени на изучение архивного материала, не вполне детально изучили напечатанные произведения митр. Платона: некоторые, имеющиеся в них ценные для характеристики митр. Платона данные, опущены автором из внимания, а некоторые приводятся из вторых рук; особенно обиженными остались «Сокращенная христианская Богословия» и «Краткая Российская Церковная История». В общем строении сочинения ощутителен некоторый недостаток общей научно-пасторологической перспективы и критического взгляда, благодаря чему некоторые мероприятия митр. Платона (например, гражданско-принудительного характера, см. с. с. 215–219 и др.), остаются загадочными, а некоторые, чрезвычайно характерные для духа пастырской деятельности митр. Платона (например, резолюция: велеть духовнику мужа увещевать ко исправлению и к любовному сожитию с женкою; ежели же он в том не успеев, то ему – духовнику – представить ево нам для увещания, с. 165) – не оцененными как должно, и потому и занимающими несоответствующее своему значению место.
Степени кандидата богословия за свой талантливый труд автор заслуживает вполне».
—372—
б) Экстраординарного профессора А.Л. Орлова:
«Сочинение г. Руднева написано по очень ясному и стройному плану. После краткого предисловия (I–XIV), заключающего в себе обзор источников и пособий темы, автор в первой главе своей работы сообщает биографические сведения о митр. Платоне (с. с. 1–45); затем во второй главе (с. с. 45–89) выясняет, главным образом, на основании проповедей почившего иерарха, его воззрения на сущность пастырского служения, на призвание к пастырству, на те требования, каким должен удовлетворять истинный пастырь; третья глава (с. с. 89–222) обрисовывает личность самого митр. Платона, как пастыря, – рассматривает по преимуществу его учительную деятельность, в связи с характеристикой религиозно-нравственных недугов той эпохи, в какую жил митр. Платон, – равно как характеризует пастырско- миссионерскую его деятельность (отношение к раскольникам); четвертая глава посвящена характеристике митр. Платона, как архипастыря, – обозревает его церковно-административную деятельность по отношению к подведомственному духовенству. Изложение автора – сжатое, почти безукоризненно отчетливое и литературное. Некоторые страницы его работы читаются с живым интересом. Кроме проповедей митр. Платона и разнообразной историко-биографической литературы о нем, автор при написании своей работы пользовался и письменными документами, хранящимися в архивах Московской Синодальной Типографии, Московской Конторы Св. Синода и Московской Дух. Консистории, благодаря чему автору удалось внести несколько новых сведений относительно пастырской деятельности знаменитого архипастыря. Кандидатской степени автор вполне заслуживает».
50) О сочинении студента Рязановского Сергея на тему: «Землевладение и хозяйство Троицкого Сергиева монастыря в XVII в.».
а) Ординарного профессора М.М. Богословского:
«Сочинение г. Рязановского состоит из введения, двух частей и заключения. Во введении автор, пользуясь данными жития прп. Сергия, рассматривает вопрос о начале
—373—
Троицкого монастыря и о начале его землевладения, дает обзор источников и пособий и указывает метод, применяемый им в своей работе. Затем в первой части сочинения дается очерк земельных владений монастыря в связи с процессом накопления монастырских земельных имуществ. Вторая часть посвящена вопросу об управлении имениями монастыря и о разного рода хозяйственных операциях в этих имениях. Здесь автор говорит о монастырском земледелии, скотоводстве, пчеловодстве, садоводстве и огородничестве, о торговле и соляных промыслах и, наконец, пытается представить общую характеристику богатства Сергиева монастыря в XVII в. и указать влияние этого богатства на нравственную жизнь братии. Заключение, где мы бы ожидали выводов из всего предыдущего, почему-то посвящается автором особым, новым, не связанным с предыдущим положением, вопросам, которым должно было бы отвести специальные главы. Содержание той части, которая именуется «заключением», не совсем вразумительно обозначено в заглавии: «Владения Троицы в истории секуляризации церковных земель при императрице Екатерине II (1764) и закрепощения крестьян на Руси».
Во введении автор заявляет, что его метод – «синкретический историко-математический, или индуктивно-математический» (с. 26). Однако, действуя этим синкретическим или историко-математическим методом, автор затрудняется изобразить цифрой богатство Троицкого монастыря и считает такое изображение невозможным (с. 151), так что избранный им метод не оказал ему в этом случае помощи. А затем и вообще синкретический или математический метод не избавили автора от грубых погрешностей, которыми полна его работа. Автор имеет, видимо, очень смутное представление об общем ходе русской истории, и на страницах его сочинения мы встречаем совершенно непозволительные ошибки, свидетельствующие о плохом знании самых элементарных и общеобязательных фактов учебного курса. И внешние отношения русского государства, и внутренний его строй в XVII в. – время, на котором автор преимущественно и останавливается в истории Троицкого монастыря – неясны автору. Андрусовский мир 1667 г., по его мнению, был заключен со Швецией
—374—
(с. 68). Первый самозванец по его хронологическим расчетам правит с 1604 по 1606 гг. (с. 30). Волостями в Московском государстве «управляли волостели-воеводы, распространявшие свою власть и на посады (с. 174). Кажется, история русского города и городских классов в общих, по крайней мере, чертах выяснена вполне достаточно, и сведения по этому предмету можно было бы найти в любом курсе или даже просто в учебнике русской истории. Если бы автор справился с пособиями хотя бы такого рода, он бы не писал, что «посадским или торговым жителям были предоставлены правительством разные привилегии сравнительно с низшими классами народонаселения. Эти привилегии были причиной поселения вокруг посадов ремесленного класса слобожан, или просто мещан. Мещане занимались кустарною промышленностью. Земельной собственности по большей части не имели, тогда как городские поселенцы и в этом отношении были счастливее жителей слобод» (с. с.71–72).
В частности избранная автором тема должна была побудить его ближе познакомиться с историей русского финансового и народного хозяйства, и это было тем легче сделать, что как раз эти вопросы за последнее время усиленно разрабатывались и вызвали несколько работ, на результат которых можно вполне положиться. Да, впрочем, если бы даже автор и не углублялся в изучение специальной литературы по истории русского хозяйства, а ограничился бы только внимательным чтением курса проф. Ключевского, который он указывает в числе своих пособий и в котором истории финансов и хозяйства отводится значительное место, он был бы гарантирован от тех ошибок, в которые он впал по предметам, непосредственно и близко связанным с его темой. Даже и в общем курсе он нашел бы достаточные и ясные ответы на вопросы, представляющиеся автору не разрешенными. Он бы не утверждал тогда, что «писцовые, переписные и дозорные книги «в первый раз были составлены при царе Михаиле Феодоровиче» (с. 58). Он не подразделял бы земель Московского государства на «пахотные и не пахотные или пашенные и непашенные, на земли тяглые, достальные, церковные» (с. 91). Интересно, в особенности, в этой
—375—
оригинальной классификации, какой разряд земель автор подразумевает под землями «достальными». При знакомстве с учебными пособиями автор не говорил бы, что Троицкому монастырю принадлежали поместья и вотчины (с. с. 62, 90). Мы не прочли бы у него тогда, что терминами «соха» и «выт» «обозначалось известное количество хлеба (зерен), собранных с земли» (с. 108). С терминами этими автор, по-видимому, впервые познакомился из монастырской описи (641 г., а между тем он мог бы и должен быль бы знать их из учебника. «Какое пространство земли», – пишет автор, – приходилось на соху, трудно сказать», – а при знакомстве с учебником сказать это ему было бы не трудно; и он никак не сказал бы тогда, что «выть – высшая сохи геометрическая единица» (с. 109). Он не рассуждал бы, если бы сведущ был в относящейся к вопросу литературе, что «селище» (с. 75) отличается от села «большими количеством дворов и большим развитием торговой жизни и богатством», так как термины «селище», как и «дворище» (с. 126), имеют очень определенный специальный смысл, и увеличительная форма вовсе не обозначает в этом случае увеличенных размеров.
Не обладая в достаточной мере ни общей подготовкой, хотя бы в размере обязательного курса, ни специальной – по истории хозяйства, автор не мог, разумеется, сладить и с поставленной им своей работе задачей. Прежде всего, он не овладел ключом к решению этой задачи – теми источниками, которые должны были быть положены в основу сочинения, актами, напечатанными и рукописными, сохранившимися в монастыре. Он оказался не в состоянии дать сколько-нибудь ясной и точной классификации этих актов (с. с. 47–54). До какой степени сбивчивые представления имеет автор об актовом материале, видно хотя бы, например, из того определения, которое он дает «деловым», «дельным» грамотам. «Деловые грамоты», – пишет он, – может быть, свидетельствовали своими названием о важности содержания этих бумаг», и только высказав уже такое основательное суждение, догадывается, что «быть может, эта названия записей деловыми, как и отдельными записями, указывали на дележи земли между лицами, указанными в документе» (с. с. 50–51), Не обнаруживается, за-
—376—
тем, в сочинении необходимой точности и отчетливости научного мышления. Определения, даваемые автором, сбивчивы и расплывчаты, а выводы и заключения поражают столько же Неожиданностью, сколько и необоснованностью. Вот, например, как автор определяет основную задачу своего исследования: «Сущность вопроса темы (?) состоит в следующем. Предание, остатки старины, русская рукописи XVII в. и иностранные писатели свидетельствуют о невероятных будто бы богатствах монастыря в описываемый век. Суть поэтому сводится к выявлению и обоснованию вопроса темы на основании прочных научных и рукописных XVII века данных» (с. 19). Помимо общей темноты всей этой тирады, не странно ли указываемое здесь подразделение данных на научные и рукописные? «Важность вопроса, – читаем мы на с. 20, – кроме малоразработанности его в русской литературе вытекает из исторического значения землевладения монастырей вообще и Троицкого в частности в истории секуляризации земель, закрепощения крестьян, да и вообще из чисто историко-экономического интереса – выяснить состояние хозяйства в XVII в. Троицкой Сергиевой лавры, в виду ее заслуг перед отечеством». Во-первых, нам совсем непонятна вся эта формулировка: историческое значение землевладения монастырей в истории секуляризации земель, закрепощения крестьян, а затем не представляем себе, как это можно говорить о «чисто историко-экономическом интересе, в виду заслуг перед отечеством». Очевидно, что заслуги перед отечеством могут возбуждать скорее патриотический, чем чисто историко-экономический интерес. Да и грамматика этой фразы, надо сказать, сильно хромает. «При благожелательном отношении правителей к монастырям», – читаем далее (с. 38), «земли их увеличивались. Следовательно, предоставлены были через то и способы приобретения разнообразные». Признаемся, для нас это «следовательно» – довольно неожиданно. Мы ожидали бы обратного заключения, т. е., что существовали или допускались разнообразные способы приобретения, вследствие чего и возрастало земельное богатство монастыря. – Непонятно нам также определение «частных повинностей», приводимое на с. 40, где автор говорит, что «все крестьяне в Троицких вотчинах избавлялись и от
—377—
всяких частных повинностей, сопровождавшихся каким-либо убытком по отношению к частным лицам». Странными и неразъясненными нами кажется определение города в XVII в., как «центрального законодательного пункта, вокруг которого обстраивались посады» (с. 71). Таким же законодательным центром считает автор и село (с. 75). Но поразительнее всего по оригинальности то определение, которое дается понятие «землевладение». «Владение землями или землевладение, – говорит автор, – состоит в отбывании разных государственных повинностей, обеспечивающем право на дальнейшее владение землей и освобождающем от притязаний сильных мира сего» (с. 95). В частности, для автора «вопрос об истории землевладения и хозяйства Троицы в XVII в. вместе со значением и смыслом его в истории секуляризации государственных земель (?) есть вопрос и о том значении или роли, какую сыграло монастырское землевладение Троицкого монастыря в XVII в. в истории постепенного развития и укрепления крепостной зависимости крестьян от помещиков до падения крепостного права 19 февраля 1861 г.» (с. 167). Признаемся, что и это определение нам не ясно; мы не уловили его «значения и смысла» и даже склонны считать его просто набором слов. Как можно, в самом деле, говорить серьезно о «секуляризации государственных земель» и о роли земель Троицкого монастыря в развитая крепостного права до 19 февраля 1861 г., когда земли и крестьяне были отобраны у монастыря еще в 1764 г.?
Погрешая против требований логики, авторы плохо справляется и с орудием мысли – русским языком. Правда, слог его не лишен иногда некоторой изобразительности. Так в параграфе о монастырском скотоводстве мы читаем, напр., что «в монастырских вотчинах паслось также много рогатого скота, свиней, а жилища их (?свиней?) оживляло пение петухов и кудахтанье куриц» (с. 113). Но при всей этой картинности автор не ладит с русской грамматикой. Вот примеры его слога: с. 17. «Великие князья до XVII в. проявляли двойственность в распо-русской о землевладениях монастырских»; с. 33. «Поляки сначала делали приступы с южной и юго-западной,
—378—
менее укрепленной стены... Но русские успели отстоять все замыслы врагов»; с. 38. «В общем в XVII в. правительство прямо и решительно узурпировало именья монастыря в пользу государства»; с. 42. «Грамоты наиболее древние и важные документы, как избавлявшие (?) монахов и их владения от насилий и злоупотреблений со стороны государственных чиновников»; с. 47. «Дарили князья и бедные, знатные и незнатные, богатая и бедный поместья и вотчины, даже знаменитая в истории»; с. 132. «Для обрабатывания земли лошадьми требовались троицким монахам земледельческие орудия, упряжь для лошадей и другие приспособления, удовлетворить этим потребностям монахи имели в стенах самого Троицкого монастыря кузничные, плотничные» (мастерские?); с. 133. «Пищу снедали монахи в трапезе».
Но довольно. Все эти недочеты: и отсутствие общей подготовки, и ошибки в элементах, и недостаток точности мышления, и, наконец, неуменье справляться с правилами грамматики не позволили бы мне признать сочинение заслуживающим искомой степени, если бы оно все же не свидетельствовало о некоторой, произведенной автором работе».
б) Экстраординарного профессора И.П. Соколова:
«Задача автора сводится, по его словам, «к выявлению и обоснованию вопроса темы на основании прочных научных и рукописных XVII в. данных» (с. 19). «Метод сочинения – синкретический (историко-математический, или индуктивно-математический): к индуктивному методу, которым пользуются все гуманитарные науки, в том числе и история русская гражданская по данному вопросу, в видах статистической необходимости, естественно присоединяется метод математический» (с. с. 26–27). План сочинения не так своеобразен, как его метод. После обычного введения, в котором автор описывает хозяйственный быт Троицкого монастыря до XVII в., следуют две части, состоящая каждая из двух глав, и заключение. «В 1-й части излагается история землевладения (способы и права приобретения, в связи с историей российской гражданской – гл.I) и инвентарь имущества (II гл.). 2 часть излагает
—379—
хозяйственную деятельность монастыря (земледелие и торговля, гл. III, и другие отрасли хозяйства, заключаясь общими выводами по нашему вопросу – гл. IV)» (с. 26). Наконец, в заключении говорится о «владениях Троицы в истории секуляризации церковных земель при Императрице Екатерине II (1764) и закрепощения крестьян на Руси», а также о размерах этих владений в настоящее время (с. 161). Я нарочно передал содержание работы г. Рязановского его собственными словами: из приведенных цитат можно видеть, как он мыслит и излагает свои мысли. Все сочинение с начала до конца написано крайне небрежно, бессвязно, бестолково и даже просто безграмотно. Некоторые суждения автора поражают своей наивностью и странностью. Тон изложения неровный: спокойное описание фактов чередуется с елейно-благочестивыми размышлениями, которые, в свою очередь, сменяются резкими критическими замечаниями. К этому нужно прибавить немалое количество грубых фактических ошибок. Автор ошибается в хронологических датах (например, неправильно указывает время правления первого самозванца, с. 30), путает исторические события (например, утверждает, что Андрусовский мир был заключен со Швецией, с. 68), обнаруживает непонимание некоторых древнерусских юридических терминов (например, полагает, что под «деловыми» записями нужно разуметь купчие крепости, а под «разводными» записями – полюбовные сделки «при разводах супругов», с. с. 48–62), плохо разбирается в старинных поземельных мирах (с. с. 108–110), и проч. И в то же время каждая страница этого неряшливого и нескладного сочинения свидетельствует о большом, кропотливом труде, истинные землевладения и хозяйства Троицкой лавры еще мало разработаны, и г. Рязановскому приходилось изучать ее, главным образом, по сырым материалам, печатным и рукописным. Кроме некоторых изданных документов, автор пользовался хранящимися в лаврской библиотеке рукописными сборниками актов о владениях монастыря и известной описью монастырского имущества, составленной по царскому приказу в 1641–1643 гг. Вместе с тем он ознакомился и со всей главнейшей литературой, относящейся к хозяйственному быту древнерусских монастырей. Принимая во
—380—
внимание неразработанность вопроса, трудолюбие автора и полную самостоятельность его изысканий, я полагал бы, что степени кандидата он заслуживает».
51) О сочинении студента Рязановского Феодора на тему: «Демонология в древнерусской литературе».
а) И. д. доцента Н.Л. Туницкого:
«Задачей своего сочинения автор ставит дать концепцию древнерусских верований в злых духов по памятникам древнерусской литературы и, по возможности, выяснить генезис этих верований. Но область древнерусской литературы широка и разнообразна. Отсюда систематизация разбросанного в ней демонологического материала составляет одну из главных трудностей работы. Автору предносился идеальный план ее: сначала дать очерк библейской демонологии, как основы первохристианской, затем демонологии (первохристианской, византийской и богомильской, чтобы на этой почве выяснить демонологические верования, насколько они выразились в древнерусской литературе. Но такой широкий план, за недостатком подготовительных работ, разумеется, ему представляется невыполнимым, и он успокаивается на более простой систематизации своего материала. Расчленив весь собранный им демонологический материал на части, он каждый отдел демонологии рассматривает в сфере соответствующих сравнений, привлекая сюда в каждом случай библейскую основу, святоотеческое учение, показания византийских житий, иногда богомильства и иконографии. Таким образом, он излагает представления о происхождении дьявола, мифологические черты в древнерусском бесе, общие воззрения на дьявола и бесов, говорит о бесах-мучителях, о бесах-искусителях, о борьбе с бесами, о бесах в эсхатологии. Такую систематизацию материала следует признать довольно целесообразной в интересах отчетливости изложения, но она имеет и свою отрицательную сторону. Благодаря ей сочинение страдает недостатком обобщений и в некоторых случаях не лишено искусственности в объяснении генезиса отдельных демонологических представлений. Там, например, представление беса в образе иудея автор,
—381—
вслед за г. Шестаковым, объясняет непосредственно из слов Ин.8:44, а не из общего взгляда на иудеев, господствовавшего в византийский период в обществе. Но в порядке и в пределах намеченного автором плана его труда выполнен, в общем, прекрасно. Автору пришлось в поисках материала для своего сочинения перечитать множество произведений древнерусской, переводной и оригинальной, литературы, как в печатном, так и в рукописном виде. Использован этот материал в большинстве случаев основательно и целесообразно. Древнерусский бес, как литературный герой, восходящий в своих первоосновах к Библии и византийскому творчеству, под пером автора приобретает довольно всестороннее, яркое и самостоятельное освещение, Изложение – литературное и обработанное. Частных недостатков сочинения можно указать сравнительно немного. 1) На наш взгляд, автор не вполне точно и исчерпывающе определяет роль богомильства в процессе образования демонологических идей в литературе. 2) Он не дает обстоятельного филологического анализа всех терминов, которыми назывались бесы и их действия в литературе византийской и русской, а в некоторых случаях его анализ следует признать не вполне правильным. Так, вслед за Буслаевым он производит слово «бес» от санскр. б’ас – светить и думает, что это слово «означает существо светлое, перешедшее в христианском веровати в духа тьмы» (с. 138). Но в настоящее время следует считать общепризнанными сближение слова «бес» с литовскими baisus – страшный (Vondrаk. Vergleich. Slav. Grammatik. S. 352). Или: слово «идол» он производит от греч. εἶδος (с. 101), забывая о греч. εἴδωλον. 3) Автор ставит, по-видимому, в непосредственную зависимость от жития Василия Нового известное «Слово о небесных силах», с чем есть основания не соглашаться. 4) Наконец, едва ли можно считать полезными для дела слишком обильные по местам выписки из различных произведений древней письменности, который приводит в своем сочинении авторы. Впрочем, указанными недостатками от читателя не заслоняются высшая достоинства сочинения г. Рязановского, который делают ему честь. Степени кандидата богословия авторы заслуживает, вполне».
—382—
б) Ординарного профессора М.М. Тареева:
«Автор ставит задачей своей работы – дать концепции древнерусских верований в злых духов по памятниками древнерусской литературы и, по возможности, выяснить их генезис. Его сочинение, в частности, распадается на следующие отделы: 1) история дьявола, 2) мифологические черты в древнерусском бесе, з) общие представления о дьяволе и бесах, 4) бесы-мучители, 5) бесы-искусители, 6) борьба с бесами и 7) бесы в эсхатологии
Рецензируемая работа характеризуется скромностью задач и добросовестностью в их исполнении. По-видимому, автор сделал то, что требовалось его темой, и сделал все, что было в его силах.
В заключении своей работы автор находит, что русский бес «оказался очень веселым типом, проникающим во многие уголки древнерусского быта и, во всяком случае, научно интересным». Со своей стороны, рецензент вынес такое впечатление, что весь тщательно собранный автором материал не дает почти ничего нового сравнительно с теми верованиями, которых и ныне держится простой народ, или даже с теми анекдотами, которые популярны среди современной невзыскательной публики. Это анекдотическое содержание, по мнению рецензента, могло бы быть осмыслено объяснением особенностей древнерусской демонологии из условий социальной жизни древней Руси, но автор не делает ни малейших попыток к такому объяснению. Однако, эти замечания, может быть, неуместны в приложении к работе «литературного» характера и, во всяком случае, рецензент не думает ими ослабить достоинств хорошей работы г. Рязановского».
52) О сочинении студента Сахарова Сергея на тему: «Настроение верующей души по Триоди Постной».
а) Ректора Академии Епископа Феодора:
«Читатель сочинения г. Сахарова напрасно стал бы искать в нем того, чего естественно ожидать от сочинения с такой строго определенной темой. Ни души верующего христианина, ни ее настроения в великие дни поста, ни религиозной психологии вообще г. Сахаров не касается совершенно.
—383—
Ему чужды остались в своей внутренней глубине те основные тоны, которыми звучат церковные песнопения Постной Триоди, а психологический анализ религиозных переживаний души совершенно отсутствует. Целая четверть сочинения, 57 страниц из 218 страниц всего сочинения, под общим заглавием «Предисловие», посвящена вовсе не предварительным замечаниям, как это обычно делается, относящимся к существу работы, например, к установке и определения ее задач, направления, плана или обозрению к. н. литературы, а просто довольно безграмотному (с внешней стороны) изложению автором своих, видимо, задушевных мыслей и дум о религиозной жизни, вообще, и о разных частных проявлениях этой жизни. – Тут есть речь и о церкви, и о преподавании литургики и устава в духовных семинариях и училищах, и о семейной жизни наших предков, и о славянском языке, и о преподавании греческого языка в наших духовных школах, и о католической школе и пр. Все это без прямого отношения к теме и главное без всякой внутренней последовательности и с полным пренебрежением к грамматике и орфографии тянется на протяжении 57 страниц. Примеров этого игнорирования грамматики (неизвестно, автором самим или переписчиком) можно бы привести на целую печатную страницу, так что при чтении делается даже досадно на автора; например, даже слова «экзегетика» он почему-то заменяет словом «экзеитика» (с. 64).
В дальнейшем автор идет в своей работе по плану (с. с. 65–66), который обеспечил ему только простую передачу содержания стихир и песнопений Триоди Постной. Он отмечает на основании содержания Триоди Постной, каким был первозданный человек до падения и каким стал после падения (гл. I); отсюда выводит как бы логически, подтверждая свои выводы словами стихир и песнопений Постной Триоди, что постоянным настроением человека должно быть глубоко покаянное чувство, сокрушение и плачь о своих грехах (гл. II), сопровождающееся постоянным подвигом самого человека в надежде на милость и помощь Божию (гл. III), в ожидании великой награды – сретения Великой Пасхи Христовой и упокоения в небесном царстве любвеобильного Отца
—384—
(заключение). Вернее было бы автору назвать свою работу так: «Основные мысли служб Постной Триоди»; тогда и чисто описательный метод его работы в приложении к чувствам и мыслям, коими проникнуты песнопения Постной Триоди, быль бы более уместен, чем теперь. Насколько автор не разбирается в самой природе религиозных чувств, видно хотя бы из того, что он говорит на странице 61-ой: «говоря о настроении верующей души по Триоди Постной, мы не особое какое настроение думаем характеризовать, как то, которое должно быть свойственно христианину во всякое время, лишь в дни светлых церковных торжеств нисколько изменяясь и то не в качестве, а, так сказать, в количестве». Несомненно, только одно, что автор с особой любовью и задушевной нежностью читал песнопения Постной Триоди, умилялся душой, и содержание ее усвоил сердцем и передавал его, хотя в бесхитростном, но довольно назидательном и толковом изложении.
Степени кандидата богословия автор заслуживает».
б) Ординарного профессора С.И. Соболевскаго:
«Сочинение это по содержанию своему едва ли соответствует теме: в нем речь идет не столько о настроении, сколько о религиозном миросозерцании, выраженном в Песнопениях Триоди Постной. Но, быть может, автор озаглавил свое сочинение так потому, что в нем он выражает свое собственное настроение, навеянное на него этими песнопениями?
Сочинение написано с большой любовью и тщательностью. К недостаткам его надо отнести, прежде всего, многоглаголание: я думаю, что, если бы его сократить даже на половину, оно от этого не только не пострадало бы, а даже выиграло бы. Я не говорю уже о начале его (с. с. 1–66), где находятся размышления лишь по поводу темы, иногда имеющие очень мало отношения к ней, например, о преподавании греческого языка в духовных школах (с. 35) – но даже и в главной части сочинения очень много лишнего. Кроме того, попутные размышления самого автора, а также мнения свв. отцов, приводимые им, иногда так переплетены с мыслями, взятыми из песнопений, что не
(Продолжение следует).
* * *
Th ἐξέραμα ἐπέστρεψεν ср.2 Пегр.2, 22, и Притч. 26,11.
Th. συγκαλέσας.
πέτρου оп. Th.
Th. приб. τοῦ Χριστοῦ τῷ μέλανι – позд.ред.
Th. и Г. Πύρρου καὶ...
Рус.восполнение (?).
Th. οί τολμηροὶ ὲτερόδοξοι (признак позд.) τὸν Πύρρον πάλιν τῷ ϑρότῳ К – ς ὲγκατέστησαν.
Эту точку опуск. Th. но она есть в Г.
Эту точку опуск. Th. но она есть в Г.
Th. Θεοδώρου δὲ τοῦ πάπα τελευτήσαντος Μαρτῖτος ό ὰγιώτα τος χειροτονεῖται ὲν ‘Ρώμῃ.
Г. приб.: по проискам диавола.
Th. Καταλαβόντος δὲ καὶ Μαξίμου.
Th. приб. έν ‘Ρώμῃ
Th. приб. καὶ τὸν πάπαν.
Disputatio cum Pyrrro, Comb. II. 159–195. Migne 91, 287–354, – диспут происходил в июле 645-го года (индик, 3-го), как помечено в заглавии.
Б: ὁσίου.
Поставленных в скобах слов Б не читает.
ἀλλά не чит. Б.
т. е. как ни в чем не бывало: этих поставленных в скобах слов Б не чит.
ἀφιγμένος πάλιν τὴν προτέραν δόξαν ἐπέϑαλπε καὶ ὡσεί τις – этих слов Б. не чит. С, а Р чит, но кажется без ἀφιγμένος.
Ср. 2 Петр, 2, 22. Д: под влиянием убеждений царского посла Олимпия.
Th. σύνοδον ρν́ ἐπισκόπων συαϑροίσαντες, Σέργιον... ἀνεϑεμάτισαν – признак второй руки.
Th. σύνοδον ρν́ ἐπισκόπων συαϑροίσαντες, Σέργιον... ἀνεϑεμάτισαν – признак второй руки.
Th опуск. μετὰ δογμάτων, как излишнее в виду следующих далее слов: знак второй руки.
Th. после приб. , но есть вариант и без этой прибавки.
Th. ὲτράνωσαν καὶ ὲκήρυξαν... Здесь прекращается совпадение А с Th, – продолжение см. стр. 37 прим. 1, Г согласно с А.
Г приб; составил также толкования на Св. Писание, а равна учение аскетическое, так что он сделался вторым Златоустом.
Стоящих в скобах слов: ἀνιατον τέλεον не чит. Б.
Б не чит. ϑρόνῳ.
В 655-м году.
Здесь в С. пропуск, восполняемый нами по Б, с коим совпадают S. и Р. Начинающийся здесь счет глав не соответствует печатным изданиям. Главы, соответствующие Р, приводим арабскими цифрами в скобах в русском тексте. Эта глава соотв. 23-й Р.
Здесь в С. пропуск, восполняемый нами по Б, с коим совпадают S. и Р. Начинающийся здесь счет глав не соответствует печатным изданиям. Главы, соответствующие Р, приводим арабскими цифрами в скобах в русском тексте. Эта глава соотв. 23-й Р.
Здесь Г вставляет отсутствующее в других житиях сообщение о чудесах св. Максима в Африки, на пути его в Рим и в самом Риме.
Продолжение отрывка Th, совпадающего с А (эта дта у Th. соединена с предшествующими ἒτρανωσαν καὶ ἐκήρυξαν τῷ ϑ» ἔτει... вследствие опущения замечания жизнеописателя о сочинениях и учительстве св. Максима вместе его двумя учениками – Анастасиями; – признак зависимости от жития) τῷ ϑ» ἔτει τῆς βασιλείας Κώνσταντος, ἔγγονος (ἐγγόνου вар.) Ἡρακλείου, ἰνδικτιῶνι ἡ ὅςτις μαϑὼν καὶ ϑυμοῦ πλησϑεὶς τόν τε ἅγιον Μαρτῖνον καὶ Μάξιμον ἐνέγκας ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ βασανίσας ἐξορίᾳ παρέπεμψεν ἐν Χερσῶνι καὶ τοῖς κλίμασιν (пропущено указание на историческую запись) πολλοὺς δὲ καὶ τῶν ἑσπερίων ἐπισκόπους ἐτιμωρήσατο. (μετὰ δὲ τὴν ἐξορίαν Μαρτίνου Ἀγάϑων χειροτονεῖται πάπας Ρώμης, ὅς τις κινηϑεὶς ζήλῳ ϑεοῦ σύνοδον ἱερὰν καὶ αὐτὸς συναϑροίσας τὴν τῶν μονοϑελητων αἵρεσιν ἀπεκήρυξεν, τὰς δύο ϑελήσεις καὶ ἐνεργείας τρανώσας). Здесь оканчивается совпадение с А всего первого отрывка Th, стран. 329 строк. 21 до стран. 332 стро. 5. Поставленые в скобах слова не читаются здесь в А.
Здесь Г, после вставки о чудесах св. Максима, опять совпадает с А.
Так и Феофан, но в латин. заглавии этого собора у Лаббеи показано 105 епископов. АА. SS. Сот. praev. 22, – в Д–105.
Отсюда и кончая словом: «вселенной» не чит. S. Таким образом дальнейшие слова будут относиться не к сочинениям св. Максима, а к деяниям собора, след. перевод будет такой: «о коих подробные сведения желающий может получить уже, прочитав изданную о них памятную запись» (Акты). Этому чтению надо дать предпочтение, так как о сочинениях св. Максима более подросная речь в Б. и Р. идет далее.
Так Р (в S пропуск). Собор был в 949-м году, а Петр сделан Константипольским патриархом на место Пирра в 655-м году, по Никифору. Поэтому он как и, Афанасий Ант. не упоминается Феофаном и Анастасием Библиотекарем, а также в А. Р. Д. Ср. АА. SS. р. 124. n. о. Очевидно внесен здесь ошибочно-
Так Р (в S пропуск). Собор был в 949-м году, а Петр сделан Константипольским патриархом на место Пирра в 655-м году, по Никифору. Поэтому он как и, Афанасий Ант. не упоминается Феофаном и Анастасием Библиотекарем, а также в А. Р. Д. Ср. АА. SS. р. 124. n. о. Очевидно внесен здесь ошибочно-
Th. 347, 21–24: В этому году был сослан Мартин, святейший папа Римский, мужественно подвизавшийся за истину и сделавшийся исповедником, окончив жизнь в восточиых странах. 351, 17–19 Византийцы возненавидели Константа за то, что он и Мартина (вмсте с другими, и Максимом), святейшего папу Римского, с бесчестием велел доставить в Константинополь и сослал его в пределы Херсона. Ср. XXIV гл. 47 стр.
В 648-м году по Acta 1 Comb XXXV Migne 90, 120. D. В P. Constantinus (alias, Constans), Д. Конста, Д. рус. Констанс. В типосе под угрозою тяжких наказаний запрещались всякие споры о волях во Христе и предписывалось довольствоваться изложением веры на предшествовавших вселенских соборах.
ὰνεστήλωσε – публично выставил для всеобщого сведения.
Р: inquam.
Р: cum per se sutsum feratur, может быть вместо οὖτος читая αὐτός.
Б: τὴν φέρουσαν. Р: viam.
et quam vix mente hnmana superiores illi spiritus assequantur – P.
Отсюда и до XXIII гл.стр.46, – до слов: «Итак, Констант, внук Ираклися» опуск. S.
«и возненвавидеть – ненависть» – приписаны на поле.
Р: et viam non secundum rationem exultantem compresvet.
Р. несколько иначе читает: obscuriorum et sublimiorum et minime obviorum = ύωηλοτέρων καὶ τῶν...
Б: ἀνηγμένοι P: ἀναγωγικοῖ λόγοι – Б ниже: ἐπίλυσιν и τὸ ἀνηγμένον ἐν λόγοις..
P: quinque et centum, Фотий: 164 – Bibl.cod. 192, A. Векк. 154. δ, – в изд. С: 65.
P in dicendo.
Р. quantum fieri potuit.
ἀφοσιωμένως вместо: ἀφοσιώσεως χάριν или ἕνεκα, буквально: ради очищения совести.
Р: μυστικωτέρως.
Р: quid summi sacerdoti cathedra.
P: et fidellum ingressus et nondum ínítiatorum in vestíbulo prostratio.
Здесь начинается продолжение S.
S. Κωνσταντίνῳ.
650 г., Констант царствовал с 641 по 668 г.
Далее начинается совпадение и текста С, после длинного пропуска, начинающегося с XVII гл. со слов: «А как в то время случилось и отшествие»... Пропуск этот заметил и сам издатель, поместив на поле замчание, что далее описываемое было уже при новом патриархе Павле.
Далее начинается совпадение и текста С, после длинного пропуска, начинающегося с XVII гл. со слов: «А как в то время случилось и отшествие»... Пропуск этот заметил и сам издатель, поместив на поле замчание, что далее описываемое было уже при новом патриархе Павле.
Цифрами в скобах помечаются главы: римскими – изд. Comhefis'a и Migne’я, а арабскими – перевод Понтана.
Б. ἐν ἀπόπτῳ вм. С. ἐν ὑπαίϑρῳ..
Б. τούτῳ.
Букв: ответчиком, ведшим сношения с другими церквами, ходатаем, поверенным.
«но относительно... невинного» этих слов нет в Б.
Р: Chersona, БSC: χερσών.
Св. Мартин был арестован в 653-м году, приведен в Кль и осужден на ссылку в Херсон, где и скончался 16 сент. 655-го года.
Г: об этом подробно написано в Житии св. Мартина, сосланого, по повелнию царя, в Херсонес, – неразумный царь замучил и многих других епископов.
Р: solo ejus aspect.
Д. приб: узы носяща.
Б и Р: δρακοντῶδες вм. С. μανικόν.
Б: κρίσιν вм. С. δίκην.
Должность казначея при царском дворе и в Великой Церкви. Д: газофилаксу.
Письма Высокопреосвященнейшего Филарета печатаются по подлинникам, доставшимся Сергиевой пустыни в числе прочих бумаг покойного епископа Игнатия Брянчанинова. Сохранить орфографию в точности было не всегда удобно, ибо Святитель часто употребляет малую букву там, где явно требуется прописная, и прописную – там, где явно требуется малая, например, «Б» вместо «б» даже в средине слов. П. Ф.
Тут игра слов. П. Ф.
Не следует упускать из виду, что это писалось ровно 20 лет тому назад. Едва ли автор повторил бы свои слова в 1913 году. П.Ф.
Jastrow М. The religion of Babylonia and Assyria. Boston, 1898, pp. 597 fl.
Очерки по истории религии. Ч. 1. Св. Тр.-Серг. Лавра, 1902, 74.
Babelon Е. Manuel d’archeologie orientale. Paris, 1889, p. 61.
Chipiez ef Pérrot. Histoire de l’art dans Íantiquite. Paris, 1887, t. IV, pp. 274 sq.
Saulcy J. Histoire de Part judaique. Paris, 1864, pp. 16–17.
Chipiez et Pérrot. Hist. de l’art. Сit. ap. pp. 344–346; 390–391.
Babelon. Manuel d'archeolcgie orient. Сit. op. p. 249.
Swoboda. Die altpalӓstinischen Felsengrӓber. в «Rom. Quart». 1890, ss. 321–322. Swoboda устанавливает четыре типа палестинских склепов: 1) склепы – простые углубления в склоне горы, куда труп клали непосредственно на пол; 2) склеп с аркосолием, на нижней плоскости аркосолия помещали труп: 3) склеп с аркосолием, в нижней плоскости которого устраивалось корытообразное углубление, где труп и закладывался каменной плитой; 4) склепы с локулами – углублениями в стенной плоскости в несколько рядов. Rom. Quart. Сit. op. ss. 326 ft.
Babelon. Сit. op. p, 250; Chip. et Pérrot. Сit. op. pp. 356 sq.; Vigouroux. Dictionnaire de la Bible. fasc. XXXVIII, Paris, 1912, pp. 2271–72.
Vigouroux. Diсt. de la Bible. Сit. fasc. pp. 2272–73.
Saulcy. Hist. de l’art jd. Сit. op. p. 223.
Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Еdit. consil. et impens. Acad. lit. caes. Vind. vol. XXXIX. Itinera Hierosolymitana saeculi VI–VIII. Ex recens. Paul Geyer. Vindob, 1898, р. 23 (595).
Saulcy. Hist. de l’art judaique. Сit. op. p. 223; проф. Олесницкий. Св. Земля. 1873, Kиев, с. 366 сл.
См. у Babelon, р. 248; Chipiez et Perrot, p. 278 sq; Lűbke–Semrau. Die Kunst des Altertums. Stuttgart, 1899, s. 80; Bènoit F. L’architecturе. Antiquitè. Paris. 1911, p. 496.
Saulcy, cit. op. p. 231; Проф. Олесницкий – сторонник взгляда, что черты греческих стилей были занесены с востока, и на долю греческого архитектурного гения выпало только развитие такого зародыша. См. указ. соч., с. 31 сл.
См. Bènoit. L’arehitecture. Сit. op. p. 496; Vigouroux. Diсt… С. op. p. 2279.
Указ. соч, с. 356 сл.
Проф. Олесницкий. Св. Земля. Цит. соч. с. 414 сл.
Евсевий. Vita Constant. I, III. cap. XXVI.
Кирилл Jep. – Migne. Patrol. curs. compl. Ser. gr. t. ХХХIII, cat. XIV, 9, p. 853.
Vita Const. III, 33–34. Мы даем перевод компетентного о. архим. Антонина, помещенный у Мансурова Б. в работе «Базилика импер. Константина в св. гр. Иepyсалиме». М., 1885, с. 130 сл.
Антоний Placentius (паломн. 370 г.) говорит: «in quo monument о de foris terra mittitur et inuredientes exinde benedictionem tollent…» «offertur oleum ad benedictionem» (Geyer. Сit. op. pp. 171–172).
Творения. Киев, 1879, т. II, c. 11.
Vita Constant. III, 38.
Взято у Мансурова Б. Цит. соч., с. 137.
Указ. соч., с. 524 сл.
Mauss С. Note sur la méthode employéе pour tracer le plan de la mosquee d’Omar et de la rotonde du saint sepulture. Rev. arch. 1888, XII, p. 7.
Burd. «est ibi etcrypta, ubi Salomon demones torquebat»; Breviar. «ubi est illud cornu, quo David unctus est et Salomon et ille anulis ibidem, unde Salomon sigillavit demones». Geyer. Сit. op. pp. 21, 154.
«Θαυμαστὴ δὲ ἰδεῖν ϰαὶ ἡ πέτϱα ἐν ἠπλωμένῳ χώϱῳ μόνη ὄϱϑιος ἀνεσταμένη ϰαὶ μόνον ἐν ἄντϱον εἴϭω ἐν αὐτῆ πεϱιέχουσα» Opera, t, Щ, p. 72.
Migne. Patrol. Curs. comply ser. gr. t. ХХХШ, IV, II col. 469; в Κοινη встречается τό μνῆμα в смысле надгробного памятника, даже самого гроба – ср. Мр. V, 3, 5; XV, 46 (гробн. Иос. Ар.); Лк. 8:27; 23:53 (гробн. Иос. Ар. 24:1; Дн. 11:27 (гробн. Дав.); 7:16 (гроб. Авраама).
«…monumento de petra est naturale excisus et † puteus [potus] ex iрsa petra excisus». Geyer. Itinera Hierosol. Cit. op. p. 1715.
Adamn. «sepulchrum Domini in... petra interius excisum»; Baeda – «in hujus monumenti aquilonali parte sepulchrum Dom. in eadem petra excisum».
Geyer, cit. op. pp. 228 sq. Иначе – monumentum называлось tegurium. Cp. Адамнана – «in una eademque petra excisum tegurium, in quo possunt ter terni homines stantes orare», ibid, p, 2286–7.
«Illud sepulchrum fuerat in petra excisum,et ilia petra (=monumentum) stat super terram, et est qnadrans in imo et in summo subtilis». См. у Tobler–Molinier. Itinera Hierosolym. et descriptiones terrae sanctae. T. 1. Genevae, 1879, pp. 264.
Айналов Д.В., которым справедливо гордится русская археологическая наука, однако, считает, что divinum monumentum был круглой формы, ротонда, а не четырехугольной. В этом он основывается на замечании паломн. Адамнана – Аркульфа (670 г.): «quae utique valde grandis ecclesia, tota lapidea, mira rotunditate ex oruni parte collocata est, a fundamentis in tribus consurgens parietibus. quibus unum culmen in altum elevator» (Tobler, cit. op. p. 146). Д.В.Айналов под ecclesia разумеет констаитиновский монолит св. гроба (Голгофа и крест на мозаике IV в. // Сообщ. православного палестинского Общества. 1894, II, с. 96). С этим согласиться нельзя. Ни один паломник не оставил нам столь неясного, неотчетливого описания св. места, какое мы имеем из рук Аркульфа; быть может, это объясняется просто «двуединым» источником этого описания: На самом деле, – о какой ecclesia говорит Аркульф? Если он разумеет здесь св. пещеру, то она отнюдь не была valde grandis: нам известно из паломнических описаний, что в нее могли войти только 9 человек. Из дневника Сильвии знаем, что в ней обычно при богослужении помещался только епископ с несколькими пресвитерами, клирики же и народ стояли вне пещеры. От Bernardino Amico (1596 г.) сохранилась зарисовка св. гроба (Revue archeolog. 1888, XII, рр. 7 sq.), и он также не valde grandis. Наконец, и современная св. пещера не производит впечатление особенной обширности, не могли же ее со времени Адамнана искусственно уменьшить? Можно думать, что Аркульф разумел под ecclesia (понимая этот термин в широком значении), действительно, строение valde grandis... mira rotunditate: такое строение нам известно. Все исследователи, работавшие над восстановлением константиновских построек на св. месте, принимают, согласно Евсевию (см. выше, с. 440 сл.), что вокруг св. гроба была устроена грандиозная колоннада, крытая куполом с отверстием в центре (см. планы, приложение к Прав. пал. сборнику. Т. III, вып. 1. Пл. XVII к с. 71). Мы уже видели, какое грандиозное было это сооружение! Вот, думается, эту-то колоннаду – которая, действительно, отличалась mira rotunditate и называет Аркульф ecclesia, имея в виду, главными образом, что в богослужебные часы здесь, вокруг св. пещеры, служившей алтарем, собирались молиться. Иначе эту колоннаду с куполом трудно было назвать, зная ее главное назначение – быть крышей для собирающихся к св. гробу. При таком объяснении ясно, что ex omni parte, которое остается без перевода в интерпретации Д.В.Айналова, относится к части константиновской постройки от базилики (Martyrium) и вплоть до св. гроба. Однако, давая такое объяснение словам Аркульфа мы отнюдь не отвергаем весьма ценного с богословской точки зрения толкования Д.В.Айналовым мозаики в апсиде ц. св. Пуденцианы в Риме, на которой, по мнению нашего ученого, за сидящем Спасителем изображена константиновская постройка на св. местъ (см. его труды: Голгофа и крест, цит. соч.: Мозаики IV и V вв. СПб., 1885, с. 34 сл.). Там налево от голгофского холма с крестом мозаичист поставил ротонду, накрытую куполом. Под этой ротондой Д.В.Айналов видит изображение св. гроба. Но в соответствии со сказанным выше, мы должны признать, что под этим круглым сооружением с арками в стенах нужно разуметь не монолит св. гроба, не пещеру, а колоннаду с куполом, в которую была заключена св. пещера. Такое мнение было высказано, между прочим, О.Сrе в реферате «Элеоня и др. святыни Иерусалима, узнанные на мозаике св. Иуденцианы» в 1-й секции II съезда христианских археологов в Риме 17–25 апр. 1900 г. (см. Виз. Время. 1900, VII, 801).
«Ipsum monumentum sic quasi in modum metae coopertus ex argento». Geyer. p. 17117.
«Et stat nunc in summitate illius sepulchri crux». Tobler. cit. op. p. 264.
Vit. Constant. Ш, 26–33.
„...est crypta, ubi corpus ejus (Dorn.) positum fuit“. Geyer, p. 222...
„...intro(a) spelunca“. Geyer, pp. 7 123, 72i, 73зо, lx, etc.
„...quando nobis liceat speluncam Salvatoris intrare?” Tobler – Molinier. p. 46, VII.
„speleum sive spelunca“. Geyer, p. 229ai.
Migne. ser.» gr. t. ХХХШ, X; 19; XIV, 22.
„ingressa sepulchrum resurrect, osculabatur lapidem». Tobler, p. 32.
„est ante ipso (sepulchrum–monumentum) ille lapis, genus silici.-.‘́. Geyer, p. i54o.
„Lapis... ante os monumenti est“. Geyer, p. 171m.
„...lapidem coram sepulchre positum*. Tobler, p. 315. XL Неясно, сколько–одинъ ли камень авторъ разумеет!
„cujus (lapidis) pars minor ferramentis dolata quadratum altare in rotunda supra scripts ecclesia ante hostium saepe illius memorati tegurii. hoc est dominici monumenti, stans constitutum cernitur; major vero iilius lapidis pars aeque circumdolata in orientali ejusdem eccles'iae loco quadian- gulum aliud altare sub linteaminibus stabilitum exstat*. Geyer, pp. 230–232
Беда собственно повторяет Адамнана. Geyer, pp. 304 sq.
„Et ibi ante januam sepulchrl jacet ille lapis magnus quadrans in similitudine prioris lapidis*. Tobler, p. 264.
См. планы ресгавр. св. мвста, прил. къ „Правосл. палестинок, сборнику*. т. III, Пл. XVII къ стр. 71.
„...episcopus... ingreditur intro spelunca et de intro cancellos.,. dicet orat.“; „episcopus... intrat intro cancellos intra Anastasim, id est intra spelun- cam“; „exeunte episcopo de intro cancellos omnes ad manum ei accedtmt“. Geyer, pp. 7124. 27, 72i. з, ю. 15, 7.34. в. и пр. Последняя цитата наиболее сильно подтверждаем нашу мысль, что въ самой св. пещер*, у входа, была рЪшетка: епископъ выходитъ изъ за рЬшетки (de intro cancellos) и приближается къ народу.
„presbyteri et diacones semper parati sunt in eo loco (св. пещера! а<1 vigilias propter multitiulinem, quae se colliget. Consuetudo enim talis est, ut ante pulloTUm cantum loca sancta non aperiantur“. Geyer, p. 73s–if. Очевидно, духовенство очередное находилось именно за этой exteriores cancelli, не пуская туда народъ; и лишь въ опред-вленный моментъ р-ьпгетка открывалась, и за нее входили служащие.
См. выше стр. 436.
Cumoni F. Les religions orientales dans le paganisme romain. 1909, p. XXI.
Эта идея уже встречается у св. Иустина (Apol. I, 14 et 66; Dial, с.Tryph., 70), во многих местах творений Тертуллиана (Ар. 22; De Corona, 15; De spect. 23, и пр.), у Матерна Ф. (De err. rel. prof., 18–27), у Феодора Мопсуестского (Adv. mag. Phot., Bibl., cod. 81) и пр. По словам Кюмона (Les r. or., р. XIII) даже некоторые из новейших писателей не далеки от таких же взглядов. Во всяком случае, например, современное католичество, по-видимому, допускает это вполне, опираясь на столь высокие авторитеты, как Боссюэ. (См. Ribel M. La Mystique divine. T. III, 1902, p. 178).
Например, св. Иустин, приводя учение Платона о возмездии (De rep. X), делает следующий смелый вывод: Τὸ γὰρ μετὰ σώματος κρίνεσθαι τὴν ψυχὴν οὐδὲν ἕτερον θηλοῖ, ἣ ὅτι τῷ περὶ τῆς ἀναστάσεως, ἐπίστευσε λόγῳ (Coh. ad. gent., 27; Migne, P. g. VI, 292AB.).
Тот же апологет (Apol. II, 13), говоря о том, что учение Платона лишь «не во всем сходно» (οὐκ ἔστι πάντῃ ὅμοια) с Христовым, придает стоическому термину λόγος σπερματικός совершенно особое значение Логоса, внушившего языческим философам их справедливые, с его точки зрения, идеи.
Plot. Enn. III, 6, 6: – ἀπὸ σώματος, οὐ μετὰ σώματος ἀνάστασις. Здесь как бы чувствуется сопоставление христианского верования (μετά) с древним орфическим тождеством, σῶμα-σῆμα (Plat. Cratyl. 400 с). О последнем см. Rohdc. Psyche. 1910, II, S. 121, 130, 279.
См. мою статью: «Атомы жизни» (Бог. Вестник. 1912, № 1).
La cite antique. I. 2, fin.
Rohde. Psych. I6, S. 32 ff.
«…Вовек уже пред живущих я не приду из Аида» – говорит тень Патрокла Ахиллу (Иллиада. ХХIII, 75).
Кулаковский Ю. Смерть и бессмертие в представлениях древних греков. 1899, с. 21.
О Ниобее см. Ил. XXIV, 602, о женихах Пенелопы – Одисс. XX–XXII и, наконец, о Лабдакидах: Одисс., XI, 275, а затем у Софокла (Эдип в Колоне), Эсхила (Семеро против Фив) и Еврипида (Финикиянки).
См. Dieterich А. Nekyia. 1893, S. 50–53. Здесь же, кстати, справедливо отвергается объяснение, даваемое Плинием (Nat. hist. II, 216, XXXVI, 131) слову «саркофаг» в смысле «гроб». Дитерих полагает, что суть дела была здесь в символическом представлении гроба, как разверстой пасти «плотоядной» смерти, а не в каком-то загадочном камне, ускорявшем, якобы, разложение.
Psych. I6 , S. 86, 2.
– τούτῳ (τῷ Μέμνονι) Ἠὼς παρὰ Δὼς αἰτησαμένη ἀθανασίαν δίδωσι (пo Проклу. Psych., ibid., S. 85).
Psych., 16, S. 115 ff.
Так, Амфиарой превращается, в Opoпe, в Зевса-Амфиарая (Δὸς Ἀμφιαράος), а Трофоний – в такового же для жителей Лебадеи (Psych. ibid., S. 125).
Rohde. Psych. I6, S. 179; Кулаковский. Смерть и бессмертие. С. 60. Впрочем Ориген (Cels. С. III, 33) приписывает таинственное исчезновение Клеомеда «некоему демоническому определению», что, пожалуй, больше согласуется с поступками «героя».
О многих других языческих параллелях христианскому воскресению см. в статье проф. Спасского А.А. Эллинизм и христианство (Бог. Вестник. 1912, июль–август).
Rohde, Psych., I6, S. 95–103. Cp. также Hesiod: Ἔργα, 107: ἐπειδὴ τοῦτο (χρυσοῦς) γένος κατὰ γαῖα ἐκάλυψεν οἳ μὲν δαίμονες... καλέονται... φύλακες θvητῶν ἀνθρώπων. Кроме «демонов» у Гесиода встречаются еще какие-то «блаженные смертные» (μάχαρες θνητοί), вероятно пользующееся, как и «герои», земным, реальным блаженством.
См. Reinach S. Orpheus. 1909, р. 380: Le culte des martyrs. origine du culte des saints, prit la place du culte des héros grecs. parfois mêmе jusqu’ à leurs noms et à leurs légends.
Известно также, мнение некоторых ученых (например, Вендланда), пытающихся доказать, что даже идея «Спасителя» (Σωτήρ) связана с обоготворением великих людей, затем, позднее, великих учителей философских школ, и, наконец, в римскую эпоху, даже с апофеозом императоров. См. Wendland. Die hellenisch-romische Kultur. 1907, s. 21, а также его статью «Σωτήρ» в Zeitschr. f. neutestam. Wis sensch., V. 1904.
Попов И.В. Идея обожения в древневосточной церкви. 1909, с. 5. Ср. Спасский А.А Ист. догматических движений в эпоху вселенских соборов. 1906, с. 31, 1.
См. Reinach S. Cultes, mythes et religions, I. 1905, p. 316, ss. (L'origine des prières pour les morts). Кюмон говорит совершенно категорично о греко-римском язычестве: Ici on priait les morts héroïsés, on ne priait jamais pour les morts (Les rel. or., p. 349,).
Роде решительно утверждает что «Der Dionvsoskult muss zu dem Glauben an Unsterblichkeit der Seele den ersten Keim gelegt haben» (Psych. II6, S. 31). О времени возникновения «мистического благочестия» см. Кнопф. Происхождение и развитие христианского верования в загробную жизнь. 1908, с. 36.
Кулаковский Ю. Смерть и бессмертие. С. 83.
Arist., De an., I, 2, 405а, 25: Ἡράκλειτος δὲ τὴς ἀρχὴν εἶναι φησι ψυχὴν, εἴπερ τὴν ἀναθυμίασιν, ἐξ ἧς τἆλλα συνίστησιν. – См. Rohde.Psych. 116, 146–150.
Νέκυες γὰρ κοπρίων ἐκβλητότεροι (fr. 96. Diels) См. Гераклит Ефесский. Фрагменты. 1910. Можно подумать, что Гераклит считал возможным разложение и уничтожение не только тела, но и души, так как в одном из его фрагментов (fr. 36) мы читаем: ψυχῇσιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι. Но зато здесь же намечается и возможность обратного возрождения (?) души, так как цепь превращений продолжается так: ὕδατι δὲ θάνατος γῆν γενέσθαι, ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ γίνεται, ἐξ ὕδατος δὲ ψυχή. Заметим, кстати, что этот загадочный фрагмент почерпнут Дильсом у Климента Ал. (Strom. VI, 17).
Гер. Ефесский. Фрагменты. Коммент. к фр. 63, с. 58. Заключение Дильса, пожалуй, может быть, как бы подтверждено фрагментом 14 (на который он, однако, не ссылается), где Гераклит, по словам св. Климента Ал. (Protr. 22) грозит (ἀπειλεῖ) мистам будущей жизнью (τὰ μετὰ θάυατος) и пророчит им огонь. Но это совершенно противоречит тому, что нам известно о мистериях, где именно посвященным предвещалось загробное блаженство, а позднее, в восточных культах, и воскресение.
См. выше, с. 461, сн. 1.
История догм. движ. С. 48.
Целлер. Очерки истории греческой философии. Пер. Франка. 1912, с. 59. Первочастицы Анаксагора настолько индивидуальны, что, например, одни из них входят только в золото, другие – только в кости или мясо живых существ, и т. д. Любопытно, что в связи с этим Анаксагор, по сообщению св. Иринея (Adv. haer., II, 14, 2) учил о происхождении жизни из семян, упавших с неба. Таким образом, новейшие взгляды, например, Аррениyca на «панспермическое» происхождение жизни на Земле весьма и весьма не новы. Самое сообщение св. Иринея настолько характерно, что его стоит привести дословно: Anaxagoras autem, qui et Atheus cognominatus est, dogmatizavit facta аnimalia, decidentibus e coelo in terram seminibus: quod et hi ipsi in matris suae transtulerunt semina, et esse hoc semen seipsos: statim confitentes apud eos, qui sensum habentet ipsos esse quae sunt Anaxagorae irrеligiosi semina. (Migne. P. g. VII, 75A).
См. Zeller, Phil. d. Gr., II3 2, SS. 420, 476, 482. О гомиомериях у Аристотеля см. ниже.
Очерк возможных в этом направлении идей см. в моей статье «Атомы жизни» (Бог. Вестник. 1912, январь).
Лукреций. О природе вещей. III, 204–206:
«…Установили мы, значит, отныне, что духа природа (anima natura)
Чрезвычайно подвижна, а вследствие этого ясно,
Что состоит он из телец мельчайших (corporibus parvis). легчайших (levibus)
и круглых (rotundis)…».
Ср. L., X, 66: – καὶ ἐξ ἀτόμων ἀυτὴν (τὴν ψυχήν) συγκεῖσθαι λεωτάτων καὶ στρογγυλωτὰτων…
Rohde. Psych., Il6, S. 190, 2, по Ямвлиху (Stob. Eсl. 384, 16).
Там же, S. 192.
Опираясь на показания Диогена Лаэртийского, Роде пишет об этом в следующих выражениях: Da die Zertsreuung des Seelenatome nicht mit einem Schlage vollendet sein wird, so mag der Tod bisweilen nur ein scheinbarer sein, wenn viele, aber noch nicht alle Seelentheile entwichen sind. Daher auch, bei etwaiger Wiederansammlung neuer Seelenatomes, ἀναβίωσις Todtengeglaubten vorkommen. (Psych., II11, S. 190–191, 3). Но хотя здесь речь идет лишь о мнимой смерти, тем не менее, важно само направление мысли, которому суждено было, впоследствии, занять видное место в христианском освещении вопроса о воскресении Оригеном и его последователями.
О природе вещей. III, 371. Пер. Рачинского. Здесь неудачно применено неясное слово: «зачатки». В подлиннике:
: «....................... nequaqnam sumere possis,
: Democriti quod sancta viri sententia point,
: corporis atque animi primordia singula privis
: adposita alternis variare, ac nectere membra».
Кроме того, речь идет здесь, скорее, о взаимоизменении, чем о простом соответствии. Мёнро, в примечании к своему изданию поэмы Лукреция, полагает, ссылаясь на Аристотеля (De an. I), что Демокрит подразумевает полное соотношение между душой и телом ἴστιν ὴ ψυχὴ ἐν παντὶ τῷ αἰσθαυομένῳ σώματι, 402b 2). См. T. Lucr. Cari, de rer. nat., ed. Munro. 1366, v. II, p. 194.
Rohde. Psych. II6, S. 174.
Ibid. S. 185, также Целлер. Оч. ист. гр. ф., с. 52.
Ibid. S. 179, 2. Впрочем, это же пессимистическое воззрение свойственно и чистым материалистам. Так, например, у Лукреция:
«…Все, что, согласно преданью, на дне Ахерона творится,
То, несомненно, уже в самой жизни находится нашей…» (III. 988).
Rohde. Psych. II6, SS. 185–186.
Гомперц (См. Жизнепонимание греч. философов. 1912, с. 40) признает связь пифагореизма с орфическими мистериями «бесспорным фактом». Того же мнения придерживается Целлер (Оч. ист. гр. ф. С. с. 33, 38) и Роде (Psych. II6, S. 106).
Rohde. Psych. II6, S. 31.
Καὶ γὰρ σῆμά τινές φασιν αὐτὸ (τὸ σῶμα) εἶναι τῆς ψυχῆς ὡς τεθαμμένη εν τῷ παρόντι, καὶ διότι αὖ τούτω συμαίνες ἂ ἂν σημαίνη ἡ ψυχή καὶ ταύτη σῆμα ὀρθῶς καλεῖσθαι (Pl. Cratylus. 400C).
Rohde. Указ. соч., S. 161. Автор ссылается здесь на Платона (Phaed. 62В), где развивается мысль о том, что человек может самовольно, через самоубийство, освобождаться из темницы тела.
Rohde. Указ. соч. S. 169.
Willlmann О. Geschichte des Idealismus. I2, 1907, S. 82. Автор считает возможным прямо присвоить метемпсихозу название «фантастической версии» веры в воскресение (die phantastische Umbildung des Anferstehungsglaubens). Также см. у проф. Спасского «Эллин, и христ.» (Бог. Вестник. 1912, июль–август, с. 534).
Например, Just. Apol. II, 13: οὐκ ἀλλότριά ἐστι τὰ Πλάτωνος διδάγματα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ᾽ οὐκ ἒστι πάντῃ ὃμοια... Ἓκαστος (τῶν φιλοσόφων) ἀπὸ μέρους τοῦ σπερματικοῦ θείου λόγου το συγγενὲς ὁρῶν καλῶς ἐφθέγξατο. Bпрочем, как уже было замечено выше, чисто стоически термин «λόγος σπερηατικός» применен здесь в ином, более широком и вообще не соответствующем ему смысле.
Цитирую по пер. Соловьева М.С. (Творения Платона. II, 1903, с. 321), но следует заметить, что в подлиннике нет того характера сомнения, который предан в переводе вставкой слов «говоря по правде» (в подлиннике просто: δυοῖν γὰρ θάτερόν εστιν τὸ τεθνάναι) и, далее: «если верить тому» (в подлиннике: κατὰ τὰ λεγόμενα).
Тот же перевод, причем и здесь вставлено совершенно излишнее слово «отсюда», так как очевидно, сократово ἀπιέναι соответствует русскому «отойти», в смысле наступления смерти.
Этому вполне соответствует и хронологически порядок обоих диалогов, из которых, по Целлеру и другим исследователям. «Пир» написан раньше «Федона». Кроме того, оказывается, что «Пир» появился не позже 384 года, т. е. всего лет через 15 после смерти Сократа.
См. Zeller. Die Phil. d. Griech. II4, 1, S. 831.
Поэтому, даже столь характерное утверждение св. Иустина, что именно Сократу был уже отчасти (ἀπὸ μέρους)известен Христос (Apol. II, la), скорее следует отнести тоже к Платону, так как оно обосновывается на диалоге «Тимей» (V, 28Е), являющемся, как известно, одним из поздних произведений Платона, а, следовательно, выражающем, скорее, мысли ученика, чем учителя.
... ἔστι τῷ ὄντι καὶ τὸ ἀναβιὼσκεσθαι καὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς εἶναι καὶ ταῖς μέν γε ἀγαθαῖς ἄμεινον ταῖς δὲ κακαῖς κάκιον (72E). В русском переводе Виноградова Н. даже прямо поставлено слово «воскресение», и приведенная фраза начинается так: «…на самом деле есть и воскресение, и т. д.», но это слишком подчеркивает то, чего, в сущности, нет у Платона.
Интересно, что в новозаветных писаниях, наоборот, именно глагол ἀναβιόω встречается очень редко. Так, например, Прейшен в своем обстоятельном словаре (Preusehen К. Handworterbuch z. Griechischen Neuen Testament. 1910. SS. 76, 91) указывает, применение этого глагола всего один раз (у св. Климента Римского в его т. н. 2-м послании к Коринфянам. XIX, 4), тогда как слово ἀνάστασις встречается беспрестанно.
По Целлеру: Die erste Existenzform der Idee (Phil. d. Gr. II4, I. S. 818).
Phaed., XXIX, 80Е.
Ibid., 81. Подразумеваются, конечно, «посвященные» в какие-либо таинства.
Удивительное учение Платона о «треугольниках», как первоэлементах тел, изложено в XX и XXI главах Тимея и исходит из пифагорейских идей Филолая. Некоторое разъяснение этой темной теории см. у Целлера (Ph. d. Gr.II4, 1, S. 800–807).
См. Phaedr, XXIX, 249А–В. Роде даже прямо относить указанное место из «Республики» (X, 615А) к метемпсихозу (Psych., II6, S. 276, 3).
… ἐκ τῶν τελευτηκότων αὖ κειμένων ου ἐν γῇ πάλιν ἐκεῖ ξυνισταμένους καὶ αναβιωσκομένους, τῇ τροπῇ συνανακυκλουμένης εἰς ταναντία τῆς γενέσεως (271В) Приводя почти дословно эту цитату. Евсевий (Migne. Р. gr. XXI. 936А), впрочем, находит в ней сходство не с христианским, а лишь с еврейским эсхатологическим учением. Но именно у Евсевия, как известно, особенно настойчиво проводится идея о тесной преемственной связи иудейства с христианством, чему даже посвящено отдельное сочинение: Εὐαγγελικὴ ἀπόδειξις.
Plato dixit, sine сorporibus animas in aeternum esse non posse (Мigne. P. 1. ХLI, 795). Трудно установить, откуда берет Августин это утверждение, приписываемое им Платону, но кажется можно предположить, что это выводится из той же LXII главы «Федона», где речь идет о загробном суде и воздаянии, очень сходных с древними египетскими верованиями о суде Озириса не только над душами, но и над телами умерших.
...τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ἡμῖν γίγνεται διὰ μανίας, θείᾳ μέντοι δόσει διδομένης (Phaedr, XXII, 244A).
Conv. XXIX. 210E, 211AB.
... ἐξιστάμενος δὲ (ὁ φιλόσοφος) τῶν ἀνθροπίνων σπουδασμάτων καὶ πρὸς τῷ θείῳ γιγνόμενος νουθετεῖται μὲν ὑπο τῶν πολλῶν ὡς παρακινῶν, ἐνθουστάζων δὲ λέληθε τοὺς πολλούς (Phaedr. XXIX, 249D).
Ganquet. Essai sur le culte et les mystéres de Mithra. 1899. p. 9.
Араго. Общепонятная астрономия. Пер. Хотинского. 1861, т. I, кн. VI. Мнение древних об оси Mиpa.
О невысоком состоянии наук у египтян можно найти сведения у Бругша, Лепсиуса, М.Мюллера, Эйзенлора и других. Замечательно, что их геометрические представления, как это открывается из землемерных надписей на храме в Эдфу и из папируса Ринда, стояли гораздо ниже даже арифметических их теорий. Вычисление площадей у них прямо утверждалось на неверной теореме (равенства площадей при равенстве периметров). Сравнительно со значительным приближением они вычислили квадратуру круга. По папирусу Ринда сторона квадрата равновеликого площади круга равна 8/9 диаметра так, что отношение окружности к диаметру (π) у них выходило равным 3,16; на самом деле оно 3,14159265...
Теория Аристотеля изложена в его сочинении «De coelo».
Процессу Галилея посвящена обширная литература. В настоящее время ему обыкновенно всегда отводится место в католических учебниках по апологетике и основному Богословию. На русском языке сведения о нем можно найти в переводных книгах Араго (биография знаменитых астрономов..., астрономии), в статьях Бредихина «Процесс Галилея» (Русский Вестник. 1871, № 8 и 1876, № 12), у Скабаллановича – «Суд над Галилеем» (Христ. Чтение. 1876.). Интересно, что Ламброзо, которого нельзя заподозрить в симпатиях к католицизму, утверждал, что Галилей в нравственном отношении был ничтожеством, что он даже обкрадывал своих учеников, присваивая себе их открытая.
Краткие сведения о Козьме см. в энциклопед. словаре Брокгауза и Эфрона. 30 полутом. О миниатюрах на рукописях его см. Кондакова «История византийского искусства» (с. 86 и сл.).
Примером такой бесплодной работы может служить книга А.Фулье. La pensée et les nouvelles écoles anti-intellectualistes. Paris. 1911.
Не мешает сделать важное примечание. Трансценденталисты не без наивности думать, что проблема психологизма возникла лишь в ваши дни и приписывают заслугу острой постановки этой проблемы неокантонским школам. Проблема психологизма во всей глубине была поставлена итальянским мыслителем Джоберти, который дал замечательную попытку онтологического, т. е. единственно возможного преодоления психологизма своей идеальной формулой. См. Introduzione alio studio della filosofia t.t. II и III. Определение психологизма – t. II p. (15, Brusselle, 1843. Борьбу с психологизмом Джоберти уже начал в первом своем произведении Teorica del sovranaturale (1837) и особенно энергично и блестяще зачищал онтологизм в своей глубоко значительной полемике против росминианства, см. Degli onori filosofia di Antonio Bosmini. v.v. 3. Napoli, 1845, изд. 3-oe (окончательное). В святоотеческой философии, например, у св. Дионисия Ареоп., св. Григория Нисского и св. Максима Исповедника, мы имеем пример полной свободы от психологизма. Несмотря на свой «психологический» метод, отличающий его от восточного метода богословствования, существенно свободен от психологизма и бл. Августин. Впервые психологизм проникает в христианскую мысль с номинализмом и со схоластической «рецензией» перипатетизма. О различии восточного и западного методов богословской мысли см. исследование А.Бриллиантова. Влияние восточного богословия в произведениях И.С.Эригены. СПб., 1898.
Это чрезвычайное характерное выражение находится в недавней статье Риккерта «О понятии философшии». Кн. I, с. 4), «Логос». Ретивая молодежь, сгруппировавшаяся вокруг «Логоса» и два раза в год выставляющая в нем «плоды учености», вывезенные «из туманной Германии», несмотря на все желание «превзойти» учителей, не может скрыть прискорбного факта обусловленности их исходной точки зрения «наукой». Так, г. Яковенко определенно говорит, что трансцендентальная философия ориентируется на факте науки. «Логос», кн. I, с. 203. (Впрочем, этот несомненный факт быль отмечен ранее в превосходной статье кн. В.Н. Трубецкого «Панметонизм в этике». Вопр. фил. и псих. Кн. 97, с. 131). Г. Степпун считает даже это всем известным и никаким спорам не подлежащим: «Кант... исходил в своем исследовании, как известно, из признания непогрешимости естественно научного мышления. Только этой оценкой науки, как главенствующего (курс, подл.) культурного фактора и держится психологически кантовская система трансцендентального идеализма». (Немецкий романтизм и русское славянофильство. Русская мысль, 1910, кн. II).
Образ Галилея остается прекрасным, даже несмотря на те новые черты, который вытекали из его «научного принципата», из его желания быть во всех отделах науки «первым и единственным». О нескольких случаях диктаторского присваивания Галилеем мыслей и открытий своих учеников с замечательным беспристрастием говорит В.Caverni в своей монументальной Storia del metodo sperimentale in Italia. Firenze. 1891, 5 v.v.
Что и делается Наторном в отношении Платона в книге: Plato’s Ideenlehre. Eine Eintűhrung in den Idealismus. Leipzig, 1903.
Об Августине, как философе, см. прекрасную работу S.Marlin Saint Augustin. Paris, 1901. Также Т.Zigliara, Della luce intellettuale e dell ontologismo secondo la dottrina deisanti Agostino. Bonaventura e Tommaso, d’Aquino. Roma, 1874.,2 v.v.
Это мы старались показать в статье «Исходный пункт теоретической философии», напечатанной в работе «Борьба за Логос. Опыты философские и критические». М., 1911.
Phaenomenologie dex Geistes. Herausgegeben von Bolland. Leiden, l907.
В русской литературе мы имеем чрезвычайно любопытное столкновение этих двух пониманий сущности искусства. В.Иванов (к которому впоследствии присоединился А.Блок) с редкой талантливостью в ряд статей, собранных в сборник «По звездам» (СПб., 1910) защищает реалистический символизм и тем исповедует себя сторонником эстетического Логоса. В.Брюсов и другие сторонники эстетического ratio защищают искусство как, отвлеченное начало, как замкнуто посюстороннюю, имманентную, и потому лишенную какой бы то ни было чудесности и тайны функции эмпирического человека. Особняком стоит А.Белый со своим сборником «Символизм». Его теоретическое риккертианство, в защиту которого он иногда ломает копья, сближает его с Брюсовым, но его собственный поэтический гений с легкостью рвет путы утонченно рационалистических схем и свободно творит произведения, в которых с потрясающей силой и гениальной новизной открываются доселе неизвестные оттенки потустороннего и реалистически утверждается несказанная тайна жизни. Прекрасную характеристику поэзии А.Белого (впрочем, А.Белого первых симфоний) можно найти у П.Флоренского: Новый Путь, 1904, XII. О романе «Серебряный Голубь» см. интересную статью Н.Бердяева «Русский соблазн». Русская мысль, 1910, XI.
К этому утверждению почти вплотную подходит Л.М. Лопатин в «Положительных задачах философии». Против материализма в одном месте он выставляет такое возражение: «Итак, все действия нашего ума, все самые тонкие и отвлеченные процессы мысли совершаются со слепой и бесцельной необходимостью падающего камня! И, тем не менее, они доставляют истину и открывают закона, и самую сущность действительности? Но где же доказательство, что это, в самом деле, так? Что позволяет нам отличить правду от лжи, что в нас судить о истине и заблуждения? На что укажет последовательный материалист. На чувство истины...? Но ведь самые эти чувства суть слепые продукты слепого механизма, которому менее всего дела до истины и заблуждения» (Ч. I, М., 1886, с. с. 145–146). Отсюда, казалось бы, прямой вывод к свободе истине, но Л.М.Лопатин вывода этого не делает и в других местах говорить, согласно обычному взгляду, о необходимости истины. Итак, что же свобода или необходимость? Л.М. Лопатин колеблется и выбирает среднее выражение: причинность истины (с. 145). Но так как, по его собственному признанию, причинность эта внутренняя, имеющая законом своим целесообразность, то это есть та самая причинность творческая, признание которой является истинным венцом диалектики автора 2-ой части названного сочинения. Но причинность творческая есть причинность через свободу и, значит, причинность истины есть свободная причинность, т. е. истина свободна и не можете быть мыслима необходимой. Таким образом, вывод о свободе истины логически вытекает из самих принципов философии Л.М.Лопатина и, если не делается им самим, то это нужно объяснить посторонними соображениями, и той остановкой на полдороге, которая вызвана боязнью окончательно преодолев рационализм, вступить на почву откровенной религии.
Критика чистого разума. Пер. Н. Лосского. С. 50.
Начало в февр. кн. Богословского Вестника.
По статье Кожевникова В.А. Исповедь атеиста // Христианское Чтение. 1909, май.
Джемс В. Многообразие религиозного опыта. Пер. под ред. Лурье. М., Русская Мысль, 1910, с. с. 42, 45–46.
Примечание. Нижеприводимая вырезка из газеты весьма характерна, как по количеству лишивших себя жизни и покушавшихся на это людей, так особенно и по первому самоубийству романического, «желтковского» типа.
«Вчера на М. Бронной подняли хорошо одетую девушку и в бессознательном состоянии отвезли во 2-ю городскую больницу, где, не приходя в себя, больная скончалась. Врачи констатировали отравление уксусной эссенцией. При умершей оказалась записка, по которой удалось установить ее личность: М.П. Степанова, фабричная работница шустовского водочного завода.
Степанова занимала комнату в д. №26, по М. Бронной улице. Среди своих товарок она слыла очень развитой девушкой, так как уделяла много времени чтению.
Причины самоубийства Степанова изложила в оставленном стихотворении:
: Зачем тебя я увидала,
: Зачем пленилась я тобой?
: О чем я раньше рассуждала,
: Что ты не можешь быть со мной?
: Теперь уж поздно, – я влюбилась.
: Влюбилась страстно я в тебя!
: Напрасно плакала, молилась,
: Но не могла забыть тебя.
: Прощай, прости и не суди.
Несколько времени назад она познакомилась с регентом одного большого хора. Вскоре они полюбили друг друга. Однако, на пути к взаимному сближению оказалось препятствие: он женат и имеет детей. Для Степановой это было страшным ударом.
Она – питомица Воспитательного дома и много времени отдала обычной у этих людей болезни – поискам своих родителей. Отчаявшись в том, она стала упорно стремиться к создании своей семьи. Заветной мечте не суждено было осуществиться, и она решила умереть.
В одной из записок, найденных после смерти Степановой, на клочке бумаги можно прочесть, по-видимому, недавно написанный библейский стих из «Песни песней»: «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо сильна, как смерть, любовь»...
Покойной 21 год.
«В д. Григорьева, на 6-м проезд Нового шоссе, в Марьиной Роще застрелился 17-летний сын домовладельца И.И. Григорьев.
«Личн. поч. гражд. М.А. Цветков, 48-ми лет, повесился в своей квартире, в д. Страховых, по Никольскому пер., на Пречистенке.
«В д. Пахомова, в Усачевском пер., повесился мещ. А. Афанасьев, 51 года.
«Во дворе Николаевского вокзала отравился уксусной эссенцией кр. В.А. Творыксаников. Доставленный в Старо-Екатерининскую больницу, Творыксаников умер,
«Вчера, ночью, на Сретенском бульваре зарезался ножом кр. Кузнецов, 18-ти лет. При покойном оказалась записка, с обычной просьбой – в смерти никого не винить.
«В д. Кононовой, по Мейеровскому проезду, 18-летний сын домовладелицы, покушаясь на самоубийство, выпил нашатырного спирта.
«В ночь на 29-е ноября на Кокоревском бульваре дворянин Л.А. Таланов, 21-го года, выстрелом из револьвера, нанес себе рану ниже сердца.
«Служащей в булочной Филиппова, на Тверской, кр. Андрей Кусков и т. д...
И все это в один день и в одной Москве!
«Один златолюбец где-то сказал: «желаю тебе лучше каплю счастья, нежели бочку ума». Но мудрец возразил ему: «для меня лучше капля ума, нежели море счастья (Св. Григорий Богослов. Песнопения таинственные (сборник избранных стихотворений). Счастье и благоразумие).
«Приложением» эта часть статьи названа потому, что она была написана после прочтения лекции, так как и сами произведения Боборыкина и Горького, которые в ней излагаются, напечатаны были позже 2 декабря.
Напечатана в «Ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях» к журналу «Нива» за 1912 год, в октябрьской (193–216 стр.), ноябрьской (349–376 стр.) и декабрьской (547–574 стр.) книжках.
Напечатана в одном из декабрьских номеров журнала «Русское Слова» за 1912 г.
Имеются в виду гностики, признававшие материю злым началом и потому отрицавшие реальное явление Христа во плоти.
IV. 19, I. Р. 288–289.
См. выше.
IV, 19.
См. выше.
См. выше.
VII. 15, II. Р. 165–166.
VII. 21–24, II. Р. 172–175.
Ср. выше.
VII. 36, II. Р. 186–187.
Ср. выше.
Рассказ см.: Lactantius. Div. Inst. I, 84–85, ex. Brandt. Corp. Script. Lat. T. XIX.
Орфей славился у древних как святой посланник и истолкователь богов отчасти потому, что он научил людей, какими обычаями должно почитать богов, отчасти по той причине, что он составил много песнопений в честь богов; до нашего времени сохранились несколько песнопений подобного рода, подлинность которых признана наукой. Имел ли в виду Ориген именно эти сохранившиеся еще песнопения, когда он так горячо на него напал, решить трудно. Ср.: Mosheim. Op. cit. S. 791.
История с Эпиктетом, рассказываемая Цельсом, не так достоверна, как думает Ориген. Кто знает, не представляет ли она выдумку какого-либо грека с целью возвысить своего современника. Серьезных свидетелей история не дает. См.: Mosheim. Op. cit. S. 792.
VII. 54, II. P. 204. Ср. выше.
О молчании см.: Мф. 26:63; Мк. 14:61.
О багрянице и трости см.: Мф.27:28–29; Мк.15:17–19.
VII. 50, II. Р. 204–205.
V. 15, II. Р. 16.
V. 16, II. Р. 16–17.
V. 17, II. Р. 18.
V. 18, II. Р. 19.
V. 23, II. Р. 24.
V. 23, II. Р. 24.
V. 24, II. P. 24. Ср.: Plato. Phaedo. Cap. 67. P. 118 ex rec. Hins., 1, 13.
Platonis Opera, ex recensione Schneider. Paris, 1846. Epist. VII. Т. II. P. 54.
Phaedo. Cap. 66. P. 118.
VI. 4, II. Р. 72–73.
Plato, ex гес. Schneid. Loc. cit.
VI. 5, II. P. 74–75.
Plato. Op. cit. Ер. VII
VI. 6, II. Р. 76
Ер. VII. Р. 540 ex ed. Deubner
Бог Аполлон является отцом Платона и запрещает Аристону прикасаться к своей жене Амфиктионе, когда она станет беременной. Аристон послушался бога и почитал свою супругу как богиню. См.: Mosheim. Op. cit. S. 605.
О чудесах Пифагора рассказано в его биографиях, написанных Порфирием и Ямвлихом (см.: Mosheim. Ibid.). Здесь важно отметить одно из его чудес: когда он пришел в храм богини Юноны в Микенах, где сохранялся щит Евфорба, он сказал, что этот щит он ранее носил. Он верил, что души переходят из одного тела в другое, и потому утверждал, что его душа во время Троянской войны жила в теле Евфорба. См.: Mosheim. Op. cit. S. 605–607.
Ночью, перед тем как Аристон повел своего сына Платона в школу Сократа, ему снилось, что лебедь поднялся от алтаря Купидона и скрылся в его гнезде. Сократ истолковал этот сон применительно к Платону. Сон Платона о третьем глазе еще легче объяснить: бог сна хотел показать юному мужу, что ему его будущие учителя обреют голову и сообщат новый свет и познания. См.: Mosheim. Op. cit. S. 606.
IV. 8, II. P. 77–79.
Plato. Ер. VII, ed. Deubner. P. 540.
VII. 9, II. P. 79.
Ср.: De leges. IV, ed. Deubner. P. 326.
Ibid. P. 715.
VII. 59, II. P. 208, 202.
VI. 16, II. Р. 86. Во-первых, Ориген навязал ту задачу Цельсу, которую он сам должен был выполнять; во-вторых, странно, что в последнем пункте он упоминает только бедных, забывая о богатых, точно среди них были одни беспорочные люди.
Ер. II
VI. 10, II. P. 89–90.
VI. 20, II. Р. 90–91.
См. также выше.
Исх. 18:23: «И пойдет Господь поражать египтян, и увидит кровь (пасхального агнца) на перекладинах и обоих косяках, и пройдет мимо дверей и не допустит губителю войти в дом».
Левит (16:8): «И бросит Аарон жребий об обоих козлах: один по жребию для Господа, другой для отпущения, а козла, на которого пал жребий для отпущения, поставит перед Господом, чтобы совершить по нем отпущение и послать в пустыню для очищения».
VI. 43, II. Р. 133–134.
Мысль Оригена та, что учение о злых духах и их падении составляет собой сокрытую и тайную мудрость, которая не может быть раскрыта простому народу. См.: Mosheim. Op. cit. S. 678.
VI. 45, II. Р. 115–116
VII. 30, IV. P. 181.
Соответственные места у Платона см.: Phaedo. V. 491. Р. 86–87 loc. ed.
VIII. 45, 50, II. Р. 262–264.
Арцыбашев М. Записки писателя о Толстом // Итоги недели. № 1, 1911.
Ответ Л.Н.Толстого Синоду. Берлин, 1901.
Правило 5. Деяния Вселенских Соборов. Изд. Казанской Духовной академии. Т. VII. Казань, 1891, с. 304.
Флоринский Н. свящ. История богослужебных песней Православной Восточной Церкви. М., 1860, с. 162.
Евфимий Зигабен. Толковая Псалтирь. Пер. с греч. Киев, 1883.
Лебедева П. Наука о богослужении Православной Церкви. Ч. 2. М., 1881; Новая скрижаль Архиепископа Вениамина. Ч. IV. СПб, 1857.
Архиепископ Антоний. В нем продолжало отражаться влияние православия на последних произведениях гр. Л.Н.Толстого. Харьков, 1911, с. 52.
1-е Полное Собрание Законов. Т. № 18110.
О единстве Церкви. Творения Св. Киприана Карфагенского. Ч. II. Трактаты. Киев, 1891.
Деянья Вселенских Соборов. Т. I. Казань, 1888, с. 236.
Толкование Послания Св. Ап. Павла к Галатам. М., 1880, с. 6
Послание св. Афанасия Великого к инокам. Творения, изд. 2-ое, 1902 , с. 104.
Деяния Вселенских Соборов. Т. I. Казань, 1887. Соборное изложение веры. С. с. 65–66.
Деяния Вселенских Соборов. Т. V. Казань, 1887. Собор Вселенский V, собрание VIII, с. с. 189 и 190.
Творения св. Григория Богослова. Слово 42. Ч. IV. М., с. 28.
Творения. Ч. IV, слово 42, с. 24.
Беседы на 1 Послание к Тимофею. Беседа VI. Полное собрание Творений. Изд-е СПб. Дух. Академии. Т. XI, кн. 2. СПб, 1905.
Беседы на 1 Послание к Фессалоникийцам. Беседа I. и на 1 Послание к Тимофею. Беседа VI, т. XI, кн. 2, с. 659.
Сочинения св. Иринея, епископа Лионского. Пять книг против ересей. СПб., 1908, кн. 3, гл. 25, с. 316.
Сочинения св. Иустина-философа. Разговор с Трифоном-иудеем. М., 1892, гл. XVIII, с. 189. Срав. гл. 108.
Собрание древних литургий восточных и западных. Вып. I. СПб., 1874, с. с. 109 и 129.
Там же. Прим. на с. 109
Там же, с. с. 167 и 179.
См. выше. Вып. II. СПб., 1875, с. 16.
См. выше. Вып. IV. СПб., 1877, с. 23.
См. выше. Вып. II. СПб., 1875, с. с. 74, 100, 102.
См. выше. Вып. III. СПб., 1876, с. 64.
Собрание древних литургий. Вып. III, с. с. 36 и 38.
Правила Свв. Соборов с толкованиями. Вып. V. М., 1903, с. 591.
Часть I. Ответ на вопрос 92.
Беседы на 1 Послание к Тимофею. Беседа VI. СПб., 1905, т. XI, кн. 2, с. 658.
Там же.
Полное собрание творений. Беседа III на Послание к Филиппийцам. Т. XI, с. 248.
Там же. Беседа XLI на 1 Послание к Коринфянам. Т. Х. СПб., 1904, с. 430,
Наставления св. Феодора Студита. Добротолюбие в русском пер. Т. IV. М., 1889, с. 643.
Собрание древних литургий. Вып. II. СПб., 1875. Сирская литургия Св. ап. Иакова. С. с. 9, 13; Вып. IV. СПб.,1877. Литургия Мозарабская. С. с. 130, 143 и 153; Вып. V. СПб., 1878. Литургия Медиоланская. С. 20; Вып. I. СПб., 1878. Литургия апостольских постановлений. С. 132; Вып. III. Литургия Св. ап. и ев. Марка. С. 34.
Сирская литургия Св. ап. Иакова. С. 36; Сирская литургия св. Василия Великого. С. 102; Литургия св. Иоанна Златоустого. С. 127; Литургия св. Григория просветителя Армении. С. с. 188, 209, 213; Вып. III. СПб., 1876. Коптская литургия св. Кирилла Александрийского. С. 59, Общая Ефиопская литургия. С. с. 90, 102 и 108; Вып. IV. СПб., 1877. Литургия Нестория. С. 51.
Вып. II. Греческая литургия св. Василия Великого. С. 72, Литургия св. Иоанна Златоустого.
Вып. II. Сирская литургия св. Василия Великого. С. 88.
Вып. IV. СПб., 1877. Литургия Галликанская. С. с. 103, 104, 105.
Вып. V. СПб., 1878. Литургия Медиоланская. С. 22.
Вып. V. Римская литургия по сакраментарий папы Геласия I. С. 62.
Собрание древних литургий. Вып. IV. СПб., 1877. С. 130.
Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. М., 1845.
Св. Макария Египетского. Беседы послания и слова. Писания св. Макария. Пер. с греч. Московской Дух. академии. М., 1852.
Там же, слово VI «О любви». Гл. 6, с. с. 565–566.
Творения св. Исаака Сирина. Слово 48. Сергиев Посад, 1911, с. с. 205–206.
Собрание писем Епископа Феофана. Вып. III. М., 1898. Письмо 479, с. с. 128–129.
Правила св. отцов с толкованиями. М., 1884. С. с. 530–532.
Собрание писем Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к монашествующим. Письмо 338. Вып. II. Сергиев Посад, 1909, с. 106.
Жизнеописание Охтинского старца Леонида. Приложение 1-ое.
Такъ, если верить журналу «Protestantenblatt» (от 17 мая 1911 г.), только за март и апрель 1911 г. поступило в в. ц. совет целых 16 заявлений в пользу Ято с 44.000 подписей.
На последних церковных выборах в Кельне оказалось 3260 голосов на стороне либералов и только 1412 – на стороне позитивных.
Подобные собрания происходили в указанный период времени во всей Германии. Собрание либералов в Берлине 28 марта 1911 г. интересно в том отношении, что на нем присутствовало немало пасторов и некоторые из них (Radecke из Кёльна, М.Fischer, A.Fischer, Hollmann и Frederking из Берлина) говорили в пользу Ято, несмотря на предупреждение Консистории не принимать участия в этом собрании. Консистория сделала выговор указанным пасторам, так как усмотрела в выступлении их демонстрант против церковной власти. Тогда берлинские пастора, в числе 75, подали жалобу в в. ц. совет на то, что Консистория незаконно ограничивает их свободу слова: Консистория, по их мнению, вправе привлечь пастора к ответу за то, что он сказал, но не вправе указывать, где, когда и как он должен говорить (Choronik d. Chr. Welt. 1911, № 16, S. 194; № 20, S. 238–239; № 26, S. 314–315). В. ц. совет весьма дипломатически уклонился от вмешательства в это дело (Protestantenblatt. № 34).
Письмо, напечатанное в «Christliche Welt» (1911, 31 марта), было немедленно перепечатано во всех богословских журналах.
104 профессора, 80 учителей, 49 врачей, юристов и чиновников, 19 писателей, художников и пр., 69 представителей торговли и промышленности, 62 депутата парламента и городских управлений, 23 женщины и пр.
Особенно резкую статью против в. ц. совета по поводу дела Ято написал небезызвестный в Берлине доцент богословия Kappstein в Vossische Zeitung (1911, № 37); по его мнению, все дело это – лишь глупая комедия, разыгрываемая церковной властью под давлением так наз. «верующих», т. е. консервативных.
Некоторые позитивные газеты очень резко нападают на в. ц. совет за слишком снисходительное отношение к Ято, например, Luthardsche Kir. chenzeitung (См. Reformation. 1911, № 10).
Christliche Welt. 1911, № 14.
Заместителем Loofs'a избран был известный берлинский профессор Адольф Гарнак. Это обстоятельство вызвало общее недоумение. Всем в Германии хорошо известно, что Гарнак отрицает Божество Иисуса Христа и, следовательно, с точки зрения нового закона сам может быть назван еретиком; Ято, как мы видели, неоднократно ссылается на него в подтверждение своих мыслей, да и вообще многие либеральные пасторы могут считать Гарнака своим учителем и руководителем. Как же может такой человеке судить другого за убеждения, которые он сам отчасти разделяет? Правда, с Ято он, конечно, далеко не во всем солидарен, но, ведь, Spruchkollegium учреждена не для одного Ято. Что же будет делать Гарнак, если на скамье подсудимых будет сидеть человеке более умеренных убеждений, заимствованных отчасти и из сочинений Гарнака? – Последовавшая по этому поводу горячая полемика выяснила некоторые подробности избрания Гарнака, рисующие современное состояние высшего церковного управления в Пруссии в очень мрачном свете. По закону избрание профессоров и заместителей для Spruchkollegium в. ц. совет, состоящий из 13 лиц, вместе с 7 представителями Прусского Генерального синода. В. ц. совет предложил в заместители Loofs’a одного из консервативных профессоров и, опираясь на большинство голосов, легко провел его кандидатуру, – тем более, что того же профессора поддержали и 5 представителей синода, бывших, конечно, против избрания еретика – Гарнака. Но один из оставшихся двух представителей синода, принадлежащий к так называемой «посредствующей» парии – Mittelpartei, предложил Гарнака, – и этого достаточно было, чтобы в. ц. совет подчинился: Mittelpartei сильна при Прусском дворе и, кроме того, Гарнак пользуется высоким покровительством императора Вильгельма, и в. ц. совет не посмел провалить кандидатуру столь влиятельного и угодного императору лица, хотя и сознавать, конечно, что совершает поступок противоречивый и соблазнительный.
Panentheismus – учение немецкого философа К.Kraüse (†1832), по которому все – природа и дух – содержится и живет в Боге, как в своей первооснове (Urgrund).
Chronik d. Сhristl. Welt. 1911, № 32.
Christliche Freiheit.1913, № 4 подсчитывает, что за последние четыре месяца 1912 года Ято прочитал 53 реферата и проповеди в 34 городах. В Кёльне, Бармене, Эльберфельде и Гагине установлены постоянные «Ятовские» богослужения, а в Бармене, кроме того, организованы библейские собеседования с последующими богословскими диспутами.
Понимание церковного анафеманствования только как «проклятья» – узко и односторонне. Ред.
Соединенное заседание Священного Синода и Постоянного Народного Смешанного Совета.
Эти епархии следующие: Кесарийская, Ефесская, Гераклийская, Кизическая, Никомидийская, Никейская, Халкидонская, Деркосская, Салоникская, Адрианопольская, Амасийская, Иоаннинская, Брусская, Пелагонийская, Иконийская, Боснийская, Критская, Трапезундская, Филиппопольская, Родосская, Серрская, Смирнская, Митиленская, Варнская, Хиосская, Скопийская, Писидийская и Кастамонийская.
Случай равенства в разделении голосов произошел в 1894 г. при выборе в Δύο Σώματα мирских членов избирательного собрания, и тогда возник вопрос о преимущественном значении голоса местоблюстителя. Восемь митрополитов покинули собрание в знак протеста против местоблюстителя, и в заседании воцарился шум и беспорядок. Пришлось обратиться даже к правительству за посредничеством. Когда же и правительство не смогло примирить враждующие партии, то оно тогда объявило (через тескере от 1 января 1895 г.), чтобы 8 митрополитов взяли свой письменный протест обратно, чтобы события, разыгравшиеся в собрании, считались как бы не имевшими места, и чтобы заседание возобновилось и шло своим порядком, а вопрос о голосе местоблюстителя был решен после окончания выборов.
Этот митрополит, будучи членом Синода, неоднократно выступал против Иоакима III и был, действительно, серьезным, сильным его противником.
Краткий очерк новозаветного учения о Церкви будет дан особо.


