X. Письмо девятое: Тварь
Вот порвалась последняя нить с землею. На грудь навалилась могильная плита. Все – все равно. Потянутся дни, – серые, безнадежные. Нет ни одного просвета, нет ни одного луча. Все тускло.
Раньше жил надеждою. Она одна, лишь она давала силы. Она одна была источником жизни. Теперь же – нет ничего. Ничего. Ничего…
В соседнем дворе пилили бревна, и звук был густой, как когда взбивают масло в уже огустевших сливках, или когда мешают в кринке жирную сметану. Словно комья земли глухо ударялись о крышку гроба. Невыносимо!..
Пошел по кладбищу. Прочиталось мимоходом на каком-то кресте:
«Покоится прах души священной
под сей обителью святой.
Ударит колокол вселенной, и мы увидимся с тобой».
«Прах души священной»! Господи, и тут мертвые души! Дальше, дальше к краю кладбища, – к валу с насажанными березами и ко рву! Дальше, навстречу заходящего солнца, в золотые нивы!
Блестели усатые ячмени, отогнутые все к северу. Еще неналившееся яровое серебрилось, как бы накрытое сребротканным парчовым покровом. Побелело озимое. Рожь побледнела и усохла; тяжелые колосы клонились долу. Нивы волновались правильным, ритмическим прибоем. И, добежав до ног моих, волна разбивалась. Снова и снова ударял ветер о побелевшие, ждущие жнеца нивы. Снова бежали ритмические волны и снова разбивались у ног.
Мне вспомнился один жаркий, июльский же день. Я сижу в саду, под акациями; все встали уже из-за чайного стола, а я остался один, с книгою и недопитым стаканом. Мухи сплоченным строем окаймляют каждую каплю сладкого чая или варенья. Трескаются созревшие стручки желтой акации, и с силою разбрасывают свои круглые зерна, стучащие по листьям. Порою зерно ударяется в стакан, стеклянное блюдце или вазу с вареньем, и мелодичный хрустальный звон вторит удару. Шурша падают высохшие стручки. Сижу часами, слушая шелест, эти звенящие звуки и сухой треск стручков: совершаются таинственные роды дерев, и новорожденные семена, отрываясь от материнского лона, впервые видят свет Божий и начинают жить самостоятельною жизнью. Что-то будет с ними? Теперь кончились родительские заботы о них… Созрела акация, – значит созрела и рожь: они всегда созревают дружно. Всюду начатки новой жизни…
Солнце закатывалось; закатилось. День кончился: на деревьях вороны стаями собирались уложиться на ночевку. Небо переливало перламутром, – расцвеченное красным, желтым, – словно затканное множеством слоистых облачков. А края их были нежно-фиолетовые, аметистовые. На огненном поле пылающего неба четко виднелись верхи колоколен соседних сёл. Деревушки – будто наляпали что-то, – как птичьи гнезда. Какой-то шест, казалось, воткнут в самое небо. Ветром приносило хлебный дух зрелой ржи. Вспоминалось что-то знакомое, – вечно знакомое, – знакомое от далекой вечности, – вечно родное, дорогое и задушевно-зовущее.
Но небо блекло и выцветало, как уста умирающей. Небо умирало, и с ним умирала вся надежда на лучшее будущее. Меркли и выцветали, как ланиты умирающей, все благие порывы и ожидания. С края небосвода, едва-едва, ветром доносилась тоскливая частушка:
«Последний раз, последний час,
последнее свиданьицо.
Мы скоро не увидим вас, и близко расставаньицо».
Толстая, непроницаемая, черная туча прикрыла небо и тяжелою завесою нависла над горизонтом. Потемнело. Оставалась только неширокая полоска аквамаринового, послезакатного неба, упиравшаяся в землю тоненьким золотым ободком. Полоска сужалась и бледнела. Наконец, тяжелый, точно срезанный край плотной тучи прихлопнул этот последний просвет,… как крышкою гроба.
И с гневом топнул я ногою: «Неужели же тебе не стыдно, несчастное животное, ныть о своей судьбе? Неужели ты не можешь отрешиться от субъективности? Неужели ты не можешь забыть о себе? Неужели, – о, позор!, – неужели не поймешь, что надо же отдаться объективному? Объективное, вне тебя стоящее, выше тебя стоящее – неужели же оно не увлечет тебя? Несчастный, жалкий, глупый! Ты хнычешь и жалуешься, словно кто-то обязан удовлетворять твоим потребностям. Да? Ты не можешь жить без того и без сего? Ну, и что ж? Не можешь жить, – умирай, истеки кровью, а все же живи объективным, не сходи на презренную субъективность, не ищи себеусловий жизни. Для Бога живи, а не для себя. Тверд будь, закален будь, объективным живи, в чистом горном воздухе, в прозрачности вершин, а не в духоте преющих долин, где в пыли роются куры и в грязи валяются свиньи. Стыдно!».
Есть объективность; это – Бого-зданная тварь. Жить и чувствовать вместе со всею тварью, но не тою тварью, которую испоганил человек, а тою, которая вышла из рук Творца Своего; прозревать в этой твари иную, высшую природу; сквозь кору греха осязать чистое ядро Божьего творения…. Но сказать так – это все равно, что поставить требование восстановленной, т. е. духовной личности. И опять возникает вопрос о подвижничестве.
Ведь не посты и другие труды телесные, не слезы и не добрые дела – благо подвижника, а восстановленная в целости, т. е. уцеломудренная личность. «Ничто, – говорит св. Мефодий, 439 – ничто не зло по природе, но по способу пользования делается злым злое – τῇ φύσει κακὸν οὐδέν ἐστι, ἀλλὰ τῇ χρήσει γίνεται κακὰ τὰ κακὰ».
Нет в человеке никакой реальности, которая была бы злом; но ложное употребление сил и способностей, т. е. извращение порядка реальности, есть зло; напротив, цельность-целомудрие состоит, по слову св. Амвросия Медиоланского, «в ненарушенной», «в неповрежденной природе»: «pudor virginis est intemerata natura». 440
Зло есть не что иное, как духовное искривление, а грех – все то, что ведет к таковому. Но наличность этого искривления личности требует своего рода ортопедии, духовной ортопедии. Эта-то ортопедия – узкий путь подвижничества в разуме святых отцов. «Не потому, – рассуждает один современный Епископ, 441 – не потому необходимым явилось подвижничество, как совокупность известного рода ограничений и стеснений для достижения нравственного совершенства, что этого требует христианство. Нет, христианство требует от человека только положительного, нравственного развития, но только сам-то человек грешный оказывается совершенно неспособным прямо жить так, как требует этого христианский идеал, и принужден прибегать к разного рода мерам для подавления в себе нажитого греховного содержания жизни, «с потом лица есть хлеб небесный», как выражаются аскеты».
Духовная жизнь – это и есть спасение, дарованное Господом Иисусом Христом; подвижничество же – путь к нему. Но тогда, чтобы понять не только задачу, ставимую подвигу, но и особенную его сущность, необходимо вникнуть несколько в тот распорядок органов жизни, который единственно справедливо может быть назван порядком, т. е. целомудрием человека.
Можно с разных сторон подходить к уяснению этого порядка, но вот, кажется, путь простейший, – по крайней мере, путь нагляднейший.
Человек «дан» нам в разных смыслах. Но – прежде всего и первее всего он дан телесно, – как тело. Тело человека – вот что первее всего называем мы человеком.
Но что же такое тело? – Не вещество человеческого организма, разумеемое как материя физиков, а форму его, да и не форму внешних очертаний его, а всю устроенность его, как целого, – это-то и зовем мы телом. 442
Возможно, что самое слово «тело» родственно слову «цело», 443 т. е. означает нечто целое, неповрежденное, в себе законченное, integrum: a, по мнению А. С. Хомякова, «тело» происходит от санскритского корня тал, тил– быть полным, жирным, 444 по древнему пониманию, – здоровым, крепким.
Подобно этому греческое «σῶμα » сокоренно словам: σάος, σόος – здравый, целый; σώος, σῶς – благополучный, здравый, спасенный; σῶκος – сильный, здоровый; σαόω, σώζω, – вернее – σῴζω, – лечу, излечиваю, спасаю; σω-τήρ – спаситель, целитель. Сопоставляя σῶμα с σωτήρ и с σώζω, мы можем сказать, что эти слова относятся друг к другу, как результат или орудие действия (ἐνέργημα, effectus, vis) к действующему (ὁ ἐνεργών, auctor) и к процессу действования (ἐνέργέω), А т. к. окончание τηρ равносильно окончанию της, то можно, далее, написать сложное отношение:
σῶμα: σωτήρ: σώζω = κοίημα: ποιητής: ποιέω = κτίσμα: κτιστής: κτίζω κτλ. 445
Таким образом, σῶμα обозначает нечто пассивное, некоторое произведение, имеющее в себе цельность и неповрежденность.
Тело – нечто целое, нечто индивидуальное, нечто особливое. Тут не место доказывать, что индивидуальность проницает собою каждый орган тела и что поэтому есть какая-то, вполне несомненная, хотя, быть может, и неуловимая для формул характерологии, как науки, – есть какая-то связь, какое-то соответствие между тончайшими особенностями строения органов и малейшими извивами личной характеристики. Черты лица; строение черепа; линии ладоней и ступней; форма рук и пальцев; тембр голоса, выражающий мельчайшие особенности в строении голосовых органов; почерк, запечатлевающий тончайшие особенности мышечных сокращений; вкус и идиосинкразии, показывающие в каких именно веществах и возбуждениях нуждается данный организм, т. е. чего ему не хватает, и т. д. и т. д. – везде тут за безличным веществом глядит на нас единая личность. В теле повсюду обнаруживается его единство. И потому, чем более вдумываемся мы в понятие «человеческого тела», тем настойчивее заявляет себя необходимость от онтологической периферии тела идти к онтологическому его средоточию, т. е. к тому телу, которое делает единством это многообразие органов и деятельностей, к тому телу, без которого ко всем этим органам применимо лишь понятие ὁμοιουσία, но никак не ὁμοοὐσία. Этот-то корень единства тела, это тело в теле, это тело по преимуществу, это собственно тело и занимает нас. То, что обычно называется телом, – не более как онтологическая поверхность; а за нею, по ту сторону этой оболочки лежит мистическая глубина нашего существа. Ведь и вообще все то, что мы называем «внешней природой», вся «эмпирическая действительность», со включением сюда нашего «тела», это – только поверхность раздела двух глубин бытия: глубины «Я» и глубины «не-Я», и потому нельзя сказать, принадлежит ли наше «тело» к Я или к не-Я. 446
Что же можно сказать о строении истинного нашего тела? – Пусть намечающая очертания его оболочка, пусть «тело» эмпирии укажет его органы и особенности его строения.
Прежде всего замечается симметрия верхней и нижней части тела, – так называемая гомотипия «верхнего» и «нижнего» полюсов. Низ человека – как бы зеркальное отражение верха его. Органы, кости, мускульная, кровеносная и нервная система, даже болезни верхнего и нижнего полюса и действие медикаментов оказываются полярно сопряженными. 447 Но, раз так, то не означает ли это соответствие, что онтологическим средоточием тела служит не та или другая конечность, а – центр гомотипии, т. е. срединнаячасть человека. Какая? – Уже поверхностный взгляд указывает естественное расчленение человеческого тела на голову, грудь и живот, причем каждая из частей, взятая как целое, может быть принимаема за единый орган. В животе сосредоточиваются отправления питательные и воспроизводительные, в груди – чувствования и, наконец, в голове – жизнь сознания.
Нервная система, – это, в плоскости эмпирии, ближайшим образом наше тело, – нервная система имеет в этих трех органах свои центры и, насколько можно догадываться при современном состоянии знания, эти центры суть именно центры указанных выше деятельностей. 448 Но дело – не в них, а в том, что жизнь каждого из органов, – головы, груди и живота, – соответственной тренировкой может быть углублена, и тогда человек бывает мистиком соответственного органа. Правильное развитие всех органов, под главенством того, с которым по преимуществу связана человеческая личность, т. е. груди, – такова мистика нормальная, и она достигается не иначе, как в благодатной среде церковности. Всякая же иная мистика, хотя и дает углубление, однако нарушает равновесие личности, ибо, не способное питаться благодатью, зерно души, проростая не в недра Пресвятой Троицы, а куда-то вбок, засыхает и гибнет. Такова мистика живота, т. е. мистика оргиастических культов древности и современности и отчасти – католицизма; такова же и мистика головы, или йога, распространенная в странах Восточных, особенно в Индии, и внесенная в европейский мир оккультистами разных толков и, в особенности, теософами.
Только мистика средоточия человеческого существа, мистика первым делом открывающая доступ в человека благодати, питающей недра его, только эта мистика исправляет личность и дает ей возрастать от меры в меру. Всякая же иная мистика необходимо увеличивает и без того нарушенное равновесие жизни и в конец извращает естество греховного человека.
В том-то и опасность «пре́лести» или ложной мистики, что, чем более и чем добросовестнее старается работать над собою впавший в нее человек, тем хуже для него, и только сквернейшее падение может заставить его опомниться и начать разрушать то, что он столь старательно строил. Подобно тому, как путник, направившийся по ошибочной дороге, чем более будет спешить, тем далее уйдет от своей цели, так же точно и подвижник, ушедший с пути церковности, погибнет от своего же подвижничества. Недаром же старцы духовные предупреждают новоначальных: «Не бойся никакого греха, не бойся даже блуда, ничего не бойся; но бойся молитвы и подвигов».
Итак, мистика церковная есть мистика груди. Но центром груди издревле считалось сердце, по крайней мере орган, называвшийся этим именем. Если грудь – средоточие тела, то сердце – средоточие груди. И к сердцу издревле обращалось все внимание церковной мистики.
«Кто читает с надлежащим вниманием слово Божие» – так начинает свою знаменитую статью о сердце П. Д. Юркевич, 449 – тот легко может заметить, что во всех священных книгах и у всех богодухновенных писателей сердце человеческое рассматривается, как средоточие всей телесной и духовной жизни человека, как существеннейший орган и ближайшее седалище всех сил, отправлений, движений, желаний, чувствований и мыслей человека со всеми их направлениями и оттенками». Нельзя, вместе с некоторыми, видеть в текстах, упоминающих слово сердце, «случайный образ слово-выражения, которым будто не управляла определенная мысль». Сердце – не аллегория, а тавтегория. 450 «Простое чтение священных текстов, если только мы не будем их перетолковывать по предзанятым идеям, убеждает нас непосредственно, что священные писатели определенно и с полным сознанием истины признавали сердце средоточием всех явлений человеческой телесной и духовной жизни». 451 «Священные писатели знали о высоком значении головы в духовной жизни человека; тем не менее, повторяем, средоточие этой жизни видели в сердце. Голова была для них как бы видимою вершиною той жизни, которая первоначально и непосредственно коренится в сердце 452». Священное Писание дает «совершенно определенную мысль, что голова имеет значение органа посредствующего между целостным существом души и теми влияниями, какие оно испытывает совне или свыше, и что при этом ей приличествует достоинство правительственное в целостной системе душевных действий» 453.
Отсюда понятно, что задача подвижнической жизни, – целомудрие, – определяется как чистота сердца. « Сердце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (Пс.50:12) – воззвал Псалмопевец, и, вслед за ним, взывает всякий верующий. Но, по свойству еврейского параллелизма, вторая половина прошения есть синонимическое усиление первой: «обнови» – это то же, что «созижди», и «в утробе моей» – то же, что «во мне», «прав» – то же, что «чисто», и «дух» – то же, что «сердце». Полученные выводы подтверждаются и лингвистикою. Сердце – это очаг духовной жизни нашей, и одухотвориться – это значит не иное что, как «устроить», как «ублагоустроить», как «уцеломудрить» свое сердце.
В индоевропейских языках 454 слова, выражающие понятие «сердце»,указуют самым корнем своим на понятие центральности, серединности. Как русское сердце, так и сокоренные ему: белорусское сердце, малорусскоесердце, чешское srdce, польскоеserce, sierce и т. п., – форма уменьшительная, – от существительного сердо. Корень слова сердо образует слова: старославянское средо, древнерусские: серед и середь – середина, середе – посреди (предлог и наречие), русские: середа, среда, середина, середний, средство, по-средник, сердц-е-в-ин-а и др., и все они выражают идею нахождения или действования «внутри», «между», в противоположность нахождению «вне», «за пределами» известной области. Сердце, таким образом, обозначает собою нечто центральное, нечто внутреннее, нечто среднее, – орган, который является сердцевиною живого существа, как по своему месту, так и по своей деятельности. Эта этимология объясняет словоупотребление 455 «сердце» в значениях, не имеющих ничего общего ни с анатомическим, ни с нравственным или психологическим его смыслом. «Народ нередко сердцем зовет ложечку, подложечку, подгрудную впадину, повыше желудка, где брюшной мозг, большое сплетение нервов». 456 По-видимому и Библии и древней письменности разных народов тоже свойственно такое словоупотребление, и смысл его углубляется, если вспомнить, что находящееся под ложечкой солнечное сплетение симпатической нервной системы оккультистами признается за нервный центр мистической деятельности, 457 a физиологами-позитивистами безусловно признано за центр разных органических функций, вроде секреторной и т. д. 458
«Сердце» принимает иногда значение: «нутро, недро, утроба, средоточие, нутровая средина», так что говорится «сердце земли», вместо нутро земли, «сердце дерева» (ср. французское cœur d’un arbre) и «сердце пера» – в смысле «средины толщи» их. Подобным же образом можно слышать выражения: «сердечко яблока», т. е. гнездо, семена вместе с кожухом; « сердцевинадерева», т. е. срединная мякоть в дереве, проходящая как бы жилою от корня, до самой вершины; «сердцевина камня», ядро где оно есть, особого вида или состава камень внутри другого; «соляная сердцевина» в горной соли (Илецк), чистые гранки, прозрачные как стекло, лежат гнездами; кремневый голыш в меловой толще, или, на казанском наречии, сердце. Поэтому же сердечником называется всякий стержень, влагаемый в ствол, в дыру; болт, пропускаемый сквозь переднюю подушку и ось повозки, на котором ворочается передок; шворень, штыр, курок; железный стержень с шаром, для образования пустоты, при отливке пустотелых артиллерийских снарядов; или, еще, мягкое железо, образующее электромагнит и помещаемое внутри намотки, например, в динамо-машинах, «сердечник электромагнитов» или «сердечник барабана».
Обратимся теперь к языкам семитским, преимущественно к еврейскому.В русском переводе Библии словом «сердце» передается понятие, выражаемое по-еврейски словом לֵב libb, соответствующим ассирийскомуlibbu, арамейскому לבִָא; эфиопскому

, арабскому лубб и т. д., или словом לבִָב libab, а в арамейском לבִָב 459.
Слова эти происходят от √לבב. Но глагол לבַָב, встречаясь лишь в формах нифаль и ниель, в форме каль не употребляется, так что об основном значении √לבב можно лишь строить догадки. 460 Правда, высказывавшиеся предположения не исключают друг друга и могут быть объединены. Это объединение происходит наиболее естественно, если в основу положить гипотезу Фюрста, 461 к тому же более вероятную, ибо она находит себе параллель в этимологии индоевропейских слов, означающих «сердце».
По мнению Фюрста, глагол לבַָב имеет первым своим значением, переходным: укутывать, завертывать, обвертывать, обвивать, покрывать, а вторым, переходным: пылать, гореть, тлеть, быть накаленным.Переходное значение доказывается параллелями: арабского языка: йапавапокрывать, – отсюда йапав кожа, мех, щит; паффа convolvit, свернул, – глагол равносильный еврейскому לףַָ завертывать; Сирскими: паф, прикрывать, откуда епибе’ веки (глаз), т. е. кожи, покровы и др. Отсюда понятно, что глагол לבַב действительно мог бы означать pinguis fuit, был жирен, как указывает Гезений, 462 ибо быть жирным и значит быть окруженным,быть, как бы, укутанным жиром. Точно так же понятно и то, что рассматриваемый глагол мог бы иметь значения «держания на чем-нибудь, крепкого приставания к чему-нибудь, прицепления вьющегося растения к деревьям», – откуда затем «обворачиваться, обвиваться». 463
Слово לב происходит именно от этого, переходного, значения глагола לבַָב, так что означает собою нечто покрытое, окруженное органами и частями тела и, потому, сокрытое в глубине тела и, значит, центральное, центр тела, серединный орган тела. Сюда же примыкают и другие объяснения. Сердце – «жирное», в том смысле, что оно окружено толщами тела. Сердце – «обвитое», опять-таки в том значении, что оно – «внутренность, грудью и т. д. сокрытая, как бы завернутая». Поэтому арабское слово лубб говорится об, укутанном скорлупою или мякотью, ореховом или миндальном ядре; арабское ’пубуб зерно плода (ср. наше «халва», сладость из толченых ореховых ядер 464), пабаб и паббаг – грудная клетка (Brustknöchen). Следовательно, еврейскоеלב, арабское лубб и т. д. означают внутреннейшую точку, как «твердую» точку, как «ядровую» точку.
Этою этимологиею слова לב хорошо объясняется, почему Св. Писание говорит иногда о «сердце», т. е. о средоточии, о центральных по значению или по положению пункте или области неодушевленных существ мира, – о «сердце неба»: הַשָׁמים עדלֵב до глуби небес (Втор.4:11); о «сердце моря»: ־יַמִים בלְבַב ты ввел меня в пучину, в сердце моря: (Исх.15:8, «песнь Моисея»); «огустели пучины в сердце моря – בלב־יָם» (Ион. 2:4) и, как отражение гебраистического образа выражения у Мф.12:40 о «сердце земли»; הָאֵלָה בלְב «в середину дуба» или, точнее, – в ветвях, в чаще ветвей теревинфа (2Сам.18:14).
Очищение сердца дает общение с Богом, а общение с Богом выпрямляет и устрояет всю личность подвижника. Как бы растекаясь по всей личности и проницая ее, свет Божественной любви освящает и границу личности, тело, и отсюда излучается во внешнюю для личности природу. Чрез корень, которым духовная личность уходит в небеса, благодать освящает и все окружающее подвижника и вливается в недра всей твари. Тело, эта общая граница человека и прочей твари, соединяет их воедино. Поэтому, если отпавший от Бога человек увлек за собою всю тварь и, извратив свое естество, извратил и чин всей природы, то, восстановляемый Богом, он вносит первозданный лад и строй в тварь, которая совокупно «стенает и мучится доныне» (Рим.8:22) и «с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим.8:19). Человек связан своим телом со всею плотию мира, и связь эта так тесна, что судьба человека и судьба всей твари неразрывны.
Самый завет Божий заключен был Богом ведь не с человеком только, а со всею тварью. 465 В завете Бога с Ноем (Быт.9) со всею возможною определенностью многократно повторяется эта мысль.
8. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним так:
9. «Вот, Я поставляю завет Мой, – בְרִיתִי ־ את ’эт-берити, – с вами и с потомством вашим после вас.
10. « И со всякою душею живою, которая с вами, с птицами, со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, от всех вышедших из ковчега до всех животных земных;
11. «Я поставляю завет Мой, – ’эт-берити, – с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли».
12. И сказал Бог: «Вот знамение завета – הַבְרִית אוׄת זאת зот ’от габберит, – который я поставляю между Мною, и между вами, и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда:
13. «Радугу Мою полагаю на облаке, чтобы она была знамением заветамежду Мною и между землею.
14. «И будет, когда Я наведу облако на землю: то явится радуга в облаке.
15. «И Я вспомню завет Мой, – эт-берити, – который между Мною и между вами, и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.
16. «И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню, завет вечный, – עוׄלָם בְרִית берит‘олам, – между Богом и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле».
17. И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета, – берит, – который Я поставил между Мною и между всякою плотию, которая на земле»».
Тут замечательно совершенное тождество формулы Божьего завета с человечеством и с прочею тварью 466. Это – не два различных завета, это один завет со всем миром, рассматриваемым как единое существо, возглавляемое человеком. Самое слово «завет» – ברית берит, – неоднократно повторяемое в этих десяти стихах, встречается в Библии еще в тех местах, где говорится о завете Бога с человеком. 467
Если извращение человеческой природы влечет за собою извращение всей твари, а устроение человека – устроение и твари, то у нас рождается вопрос о конкретных чертах этой оцеломудренной твари, т. е. тех начатков райского состояния, которых достигает подвижник уже теперь, в этой жизни, до всеобщего изменения мира. Но, чтобы отчетливее уразуметь сущность этого земного рая подвижников, этой мистики сердца, должно припомнить, что извращение, даваемое ложною мистикою, смещение центра существования человеческого может быть двоякого типа. Либо это – мистика головы, мистическое переразвитие ума, питаемого не благодатью от сердца, а питающегося самостоятельно, гордостью бесовскою, и лжеименным знанием пытающегося охватить все тайны земли и неба; либо, наоборот, это – мистическое переразвитие органической жизни, мистика чрева, опять-таки получающего источники жизни не от источающего духовность сердца, а от бесов, нечистотою. И там и тут личность не является цельною, но – раздробленною и извращенною, без центра. Воздержанием горделивого ума отличается подвижник от мистиков первого типа; обузданием похотливого чрева – от мистиков типа последнего. Все, чем живет подвижник, возникает у него не самопроизвольно в том или другом отдельном органе, а в живом средоточии его существа, в сердце, и возникает здесь под благодатным воздействием Духа Утешителя. Возникшее же в средоточии всего существа, очищенном благодатью, жизненное движение естественно, (– а не противоестественно, как у лжемистиков –) распространяется по органам жизнедеятельности, и потому все они действуют согласно и сообразно друг другу. 468
Он существенно связан со всею тварью и не чуждается ничего, свойственного твари; но у него, в его ощущении твари, нет похоти. Он глубоко проникает в тайны неба и земли, и не лишен ведения их, но у него, в его познании тайн, нет горделивости. Дурная бесконечность необузданности, как в мире материальном, так и в мире интеллектуальном, безусловно изгнана из него, ибо она подсечена в самом корне своем, в сердце. У него нетленное тело и нетленный ум. И, мало того, даже недухоносные люди от подвижника получают силы для лучшего отношения к твари.
Одухотворенный подвижник как бы воспаряет над естеством. «Кто из людей сильных, – говорит Макарий Великий, 469 – или мудрых, или благоразумных, пребывая еще на земле, восходил на небо и там совершал дела духовные, созерцая красоты духа? А теперь кто-либо, по наружности нищий, нищий до крайности и униженный и даже вовсе незнаемый соседями, повергается ниц лицом своим пред Богом и, путеводимый Духом, восходит на небо и с несомненной уверенностью в душе наслаждается тамошними чудесами». А, по словам Никиты Стифата, 470«когда кто соделается причастным Духа Святого и силу Его познает из неизреченного некоего Его в себе действа и благоухания, которое ощутимо обнаружится даже и в теле, тогда в пределах естества пребывать таковой не может – не чувствует он ни голода, ни жажды, ни других нужд естества». Он преображается, и все свойства естества его меняются. «Имеющий благодать, – говорит преп. Макарий Великий, 471– имеет инойум, иной смысл, и иную мудрость, нежели какова мудрость мира сего». Он – во всем иной, он – инок. Самое иночество есть ничто иное, как духовность, и духовность не может не быть иночеством. И тут, для иноческого сознания иным делается и весь мир. Уходя от мирской жизни инок предается жизни мировой. «По внутреннему настроению души, – говорит Никита Стифат, 472 – изменяется естество вещей»; «кто достиг истинной молитвы и любви, – свидетельствует он же, 473 – тот не имеет различения вещей, не различает праведного от грешного, но всех равно любит и не осуждает, как и Бог сияет солнце и дождит на праведных и неправедных». Благословляя вселенную, подвижник всюду и всегда видит в вещах знамения Божии и Божии письмена; всякое творение для него – лествица, по которой ангелы Божии нисходят в земную юдоль; все дольнее – отображение горнего. Вся природа – «книга» для него, как сказал про себя преп. Антоний Великий. 474
Обратимся же к разъяснению, – на некоторых исторических примерах, – положений здесь высказанных.
Впрочем, я вовсе не льщу себя надеждою выяснить взаимно-отношение Вечной Истины и опытной данности, нас окружающей. Тут – такое обилие материала, что не знаю, как взяться за дело, какие типические образцы выбрать. Придется лишь набрасывать, слегка обрисовывать предмет отдельными черточками и точками. Но я и не гонюсь даже за приблизительною полнотою.
Начну прямо с некоторого положения, которое, вероятно, идет вразрез с современными взглядами, – особенно со взглядами мнящих себя защитниками религиозного значения твари. 475 А именно: только в христианстве тварь получила свое религиозное значение, только с христианством явилось место для «чувства природы», 476 для любви к человеку и для вытекающей отсюда науки о твари: «Новейшее естествознание, каким бы парадоксом это ни звучало, обязано своим происхождением христианству», – говорит Э. дю-Буа-Реймон. 477
« Все полно богов – πάντα πλήρη θεῶν εἶναι» 478 – таково основное положение язычества. Может показаться странным, но все-таки скажу, что это положение звучит безбожно и безмирно, атеистически и акосмически зараз: как говорит св. Афанасий Великий, 479 «многобожие есть безбожие, многоначалие – безначалие».
Все полно, богов. Но, во-первых, что же такое это «все» само о себе? Если взять тот предел, к которому стремилось вне-христианское мировоззрение; если взять речение в его тенденции, в его устремлении, – а лишь предел, лишь тенденция и есть в нем определенное, обсуждаемое, закрепляемое в слове, – то «все» – только феномен, – феномен, лишенный подлинной реальности. Оно – видимость, «кожа», по выражению Фр. Ницше. 480 Оно – прекрасная форма и только. Но в самом нем нет ничего, – лучше сказать, – у него нет «самого». Все – мыльный пузырь, разрешающийся в каплю грязной воды. Вне благодатного сознания нет постижения личности, а потому все полуреально и, при остром приглядывании, тает в ничто 481.
«Но, – говорят, – хотя оно не имеет ценности само о себе, хотя ценно в нем лишь наше эстетическое восприятие его, лишь голая субъективность, но зато в нем – бог». Да бог ли? А не притаившийся ли за прекрасною формою демон? Разве только позднейшая полемика с христианством – она одна – придала слову δαίμων его современный, отрицательный смысл? – Конечно нет.
Эти многочисленные демонические существа были для античного человечества прежде всего страшны, как и сейчас страшны и демоничны они для всякого безблагодатного сознания, во всякой вне-христианской религии, как страшны «духи» спиритов и тьмочисленные «божества» северного буддизма. Страх и трепет окружали человека; сами боги были демоничны, и связь с богами, re-ligio, сводилась в существе своем к δεισιδαιμονία, к бого- или, точнее, к демоно- боязненности и к вытекающим отсюда стремлениям магически заклясть недоброжелательного демона: 482 Timor fecit primos deos, и древний человек втайне чувствовал, что чтит не богов, а демонов. Как сейчас, так и всегда безблагодатная религия роковым образом перерождалась в темную магию. Это – бесспорное ощущение во всякой безблагодатной религии, и говорить «вообще о религии», как о чем-то однородном, может только тот, кто ни одной религии не переживал конкретно. Благодатная вера и безблагодатная религия, сколько бы общих черт в своем идейном содержании и своем культе они ни имели, в ощущениях, в устроениях души они до такой степени разнородны и непроницаемы друг для друга, что кажется даже нескладным называть ту и другую одним термином «религия».
Но если даже кто и не пережил этой качественной инородности безблагодатной религии, тот, хотя бы отвлеченно, должен признать демоничность безблагодатного человечества. Иначе не объяснить его – или открытой подавленности, или «трагического оптимизма». Ведь что такое этот «оптимизм», как ни натянутая (– «концами губ» –) улыбка раба, который боится показать своему властелину, что боится его, потому что это могло бы навлечь гнев, – боится самою своею боязнью вызвать гнев, – страшится страха своего. – Формы – прекрасны, но разве – тайна для древнего человека, что
«под ними Хаос шевелится»?
Лишь идея Судьбы, в сущности враждебной богам-демонам, мерцала, быть может, не то смутным воспоминанием утерянного, не то далеким предчувствием грядущего единобожия.
Скованный страхом, древний человек мог обратить все силы свои на «кожу» вещей и на ее воспроизведение. Характер древнего искусства показывает, что древний человек нисколько не любил «души» вещей и опасался проникать за очертания «кожи»: ведь, там находил он хаос и ужас. Не имея защиты, он обращается за помощью к одному из демонов же, а затем, от страха, старается «закутаться с головою в одеяло и уснуть». «Лучше не глядеть» – таков лозунг древней культуры, забывающейся в «оптимизме», – таком же оптимизме, как и оптимизм опиофага или гашишиста. Наука, при этом, возможна формальная: геометрия, отчасти астрономия и т. п. Но реальная наука невозможна, ибо как же изучать хаос, да и кто дерзнул бы проницать его пытливым взглядом? Смелость человека раздражает и беспокоит демонов, они не вверяются его любознательности и не любят, когда он старается открыть то, что они закрыли от его взоров златотканным покровом красоты. Даже независимый ум Аристотеля недалеко ушел от этой основной стихии древней религии: Любовь между богами и человеком, как между существами разнородными, невозможна, – утверждает Стагирит. 483 Любовь невозможна! – таково осознание своего бого-понимания у всей древности; и если впоследствии римская философия (Цицерон, Сенека и др.) пыталась говорить иное, то она, несомненно, сходила тем с античной религиозной почвы, изменяла духу и исконным началам древнего бого-представления. Весьма возможно, что, тут в ней начинает светиться свет с Востока.
Два чувства, две идеи, две предпосылки необходимы были для возможности возникновения науки: во-первых, чувство и идея, имеющие своим содержанием закономерное единство твари (в противоположность с капризным произволом демонов, наполняющих собою «все»); во-вторых, чувство и идея, утверждающие подлинную реальность твари, как таковой. Только они дали бы возможность безбоязненным, прямым взором проникать вглубь ее, доверчиво подходить вплотную к ней и радостно любить ее.
Необходимо было ввести в сознание, – богословски выражаясь, – два догмата, а именно: догмат о провидении Единого Бога и догмат о творении мира Благим Богом, т. е. о даровании твари собственного и самостоятельного бытия. Провидение Божие и свобода твари составляют, в своей антиномии, один догмат, – догмат о любви Божией к твари,имеющий свою основу в идее о Боге-Любви, т. е. о Триединстве Божества. Эта антиномия, во всей своей решительности, является основою современной науки; вне ее – нет науки. Таким образом, если ранее было показано, что догмат Троичности – исходное начало философии, то теперь открывается, что он служит правилом и для построения науки.
Обе идеи, лежащие в условиях существования науки, по преимуществу же первая, были в ветхозаветных книгах Библии.
«Монотеизм иудейской и христианской религии, – говорит Христофор Зигварт, 484 – создали благоприятную почву для идеи всеобъемлющей, исследующей общие законы мира науки. На самом деле, какую иную форму могла вначале принять идея, что небо и земля объемлются одною мыслью, что человек призван понять эту мысль, – как ни форму веры в Одного Творца, Который создал небо и землю, Который сотворил человека по Своему образу и подобию? В какой иной форме можно было высказать с большею рельефностью ту мысль, что ничто не случайно, и что вещи в мире не перекрещиваются по запутанным путям по воле слепого случая, – как ни в форме мысли о Провидении, помимо Которого даже волос не упадет с головы человеческой?»
Единство твари, – не стихийное единство безразличия, но органическое единство стройности, – таково предусловие науки. Это понято еврейскими истолкователями Слова Божия. «Знай, – говорит Маймонид в конце ХII-го века, – что вся вселенная, т. е. самая верхняя сфера со всем в ней заключающимся, есть ничто иное, как индивидуальное целое, подобное индивидам Симеону и Рувиму, и различие находящихся в ней существ подобно различию органов какого-либо индивида человеческого рода. И как Рувим, например, составляет отдельную личность, сложенную из различных частей, как то: из мышц, костей, кровеносных сосудов, различных органов, жидкостей и газов – так и вселенная состоит из сфер, четырех элементов и происходящих от них соединений». Далее Маймонид проводит в подробностях выставленную им аналогию микро- и макрокосма. «Таким образом, – подводит он итог своим рассуждениям, – должно представлять себе вселенную одним живым индивидом, движущимся посредством души, которая в нем заключается. Такое представление весьма важно; ибо, во-первых, оно ведет, как увидим ниже, к доказательству единства Бога; во-вторых, оно показывает нам, что Единый действительно создает единое». 485
Понятно, что такие взгляды на естество мира должны были благоприятствовать изучению природы; еврейские мыслители даже требуют его. На вопрос: «Обязаны ли мы познать единство Бога путем исследования» – рабби Бехай, живший в конце ХI-го и в начале ХII-го веков, отвечает: «Всякий кто способен к исследованию этого предмета, как и подобных ему умственных предметов, должен исследовать их, насколько позволяют ему это его познавательные силы. – Кто же уклоняется от этого, достоин порицания и считается в числе тех, которые нерадивы, как в учении, так и в деле. – Сущность этого исследования состоит во вникновении в признаки премудрости Творца, обнаруживающейся в Его творениях, – и взвешивание их в душе, сообразно познавательным силам исследующего. Ибо если бы признаки премудрости выражались одинаково во всех творениях, то они были бы ясны для всех и каждого, и мыслящий и невежественный были бы равны в познании их; но премудрость, будучи в основе и принципе одна и та же, различно выражается в различных творениях, подобно тому, как лучи солнца, которые по существу своему суть одно и то же, получают различные цвета в различных стеклах, и как вода получает различные цвета от различного цвета содержащихся в ней растений. Вот почему мы должны исследовать создания Творца с малого до великого для того, – чтобы открывать в них те признаки премудрости, которые скрываются в них. Вот почему мы должны вникать в них и размышлять над ними для получения более или менее ясного понятия о них». 486
Если бы вселенная была однообразна, то это указывало бы, по мнению р. Бехая, на механический и несвободный характер произведшей его причины. Напротив, многообразие вселенной, заключенное в единство, указывает на единую, свободную, творческую Волю. Но если в свойствах вселенной отражаются свойства Божии, то « исследование творения, как единственный путь к познанию премудрости Творца, предписывается нам разумом, писанием и преданием. Разумом, – потому что он убеждает нас, что превосходство человека над другими животными состоит в дарованной ему Богом способности познать, уразуметь и восприять те признаки божественной мудрости, которые таятся в целомвселенной. На это указывает сказанное: «Научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных» (Иов.33:11). Поэтому, если человек вникает в принципы божественной премудрости и исследует признаки последней, то его превосходство над животным будет в той мере, в какой он осуществляет данную ему возможность познавания. Если же он уклоняется от исследования их, то он не только не выше скота, но и гораздо ниже его, как сказано: «Вол знает своего хозяина, осел – корыто своего господина; но Израиль не знает, народ мой не вникает» (Ис.1:3).
«Что это предписывается нам Св. Писанием, – по мнению р. Бехая, – это ясно видно из сказанного: «Подымайте к небу глаза ваши и смотрите, кто сотворил все это» (Ис.40:26); «Когда взираю на небеса Твои, дело перстов твоих, на луну и звезды, которые ты поставил» (Пс. 8:4). «Вы должны знать, вы должны уразуметь то, что с начала вам возвещено было» (Ис.40:21). «Глухие вслушивайтесь и слепые всматривайтесь» (Ис.42:18). «У мудреца глаза его в главе его, а глупые ходят в темноте…» (Еккл.2:14)». 487
Затем р. Бехай ссылается еще на талмудический трактат Саббат, 488 в котором сказано: «Кто способен делать вычисления над движением звезд и не делает их, об этом Писание говорит: «У них только что псалтири, гусли, тимпаны, флейта и вино для пира; но творений Божиих они не наблюдают и дел рук его не рассматривают» (Ис.5:12). Человек даже обязан «вычислять движение небесных светил», говорит р. Бехай, ссылаясь на Втор.4:6. «Таким образом, – заключает он, – достаточно доказана обязанность наша исследовать творения для того, чтобы из признаков проявляющейся в них премудрости вывести доказательства бытия Бога и других принципов религии».
Итак, выдающиеся представители монотеистического Богопонимания видят в монотеизме условие возможности науки, а в занятиях наукою – необходимое выражение и проявление своих убеждений. «Напротив, при господстве политеизма невозможно возникновение науки», 489 ибо «политеизм предрасполагает человека к разъединению и изолированию явлений, обращает в другую сторону движение его мысли и задерживает развитие знания». 490 «В странах, где господствует политеизм, могут по временам являться великие люди, которые помощью мощного взлета их ума, освободившись от политеистических понятий своей страны, открывают в большей или меньшей мере правильность и единство явлений природы; но их понятия и взгляды не могут утвердиться; они остаются без всякого действия на умы, а вследствие того они не оказывают никакого влияния на развитие знания. Это потому, что в политеистических странах направление умов совершенно противоположно направлению науки. Политеизм стремится к разъединению и разобщению мировых явлений, наука же, напротив, стремится к объединению и обобщению их. Политеизм направляет умы к тому, чтобы приписывать каждое явление особенной причине; наука же научает их сводить множество явлений к одной и той же причине. Но монотеизм, научая людей, что все происходящее в мире имеет своим началом единое верховное существо, должен, как выше показано, неминуемо вести к науке». 491
В подтверждение того, что без монотеизма нет и науки, указывается пять разрядов фактов, а именно:
1°, «что ни у одного народа не встречается развития знания при исповедании им многобожия»;
2°, «что в древней языческой Греции не было ничего подобного тому, что мы называем развитием знания»; философские же идеи не производили воздействия на народ;
3°, «что лишь только арабы приняли Ислам, лишь только утвердился монотеизм, как овладело ими стремление к знанию и вскоре сделались просвещеннейшим народом тогдашнего мира»;
4°, «что рассеянные по всему лицу земли и претерпевая всевозможные бедствия и гонения, евреи однако ж везде и всегда обнаруживали стремление к знанию…»;
5°, «что в Европе, где с введением христианства утвердился монотеизм, – началось умственное движение…». 492
Античная мысль в той лишь мере подходила к основанию науки, поскольку делалась «атеистичной», – как говорили тогда, – т. е. Поскольку свергала с себя иго демоно-боязненности и предчувствовала монотеизм; 493 цепь преемственно наследовавших философский престол умов Анаксагора, Сократа, Платона и Аристотеля близилась к науке по мере постижения единобожия. Но нить научности после Аристотеля утончилась, потому что начались движения в сторону пан- и политеизма. Примечательно также, что вольнодумная школа Эпикура, как и вообще вольнодумцы всех эпох и наций, не выдвинула в области науки никаких творческих начал, и, если Лукреций Кар с пафосом утверждает про Эпикура, будто он «potuit rerum cognoscere causas 494», то это, – конечно, лишь высокопарная риторика атеизма: у Эпикура менее, нежели у кого-нибудь, можно усмотреть естественнонаучное познание. – Цвет греческой науки – Аристотель. Он скончался в 322 г. до Р. X., но за 300 лет от его смерти естествознание сделало слишком немного, если не брать в расчет чисто формальных или описательных исследований, вроде геометрии и астрономии. 495 Почему? – Потому что в духовном климате античности были препятствующие силы.
«С полным основанием можно сказать, что у греков и римлян не было естествознания, – говорит автор, на которого я уже ссылался. 496 – Несмотря на свое с виду много-обещавшее начало, оно оказалось неспособным к дальнейшему развитию. Правда, в течение тысячелетия, отделяющего Фалеса и Пифагора от гибели западной римской империи, отдельные мыслители обнаруживают необычайную глубину. Аристотель и Архимед бесспорно принадлежат к величайшим учителям человечества. Также александрийская школа одно время, казалось, обеспечила непрестанный прогресс в области естественно-исторической науки. Но ничто лучше не указывает на остановку у древних изучения природы, как тот простой факт, что через четыреста лет после Аристотеля – промежуток, равный периоду времени между Роджером Бэконом и Ньютоном – мог появиться Плиний, этот собиратель критически не проверенных сведений. Это – то же самое, как если бы поменялись своими местами Геродот и Тацит».
Я знаю, ты спросишь меня: «Но почему перво-христиане сами не создали науки?» – Потому, что им было не до того – как и вообще, вероятно, не до науки христианину, всецело отдавшемуся подвигу, хотя только он обладает нужными для истинной науки задатками. А в дальнейшем этому развитию христианской науки мешали чисто исторические причины, – те самые, которые вообще, при всяких верованиях, не давали развиться науке. Но, кроме того, первоначальное христианство, высокое и чистое, было все же слишком бедно словами в сравнении с тем, чем владели подвижники. В раннейшей Церкви люди еще не имели времени одуматься и расчленить свои переживания; да и слишком быстрым бегом бежала жизнь, чтобы заниматься наукой, слишком эсхатологическим было жизне-чувствие, чтобы заниматься, преходящим и готовым вот-вот подтаять и рухнуть образом мира сего. Но идея Промысла, как непосредственного управления Божия мировою жизнью, уже тут была жива и ярка; подобно Творцу 103-го псалма, древние христиане с благоговейною радостью созерцали единство и гармоническую закономерность мира: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих» – эта музыкальная тема проникает все настроение перво-христиан. Послушай, разве не пышным развитием этой темы являются слова св. Климента Римского. 497
«– посмотрим пристально на Отца и Создателя всего мира и вникнем в Его величественные и превосходные дары мира и в благодеяния. Воззрим на Него умом и вглядимся очами души в долготерпеливую Его волю: помыслим, как Он кроток ко всему творению Своему. Небеса, по распоряжению Его колеблемые, в мире повинуются ему. И день и ночь совершают назначенный им бег, ни в чем не мешая друг другу. Солнце и луна, как и хороводы звезд, по постановлению Его, в единомыслии, без какого-нибудь нарушения, обращаются в назначенных им пределах. Земля беременеющая, – κυοφοροῦσα, – по воле Его, в особые сроки производит все-изобильную пищу людям и зверям, и всему живущему на ней, не замедляя и не изменяя ничего из решенного Им. Бездн неисследимые и преисподних неисповедимые решения сдерживаются теми же самыми велениями. Выпуклость – κύτος – беспредельного моря, по устроению Его соединенная в собрания, не преступает положенных на нее кругом преград, но, как определено ей, так и поступает. Сказал ведь Он: «Доселе дойдешь, и волны твои в тебе сокрушатся» (Иов.37:2). Океан, непроходимый для людей, и миры, за ним находящиеся, 498 теми же самыми постановлениями Господа уравновешиваются. Времена весенние, летние, осенние и зимние в мире сменяются одни другими. Чреды ветров, каждая в свое время, ненарушимо совершают свое служение. Не иссякающие источники, для пользования и здоровья устроенные, без недостатка дают груди для жизни людям. Наконец, малейшие из живых существ сожительства свои образуют в единомыслии и мире. Всему этому повелел быть в мире и единомыслии Великий Создатель и Владыка всего, благотворящий всем, преимущественно же нам, прибегшим к милосердию Его чрез Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и величие во веки веков. Аминь».
Да, это – развитие древней библейской темы; но сколько тут новых углублений. Там внимание обращается к эффектному природы, к тому, что кажется нарушающим нормальный ее ход и что в популярных книжках называется «чудесами природы»; тут, напротив, – к закономерности в повседневном, к универсальности Логоса. Там поражало бурное; тут влечет к себе тихое. Там в шумном вдохновении восхвалялась мощь и сила Божия; тутв тихих гимнах прославляется Его кротость и терпение. Там природа возникала и таяла по мановению Творца Своего; тут она подлежит своим, от Создателя и Отца данным законам, общим для всей вселенной и даже для неведомых заокеанских миров. 499 Одним словом, внимание перешло от стихийной силы к разумной закономерности природы. Восприятие природы стало более внутренним, искренним и проникновенным.
И чем далее, тем глубже постигается внутренняя сторона природы. Знаменитый « Гимн Христу Спасителю» Климента Александрийского, посвященный, впрочем, человечеству, а не природе, дышит новым представлением о твари, – спокойною и непоколебимою уверенностью в том, что без воли Божией и волос с головы не падает. Вот этот гимн: 500
«Неукротимых онагров Смиритель,
Крыло птенцов летающих верно,
Непоколебимое Кормило юношей,
Пастырь агнцев царственных!
Твоих невинных
детей собери
свято славить,
искренно петь
устами чистыми
Тебя, Вождь детей, – Христа!
Царь Святых,
Державный Слове,
Отца превышнего
Податель мудрости.
Крепость страждущих,
Владыка вечности,
Рода смертного
Спаситель Иисусе!
Пастырь и Делатель,
Кормило, Узда,
Небесное Крило,
Стада Святого!
Ловец человеков,
Тобою спасаемых,
в волнах неприязненных
моря нечестия
рыб чистых
сладкой пищей уловляющий!
Веди нас, Пастырь,
разумных овец!
Веди нас, Святый,
Царь детей непорочных!
Веди по стезе Христовой.
Ты Путь небесный,
Слово превечное,
Век беспредельный,
Свет превечный,
Источник милости,
Правитель добродетели,
Жизнь непорочная
певцов Божиих – Христе Иисусе!
Небесное млеко
из сладких сосцов,
Девы благодатной –
Мудрости Твоей источенное!
Мы, Твои дети,
нежными устами вскормленные,
нежным дыханием
Материнской груди.
исполненные,
песни простые,
гимны невинные
Христу-Царю
в награду святую
за учение жизни
поем все купно.
Поем просто,
Отрока державного.
Вы, лик мира,
дети Христовы,
люди святые,
пойте все купно Бога мира!»
Этот круг монотеистических мыслей о Провидении и о закономерности твари повторяется во всей дальнейшей святоотеческой письменности, но, главным образом, с оттенком апологетическим, т. е. для «внешних», для «чужих». Когда же она обращается к «своим», к тесному, задушевному кружку, пред которым можно открывать всю душу, тогда она делается любовною не только в отношении к Творцу и Создателю, но и к самой твари. Бесконечная остраяжалость и трепет благоговейной любви ко всему «первородному Адаму» жалит сердце подвижника, лишь только он очистил его от коры греха. Когда грязь омыта с души продолжительным подвигом, долгим отрешением, длительным «вниманием себе», тогда, пред обновленным и духоносным сознанием, является тварь Божия как самобытное и страждущее, прекрасное и загрязненное существо, как блудное детище Божие. Только христианство породило невиданную ранее влюбленность в тварь и нанесло сердцу рану влюбленной жалости о всем сущем. «Чувство природы», – если разуметь под ним отношение к самой твари, а не к ее формам, если видеть в нем нечто большее, нежели внешнее, субъективно-эстетическое любование «красотами природы», – это чувство всецело христианское и вне христианства решительно немыслимое, 501 ибо оно предполагает чувство реальности твари. Но это чувство природы рождалось и рождается не в душе «умеренных», протестантствующих и всячески рационализирующих омиусиан, потворствующих рассудку, а у аскетов и обуздателей рассудка и строгих подвижников, у совершителей подвига, – у приверженцев омоусии.
Это отношение к твари стало мыслимо лишь тогда, когда люди увидели в твари не простую скорлупу демонов, не какую-нибудь эманацию Божества и не призрачное явление Его, подобное явлению радуги в брызгах воды, а само-стоятельное, само-законное и само-ответственное творение Божие, возлюбленное Богом и способное отвечать на любовь Его. Напротив, все другие представления, как будто возвышающие тварь, на деле обращают ее в ничто: ее само-стоятельность, ее собственное бытие и, следовательно, ее свободная само-определяемость есть пустая мнимость. Тварь, как таковая, – решительное ничто, и реальны лишь демоны, или «субстанция», лежащая в основе этого ничто, – субстанция неведомая и неумолимая; но и демоны и субстанция, не имея в себе само-обоснования троичной любви, не безусловны и потому, опять-таки, мнимы. Всякое мировоззрение вне христианства, в своей глубочайшей сущности, и акосмично и атеистично: для него нет ни Бога, ни мира.
«Бог не может перестать быть Богом, как треугольник не может сделать, чтобы сумма его углов не равнялась двум прямым»; 502 божественный эгоизм – вот что превращало Бога в демона. Напротив, христианская идея о Боге, как о Существенной Любви, как о Любви внутри Себя, а потому – также вне Себя; идея о смирении Божием, о самоуничижении Божием, проявляющемся сперва в творении мира, т. е. в поставлении рядом с Собою самостоятельного бытия, в даровании ему свободы развиваться по собственным своим законам и, следовательно, в добровольном ограничении Самого Себя; идея о смирении Божием, о самоумалении Божием, – эта идея, говорю я, впервые дала почву для признания твари самостоятельною и потому нравственно ответственною за себя пред Богом. В древнем мире не могло быть идеи о нравственной ответственности твари пред Богом, потому что не было идеи о свободе твари. Христос довел идею о смирении Божием до последнего предела: Бог, вступая в мир, отлагает образ славы Своей и принимает образ Своей твари (Флп.2:6–8), подчиняется законам тварной жизни, 503 – не нарушает мирового хода, не поражает мира молнией и не оглушает его громом, – как это мыслили язычники (– вспомнить хотя бы миф о Зевсе и Семеле –), а только теплится пред ним кротким светом, привлекая к себе грешную и намаявшуюся тварь Свою, – образумляя, но не карая ее. Бог любит тварь Свою и мучается за нее, мучается грехом ее. Бог простирает руки к твари Своей, просит ее, призывает ее, ожидает к Себе блудного сына Своего. А возглавляющее тварь человечество ответственно пред Богом за нее, равно как и человек ответственен за человека.
Конечно, тут неточно выражена догматическая идея: но это сделано преднамеренно, потому что в более грубой, а потому – наглядной, обрисовке представляет переживания.
Чаяние спасения и обновления для твари, мучительное чувство свободной ответственности за тварь, острая жалость к ней, глубокое сознание бессилия своего, – бессилия от греха и нечистоты, – пронзительно, до сокровенного источника слез, вторгаются в душу подвижника. Мы – искупленные, мы – все получившие от Бога и мы – зарытые во грехе часто даже не видим мира сквозь этот грех, хотя «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную; ибо не послал Бог сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин.3:16–17); – хотя Христос, в самый торжественный момент Своей земной жизни велел ученикам Своим «идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари – πάσῃ τῇ κτίσει» (Мк.16:15); – хотя есть у нас «надежда благовествования, которое возвещено во всей твари поднебесной – ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν» (Кол.1:23); – хотя « тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, – потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, – в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но мы сами, имея печать Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим.8:19–23).
«Любовь к природе… А аскетизм, а бегство от природы?» слышишь возражения людей светских. В ответ заранее утверждаю, что в светской литературе дух христианского подвижничества доселе решительно не понят, и то, что говорится о нем, говорится внешне и голословно. Слова светских писателей о духовном упражнении, в громадном большинстве случаев, – «жалкие» слова, отчасти, впрочем, вызванные неумелостью их церковных противников, а отчасти – невозможностью говорить об аскетическом опыте вне самого опыта. Отсюда происходит, что обычно не видят существенного отличия христианского подвижничества от подвижничества прочих религий, особенно индусской. Конечно, нетрудно «доказать» тождество той и другой, сопоставив несколько отдельных слов и несколько вырванных изречений. Но кто проник во внутреннюю суть того и другого подвижничества, тот скажет, что нет ничего более противоположного, нежели они. То подвижничество – бегство, это – уловка; то – уныло, это – радостно. То основывается на худой вести о зле, царящем над миром; это – на благой вести о победе, победившей зло мира. То дает превосходство, это – святость. То исходит от человека, это – от Бога. То гнушается тварью, хотя невольно тянется ко злу ее, добиваясь магических сил над нею; это – влюблено в тварь, хотя ненавидит грех, съедающий ее, и подвижнику не надо магических сил, потому что облагодатствованная тварь снимет ярмо гетерономии греха и сможет жить сама собою, по извечно-данному ей образу бытия. Для того подвижничества – все призрачно и только снаружи кажется прекрасным, внутри же мерзко и полно гнили; для этого – все полно реальности, и видимая красота есть «уметы» и тлен пред тем, что скрывается в тайниках бого-зданной твари. Для того подвижничества тварь рабски привязана к своей причине; для этого – она свободно самоопределяется в отношении к Творцу и Отцу. Для того подвижничества смерть есть конститутивный элемент тварной жизни; для этого – она безумное, случайное явление, в корне уже подсеченное Христом. Тот подвижник уходит, чтобы уходить, прячется; этот – уходит, чтобы стать чистым, побеждает. Тот закрывает глаза на тварь; этот старается осветлить их, чтобы смотреть яснее. Нет ничего противоположнее, как тот и другой вид подвижничества. Отчаяние и торжество, уныние и радость – таково уже начальное различие. 504
Но тем ярче проступают эти своеобразные элементы христианского отношения к твари вообще и в частности к человеку, чем глубже подвиг. Христианин не признающий подвига до конца, не воспитавший себя трудами; христианин, продолжающий оставаться «от мира»; 505 христианин не способный и не ищущий быть «превыше мирского слития», 506 – таковой может хулить тварь Божию, брезгливо морщиться на то или другое естественное явление тварной жизни и гнушаться им. Посмотри, кто как ни интеллигенция гнушается браком? Разве «Крейцерова соната» Л. Толстого, – это типично-интеллигентское произведение, – не есть одновременно и грязь и кощунство? Разве снисходительно-брезгливое и, в сущности, грязно-гадливое покивание в сторону тела со стороны людей «научного» мировоззрения не отрицает этого самого тела в его таинственной глубине, в его мистическом корне. Аскетизм не признается потому, что не признается идейная суть его, – идея обожения, 507 идея, – осмелюсь употребить поврежденное еретиками речение, – идея святого тела.
Интеллигенты упрекают церковное жизнепонимание в метафизическом дуализме, а сами не замечают, что ложь дуализма сваливают с себя на Церковь. 508 Между тем, святоотеческое богословие в высшей степени определенно раскрывает ту истину, что вечная жизнь – жизнь не души только, но вместе и тела; так, по св. Григорию Нисскому, ἡ ζωὴ αὐτῇ οὐ τῆς ψυχῆς ἐστι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ σῶματος. 509 Не только «душа христианина» становится «причастною божеского естества – κοινωνὸς θείας φύσεως γένηται, 510 но – и тело; человек соединяется с Богом духовно и телесно. Как говорит Симеон Новый Богослов, «homo Deo spiritualiter corporaliterque unitur». 511 И т. д. Очищение сердца открывает взор на горний мир и, тем, устраивает всего человека. Освящается душа, освящается и тело; святой душе сопряжено и святое тело.
Столпы церковного жизнепонимания – святой Ириней Лионский, святой Мефодий Патарский, святой Афанасий Великий, святой Иоанн Златоуст и сонмы других выражают эту идею до такой степени ясно и стоят на ней до такой степени твердо, что читатель, смотрящий на подвижничество глазами светских писателей, говорящих о подвижничестве или по невежеству, или по злому умыслу против св. Церкви, – всякий такой не может не быть ошеломлен.
Идея святого тела…
Ей служат посты; и по той самой внутренней причине, по которой отвергаются посты, интеллигенция стыдится еды. Это искренне, – в том-то и ужас, что искренне. Ни есть, ни, тем более, вкушать интеллигент не умеет, – не знает даже, что значит вкушать, что значит священная еда: не «вкушают» дар Божий, ни даже «едят» пищу, а «лопают» химические вещества. Совершается лишь животная, голая «физиологическая функция», – мучительно-стыдная; и «функциею» этою брезгают, ее стыдятся. Стыдятся и делают; вот почему, интеллигент цинично ест, бранится цинично, с вызовом, с оскорблением стыдливости своей и чужой. Нет на душе спокойствия и мира, а есть смятение и тяжесть: – первый признак безблагодатной души, неблагодарной к жизни, отвергающей бесценный дар Божий, горделиво желающей все бытие перестраивать по-своему.
Чтобы отметить, насколько отлично от этого брезгливого интеллигентского миро-чувствия, или, скорее, интеллигентского миро-бесчувствия, настроение церковное, напомню некоторые каноны, относящиеся к жизни тела, т. е. правила церковные, устанавливающие отношение верующего к телу, причем напомню, что это выражение церковного сознания дано не какими-нибудь эвдемонистами, а подвижниками и борцами за идею подвижничества. Вот правила свв. Апостол: 512
« Правило 5. – Епископ или пресвитер, или диакон, да не изгонит жены своея под видом благоговения. Аще же изгонит, да будет отлучен от общения церковного: а оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина».
« Правило 51. – Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса и вина, не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все добро зело, и что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом, хуля, клевещет на создание: или да исправится, или да будет извержен из священного чина, и отвержен от Церкве. Такожде и мирянин».
Еще сильнее изречены правила Гангрского поместного собора. «Собор, бывший в Гангре пафлагонской митрополии, – повествуют Зонара и Вальcамон, 513 – был после Никейского первого собора против некоего Евстафия и единомысленных с ним, которые, взводя клевету на законный брак, говорили, что никому из состоящих в браке нет надежды на спасение у Бога. Поверив им, как мужья, так и жены, одни изгоняли своих жен, а другие, оставляя своих мужей, хотели жить целомудренно; потом, не вынося безбрачной жизни, впадали в прелюбодеяние. Последователи Евстафия учили и другому вопреки церковному преданию и обычаю, и присвояли себе церковные плодоприношения, и жены у них одевались в мужские одежды и стригли волосы. Они заповедовали также поститься и в воскресные дни, а посты, установленные в церкви, отвергали и ели, гнушаясь мясом, и в домах женатых людей не хотели ни молиться, ни причащаться, отвращались женатых священников и презирали, как нечистые, те места, в которых находились мученические останки, и осуждали тех, которые имели деньги и не отдавали их, как будто бы спасение было для них безнадежно, и иное многое заповедовали и учили. Итак, против них-то священные отцы, собравшись, изложили ниже-помещенные правила…».
Вот некоторые из этих правил: 514
« Правило 1. – Аще кто порицает брак, и женою верною и благочестивою, с мужем своим совокупляющеюся, гнушается, или порицает оную, яко не могущую внити в царствие, да будет под клятвою».
« Правило 4. – Аще кто о пресвитере, вступившем в брак, рассуждает, яко не достоит причащатися приношения; когда таковый совершил литургию: да падет под клятвою».
« Правило 9. – Аще кто девствует, или воздерживается, удаляяся от брака, яко гнушающийся им, а не ради самые доброты и святыни девства: да будет под клятвою».
« Правило 10. – Аще кто из девствующих, ради Господа, будет превозноситься над бракосочетавшимся: да будет под клятвою».
« Правило 14. – Аще которая жена оставит мужа и отити восхощет, гнушаяся браком: да будет под клятвою».
И т. п. Подобные же клятвы наложены на порицающих шелковые и «красные» одежды, на гнушающихся мясом, на самовольно выдумывающих себе пост в воскресенье и т. д. 515
Вот примеры, как Церковь смотрит на жизнь, Богом данную, и на ее проявления. Рассудочник-интеллигент, живущий омиусией, на словах «любит» весь мир и все считает «естественным», но на деле он ненавидит весь мир в его конкретной жизни и хотел бы уничтожить его, – с тем, чтобы вместо мира поставить понятия своего рассудка, т. е., в сущности, свое самоутверждающееся Я; и гнушается он всем «естественным», ибо естественное – живое и потому конкретно и невместимо в понятия, а интеллигент хочет всюду видеть лишь искусственное, лишь формулы и понятия, а не жизнь, и притом – свои. XVIII-ый век, бывший веком интеллигентщины по преимуществу и не без основания называемый «Веком Просвещения», конечно, «просвещения» интеллигентского, сознательно ставил себе целью: «Все искусственное, ничего естественного!». Искусственная природа в виде подстриженных садов, искусственный язык, искусственные нравы, искусственная, – революционная, – государственность, искусственная религия. Точку на этом устремлении к искусственности и механичности поставил величайший представитель интеллигентщины – Кант, в котором, начиная от привычек жизни и кончая высшими принципами философии, не было, – да и не должно было быть по его же замыслу, – ничего естественного. Если угодно, в этой механизации всей жизни есть своя, – страшная, – грандиозность, – веяние Падшего Денницы; но все эти затеи, конечно, все же держатся лишь тем творчеством, которое они воруют у данной Богом жизни. И то же должно сказать о современных совершенствователях Канта.
Совсем иначе смотрит на жизнь «умный» подвижник. Хоть и не считает он существующий порядок «естественным», но – извращением естества, однако любит мир истинною любовью, и грязь, насевшую на нем, милосердно терпит и покрывает своею кротостью. «Любя всех людей, он, – по слову аввы Фалассия, 516 – не любит ничего человеческого», т. е. присущего греховному человечеству; развивая же мысль святого Аввы, по разуму святых отец, можно сказать, что, «любя всю тварь, он не любит ничего тварного», т. е. свойственного твари падшей. Гнушаться и раздражаться ничем не должно, – даже самим собою и своими слабостями. 517 Благодушие, не исключающее, впрочем, иногда и святого гнева, но без раздражения, без нервности, без истерических выходок, – таково ровное и себе равное настроение подвижника. Мерно и мирно живет он, как солнце проходя подвиг свой. 518
И чем выше поднимается христианский подвижник на пути своем, к горней стране, чем яснее светит его внутреннее око, чем глубже Дух Святой нисходит в его сердце, тем чище видит подвижник внутреннее, безусловно-ценное ядро твари, тем жарче разгорается в душе подвижника жалость к заблудшему детищу Божию. А когда на святых, в их величайших молитвенных устремлениях, сходил Дух, тогда они сияли ослепительною и лучезарною любовью к твари. Сама Пресвятая Владычица поведала одному из своих избранников, что «схимничество есть – посвятить себя на молитву за весь мир». 519
Аскетизм, как историческое явление, есть непосредственное продолжение харизматизма; в сущности, аскеты – это позднейшие харизматики, а харизматики – раннейшие аскеты. Связь духоносности и подвижничества несомненна. 520 И именно среди харизматиков и аскетов – наиболее разительные примеры того чувства, которого я не умею иначе назвать, иначе как влюбленностью в тварь.
Вот почему, в «Великом каноне преподобного отца нашего Андрея Критскогои Иерусалимского», т. е. при решительном покаянии и самобичевании, когда аскетическая сторона православия достигает своей верховной точки, – совесть бичует нас напоминанием о преступлении пред телом:
«О како поревновах Ламеху,
первому убийце,
душу яко мужа,
ум яко юношу,
яко брата же моего тело убив,
яко Каин убийца, любосластными стремлениями». 521
Таков один из многочисленных воплей, испускаемых кающеюся душою. Растление тварного организма вменяется в великий грех, и тело именуется братом, подобно тому как, много веков спустя, Франциск Ассизский обращался к своему телу, называя его «братом ослом» и подобно тому, как преп. Серафим Саровский именовал плоть нашу «другом нашим»: «Не должно, – говорил он, – принимать подвигов сверх меры; должно стараться, чтобы друг, – плоть наша, – был верен и способен к творению добродетели».
Это – та же идея, которая в другом тоне звучит в чинопоследовании погребения:
Плачу и рыдаю,
егда помышляю смерть и вижу по образу Божию созданную нашу красоту,
без’образну и безсловесну,
не имущу вида». 522
Или, еще:
«Плачу и рыдаю,
егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую
по образу Божию созданную нашу красоту,
без’образну, безславну, не имущую вида
– ἴδω – τὴν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα ἄμορφον ἄδοξον μὴ ἔχουσαν εἶδος. 523
О чудесе! что сие еже о нас бысть таинство,
како предахомся тлению;
како сопрягохомся смерти;»
Или еще:
« Образ есмь неизреченныя Твоея славы,
аще и язвы ношу прегрешений
– εἰκών εἰμὶ τοῦ ἀῤῥήτου δόξης σου εἰ καὶ στίγματα φέρω πλασμάτων». 524
Что же это за красота, созданная по образу Божию – ἡ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασθεῖσα ὡραιότης? Из приведенного песнопения несомненно, что это – та самая, которая лежит «во гробех» безобра́зной, не имеющей вида, растленной. Тело наше и есть эта красота, этот образ неизреченной славы Божией – εἰκών ἀῤῥήτου δόξης. Такое, – литургическое, – понимание образа Божия, – свойственное, кстати сказать, и русскому народу, что выразилось наиболее ярко в единодушной борьбе против брадобрития, 525– это понимание образа Божия имеет себе подтверждения еще и в отеческой письменности. Так, Тертуллиан 526 и бл. Августин 527 видели образ Божий человека, сходство человека с Богом именно в теле человеческом.
Впрочем, эти выдержки приведены случайно. Можно было бы написать целую книгу об идее тела, как безусловно-ценного начала, в богослужебной письменности. У нас доселе не существует литургического богословия, т. е. систематизации богословских идей нашего богослужения. А ведь именно тут – живое самосознание Церкви, потому что богослужение есть цветцерковной жизни и, вместе с тем, корень и семя ее. Какое богатство идей и новых понятий в области догматики, какое обилие глубочайших психологических наблюдений и нравственных указаний мог бы собрать тут даже не особенно усидчивый исследователь! Да, литургическое богословие ждет себе возделывателя.
Бог и мир, дух и плоть, девство и брак – в антиномии между собою, относясь друг к другу, как тезис к антитезису. Для поверхностного религиозного созерцания антиномичность эта может быть почти незаметна; в сущности, при этом приводятся к нулю и тезис и антитезис. Человек не переживший борений и не имеющий позади себя пройденного подвига не понимает внутренней красоты ни тезиса, ни антитезиса. Так, для неглубокой веры разврат есть нечто вроде брака, а брак – мало чем отличается от разврата: и то и другое сходится на каком-то полу-браке и полу-блуде: неспроста же этот неглубокий религиозно мир в одной своей части называется, а в другой – должен по справедливости называться не «светом» и не «тьмою», а «полу-светом»; вся интеллигенция, в мистической сущности своей, есть именно «demi-monde» или, по крайней мере, имеет истинным свои властителем, задающим тон, – «demi-monde». Таково неизбежное жизне-чувствие оземляневших душ.
Но, по мере одухотворения личности, выступает в сознании красота той и другой стороны антиномии; последняя обостряется, тезис с антитезисом делаются все менее совместными в рассудке, все непримиримее рассудочно исключают друг друга, и, вместе с тем, для высшего религиозного сознания антиномия оказывается внутренне-единою, внутренне-цельною духовною ценностью. Какую половину антиномии ни принять одухотворенному подвижнику, ее полярно-восполняющая двойня установится в сознании с силою прямопропорциональною религиозной высоте принимающего. В частности: истинное девство, одно только и способно понимать всю значительность брака. Только с высоты оценивается высота; горы растут в глазах по мере подъема на противоположную вершину. Точно так же только с высоты уцеломудренного сознания можно понимать святость брака и его качественное отличие от разврата; только истинное, благодатное девство понимает, что брак – не глаголемый «институт» гражданского общежития, а установление, от Самого Бога имеющее начало. И, наоборот, только чистый брак, только благодатное брачное сознание позволяет понять значительность девства: только брачный человек понимает, что монашество – не «институт» церковно-юридического строя, а установление Самого Бога и что оно качественно отличается от холостого ражжения. То же относится и к другим сторонам телесной жизни. 528
Перейдем теперь к общему вопросу о твари. Тут – та же антиномия. Приведу несколько конкретных примеров ее:
Вот Ориген, – аскет, прозванный «Адамантовым» за свои подвиги и проживавший в день всего l обола (около 15 к.), и притом в дорогой Александрии; – подвижник часто бдевший и сурово постившийся; – спиритуалист из спиритуалистов, ради Царства Небесного, как говорят, даже оскопивший себя. Рассудочным дополнением к сказанному была бы ненависть к твари. Но – не так в жизненной и живой антиномичности. Послушай-ка его! (Напомню только, что, по воззрению Оригена, светила небесные суть тела ангелов, добровольно согласившихся подчиниться суете ради служения космическому процессу и всеобщему восстановлению):
«Смотри же теперь, – в молитвенном восторге почти выкрикивает аскет-философ, 529– смотри же теперь, к этим существам [светилам небесным], покоренным суете не добровольно, но по воле Покорившего, и находящимся в надежде обетования, – нельзя ли применить следующее восклицание Павла: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Флп.1:23). По крайней мере я думаю, что подобным же образом могло бы сказать и Солнце: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Но Павел прибавляет еще: «А оставаться во плоти нужнее для вас» (Флп.1:24). И Солнце, действительно, может сказать: «Оставаться же в этом небесном и светлом теле нужнее ради откровения сынов Божиих». То же самое нужно думать и говорить также и о луне и о звездах. – Теперь посмотрим, что же такое свобода твари и разрешение от рабства. Когда Христос предаст царство Богу и Отцу, тогда и эти одушевленные существа, вместе со всем царством, будут переданы управлению Отца. Тогда «Бог будет все во всем»; но эти существа принадлежат ко всему; поэтому Бог будет и в них, как во всем».
Припоминается тут еще один пример: «Солнце да не зайдет в гневе вашем» (Еф.4:26), писал ап. Павел ефесянам. Посмотри же, какое проникновенное объяснение дает словам Апостола св. Антоний Великий. «И не только в гневе, – подхватывает Подвижник, – но и во всяком грехе вашем, потому что солнце может осудить вас за ваш дневной поступок, за худое помышление». 530
Вот абиссинский святой Яфкерана-Эгзиэ Гугубенский, 531 «звезда пречистая и светлая», как называет его Житие.
«Во имя Отца и Сына и Св. Духа, – говорит его Житие, – начинаем с помощью Господа нашего Иисуса Христа писать житие и подвиги, и труд, и воздержание не только от хлеба и воды, но и от слов праздных, умерщвляющих душу. И воспомянем преизобилие терпения, явленного людям, а что он творил тайно, кто ведает, кроме Творца его? Мы поведаем благость отца нашего изрядного деянием аввы Яфкерана-Эгзиэ. Мы не дойдем до половины этого, но (опишем лишь то), что пришло на язык или попало на глаз, как говорит Книга Притчей: «Есть море, длина, ширина и глубина которого неизвестны, и пришла птица, называемая ’Ewit, самая меньшая из всего рода птиц. Она прилетела и пила из этого моря». О возлюбленные, разве истощится море от пития птицы? Так же не истощится и не исчерпается житие сего аввы-инока, звезды евангельской, главы звезд светлых, кроткого сердцем, слеза которого была близка к очам его для любви Божией, и печальника за всех, за людей и скотов и даже до червей». Воистину, – говорится в ином месте Жития, – мы имеем отца нашего Яфкерана-Эгзиэ, который молится за нас, и не за одних нас, но за всю вселенную; за царя и за митрополита, да даст им веру православную, христианам – соблюдение ее, язычникам обращение, всей твари милость и милосердие да дарует». «И чтили его цари, макванены, сеюмы за нищету его и отшельничество. Он был страшен для них, как страшный лев. Всех приходивших к нему, он утешал ко благу. Всем был открыт дом его». Подвиги его были самые суровые. «Он постился дни и ночи». «Отверг мир здешний, да приобрящет тамошний, закрыл уши свои, чтобы не слыхать праздного слова, закрыл очи свои, чтобы не видеть суеты, желая видеть лицо Иисуса, Жениха Небесного, и ясно слышать глас Его сладкий. Он перестал говорить с людьми, ибо пленила его любовь к Богу», и с приходящими объяснялся только знаками, или при помощи азбуки. «Потом, – рассказывает Житие, – он начал подвизаться трудным подвигом, трудом, бдением, молитвою, поклонами, частым постом с молитвою, причем слезы его лились, как потоки воды; воздержанием и удержанием языка. Сжались кости его на бедрах, затвердела кожа головы и помутились глаза его от многих слез, отяжелели ноги его от многого стояния, и весь он высох от забвения пищи и пития. Братия, это явно, а что он творил тайно, никто не знает, кроме Творца его. В таких подвигах он провел 6 лет. Потом он пошел в землю Хамла и взошел на гору, именуемую Айфарба. Здесь он прожил год, питаясь растениями пустыни и плодами деревьев и кореньями». В дальнейшей жизни «пищей его было в год три эфы не хлеба, а плодов травы, и кто знает, кроме Бога, Творца его, ел он или не ел?». Три года он не пил воды (– заметь, при жаре жажда особенно мучительна –) довольствуясь тем, что опускал в воду 3 стебля одного растения и потом, во время обеда, выжимал их себе в рот. «В день, когда шел дождь, он очищал камень и пил с него то немногое, что стекало». – «Еще подвиг духовный: Он постился 40 дней, исключая суббот, не вкушая ничего: ни листьев, ни воды. Так он провел три четыредесятницы. Разумей, человече, если у тебя есть ум: три раза по 40 не будет ли 120 дней? И это, как я сказал тебе, (в продолжение) – не одного года, а трех лет». – «Еще подвиг духовный: Яфкерана-Эгзиэ делал ежечасно по 7-ми тысяч поклонов, как колесо, и число поклонов его 42000. Он не знал трехдневного поста, а только четверодневный, пятидневный и постился по седмицам». Однажды он поселился «на острове Галила, где не было людей, но было пустынное место. Здесь он жил в посте и молитве и в слезах три года, прославляя Бога, воздерживался три года, не имея помощника ни в рубке дров, ни в черпании воды, ни в утешении, но устроил пребывание свое, как бесплотный».
Таковы подвиги этого печальника за червей и молитвенника за тварь. Приведу один многозначительный рассказ, из которого явствует отношение Святого к твари.
«Паки послушайте, – приглашает Житие, – нечто из величия сего изрядного, звезды пречестной, аввы Яфкерана-Эгзиэ. Был в те дни один монах, святой Божий, по имени Захария. Он жил на острове Галела, где некогда обитал святой авва Яфкерана-Эгзиэ. Они созерцали друг друга духовными очами и любили друг друга весьма. Однажды сговорились они: «Встретимся там-то на озере Азаф – я из Гуэгуэбена, ты – из Галела, чтобы утешить друг друга, ради величия Божия». И они назначили день. И вот, встал изрядный Яфкерана-Эгзиэ в Дабра Гуэгуэбене и обулся. Встал и святой Божий авва Захария на острове Галела и обулся. И пошли оба, как посуху, по озеру силою Господа Бога своего, и встретились среди озера и облобызались духовно. Снял авва Захария свои сандалии и отряс прах с них; снял и авва Яфкерана-Эгзиэ и нашел немного влаги на сандалиях своих. Показал авва Яфкерана авве Захарии: «Брат мой возлюбленный, почему мокры мои сандалии, а что касается твоих, то я вижу, что ты стрясаешь прах от них? Скажи мне, прошу тебя, о возлюбленный мой». Отвечал авва Захария и сказал ему: «Отче, встань, помолимся Господу Богу нашему, да откроет нам, почему нашлась влага в сандалиях твоих». Услыхав это, авва Яфкерана-Эгзиэ сказал: «Да будет, как ты говоришь». Они встали вместе и помолились. После молитвы сказал авва Захария авве Яфкерана-Эгзиэ: «Отче, не за изрядство мое явлено сие мне, а ради величия молитвы твоей. Сандалии твои омочены водою потому, что ты скрыл плоды ячменя, чтобы не съели их птицы, тогда как Бог милосерд и промышляет о всей твари и дает ей пищу. Потому-то и оказалась влага на сандалиях твоих». Услыхав это авва Яфкерана-Эгзиэ сказал авве Захарии: «Ты, отче, помолись о мне». И они провели в беседе время до полудня, а потом вернулись в свои монастыри. Изрядный отец Яфкерана-Эгзиэ перестал прятать от птиц плоды ячменя и продолжал молиться об этом деле. Спустя немного дней встал святой авва Яфкерана-Эгзиэ, надел сандалии на ноги свои, как раньше, и они условились между собою духовно относительно дня, когда встретятся. И авва Захария поднялся с острова Галела и приладил сандалии, как прежде. И пошли они оба по озеру, как поcyxy, и встретились на прежнем месте. И сняли они сандалии, сбросили прах, и не оказалось мокроты на сандалиях святого аввы Яфкерана-Эгзиа…»
Этот рассказ – один из великого множества житийных повествований. Чуть ли ни в каждом из них изображается жизнь святого на лоне природы, «со зверями», послушание ему диких зверей и заботы о них со стороны святого; нередки чудеса повиновения животных и служения их подвижникам. 532 «Жил со зверями», – в этих немногих словах, так часто встречающихся в житиях святых авв-подвижников, – в этих трех словах выражается вся суть нового, примиренного, восстановленного жития купно со всею тварью. Вот истинный «хилиазм», о котором даже мечтать не смеют современные защитники ложной хилиастической идеи. Но, за недостатком места, не стану приводить примеров, которые в изобилии можно найти в житиях и патериках.
Вот Ерм – римский харизматик и аскет I-го и начала II-го века. «Пастырь» его написан весь в аскетически-эсхатологических тонах. Но и тут, строгость воздержания сочетается с удивительною, проникновенною смелостью в переживании красоты.
«Воспитавший меня, – так начинает своего «Пастыря» Ерм, 533 – продал меня некоей Роде в Рим. Спустя много лет я возобновил знакомство с нею и начал любить ее, как сестру. Спустя некоторое время я увидал ее моющеюся в реке Тибр и дал ей руку, и вывел ее из реки. И вот, увидев красоту ее, я помышлял в сердце своем, говоря: «Блажен был бы я, если бы имел жену такую же по красоте и по нраву». Спустя некоторое время, когда я шел в Кумы и прославлял творения Божия, как величественны и превосходны и могучи они, на прогулке я заснул. И Дух восхитил меня и понес по какой-то тропке, – δι’ ἀνοδίας τινός, – по которой человек не мог совершать пути: было же место это скалисто и непроходимо вследствие вод. И вот, переправившись чрез ту реку, пришел я на равнину, преклоняю колена и начал молиться Господу и исповедовать грехи свои. Когда же я молился, открылось небо, и вижу я женщину ту, – которой я возжелал, – ласково приветствующею меня с неба, говорящею: «Ерм радуйся!». Я же, посмотрев на нее, говорю ей: «Госпожа, что ты здесь делаешь?». Она же ответила мне: «Я вознесена сюда, чтобы грехи твои разобрать пред Господом». Говорю ей: «Теперь ты являешься моим разбором?» – «Нет, – говорит, – но выслушай слова, которые я собираюсь сказать тебе. Бог, живущий на небесах и сотворивший из не сущего сущее, и умноживший и увеличивший ради святой Церкви Своей, гневается на тебя за то, что ты согрешил против меня». Ответив же ей я говорю: «Против тебя согрешил? Каким образом? Сказал ли я тебе когда-нибудь недостойное слово? Не всегда ли тебя, как богиню, почитал? Не всегда ли о тебе, как о сестре, заботился? Чего же ты наговариваешь на меня, о женщина, это – худое и нечистое!». Улыбнувшись она говорит мне: «На сердце твое взошло пожелание худого. Или тебе не кажется, что для праведного мужа – худое дело, если взойдет на сердце его худое пожелание? Грех ведь это, и великий, – говорит она. – Ибо праведный муж праведное мыслит. И вот, тем что он мыслит праведное, слава его сохраняет, – κατορθοῦται, – его на небесах, и Покровителем имеет он Господа во всяком деле своем. Худое же помышляющие в сердцах своих навлекают гибель свою и пленение на самих себя…». После того, как она сказала эти слова, небеса затворились; а я был весь в ужасе и в скорби. Говорил же я в себе самом: «Если этот грех вменяется мне, то как смогу я спастись? Или как умилостивлю я Бога относительно моих полных грехов? Или какими словами буду просить Бога, чтобы был милостив ко мне?»». Во время этих размышлений Ерму явилась в видении Церковь под образом Старицы. Продолжаю далее словами Автора: «и приветствует меня: «Ерм, радуйся». А я, скорбный и плачущий, сказал: «Госпожа, радуйся». И сказала мне: «Что печален, Ерм, – долготерпеливый и не ненавидящий, всегда смеющийся – что так уныл лицом и невесел?». А я сказал ей: «Из-за одной добрейшей женщины, обвиняющей меня, что я согрешил против нее». Она же ответила: «Никак да не будет такая тягость на рабе Божием. Но во всяком случае на сердце твое взошел помысл о ней. А для рабов Божиих подобный помысл – βούλη, – приносит грех: ибо – худой помысл и ошеломляющий, – ἔκπληκτος – на всечтимого Духа и уже испытанного, если возжелать худого, и особенно Ерму-воздержаннику, – Ερμᾶς ὁ ἐγκρατής, – удаляющемуся всякого худого желания и исполненному всякой простоты и всякого незлобия»».
Таково прегрешение великого воздержанника и духоносца Ерма, проводящего дни, как видно, в постах и молитвах. Это – до стяжания полноты Духа: Башня-Церковь еще не достроена. Но вот, в новом видении Ермуявляется, как пророческое предвосхищение будущего, Башня-Церковь в законченном виде. Аскетическое очищение мира свершилось, полнота времен исполнилась. Пастырь показывает Ерму Божественное Строение. При этом Ерм пророчески прозревает в будущее и изображает достигнутую чистоту твари. Вот полная непринужденного изящества картина будущего: 534
Пастырь, водивший Ерма, «хотел удалиться. А я, – пишет Ерм, – схватил его за суму и начал заклинать его Господом, чтобы мне он объяснил, что показал мне. «Мне нужно отдохнуть немного, и я все объясню тебе: подожди меня здесь, пока приду». Говорю ему: «Господин, оставаясь здесь один, что буду делать?» – «Ты не один, – отвечал он: – ибо девы эти – с тобою». – «В таком случае передай, – сказал я, – им меня». Пастырь призывает их и говорит им: «Поручаю вам вот этого, пока приду»; и ушел. Я же остался один с девами; а они были весьма веселы и ко мне относились ласково, особенно же четверо из них, наиболее уважаемые. – Говорят мне девы: «Сегодня Пастырь сюда не придет» – «Что же, в таком случае, – говорю, – буду делать я?» – «До вечера, – отвечают, – ожидай его и, если придет, то поговорит с тобою, если же не придет, останешься с нами здесь, доколе придет». Говорю им: «Подожду его до вечера; если же не придет, уйду домой, и возвращусь поутру». Они же в ответ говорят мне: «Нам ты препоручен; не можешь от нас удаляться». – «А где, – говорю, – останусь?» – С нами, – говорят, – ты уснешь, как брат, а не как муж; ибо ты брат наш, и впредь мы намерены жить с тобою: очень ведь тебя любим». Мне же стыдно было оставаться с ними. И та, которая из них казалась первою, начала меня нежно целовать и обнимать. Прочие же, видя, что она обнимает меня, и сами начали целовать меня и обводить вокруг башни, и играть со мною. А я как-то стал моложе и начал и сам играть с ними. Ведь одни плясали, другие же водили хоровод, а третьи пели. А, с наступившим вечером, я хотел уйти домой; они же не отпустили, но удержали меня. И оставался с ними эту ночь и отдыхал возле башни. Ведь девы постлали свои полотняные хитоны на землю и меня поместили на середине, а сами совсем ничего не делали, кроме как молились. И я с ними непрерывно молился, и не менее их. И радовались девы тому, что я так молился. И оставался я там до следующего дня с девами. Потом, пришел Пастырь, и говорит им: «Не нанесли ли вы ему какой-нибудь обиды?» – «Спроси, – говорят, – его самого». Говорю ему: «Господин, я получил большую радость, оставшись с ними». – «Чем, – говорит, – ты ужинал?» – «Я ужинал, – говорю, – Господин, словами Господа целую ночь». – «Хорошо ли, – говорит он, – они тебя приняли?» – «Да, – говорю, – Господин»».
Такова победа над грехом, живущим в плоти, такова невинность, венчающая аскетический подвиг. Но эта невинность есть окрыление и одухотворение пола, осияние его, а никак не бесполое и бескрылое вытравление его, – цветпола, а не скопчество. Эта победа, эта невинность, эта святая окрыленность достигается чрез стяжание Духа, – в общении с таинственными девами, изображающими дары Духа. Полнота девственности – лишь в полноте Духа, т. е. на конце аскетического подвига всего церковного человечества, в обоженном теле твари; предварительная полнота невинности – лишь в предварительной полноте Духа, т. е. на конце аскетического подвига отдельного христианина, в обоженной плоти святого. Св. мощи, – разумея это слово и буквально и символически, – вот сухое и безлистное и, как бы, мертвое зерно святого тела: «Не оживет, если не умрет». Само-утверждение – в само-отрицании, согласно высшему и духовному закону тождества, равно как и само-отрицание – в само-утверждении, по закону тождества низшему и плотяному. Как феникс, свивающий себе смертный костер, оживает в огне возрожденным, так и плоть воскресает в огненном отречении от себя, потому что это огненное крещение есть лишь сторона духовного обновления, обращенная ко греху. Нет иного пути. И, как бы ставя на вид Ерму, что явленный ему образ высшей чистоты есть идеал, достижимый не постепенным приближением, не непрерывным развитием, но прерывным отказом от самости, Церковь заранее настаивает на воздержании и даже дает Ерму предписание отныне жить с женою своею, как с сестрою, 535 – подвиг весьма обычный в среде перво-христиан и, из-за закравшихся сюда злоупотреблений, уничтоженный в своем первоначальном виде и принявший впоследствии форму монашества.
Изображаемая Ермом девственная чистота есть идеал, равно как чаяниемявляется и полнота Духа Святого. Но верховные точки святого человечества уже освещены лучами Грядущего Светила, Христа Апокалипсического. Подвигом стяжали они Духа и в благодатных дарах Утешителя находят силу для высшей любви к твари. Это – «избранные сосуды Духа», 536 «сосуды до краев полные благодати». 537 Сам Ерм являет в себе чистоту недостижимую для человека безблагодатного. Может быть, подобные же отношения к родственным женским душам были у св. Иоанна Златоуста, 538 у св. Афанасия Великого. Напомню еще о св. Серафиме Саровском, о Феофане Затворнике. 539
Вот досточудный авва Иоанн, игумен горы Синайской, живший в VI-м веке. «Лествица» его, особенно первою своею половиною, способна окаменить ледяным ужасом застигнутое врасплох и неустроенное сердце; напомню хотя бы о «Слове 5-м», где описывается «Темница» с ее суровейшими самоистязаниями. В этой «Лествице» есть «Слово 15-ое», носящее заголовок «О нерастлении и непорочности и о целомудрии, каковых тленные достигают подвигами и усиленными трудами». Тут, в целом ряде мер к отъединению, предвзятый или невнимательный читатель может найти себе богатейший материал для доказательства, что аскетизм есть медленное самооскопление. 540 Может быть, даже не найдется во всей аскетической письменности другого подобного подбора столь правдоподобных доказательств тому. Но этот, суровый из суровых, Иоанн сам спешит высказать свои заветные чаяния, с восхищением передавая о почти осуществившемся конце подвижнического пути.
«Некто поведал мне, – говорит Иоанн, 541 – о необычайном и высшем пределе непорочности, – παράδοξόν μοί τις καὶ ἀκρότατον ἁγνείας ὅρον ὐφηγήσατο. – «Ведь, некто, – говорит, – воззрев на красоту – κάλλος, – весьма прославил за нее Творца; и от единого взора погрузился в любовь Божию и в источник слез; и изумительно было видеть, что ров гибели для другого для иного сверх естества стал венцом». Если всегда таковой, – добавляет Лествичник от себя, – в таких чувствованиях усвоил себе такой образ действия, то он воскрес нетленным до общего воскресения, – εἰ πάντοτε ὁ τοιοῦτος ἐν τοῖς τοιοῦτοις αἴσθησιν καὶ ἐργασίαν κέκιηκαι, ἀνέστη ἄφθαρτος πρὸ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως».
Цель подвига, как известно, – достигнуть нетления и обожения плоти чрез стяжание Духа. Это нетление, таким образом, в глазах суровейшего из аскетических писателей является не внутренним обеспложением подвижника, не атараксией и не равнодушием, а, напротив, высшею отзывчивостью на красоту плоти, – способностью умиляться до слез, плакать от восторга при виде прекрасного женского тела. Мучительный подвиг и окрыленный восторг оказываются антиномично-связанными в вопросе о поле, как и в других вопросах.
«Тем же правилом, – говорит еще Лествичник, 542 – будем руководствоваться и в отношении напевов и песен. Боголюбцам ведь к радости и божественной любви и слезам свойственно возбуждаться и от мирских, – ἐκ τῶν ἔξωθεν, – и от духовных песней; сластолюбивым же – наоборот».
Итак, цель устремлений подвижника – воспринимать всю тварь в ее первозданной победной красоте. Дух Святой открывает себя в способности видеть красоту твари. Всегда видеть во всем красоту – это значило бы «воскреснуть до всеобщего воскресения», – значило бы предвосхитить последнее Откровение, – Утешителя.
Под «некто», о котором повествует Иоанн Лествичник, надо разуметь св. Нона, 543 с 448 г. бывшего епископом в Эдессе, затем – в Илиополе, затем, с 457 г., – опять в Эдессе и умершего в 471 г., – того самого еп. Нона, который основал в Эдессе первый лазарет древнего мира. Женщина, о которой упоминает рассказ, была тогда вовсе не какою-нибудь святою; напротив, это была известная на всю Антиохию, – где случайно находился и Нон, – блудница Пелагия, за роскошь свою прозванная Маргаритою, – Жемчужиною. О встрече ее с Ионом подробно рассказывается в « Житиипреподобной матери нашей Пелагии, бывшей прежде блудницею», написанном очевидцем, диаконом илиопольской церкви Иаковом. 544История эта, к сожалению, слишком длинна для передачи здесь, и потому ограничусь лишь началом повествования диакона Иакова:
«Святый архиепископ Антиохийского града некия ради церковныя потребы созва к себе от окрестных градов осмь епископов, между ими же бе святый Божий человек Нон епископ мой, пришедый от Илиополя, вземши мя с собою, муж предивен и совершен инок, иже от монастыря, нарицаемаго Тавенисиот, добродетельнаго ради жития своего, взят бысть на епископство. Егда же епископи в церковь святаго мученика Иулиана снидошася, восхотеша слышати от Нона учительное слово, и седоша вси при дверех церковных. Нон же нача учити из уст, глаголющи то, еже бе на пользу и спасение послушающим. Всем же удивляющымся о святом учении его, се мимо дверей церковных идяше некая от неверных жена, яже во всей Антиохии славная блудница бе, с великою гордостию, многоценными одеждами одеянна, златом, камением драгим и маргаритами украшена: окрест же ея грядяша множество девиц и юнош, лепо одеянных, и гривны златыя носящих, лице же ея тако красно бе, яко мирстии человецы видением красоты ея насытиться не можаху. Идущи же мимо нас, весь воздух благовонием ароматным исполни, юже узревше епископи грядущую безстудно, имущую главу непокровенну, и рамена обнаженны, смежиша очеса своя, и тихо воздыхающе, яко от греха велика лица своя отвратиша. Нон же блаженный прилежно и долго смотрел на ню, дóндеже от очес заиде. И посем обращся к епископом, рече: не возлюбися ли вам толикая красота жены тоя? Оным же не отвещавающым, преклони Нон главу свою, и плачущи собираше во убрусец слезы своя, и поливаше перси своя слезами, от глубины сердечныя воздыхающи, паки вопроси епископов: не усладистеся ли красотою ея? Они же молчаху. Нон же рече: воистину аз много научихся от нея: ибо жену ту поставит Господь на страшном своем суде, и ею осудит нас; что бо мните? колико часов жена та в ложнице своей умедли, мыющися, одевающися и всю мысль свою и попечение имущи о сем, да паче всех краснейша явится очесем временных своих рачителей; мы же имуще Жениха безсмертнаго на небесех, на Негоже Ангели зрети желают, не печемся украсити окаянныя души нашея, яже вся есть скверна, нага и студа исполненна; тщимся омыти ю покаяния слезами, одеяти лепотою добродетелей, дабы очесем Божиим явилася благоугодна, и не была посрамлена и отвержена во время Агнчаго брака».
Еще ярче, – ярче всего, – выражена любовь к твари в величайших представителях православного подвижничества, – у преп. Макария Великого и Исаака Сирина, поистине столпов Церкви. И тот и другой описывают состояния высшего подъема и величайшей духовности. Если рассуждать, то можно было бы заключить отсюда, что это – парение в пустом пространстве, безбрежное и великое Ничто 545 мистиков вне-христианских. Но нет. Тут-то и является величайшая конкретность и полнота; тут-то и предстает сознанию тварь в своей всецелостности и в своем вечном содержании, осиянная трепетом всепобедной нетленной красоты.
Преп. Макарий Великий творил подвиги, которые кажутся превышающими человеческие силы и лишь поддерживал жизнь в теле. Ученик его Евагрий, томимый жаждою, однажды просил позволения испить воды. «Будь доволен и тем, что находишься под тенью, – отвечал ему любвеобильный старец; – многие лишены и этой отрады. Уже двадцать лет, как я ем, пью и сплю не более, как сколько нужно для поддержания жизни». Действительно, сам он вкушал пишу только раз в неделю. Когда ему приходилось трапезовать с пустынниками, и те предлагали ему вина, то святой не отказывался, но после, за одну выпитую чашу вина, целый день не пил воды. Нищета и нестяжательность его доходили до того, что он не советовал иметь даже те книги, от которых другие могли бы получать назидание; а сам он помогал ворам выносить вещи из своей келии. Безмерная любовь его и кротость ко всему слишком известна, чтобы нужно было напоминать о ней. 546 Но вот что говорит сам святой о моментах Духо-явлений: 547
«Сподобившиеся стать чадами Божиими и родиться свыше от Духа Святого, и имеющие Христа в себе, просвещающего и упокоевающего – ἐλλάμποντα καὶ ἀναπαύοντα – их, многообразными и различными способами бывают путеводимы Духом, и благодать невидимо действует в их сердце духовным упокоением – ἐν τῇ καρδίᾳ, ἐν ἀναπαύσει πνευματικῇ. Но от видимых в мире наслаждений да заимствуем образы, чтобы отчасти показать и пребывания благодати в душе. Бывает, когда они (духоносцы) становятся как бы на царском пиру развеселенными, ликуя ликованием и веселием несказанным. В иную пору бывают словно невеста, со-упокоеваемая – συναναπαυομένη – в общении с женихом своим божественным покоем – ἀναπαύσει θεϊκῇ. Иногда становятся, словно ангелы бесплотные, в такой легкости находятся с телом; иногда бывают словно во хмелю от пития, возвеселяемые и упоеваемые Духом – во хмелю божественных тайн духовных. – Иногда они – как бы в плаче и скорби за род людей и, молясь за целого Адама, поднимают плач и рыдание, возжигаемые любовию Духа к человечеству.Иногда таким ликованием и любовью воспламеняются они от Духа, что, если можно, всякого человека в собственной своей плоти они вместили бы, не различая злого от доброго; иногда столь уничижаются пред всяким человеком в смиренномудрии Духа, что почитают себя самих всех хуже и ничтожнее. Иногда в радости несказанной постоянно соблюдаются Духом… Иногда душа упокоевается в великом некотором безмолвии и тишине, пребывая в одном только наслаждении духовном и упокоении неизреченном и благоденствии. Иногда в знании некотором и мудрости неизреченной и ведении Духа Неисследимого умудряется благодатию, но этого невозможно высказать языком и устами. Иногда человек делается словно один из людей [т. е. «как все»]. – Ведь когда душа подойдет к совершенству духа, совершенно ото всех страстей очищенная и с Утешителем Духом посредством неизреченного общения соединенная и слитая, и когда, срастворившись с Духом, удостоена сделаться духом, тогда становится она вся светом, вся – оком, вся – духом, вся – радостию, вся – упокоением, вся – ликованием, вся – любовью, вся – милосердием, вся – добротой и кротостью».
Еще сильнее выражает те же переживания подвижник еще более строгий, 548– св. Исаак Сирин. 549
«Совершенство всего подвига, – говорит он, – заключается в трех следующих вещах: в покаянии, в чистоте и в усовершении себя. – Что такое покаяние? – Оставление прежнего и печаль о нем. – Что такое чистота – ἡ καθαρότης? – Кратко: сердце милующее всякое тварное естество – καρδία ἐλεἡμῶν ὑπὲρ πάσης τῆς κτιστῆς φύσεως. – Что такое усовершение – ἡ τελειότης? – Глубина смирения – βάθος ταπεινόσεως, – т. е. оставление – κατάλειψις – всего видимого и невидимого (– видимого – всего чувственного; невидимого же – мыслимого –) и освобождение от попечения о нем.
«В другой раз был опять спрошен: «Что такое покаяние?» и сказал: «Сердце сокрушенное и усмиренное». – < «Что такое смирение?» > – «Сугубое, добровольно принятое на себя омертвение для всего». – « И что такое сердце милующее – καὶ τί ἐστι καρδία ἐλεἡμῶν?» – и сказал: « Горение сердца о всем творении – καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως – о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всей твари. И от воспоминания о них и созерцания их очи его источают слезы, от великой и сильной жалости, охватывающей сердце. И от великой выдержки умиляется сердце его, и не может он вынести, или услышать, или увидеть вреда какого-нибудь, или печали малой, происходящей в твари. И вследствие этого и о бессловесных, и о врагах Истины, и о вредящих ему – ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы они очистились и сохранились; а также и об естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая возбуждается в сердце его без меры, по уподоблении в сем Богу…Достигших же совершенства признак – таков: если в день десятикратно преданы будут на сожжение за любовь к людям, то не насыщаются от этого, подобно как Моисей сказал Богу: «Если простишь им грех, то прости: если же нет, то изгладь и меня из книги, в которую вписал» (Исх.32:32) и как говорит блаженный Павел: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих и т. д.» (Рим.9:3); и еще «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас», язычников (Кол.1:24). И прочие апостолы за любовь о жизни людей получили смерть во всех видах. – Высшая же степень всего этого вместе – Бог и Господь. По любви к твари, Сына Своего предал крестом на смерть…». В другом месте, авва Исаак передает следующее: 550 «Рассказывают также об авве Агафоне, будто бы сказал он: «Желал бы я найти прокаженного и взять тело его, и дать ему свое». Видишь ли совершенную любовь?..».
Итак, «чистота есть сердце, милующее всякое тварное естество», а «сердце милующее есть горение сердца о всем творении», когда открывается для него достойная полной любви, а потому, следовательно, вечная и святая сторона всякой твари, включая сюда даже и демонов и «врагов Истины», т. е. бесов. Покаяние ведет за собою смирение сердца, т. е. омертвение его для всего, уничтожение в нем злой самости и низшего закона тождества. Сердце очищается от той скверны, которая отъединяла его от Бога и от твари. И, подвигом отъединенное от отъединения, сердце делается целомудренным, т. е. безсамостно воспринимающим красоту твари, и воспламеняется любовью ко всему творению. Более или менее ясно, подробнее или кратче останавливаясь на том или другом переходе этого пути, это же самое говорят все подвижники. Но, конечно, полнота чистоты есть величина заданная, и не данная. Однако всякий раз, как подвижник взошел сколько-нибудь по «Лестнице рая», выступает ярко «чувство природы». Помнишь ли, что говорил об очистительном значении твари еп. Феофан Затворник? 551 Не стану, впрочем, приводить его слов; сделаю лучше, выдержку из записок одного странника. 552
«Вот теперь так и хожу, – пишет Странник, – да беспрестанно творю Иисусову молитву, которая мне драгоценнее и слаще всего на свете. Нет у меня ни о чем заботы, ничего меня не занимает, ни на что бы суетливое не глядел, и был бы все один в уединении; только по привычке одного и хочется, чтобы беспрестанно творить молитву, и когда ею занимаюсь, то мне бывает очень весело. Бог знает, что со мною делается. – В сие время читал я мою Библию и чувствовал, что начал понимать ее яснее, не так, как прежде, когда весьма многое казалось мне непонятным, и я часто встречал недоумение. – Когда при сем я начинал молиться сердцем, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет, все как будто говорило мне, что существует для человека, свидетельствует любовь Божию к человеку, и все молится, все воспевает славу Богу. И я понял из сего, что называется в Добротолюбии « ведением словествари», и увидел способ, по которому можно разговаривать с творениями Божиими. – Я так же опытно узнал, что значит рай, и каким образом разверзается Царство Божие внутри сердец наших». – «С месяц шел я потихоньку, – продолжает свою повесть странник, – и глубоко чувствовал, как назидательны бывают добрые живые примеры; часто читывал я Добротолюбие и поверял все то, что я говорил слепому молитвеннику. Его поучительный пример воспламенял во мне ревность, признательность и любовь к Господу; молитва сердца столько меня услаждала, что я не полагал, есть ли кто счастливее меня на земле, и недоумевал, какое может быть большее и лучшее наслаждение в Царствии Небесном. Не токмо чувствовал сие внутри души моей, но все наружное представляюсь мне в восхитительном виде, и все влекло к любви и благодарению Бога. – Все было мне как родное, во всем я находил изображение имени Иисуса Христа».
Одним словом, вся тварь открылась нашему страннику, как вечное чудо Божие, как живое существо, молящееся Творцу и Отцу своему. 553 Это восприятие в высокой степени свойственно нашим странникам, и отдельные черточки его запечатлены во множестве художественных произведений. 554
Из обширного материала, который можно было бы привлечь для выяснения связи между аскетическим подвигом, девственностью души, духоносностью и любовью-жалостью к твари и влюбленностью в тварь, я привел лишь самое немногое. Но я надеюсь, что в приведенных примерах выяснилась эта связь, – этот мост, ведущий подвижника к безусловному корню твари, раз только, омытый Духом Святым, отделенный от самости своей чрез устроение себя, нащупал подвижник в себе свой безусловный корень, – тот корень вечности, который дан ему чрез соучастие в недрах Троичной Любви. Отсюда необходимо возникает новый вопрос, а именно, как же мыслится тварь сама в себе или сама по себе или сама о себе, т. е. вопрос о Софии.
Omnia conjungo. Вся соединяю.
* * *
Примечания
Мефодий Олимпийский, – Mi. gr., T. 18, col. 264 A, ср. id. col. 506A) – Ср.: «Если душа твоя страстно прилепляется к красивым телам и подвергается потом тиранству страстных помыслов, рождающихся от сего: не предполагай, что они-то и суть причина происходящей в тебе бури помыслов и страстного движения; но знай, что причина сего сокрыта внутри души твоей, которая, как камень некий магнит – железо, привлекает к себе вред от лиц, в силу предрасположения к тому и злой страстной привычки. Творения же Божии все добры зело по слову Самого Бога, и ничего не имеют такого, что давало бы основание к похулению создания Божия» ( Никита Стиф., – 1-ая сотн., 50., стр. 95.
Амвросий Мед., – О девственницах I, VIII, 40 (Mi lat. pr. T. 16, col. 200. – Рус. пер. I, VII, 40).
[Еп. Феодор (Поздеевский), Рек. M. Дух. Ак.], – Из чтений по пастырск. богосл. (Аскетика). Серг. Пос., 1911, стр. 21.
Ср.: Ф. Симон, – Психология Ап. Павла, пер. с нем. Еп. Георгия, М., 1907, А I, стр. 1–5 и дал. – П. С. Страхов, – Атомы жизни («Бог. Вест.», 1912, янв., стр. 1–25). Тут дается интересн., хотя и мало вероятн., перев. и коммент. 1Кор.15:51–52: «Вси бо не успнем, вси же изменимся ἐν ἀτόμῳ, во мгновение ока». Слово ἄτομος Страхов считает за термин философск., за «атом», так что речение ἐν ατόμῳ, – обычно переводимое чрез «вскоре», по нему, – «вводит нас в глубины самого субстрата всего сущего, в глубины… материи». Вся материя наших тел изменится при воскресении до атома. – О том, что спасение есть спасение не души только, а всего человека, с его телом, и на существенном значении для челов. жизни тела его останавливается особ. настойчиво и твердо В. [И.] Несмелов, – Наука о человеке, изд. 2-е, Т. 2, Казань, 1906.
Як. Тарновский, – Образование главных суффиксов («Фил. Зап.», г. 45-й, вып. VI, 1909 г., стр. 4–5): «переход «т» в «ц» в белорусск. говоре и в польск. языке дает нам нек. основание сближать слова «тело» (по белорусск. – цело) с прилагат. «целый», тем более потому, что под телом человеческим разумеется нечто строго законченное, правильно организованное и не подлежащее делению (individuum); с таким взглядом вполне согласуется значение латинского слова «corpus»».
Ал. Ст. Хомяков, – Сравнение русских слов с санскритскими (Полн. собр. соч., Т. 5, изд. 4-е, М. 1904 г., стр. 582 = id., изд. 3, 1900 г., стр. 582).
Prel.. Cur.. – Е. Аквилонов, – Новозаветное учение о Церкви, СПб., 1896, стр. 25.
Лосский, – Обосн. инт., 2-е изд. СПб., 1908 г., III 2., стр. 77–78. – Т. Липпс, – Самосознание, СПб., 1903 – Руд. Штейнер, – ΘΕΟΣΟΦΙΑ. – Г. Риккерт, – Введение в трансцендентальную философию. 1904. – Фихте, – Назн. чел., СПб., 1905.
Стр. 587–592 – Соотношение трех начал чел-го тела, имеющих центры свои в трех частях его, животе, груди и голове, схематически м. б. представлено как взаимное проникновение этих трех систем, но с наибольшею напряженностью деятельности, в соответств. части тела.
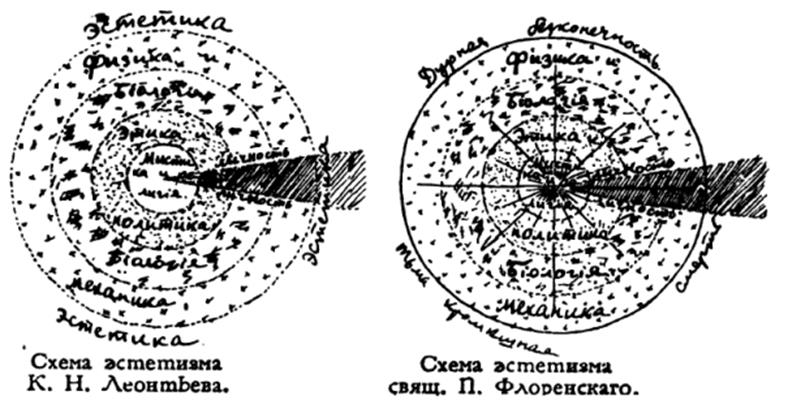
Папюс, – Филос. оккульт.. – В древности учение о трехсоставности челов. тела в связи с трехсоставностью души считалось определенно решенным: достаточно напомнить хотя бы учения Платона, Аристотеля и др. Но это же решение содержалось и впоследствии. Так в рукописном сборнике «Большой Панфект» или «Куварас», принадлежащем Афоно-Иверскому монастырю, Еп. Порфирием Успенским найдены были в 1845-м году неизвестные фигурные стихотворения Феокрита и при одном из них, «Свирели», любопытное изъяснение, принадлежащее хартофилаксу первой Иустинианы всей Болгарии господину Иоанну Педиасиму, жившему в XIV-м веке, следующее любопытное указание на устойчивость этого древнего учения: «εἰδέναι δὲ ἄξιον, ὠς ὐποδοχὴν τοῦ τριμέτρους τῆς ψυχῆς, λέγω δὴ λόγου, θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας, τρεῖς σωματικὰς ἀρχὰς κυριωτάτας ἡ φύσις ἑδημιούργησεν ἐγκέφαλον μὲν εἰς ὑποδοχὴ τοῦ λογιστικοῦ, καρδία δὲ τοῦ θυμοειδοῦς, ἧπαρ δὲ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ ἀρχή δὲ … αὐτῶν ἡ καρδία, διὸ καὶ ἀπαθέστάτη … εἰ καὶ ἐγκάρδιόν τις τὸν πόθον ἐρεῖ, οὐχ’ ἁμάρτῃ τοῦ δέοντος διὰ τὸ καὶ τοῦ ἥπατος εἶναι τὴν καρδίαν ἀρχή. – Достоит знать, что природа устроила три главнейшие телесные вместилища трисоставной души, т. е. ее ума, чувства и хотения: череп для ума, сердце для чувства и печень для хотения. Начало же… их – сердце» (Еп. Порфирий Успенский. Восток христианский. Афон. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты. Часть I, отд. 2-е, Киев, 1877. гл. XVII, стр. 230–231).
[П. Д. Юркевич], – Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия («Труды Киевск. Дух. Ак.», г. 1-й, 1860, кн. 1), стр. 63.
Неологизм, предложен. Шеллингом.
Юркевич, стр. 70. – Ср.: Ф. Симон, В. I, стр. 22–24. Что сердцу приписывается такая важная роль во внутренней жизни, – что все функции душевно-духовной жизни перенесены сюда, – это не есть произвол слово-выражения, но есть результат естественно выросшей психологии, построенной на наблюдении» (Симон, id., стр. 24–25, а далее – разъяснение этого тезиса). – «Духовное чувство или чувствилище находится в сердце» (о. Иоанн Кронш., кн. III, стр. 773). По учению Каббалы человеческое существо трехсоставно. Тело, форма или эфирный двойник и принцип жизни – вот первое начало, с его подразделениями, носящее название нефеш. Душа, седалище воли, основа человеческой личности, это начало, именуемое руах, второе. Наконец, третье начало, дух, носит название нешама ( Папюс, – Каббала, наука о Боге, Вселенной и Человеке перев. с французского A. B. Трояновского, под редакцией Н. А. Переферковича. СПб., 1910. Гл. VIII, стр. 158). Как сказано, человеческую личность образует собственно орган воли, руах. «Его седалище – сердце, которое, следовательно, составляет корень жизни, это царь (мелек – מלך), центральная точка соединения мозга с печенью… Каббала говорит: в слове מלך (Царь) сердце – «это как бы центральная точка между мозгом и печенью», что должно объясняться мистическим значением букв. Мозг מו изображается первой буквой מלך. Печень כבר его последней буквой и, наконец, сердце לב буквой ל, находящейся в средине» (ib., гл. VIII, II, стр. 178).
Юркевич, стр. 72.
id.
Горяев, стр. 317 – Miklosich, SS. 292–293. – Срезневский, III, столб. 338–339: «середа» и др.
Даль Т. 4, столб. 130–131, 129–130.
id.
теософы, К. дю Прель и т. п.
. Из трудов, посвящ. рассмотр. plexus solaris офиц. науки, назовем: Maxime Laignel-Lavastine, – Recherches sur le Plexus solaire, Paris, 1903, III+430 pp. – полная сводка различн. опытн. данных и теоретических соображений о plex. sol., представленных со сторон официальной науки. Гл. V (pp. 407–428) содержит обильн. библиогр. вопроса, причем отдельно даны библ. указания по анатомии, физиологии и патологии солнечного сплетения. – На русск. яз. мне известна только диссерт.: Блох, – Физиология plexus caeliaci, M., 1910. Тут тоже имеются некот. литер, указ. – Что же касается до гораздо более интересн., хотя порою и фантастических, взглядов на plex. sol. науки мистической, то множество отдельн. замечаний читатель найдет в трудах дю Преля и др. (библиограф. указатель их см. в: Kiesewetter, – Gesch. d. neueren Occultismus, 2-te Aufl. besorgt von R. Blum., Lpz., 1909. SS. 844 ff.), особ., теософов, оккультистов и т. д. (русск. библиогр., хотя и неполно содержится в: И. К. Антошевский, – Библиография оккультизма, 1910; есть 2-е доп. изд. – Лидбитер, – Астральный план, пер. с фр. А. В. Трояновского, СПб., стр. 159–175. – Иностранная лит.: Папюс, – Первоначальные сведения по оккультизму, изд. Г. И. Пожарова и Л. И. Докмана, СПб., 1904, пер. с 5-го франц., стр. 296–304. – В новом, 3-м, изд. библиограф. выпущена. Та и другая [указатель указателей]: Эрн. Радлов, – Сочинения о магии.
Ges.. – Handw., 12-te Aufl., SS. 377a und XI, An. – Слово לִבׇה (Ез.16:30), обычно объясняется как побочная форма от לֵב, – б. м. просто ошибка переписчика.
До какой степени тут мало определенности, видно хотя бы из рассмотрения словаря одного автора. Так, √לבכ у Гезения в 3-м изд. Словаря, 1828 года, оставлено без объяснения; в Tesaur., 1839-го года, объяснено чрез «pinguis fuit», во 2-м латинск. изд., обработанном Гофманном, объяснено чрез «cavus fuit»; в 7-м изд. 1868-го г., обработанном Дитрихом, этот корень связывается с понятиями «verbinden», «sich winden», «convolutus» и т. д.; в 11-м изд. 1890-го г., обработанном Мюлгау, Фольком и Мюллером, за основное значение признается «haften an etwas», «sich fess Anlegen», а 12-м, 1895 г., обработанном Социном, Циммерном и Булем, опять оставлено без объяснения.
Jul. Fürst, – Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das alte Testament, 2-te Aufl, Lpz., 1863, Bd. I, SS. 655–656.
Ges., – Tesaur. Lipsiae 1839, T. II, p. 738.
Ges., – Handw., bearbeit. von F. Mühlau and W. Volck mit Beiträgen von D. H. Müller, 11-te Aufl., Lpz., 1890, S. 418.
Впрочем, это наша догадка. У Горяева (, стр. 394) «хальва» и «гальва» сближаются с тюркск. haлва и арабcк. hal’vijat, сласти.
Иннокентий, Арх. Херс., развивает даже ту мысль, что тварь является и помимо человека, своего представителя, лицом, вступившим в завет с Богом, так что и у животных, по его убеждению, есть религия. ( Иннокентий, лекц. первая о религии вообще, стр. 9–12). Того же убеждения держится и известный своими апологетическими и религиозно-историческими трудами проф. С. С. Глаголев; эти свои воззрения он неоднократно высказывал мне во время наших бесед.
На это тождество обратил мое внимание С. С. Глаголев.
В Писании религия «называется заветом, законом, служением Богу, путем Иеговы, или просто путем» ( Иннок., стр. 4). Вот почему вовсе не неожиданным должно признать учение святых отцов о том, что верховная цель религии, спасение, – а спасение состоит в обожении, – есть удел не человека только, но и всей твари. Так, Дион. Ареоп. говорит о фактическом обожении природы в доступной для нее мере (О бож. имен. 9 5, – Mi gr., T. 3, col. 912D; id. 123 – col. 912D; id. 123 – col. 972A; id. 27 – col. 645A. – Цит. по работе: И. В. Попов, – Идея обожения в древне-восточн. Церкви, М., 1907, стр. 33, прим. = «Вопр. филос. и психол.», 1909). А св. Максим Исповедникпошел дальше. Он распространил идеал обожения человека на всю природу. Через Христа сначала обожается человек, а чрез человека будет обожена и вся природа (цит. оттуда же). – Среди русских религиозных мыслителей нового времени, особенно живо чувствовавших эту космическую сторону христианства, должно указать, кроме упомянутого уже Арх. Иннокентия и С. С. Глаголева, – Еписк. Порфирия Успенского, Вл. Соловьева, С. Н. Булгакова, Вяч. И. Иванова, В. Ф. Эрна и др.
Вот почему благодатн. мистика сердца – явление здоровья и уравновешенности организма, тогда как ложная мистика головы или чрева всегда имеет либо своим корнем, либо своим плодом болезнь и души и тела. Во Христе – «Начальнике жизни» – полная уравновешенность и совершенное здоровье. Напротив, вне Христа т. е. вне Жизни, нет и здоровья. – Психиатр В. Ф. Чиж, – известный своими многочислен. работами о разных литературн. типах и исторических деятелях, в которых он открывает душевные болезни, – он признает святых подвижников русских (вне его рассмотрения остаются юродивые) за типических представителей душевного здоровия и равновесия. И, напротив того, редкая книга по психопатологии обходится без того, чтобы не сделать выписок из сообщений о себе святых и мистиков вне-церковно-православных, как типических примеров душевного расстройства. Конечно, психиатры упрощают дело, когда видят тут только душевн. расстр.; но несомненно то, что есть и оно. – Относительно патологичности прелестной мистики много материалов собрано во множестве психологических и психопатологических и психиатрических трудов. В частности укажем: Д. Г. Коновалов, – Религиозный экстаз в русск. мистич. сектантстве. Серг. Пос. 1908. Пока вышел лишь 1-ый вып. 1-ой части ΧI+258 стр. (= «Богосл. Вестн.», 1907 и 1908 гг.) – Тут указана многочисл. лит. предмета. – Д. Г. Коновалов, – Психология сектантск. экстаза. Серг. Пос. 1909, 2-е изд. 18 стр. (= «Богосл. Вестн.», 1908, № 12), – А. Вертеловский, – Западная средневековая мистика и отношение ее к католичеству. Историческое исследование. Харьков. Вып. I, 1888; Вып. II, 1898. – М. Шагинян, – О блаженстве имущего. Поэзия 3. Н. Гиппиус. [М., 1912]. 42 стр. См. также. О прелести см. в «Словах подвижнических» Исаака Сир. и Григория Синаита («Добротолюбие», изд. 2-е, М. 1900, Т. 5) и др. отцов, совокупленных в «Добротолюбии», у Еп. Феофана Затворника, особенно в его «Письмах о духовной жизни»; наиболее подробно рассуждает о сей духовной болезни Еп. ИгнатийБрянчанинов, особ. см. «Сочинений» Т. I.
Макарий В., – Бес. 6.
Никита Стиф., – 3-я сотн., 38, стр. 250.
«Кто действие внешних чувств заменяет внутренними, – зрение устремлением ума к зрению света животного, слух – вниманием душевным, вкус – разумным рассуждением, обоняние – умным постижением, осязание – бодренным трезвением сердечным: тот Ангельскую на земле проводит жизнь, – для людей он и есть и видится человеком, для Ангелов же и есть и понимается Ангелом» ( Никита Стиф., – 1-ая сотн., 8, стр. 84).
id., 52, стр. 95.
Григорий Синаит говорил своим ученикам и еще сильнее, а именно, что «тот, кто возвышался к Богу, благодатью Св. Духа видит как бы в зеркале всю тварь световидною, «аще в теле, или кроме тела не вем» (2Кор. 12:2), как говорит божественный Павел, до тех пор, как будет какое-нибудь препятствие ему во время созерцания, заставляющее его прийти в самого себя» (« Афон. Патерик или жизнеописание святых, во св. Афонск. горе просиявших», СПб., 1860, Ч. 1, стр. 356. Житие преп. и богон. о. наш. Григория Синаита, из Νέον ἐκλόγιον). – На вопрос: «Если достиг кто сердечной чистоты, что служит ее признаком? И когда познает человек, что сердце его достигло чистоты?» преп. Исаак Сирин дает такой ответ: «Когда всех людей видит кто хорошими и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем» ( Исаак Сирин, – Слово 21-е, в греч. изд. – 85-е. «Твор.», изд. 3-е, стр. 96).
«К праведному Антонию [Велик.] приступил один из тогдашних мудрецов и сказал: «Как сносишь ты, отче, такую жизнь, лишаемый утешения, какое доставляют книги?» Тот отвечает: «Книга моя, господин философ, есть эта сотворенная природа. Она всегда со мною и, когда хочу, могу читать в ней словеса Божии» ( Евагрий Монах, – Наставления о деятельн. жизни, 92. – «Добротолюбие», изд. 4-е, М., 1905 г., Т. I, стр. 588. – Mi gr., T. 40). – Эта мысль затем повторяется бесчислен. множ. раз у мистиков, как церковн., так и вне-церковн. Неоднократно высказывает ее Максим Исп. (ed. Oeler. 105 сл., 152, 162, 212, 242, I 31, 75, 83, 463, – цит. по М. Д. Муретову). – «Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей: пред ними открылась книга природы. Это – книга, данная для чтения первозданному Адаму, книга, содержащая в себе слова Духа, подобно Божественному Писанию. Какое же учение прочитал я в саду? – Учение о воскресении мертвых!..» (Архим., впоследств. Еп. Игнатий Брянчанинов, – Сад во время зимы. «Сочинения», СПб., 1865 г., Т. I, стр. 97–98). – «Мир, как произведение живого, премудрого Бога, полон жизни: везде и во всем жизнь и премудрость, во всем видим выражение мысли, как в целом, так и во всех частях. Это – настоящая книга, из которой можно, хотя и не так ясно, как из откровения, учиться богопознанию» (о. Иоанн Крон., кн. III, стр. 113–114). – «Если мы, написавши какую-либо книгу, знаем о всем ее расположении и составе, о всех мыслях, в ней помещаемых, и когда другие высказывают нам мысли, особенно план нашей книги, мы говорим, что это наш план, наши мысли, то как же у Господа отнять всезнание всех миров, всех тварей, всех вещей в мире с их качествами и состояниями! – Не книга ли она Божия?» (id., стр. 665–666). – Эта же мысль о природе, как книге, образует основу сочинения Ι. Α. Θ. – Α. Ω. Gemma Magica, или магический драгоценный камень; то есть краткое изъяснение книги натуры, по седьми величайшим листам ее, в которой можно читать Божественную и натуральную премудрость, вписанную перстом Божиим. М. 1784.
Удивительное дело! Как в древности люди, вроде эпикурейцев, боровшиеся с «суеверием» религии ради рационального познания, ничего на самом деле не познавали, да и не старались познать (Ср. Вл. [А]. Кожевников, – Нравствен. и умствен. развитие римского общества во II веке, Козлов, 1874 г., стр. 101–102); так же точно и сейчас церкво-борцы всяких сортов, откалываясь от Церкви то под предлогом, что она «стесняет» исследование, то обвиняя ее в неприязни к твари, сами не знают этой, защищаемой ими, твари, не занимаются ею и едва ли видят из «природы» что иное, кроме диванов салона и газет. Те же, кто занимается естествознанием, не с природою живет, а усиливается создать ей тюрьму из понятий, ибо такова именно сущность современного естествознания, разоблаченная приверженцами-предателями его, современными неокантианцами и др. гносеологами, особенно же марбуржцами.
Как психология чувства природы, так и история развития его изучались чрезвычайно мало и известны недостаточно. Но и то, что сделано в этом направлении, определенно подтверждает выставленный в тексте тезис. Вот несколько книг и статей по этому вопросу: Альфр. Бизэ, – Историческое развитие чувства природы. Пер. Д. Коробчевского, СПб., 1890 г. – Гр. Оленев, – Чувство природы в древности («Мир», 1910 г., Янв., № 4, стр. 286–288). – В. Ф. Саводник, – Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева, М., 1911 (тут же, на стр. 2–4, библиография вопроса о чувстве природы). – Em. Michel, – Le sentiment de la Nature et l’hist. de la Peinture de Paysage («Rev. de syntèse histor.», T. XI, 2, № 32, pp. 150–164). – A. фон Гумбольд, – Космос, пер. Вейнберга, М, 1863, II. – De Laprade, – Le sentiment de la nature avant le Christianisme et chez les modernes. – Motz, – Ueber d. Empfindung d. Naturschönheit bei d. Alten. – Caesar, – Ueber d. Naturgefühl bei d. Griechen последн. три книги указыв. по Кожевникову). – Отдельн. замеч. на нашу тему разбросаны в труд. по эстет. и по ист. искус., особ. живописи.
Э. дю Буа-Реймон, – Культурн. история и естествознание, пер. с нем. под ред. С. И. Ершова, М., 1900, стр. 29. Ср.: «Христианство есть несомненно одно из чистейших проявлений… влечения к культуре и притом именно к непрерывному созиданию святого» (Фр. Ницше, – Несвоевременные размышления, III 6. «Полн. собр. соч.», «Московское книгоизд.», 1909, Т. 2, стр. 228).
Изречение, приписываемое Фалесу и приводимое Аристотелем, – О душе, I. 5, 411а, 8.
Афан. В., – Слово на язычников, 38, и вообще см. все это Слово.
Фр. Ницше, – Веселая наука.
Вот почему вне благодати мир представляется призраком, «Ничто», оформленным видимою реальностью, воистину лишь «foenomenon bene fundatum». To – это Майя Индии, то – μὴ ὄν мистерий, Платона и, в сущности, всего древнего жизнепонимания. Мудрец – тот, кто проник за «грубую кору вещества» и сумел увидать там… не «нетленную порфиру Божества», не «книгу откровения», не «славу Божию», не «премудрость Божию», а – лишь пустоту и ничто.
О демоничности язычества свидетельствуют многие свв. отцы и писатели церковные, знавшие язычество не понаслышке, а по личному наблюдению и даже по печальному опыту (Иустин, Киприан, Лактанций, Августин и др.). Но достойно особливого внимания сознания в том же самих язычников. Таково, напр., свидетельство апологета язычества, бывшего, к тому же, жрецом Аполлона, Плутарха. «Я не могу поверить, – говорит он устами благочестивого Клеомврота, – чтобы боги могли взирать с удовольствием на то, как в день мрачных жертвоприношений люди свирепо разрывают человеческие жертвы, пожирают сырое кровавое мясо, подвергаются тяжелым постам, предаются заунывным стенаниям, позволяют себе грязные, бесстыдные выражения, испускают ужасные крики»: предположить это было бы жестоким суеверием и нечестием. Но я скажу, – продолж. Клеомврот, – что эти праздники и жертвоприношения были установлены лишь с целью удовлетворить и успокоить злых демонов, отвратить проявление их злобы». А ведь демонов или гениев, – говорится незадолго пред тем, – «мы обязаны признавать и почитать согласно отеческ. преданию» ( Плутарх, – Об оскудении оракулов, XIV, 417D Plutarchicheroneus. Scripta Moralia, Parisiis, 1839, vol. II, p. 508). Теория об умилостивительном культе злым демонам была, по словам Плутарха, высказана впервые платоником же, главою Академии Ксенократом. «Ксенократ думает, что в окружающем нас воздухе живут существа могуществен. природы, угрюмые и мрачные духи, любящие этот мрачный культ, как то самобичевания, постыдные слова, и не делающие зла людям, когда их почитают подобным образом» ( Плутарх, – Об Изиде и Озирисе, XXVI, 361 B (Plut. Scr. Моr, id. Vol. 2, p. 441). Новейшие исследователи тоже нередко высказываются в том смысле, что язычество было культом демонов, а язычники – демоноодержимые. Такая мысль проводится, напр., в работах: Кн. С. Н. Трубецкой, – Религия («Энц. Слов.» Брокгауза и Ефрона = «Собр. соч.», Т. 2, М., 1908, стр. 499–509). – Его же. Этюды по ист. греч. рел. (id., Т. 2, стр. 434 сл.). – Его же. Учение о Логосе в его истории («Собр. соч.», Т. 4, М, 1906, особ. стр. 187–190). – Его же. Ист. древн. филос., М, 1906, Ч. 1, гл. II 2, 3, 4, стр. 30–34· – C-te Goblet d’Alviella, – L’idée de Dieu, d’après l’antropologie et l’histoire, Paris-Bruxelles, 1892, Chp. III, p. 103 suiv. – H. [С.] Арсеньев, – В исканиях Абсол. Бога, M., 1900, особ. стр. 37–39. – Демонизмом язычества объясняется и то, что исцеление от демоно-боязни и спасение от демонов служило, в глазах всего древнего мира, едва ли не главным залогом успеха христианской проповеди. Кроме вышеназванных книг о сем см.: А. Гарнак, – Религиозно-нравственные основы христианства в историческом их выражении (из истории миссион. проп. хр-ва за первые три века). Пер. Α. [Α.] Спасского, Харьков, 1907, гл. III, стр. 60–79 и VIII, стр. 178–194, – Е. Г., – Демонические болезни («Хр. Чт.», 1912, июль-авг., стр. 775–790. – А. А. Спасский, – Вера в демонов в древн. церкви и борьба с ними («Бог. Вест.», 1907, II, 6, стр. 357–391). – Мысль о том, что страх создал первых богов, высказана впервые Демокритом; по крайней мере Секст Эмпирик (Adv. math. XIII, 259) признает за ним это первенство. По словам Цицерона (De nat. deor. II, 5) такого же мнения держался стоик Клеанф. Вероятно, от Демокрита заимствовали этот взгляд Эпикур и его римский последователь Лукреций Кар. – Интересные замечания о связи демоноодержимости, страха и неспособности к исследованию действительности высказываются в: О. Вейнингер, – Посл. Сл., отд. «Культура», стр. 159–161.
Арис., – Этик. Ник. IX 9. Opera, Vol. 2, pp. 1158b 35, 1159a 4; – Больш. Эт. II 11 Op. id., p. 1208b 29 сл.; – Евдем. VIII 3, Op., id. p. 1238b 27.
Хр. Зигварт, – О моральных основах науки (рус. пер. помещен в «Вестн. Воспит.», 1904 г, № 9), стр. 176. Из сборника его Kleine Schriften, Bd. II, 1881 (2-te Auflg. 1889). Ср.: «Необходимо должен существовать вне нас такой ум, который состоит не в одной способности понимать истину, но обладает такою силою, что может производить все возможные истины на себя самого; котор., существуя самостоятельно, составляет самое существо истины, объемлет собою всю полноту света, любви и жизни. Иначе нигде не было бы, да и не могло бы быть ни истины, ни добра. Иначе основанием всех вещей, всякого познания, было бы чистое ничто» [Архим., впоследств. Архиеп. Херсонск. и Тавр. Иннокентий Борисов]. О бытии Божием («Хр. Чт.», Ч. 30,1824, стр. 205). Принадлежность этой анонимной статьи именно Иннокентий открыл и доказал ученик мой, И. М. Успенский, канд. LXVII вып. М. Д. Α., в своем соч. «Философские воззрения Иннокентия, Арх. Хер.». – То же у древних, напр.: «Ἀλήθεια δὴ πάντων μὲν ἀγαθοῖς θεοῖς ἡγεῖται, πάντων δὲ ἀνθρώποις» ( Платон, – Зак. V 730 С [29, 28] р. 335 24–28).
Маймонид, – Наставник I 72 (ц. по: Μ. Базилевский, – Влиян. мон. на разв. зн., Киев, 1883, стр. 15–20. – Тут же, на стр. 15–24 приводится полностью глава из Маймонида, истолковывающая вселенную как единое существо).
Р. Бехай, – Хаб. Галеб. (Об обязанностях сердца), гл. «Об искреннем служении Богу» (ц. из Базилевского, стр. 93–94, 95–96).
id., id., стр. 97–98.
Саббат, fol. 150 (id.)
Базилевск., id., стр. 13, ср. сл.
id.
id., стр. 39, ср. стр. 44–45.
id., стр. 9–10.
О борьбе с политеизмом, шедшем изнутри античного мира см.: P. Decharme, – La critique des traditions religieuses chez les Grecs des origine, au temps de Plutarque. Paris, 1904. XIV+518 pp. – Goblet d’Alviella. – Кожевников. – Ч. Буасье, – Римская религия от Августа до Антонинов, пер. М. Корсак, М. 1878. – М. С. Корелин, – Падение античного миросозерцания. СПб., 1895.
Лукреций Кар в начале почти всех песней своей поэмы «О природе вещей» ублажает Эпикура и даже называет его богом; ср..
О сост. древн. естествознания см.: Кожевников. гл. II, стр. 93, 206 (заголовок главы уже ее содержания). – Уэвелль, – Ист. индукт. наук, пер. с 3-го англ. изд. М. А. Антоновича и А. Н. Пыпина, СПб. ТТ. 1 и 2. – 1867 г., Т. 3 – 1869 г. – П. А. Любимов, – Ист. физики. Опыт изучения логики открытий в их истории. Ч. I, период греч. науки. СПб., 1892. V+268 стр. – Ферд. Розенбергер, – Очерк ист. физики. Ч. I, пер. с нем. под ред. И. М. Сеченова, СПб. 1883, V+178 стр. – Эдм. Перье, – Основные идеи зоологии в их историческом развитии с древн. времен до Дарвина, пер. Α. Μ Никольского и К. П. Пятницкого, СПб., 1896, 302 стр. гл. I-III, стр. 1–29.
Э. дю Буа-Реймон,, стр. 41. – Кожевников, стр. 107. – Е. Деннерт, – Христос и естествозн., пер. с нем. СПб.
Клим. Рим., – 1Кор.19:2–3–20:1–11 (Fun’k, SS. 44–45. id.)
Ὠκεανὸς ἀπέραντος ἀνθρώποις καὶ οἱ μετ’ αὐτόν κόσμοι (20 8). – Указание на Америку? Что – это: предчувствие будущего знания или, м. б., исчезающее памятование прошедшего?
Ср. Кожевников, стр. 97. – На христианск. воззрении о само-законности мира особ. настаивает Μ. Μ. Тареев, – Основы христианства, Серг. Пос., 1908, ТТ. 1–4, – и даже делает это понятие краеугольным камнем своей системы. Но само-законность и само-утверждение твари в этой системе почти сливаются под общим термином «свободы плоти».
По не совсем точному переводу Преосв. Филарета еп. Черниговск., – Исторический обзор песнопевцев и песнопения прав. Церкви, изд. 2-е. Чернигов, 1864. – Текст и объяснения: Titi Flavii Clementis Hymnus in Christum Salvatorem, Ed. – Ferd. Piper, Gottingae, 1835. – Потребн. исправления вышеуказан. перевода см. в: Ф. Смирнов, – Гимн Клим. Александр. («Тр. Киев. Д. Α.», 1879 г., Т. 2, стр. 370–372). – Текст и разъяснения этого гимна см. еще в: Гр. А. С. Уваров, – Христ. символика, Ч. 1-я. IΙ, 5. Символика древне-христ. периода, М., 1908, посмертн. изд., стр. 44–49.
Кожевников, стр. 96–97. Тут же цит.: «Вся древность не знала наслаждения природой» ( Гервинус, – Literaturgesch, I, S. 124); отцы Церкви впервые решились поставить природу выше искусства ( Humboldt, – Kosmos, II, 30); «древние ощущали пластически; христианский мир ощущает живописно… Чувство природы у греков не столько постигало взаимодействие вещей, связывающее их в одно органическое целое, сколько, напротив, хваталось за какую-нибудь частность, чтобы подробно разработать ее в подобие той или другой человеческой черты или олицетворить в человеческ. образе» ( Каррьер, – Искусство, II, стр. 276–277 рус. пер.). То же мнение у Шназе, – (Gesch. d. bildenden Künsten, II, 129 ff.). – «Рисуя картины природы, классические поэты исключительно занимались описанием внешности, да и то в самых общих чертах; оттого в них незаметно даже и следов глубокомысленного понимания внутренней жизни природы, вроде того, как оно выражено, напр., в произведениях Шелли…» (Кож., стр. 97, прим. 3). «Несмотря на ревностн. защиту классицизма его поклонниками, большинство занимавшихся этим вопросом об интересе древних к природе склонно думать, что древнему миру чувство к природе было, если не сов. чуждо, то, во всяком случ., менее свойственно, нежели новому обществу. – Нет никаких оснований предполагать, чтобы народ, оделенный такой богатой фантазией, как греки, оставался совсем равнодушным к окружавшей его природе; тем не менее, с самых ранних пор, греч. цивилизация сложилась так, что чувство к природе не могло быть в ней особ. сильным. – Самые широкие сравнения легко доказывают, насколько классический мир предпочитал сосредоточиваться на изучении ч-ка, нежели на исслед. природы: как коротки и бедны описания этой последней у греческих поэтов, сравнительно с их же изображениями челов. жизни! Как роскошно развита в древности пластика, вполне соответствующая античн. любви к гуманизму, тогда как ландшафт вовсе [ П. Ф.] не был известен ни грекам, ни римлянам. Если в эст. и даже в научн. отношении древние обращались к природе, то они спешили прежде всего искать в ней отражение своего любим. человеческого идеала; постоянно стремились они не столько изучать ее самостоятельную жизнь, сколько ее аналогию и связь с ним. Обоготворяя все пластичное, ант. мысль, и при изучении природы, сосредоточивала свое внимание на явлениях особенно выдававшихся, особ. поражавших своей внешностью. Грандиозное, трагическое, словом то, что скорее всего напоминает человеческие страсти, – вот что преимущественно интересует в природе не только древних поэтов, но и древних ученых. Напр. того, скрытые, сразу неуловимые силы, внутренняя жизнь и превращения материи – вещь почти непонятная древним и даже не интересовавшая их. – Мало того, что древние недостаточно интересовались природою: они смотрели на нее совсем с неправильной точки зрения: во-пер., старались приводить ее явления в исключительную связь с челов. идеалами, чрез что впадали в постоянные ошибки; во-вт., они следили только за самыми крупными, самыми наглядными фактами и таким образом приучались пренебрегать изучением внутрених сил природы, для того, чтобы обращать внимание на ее внешность. – Как усердно замечали греко-римские ученые те явления, которые казались редкими, почти чудесными, и как презрительно смотрели они на обыденные физические факты; – напр., отдел метеорологии очень интересовал их, тогда как менее поразительные явления света, звука и пр. почти вовсе не удостаивались их вним.; точно так же – древн. ботаники и зоологи собирали сотни анекдотов по поведению иностранных диковинных растений и животных и не имели почти никакого понятия о своей родной фауне и флоре» (Кож., id., стр. 96–98). – Впрочем, вопреки сказанному, иногда пытаются приписать чувство природы именно древнему миру, напр., связывая его с именем Плиния, а искоренение романтического понимания природы – христианству (Д. С. Мережковский, – Вечн. спутники, СПб., 1899, изд. 2-е, стр. 102–103, Плиний Мл.).
Ср: «Если нек. церкви прибавляют, что Бог принял челов. природу, то, как я это откровенно высказал, мне не вполне понятен смысл этих слов: по правде сказать, мне кажется это не менее странным, как если бы кто сказал, что круг принял природу квадрата» (Б. де Спиноза, – Пис. XXI (LXXIII) к Генр. Ольденбургу, – Переписка, стр. 148.)
«Господь им. полн. уважение к создан. Им природе и ее законам, как произведению Своей беск., совершеннейш. премудрости; посему и волю Свою совершает обыкновенно чрез посредство природы и ее законов, напр., когда наказывает людей или благословляет их. Чудес, поэтому, не требуй от Него без крайней нужды» (о. Иоанн Крон., стр. 667).
П. Флоренский, – Антоний романа и Антоний предания, Серг. Пос., 1907 (= «Бог. В.», 1907, № 1). – Тут делается попытка конкретно сопоставить два аскет. настроения, – нигилист. и правосл. – В. (Α.] Кожевников, – О значении подвижничества в прошлом и настоящем, М., 1910 («Рел.-Фил. Библ.», Вып. ΧΧΙΙ-ΧΧΙΙΙ = «Хр. Чт.», 1909 г.). Тут же изобильн. библ. – М. В. Лодыженский, – Сверхсознание.. – Его же., – Свет незримый. Из области высш. мистики, СПб., 1912.
Ин.8:23, 17:16, 18:36 и др.
Мол. утр. 7-ая, песнь полун.
Об обожении: И. В. Попов, – Идея обожения в древневост. церкви, М., 1909 («Воп. ф. и пс.»). – Его же, – Религиозн. идеал св. Афанасия Алекс., Серг. Пос., 1904 (= «Бог. В.»). – Его же, – Мистическое оправдание аскетизма в творениях преп. Макария Егип., Серг. Пос., 1905 (= id). – С. Зарин, – Аскетизм по православно-христ. учению, Т. 1 2. См. также у Смирнова.
Вот нагл. пример церковного ощущения тела. Когда на Ник. соб. в 325 г. была сделана, – вероятнее всего, еп. Осиею Кордубс., – попытка сделать обязательным для всех клириков воздержание от своих жен, то по-видимому многие склонялись в пользу так. предложения. «Но против него высказался человек, кот. и как исповедник и как подвижник, пользовался высоким уважением. Это был Пафнутий, еп. из верхней Фиваиды. Его голос имел тем больше веса, что, сам строгий девственник, Пафнутий свободен был от всяких подозрений, что он руководится какими-нибудь эгоистическими мотивами. Он высказался в том смысле, что апостол и брак называет «честным»(Евр. 13:4), что след. нет побуждений требовать от всех безбрачия, возложив на всех то иго, которое с честью могут нести только немногие, можно привести вм. пользы только вред Церкви, подвергнув опасным искуш., если не самих священ. лиц, то жен их. Мнение Пафнутия восторжествовало, и по-прежнему, свободному усмотрению поставляемых предоставлен был выбор между брачн. и безбрачн. жизнью (Soz. I 23)» ( Болотов, – Лекции, Т. 3. СПб., 1912, стр. 142–143).
Григорий Нис., – О душ. покое. – Mi gr., col. 1049 C.
Макарий В., – Бес. 44 9. – Mi gr., T. 34, col. 785B, ср. Бес. 493, id. col. 818D).
Симеон Н. Б., – Сл. 27. Mi gr., T. col. 452 D. Ср. id. 451–54, прим. 13: ἄνθρωπος Θεῷ ἑνοῦται πνευματικῶς καὶ σοματικῶς. Подробнее на тему прим. [ 521–523] см. Зарин, стр. 53.
Правила св. Апостол, св. Соборов, всел. и пом., и св. отец с толкованиями, изд. Моск. О-ва Люб. Дух. Пр., М., 1877, стр. 7, 95.
id., стр. 1005.
id. Время Гангрского собора точно не определено и полагается между 340–370 гг.
id.
Фалассий. Полную противоположность этой Восточной мистике личности представляет Западная мистика вещности: «Dass du nicht Menschen liebst, das thust du recht und wohl, Die Menschenheit ist’s, die man im Menschen lieben soll» ( Angelus Silesius I,163, S. 27).
Иоанн и Варсонуфий, Преп. Серафим, eп. Игнатий Брянч.
Вехи. Сб. статей о русск. интеллигенции. М., 1910, изд. 5-е и более новое изд. Около «Вех» выросла целая лит., указат. кот. прилож. к поздн. изд. этой книги. – H. M. Соколов, – Русские святые и русск. интеллигенция. Опыт сравн. хар., СПб. 1907.
Старец Киево-Печ. Лавры, иеросхим. Парфений, – один из тех избранников Пречистой, кот. с детства благоухают горнею свежестью, ангел во плоти, даже в самых юных летах не изведавший борьбы с плотью и никогда не запятнавший сердца своего ниже приражениями греховными (« Сказание о жизни и подвигах старца Киево-Печ. Лавры Иеросхим. Парфения», Киев, 1898, стр. 13, 19), – этот преизряднейший чтитель Приснодевы очень много искал узнать, в чем сущность схимы. И вот, однажды пред иконою Ее, всегда бывшею в келии его, молясь, да поведает ему Владычица, что есть принятое им на себя схимничество, он услышал от Нее глас: « Схимничество есть – посвятить себя на молитву за весь мир» (id., стр. 27). Иер. Парфений род. 24-го авг. 1790 г. в селе Симонове, Тульск. г., а почил в Вел. Пятницу 1855 г.
С. [И.] Смирнов, – Духовный отец в древней Восточной Церкви, Ч. 1 (пер. вселенск. соб.), Серг. Пос. 1906 (= «Бог. В.»). Кожевников, тут же лит. – Holl, – Enthusiasmus Lpz., 1898.
Повечер. четвертка перв. седм. Великого Поста, пес. 2, троп. 3. Или, вот в каких нежных тонах говорит о теле Тертуллиан: «Душа не может остаться проституткою, чтобы жених принял ее нагою. Она имеет свою одежду, свое украшение и своего раба – плоть. Плоть есть истинная невеста … И никто так не близок к тебе, душа, как она. Ее ты должен любить больше всего после Бога» ( Тертуллиан, – О воскресении плоти, 63).
В чине погребения особенно характерно сплетения двух мотивов: плач о растленной красоте в человеке и радость о восстановленной красоте в Богоматери. В древности эти переживания сплетались еще теснее. О древне-христ. переживании смерти см.: В. Ф. Эрн, – Письма о христианском Риме, Пис. 3-е («Бог. В.», 1913, янв.). – Г. Буасье, – Катакомбы, М. («Рел.-Общ. библ.», сер. III). – А. фон Фрикен, – Римские катакомбы и памятники первонач. христ. иск., М., Ч. 1, 1872 г., Ч. 2, 1877 г. – С. Н. Булгаков, – Два града, М., 1911, ТТ. 1 и 2, статьи о первохристианстве. – Идея воскресения и святости тела особ. живо чувствуется из древн. пис. у св. Иринея Лион., а из новых – у Η. Φ. Федорова.
Εὐχ. σ.216.
id., σ. 211.
«Не можно никому изобразить, – описывает жизнеописатель Петра В. впечатление от указа о брадобритии, – того великого смущения, каковое произвел в сердцах россиян такой его величества указ». «Велят нам бороды брити, – говорили россияне святит. Дмитрию Рост., – а мы готовы главы наши за брады наши положити, пусть лучше отсекут наши главы, нежели бреются наши брады». Известны многоч. бунты из-за бороды; но и суровые наказания со стороны правительства (так, в астрах. бунте было казнено 365 чел. и много сослано в Сибирь) не устрашали защитников священного благообразия. А какое знач. придавалось бороде в почитании святых, это видно из особливо больших бород свв. подвижников и из пост. указаний в иконописн. подлинниках на особенности бороды того или иного святого. Особ. характерна борода у отшельников и аскетов. (П. Смирнов, – Брадобритие «Прав. Энц.», 1901 г., Т. 2, ст. 1005–1022. – Тут же, на ст. 1011–1022 лит. вопроса и др. поучит. сведения. Чрезвыч. интересные подр. см. в: Ф. Буслаев, – Исторические очерки рус. нар. словесности и искус., СПб., 1821, Т. X., стр. 216–232: «Древнерусская борода»). – Сила сопротивления Петровскому брадобритию со стороны правосл. Руси весьма выразительно измеряется значит. ежегодной пошлиною на бороду, наложен. Петром I, а именно по 60 р. на всех придворных, городск. жителей и подьячих; по 100 р. на купцов и торговцев; по 60 р. на мещан, боярских слуг, ямщиков почтового ведомства и на церковнослужителей, исключая попов и дьяконов; по 30 р. на Московск. жителей всех сословий; а по 2 деньги на всяк. мужчину при проезде в город или из города чрез заставу. («Полн. собр. зак.», ук. 16 генв. 1705 г.). Любопытным веществен. памятником этой непосильной для народа борьбы за бороду остались «бородовые значки», т. е. серебр. или медн. жетоны под назв. «бородовая», кот. выдавались плательщикам пошлины за бороду; эти значки нужно было носить при себе. Крайняя редкость таких серебряных значков наглядно доказывает, что не многим было под силу уплачивать бородовую пошлину. «Значок сего рода в моем собрании величиною с двугривенник серебрянный (20 коп.); на лицевой стороне изображен Русской орел и SHAPE \* MERGEFORMAT (1705). г., а на обороте – нижняя часть лица; нос и рот с усами и бородою, и надпись: деньги взяты. Медные значки были двух родов; одни похожи на серебряные и есть такие, на кот. Русский орел переклеймен; они вероятно служили на 2-й раз; другие четвероугольные, величиною и весом в рубль. На них простая надпись на одной стороне с бороды пошлина взята, а на ободке слова: борода лишняя тягота» (Барон Станислав де Шодуар, – Обозрение русских денег, пер. с фр. Β. Α., СПб., 1837, Ч. I, гл. VI, стр. 169–170. – Еще о том же: Авг. Шлецер, – История о монетах, деньгах и горном деле Рос. Гос., с 1700–1784, Геттинген, 1791, стр. 67, 78. – Чулков, – Истор. описание Рос. коммерции, М., 1781, I, стр. 698. – Чулков описывает еще один вид бородового значка, но Шодуар сомневается в существовании такового). – Изображения бородовых значков можно видеть в упом. соч. Шодуара (Ч. II «Собр. изображ., СПб., 1837, доска 22, рис. 5 и 6; доска 23, рис. 1, объясн. к ним на стр. 12) и в: Н. В. Мигунов, – Редкие русские монеты с 1699 до 1912 г., 4-е изд., М. 1912, стр. 80; бород. знак, изображен. здесь, интересен тем, что он – с погасительной контрамаркой. – Пошлина за бороду – это, т. ск., мера сопротивления среднего человека. Но известно, как решительно и непреклонно защищали бороду, а с нею – и идею священности тела, от разрушения этой идеи западным, интеллигентско-скопческим нигилизмом многие отдельные лица и отд. течения древней Руси. О неслучайности всей этой борьбы проговаривается философ, весьма родной по духу интеллигенции и сильно воздействовавший на типичнейшего западника, Ив. С. Тургенева, – Арт. Шопенгауэр, с его отвращением от религии и брезгливым оплеванием тела. «Борода, как полумаска, должна бы не допускаться полицией, – брюзжит он против естества челов-го. – К тому же она, как знак пола на лице, непристойна, почему и нравится женщинам…» (Арт. Шопенгауэр, – Отдельные, но системат. распр. мысли о разн. рода предм., XIX: к метафизике прекрасного и эстетике, § 233, прим. 1. «Собр. соч.» в пер. и под ред. Ю. И. Айхенвальда, вып. XIV, стр. 766). – Да! Чуть ли ни все свв. мужи, большинство великих людей, миллионы честных исполнителей воли Божией носили бороду, видели в ней признак доблести, считали предосудительным снимать ее; мало того, многие из них деятельно боролись за право ее ношения, – упомянем хотя бы наших славянофилов (А. С. Хомяков, – Полн. собр. соч., Т. 8: Письма, M., 1904, Пис. 15-е, к А. Н. Попову, стр. 191; Письмо 2-е к гр. А. Д. Блудовой, стр. 375), – и вот, далеко не безупречной нравственности интеллигенту угодно было в своем гнушении полом, против которого он сам же погрешал, дойти до открытия, что борода непристойна, и потребовать вмешательства полиции, – этого опять-таки всецело интеллигентского по духу учреждения, – для борьбы с бородою!
Тертуллиан, – правда в произведениях монтанист. периода, – высказывает весьма своеобразные соображение о теле, как образе Божием. По мнению этого писателя, не Спаситель принял образ бытия человеческого, а человек был предобразован Творцом по образу имеющего явиться на земле Сына Божия. Образ Божий есть образ Христов, который был дарован человеку еще за много лет до пришествия И. X. в этом образе. ««Et fecit Deus hominem, ad imaginem, Dei fecit ilium» (Gen 127). Cur non, suam, si unus qui faciebat, et non erat ad cujus faciebat? Erat autem ad cujus imaginem faciebat: ad Filii scilicet, qui homo futurus certior et verior, imaginem suam fecerat dici hominem qui tune de limo formari habebat, imago veri et similitudo» ( Тертул., Против Праксея, 12. – Mi lat pr., T. 2, coll. 168А). ««Сотворим ч-ка», сказал Бог, прежде нежели сотворил его. Он созидает его, т. ск., собственными руками по причине его преимущества, дабы он не был сравнен со вселенною … все вообще существа, в качестве рабов, произведены по одному повелению, по одному мановению могущества. Напротив того, ч-к, в качестве господина, создан Самим Богом … Припомни однако-ж, что плоть, собственно так именуемая, есть то самое, что называется ч-ком: «И созда Бог ч-ка, персть взяв от земли» – hominem autem memento carnem proprie dici: «Et finxit Deus hominem limum de terra». Он был уже ч-к, хотя составлял еще и персть. «И вдуну в лице его дыхание жизни, и бысть ч-к», т. е. персть, «в душу живу. И насади Господь Бог рай в Едеме, и введе тамо ч-ка, его же созда» (Быт. 2:7–8). Так-то ч-к, бывши сперва перстию, учинился полным ч-ком уже впоследствии. К чему эти истины? К тому, дабы ты видел, что все блага, предопределенные и обещанные Богом ч-ку, принадлежат не только душе, но и плоти, если не по общности происхождения, то по преимуществу имени. – Продолжаю идти к цели своей, будучи однако ж не в состоянии придать плоти то, что даровал ей Сотворивший ее, облекши славою, когда персть, это ничтожество, побывала в руках Божиих, в каких бы то ни было. Без сомнения, она была бы и тогда счастлива, когда бы Бог только прикоснулся к ней. Что же? Разве Бог не мог сотворить человека одним прикосновением, без всего прочего? Так-то справедливо, что готовилось какое-либо великое чудо, когда Он решился Сам работать над сим веществом с таким старанием. Действительно, сколько раз плоть эта чувствовала прикосновение рук Божиих, сколько раз была она ими осязаема, мешана, перерабатываема, во сколько раз она возрастала в чести и в славе. Вообрази себе, что весь Бог занимался сим творением. Руки свои, ум, действие, премудрость, провидение, и особливо любовь: все Существо Свое Он тут употребляет. Для чего же Он это делает? Для того, что сквозь эту грубую персть провидит Христа Своего, Который некогда сделается человеком, подобным сей персти, сделается вочеловечившимся Словом. Отец начинает с того, что обращается к Сыну своему с сими словами: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию. И сотвори Бог человека», т. е. сотворил то, что создал, «по образу Божию», т. е. по образу Иисуса Христа, «сотвори его» – следовательно персть, в которую с того времени облекся образ Иисуса Христа в предбудущей Его жизни, была не только творение Божие, но и залог Божий. Зачем же для поругания плоти выставлять нам землю за какой-либо грубый и презрительный элемент, тогда как в случае если бы другое вещество способно было к сотворению человека, то не следовало бы никогда терять из виду достоинства художника, который, избрав это вещество, счел бы его достойным того, или сделал бы таковым, дотронувшись только до него» и т. д. (Его же, – О воскресении плоти, 6. id. coll. 802 B-803 А, и вообще см. все это сочинение. – По переводу Карнеева: Творения Тертуллиана, СПб. 1850, ч. 3, стр. 63–65). Ощущение святости плоти у Тертуллиана тем более достойно всяческого внимания, что погрешностью Тертуллиана была именно чрезмерная строгость в отношении к телу. Это соединение крайностей монтанистического аскетизма, чаяние и искание полноты духовности и глубокое благоговение пред телом в высокой степени характерно, но, как старались мы показать в сем сочинении, ничуть не неожиданно. «Начни же любить плоть, – увещевает Тертуллиан, – когда она имеет Творцом своим столь превосходного Художника – incipiat jam tibi caro placere, cujus artifex tantus est» (id., 5, coll. 801 B). Но любить плоть, для него, это вовсе не значит потакать ее слабостям; напротив, это значит требовать чистоты плоти, непорочности сего образа Божия, сего сосуда Духа Его. «Персть славна тем, что руки Божии к ней прикасались, а плоть еще славнее от дыхания Божия, посредством которого она уступила грубые элементы персти и восприяла достоинство души. Ты не искуснее Бога. Если ты в чугун, в медь, в железо, ни даже в серебро, не вставляешь драгоценных камней Скифии и Индии и блестящих жемчужин Чермного моря, если напротив того украшаешь их чистейшим золотом самой отличной работы, если для лучших вин и благоуханий готовишь сосуды, качеству их соответствующие, если хорошие мечи одеваешь в превосходные ножны: то можешь ли ты себе представить, чтобы Бог вложил в какой-либо презрительный сосуд тень души Своей, дыхание Своего Духа, деятельный образ Слова Своего – animae suae umbram, spiritus sui auram, oris sui operam – и чтобы осудил их на изгнание в поносное место?» (id. 7, col. 805 A). – В позднейшем богословии нет установившегося понимания, в чем именно заключается образ Божий в ч-ке. В труде: [ Филарет, Митр. Моск.], – Записки, руководствующие к основательному разумению Кн. Бытия, – ч. 1, изд. 2-е, СПб., 1819, стр. 34–38 – перечисляются различные способы толкования сего предмета, но без решительного выбора или отвержения того или др. из них и с признанием существенной неопределенности в этом вопросе повествования Библейского. Арх. Херс. Иннокентий высказывается в пользу понимания образа Божия в отнош. ко всему человеку: «Мнения об образе Божием различны, – говорит он, – одни распространяют его на душу и тело, а другие ограничивают одним духомили же душою. Но мнение первых справедливее: весь человек был образ Божий, а не одна часть его – душа. Но как в теле мог отразиться образ Существа бестелесного? Так же, как и в духе. Для нас кажется это странным потому, что мы представляем тело слишком грубым. Но что такое оно в себе самом, – отлично ли от духа или нет? – мы не знаем. Что ж, если оно в существе своем одинаково с духом? В таком случае весь соблазн исчезает. Можно верить, что оно и есть таково: ибо гораздо лучше представлять существо человека состоящим из одного чего-то, а не из двух разнородных» (О человеке. лекц. 2-я, стр. 85). – Интересн. мысли о том же предмете содержатся в «Дневнике» о. Иоанна Кронштадтского и в «Книге бытия моего» Еп. Порфирия Успенского.
Бл. Август., О Быт. прот. маних., I 17. – Mi lat. pr., T. 34, col. 186.
Этот взгляд на монашество из новейших писателей особенно настойчиво проводится Еп. Игнатием Брянчаниновым. Но именно тогда делается непреложно ясным, что монашество требует совсем особыхусловий жизни и совсем вне-мирно, так что «ангел во плоти» не может вмешиваться в дела не только политики, но даже церковные, как то постановлено 4-м правилом 4-го Халкидонского вселенского собора.
Ориген, – О нач. I. 7, § 5. – Mi gr., T. 11, coll. 1751–1776. – Должно сказать, впрочем, что вопрос о само-оскоплении Оригена весьма темен. По крайней мере, даже не скрывающий своей враждебности к Оригену св. ЕпифанийКипрский повествует о сем в выражениях весьма неопределенных: «Об этом Оригене рассказывают, что он умыслил нечто против своего тела. Одни говорят, что он оскопил себя, чтобы не волноваться сладострастием, не разжигаться и не распаляться плотскими движениями; иные же говорят не так, а что он придумал прикладывать к известным членам какое-то лекарство и иссушать их. Другие отваживаются взносить на него и нечто другое, напр., будто он отыскал какую-то траву, целительно действующую на память. Мы не совсем верим необыкновенным рассказам о нем, однако ж не опустили передать эти рассказы» ( Епифаний Кипр., Об Оригене – 44-ой, а по общ. пор. 62-й ереси, гл. 3. Твор., М., 1872, ч. 3, стр. 84). Это сообщение невольно заставляет считать все эти слухи об Оригене сплетнями, подобными тем, какие окружали свв. Афанасия В., Иоанна Злат. и др., и от тяготы которых не бывает избавлен ни один выдающийся человек. Можно считать установленным лишь факт беспримерной умственной продуктивности Оригена и, вероятно стоящий в связи с этим, факт полного воздержания. Но от Оригена действительно веет скопческим духом, как и вообще ото всех душ с рационалистическим строем.
Ср. «Гимн Солнцу» Франциска Ассизского, тоже сурового аскета. П. Сабатье, – Жизнь Франциска Ас., пер. с фр., Μ., 1895 г., стр. 313, 314, 336, 339; подлин. итал. текст на стр. 311–312.
Б. [Α.] Тураев, – Некоторые жития абиссинских святых («Визант. Времен.», Т. 13, вып. 2, 1906 г.). Житие Яфкерана-Эгзиэ находится в числе коллекции рукописей Пар. Нац. Библ. (бывшая кол. d’Abbadie, № 56) и переведено на рус. яз. в ук. раб.
Так, преп. Сергий Радон. (XIV в.) и Серафим Саровск. (XIX в.) принимали у себя гостем медведя; Пахомий Егип. (IV в.) и св. Феодора переезжали через Нил на крокодиле; иных кормили вороны, львы и т. д. Сам Господь в пустыне «был со зверями» (Мк. 1:13). Ср. «Соль земли». Ср. в житии Франциска Ассизск. рассказ о трапезе его с Кларою, когда все трапезующие были объяты огнем духовной любви и им насытились ( «Цветочки»Франциска Ассизского (Fioretti), гл. 15, пер. с итал. О. С. «Нов. Путь», 1904 г., Май, стр. 123–124). Есть и отд. изд. М., 1913 г., пер. А. П. Печковского, изд. «Мусагет», стр. 46–49.
Ерм., – Пастырь, Вид. I, 1 1–3—21—4. Funk, – Apost Väter, SS. 144–146.
id.
id., Вид. II, 23. – id. S. 148.
Ср. «Честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый» (мол. 1-я пр. Сергию Рад.).
Уже беглый просмотр переписки Иоанна Злат. с Олимпиадою убеждает, что их связывала одухотворенная любовь, гораздо более личная, чем просто нравственная связь епископа и диакониссы. Конечно, обвинения противников Златоуста вроде того, что будто он во время богослужения воскликнул: «Погибаю, схожу с ума от любви» нелепы, но названная переписка объясняет, что именно послужило поводом к наветам врагов. Страдания Олимпиады во время ссылки Златоуста, взаимные заботы о здоровье и просьбы заботиться о себе, извещения о своем благосостоянии, – чтобы утешить и ободрить, – просьбы писать о себе и т. д. – тут все оттенки личной любви. Эта интимность выступает с особенною наглядностью, если сделать некоторые статистические подсчеты. Так, в русском переводе переписки Златоуста 17 писем к Олимпиаде занимают 84 страницы (=3612 строк), а группа в 17 писем к другим лицам занимает в среднем 11,9 стран. (=511,7 строк). Так – включая пустые промежутки между письмами в 4–6 строк. Делая редукцию на эти промежутки, находим, что текст 17-ти писем к Олимпиаде занимает 3544 строки, а текст 17-ти писем к другим лицам занимает в среднем 444 строки, т. е. в среднем, значит, одно письмо к Олимпиаде содержит 208,5 строк, а к иным лицам – 26,1 строк. Итак, письмо к Олимпиаде, в среднем, в 8 раз длиннее писем к иным лицам. Эта цифра «8» есть лишь подтверждение Житию Иоанна Златоуста, где говорится, что Иоанн «любил Олимпиаду духовною любовию, как некогда св. ап. Павел Персиду, о кот. пишет: «Целуйте Персиду, возлюбленную, которая много трудилась о Господе». Олимпиада же святая сотворила не менее Персиды. Когда же Иоанн был изгоняем неповинный со своего престола, блаженная Олимпиада с прочими честными диакониссами плакала о том много».
Еще недостаточно принята во внимание склонность многих духовных старцев, на вершине своего подвига и умерщвления страстей, строить женские монастыри. Достаточно назвать хотя бы имена преп. Серафима и старцев Амвросия Оптинского и Варнавы Гефсиманского, чтобы пояснить сказанное.
Д. С. Мережковский, – Последний святой (Мережк., – «Не мир, но меч», СПб., 1908).
Иоанн Леств., – Лествица, сл. 15 61 (в рус. п.) – Mi sr. T 88, coll. 893 c, d – 894a, Grad. XV 33.
id. Сл. 1562. – id., col. 893a, Grad. XV 34.
Схолия 33-я к 15-му Слову «Лествицы», id., col. 916 c.
Димитрий Рост., Жития святых, мес. окт., день 8-й. (= Lippomanus, – Acta sanctorum, V. 5, p. 225.
Безразлично при этом, будет ли оно называться Браман, Нирвана, Энсоф, Тао, Добро (у Толстого) и т. д.
См. Житие его (19-го янв.).
Макарий В., – Бес. 18 7–10. – Mi gr. Τ. 34, coll. 640a, b, c, d – 641a.
Свящ. И. Четверухин, – Сведения о преп. Исааке Сир. («Творения Ис. Сир.». Изд. 3-е Сер. Пос., 1911).
Исаак Сир., – Сл. 48 по р. п., а по изд. Феот. ПА (81), σσ. 451–453. Заключ. в < > заимств. из древн. слав. пер
id. σσ. 454–555.
Еп. Феофан Затв., – Ср. «Как чувственные, должны мы добре воспринимать чувствами впечатления от чувственных вещей и чрез красоту их востекать к созерцанию создателя их» ( Никита Стифат, – 3-я умозр. глава сотн., 72. «Добр.» стр. 155–156.
Откр. расск. стран., расск. 4-й, стр. 93.
П. Флоренский, – О суеверии («Нов. Путь», 1903 г. № 8). Тут говорится о чуде, как о восприятии Божеств. момента твари; оговариваю, что статья редакцией обработана в кантианск. духе, и поэтому нек. мыслей, в нее внесен., я не могу принять.
Л. Бельский, – Как земная тварь Богу молится (расск. странника) («Родник», 1897 г., Т. II, стр. 900–913).
