Тот, кто читал в детстве увлекательную книжку Владимира Федоровича Одоевского «Городок в табакерке», возможно, вспомнит, почему в сказочном мире случилась беда. Мальчик ослушался отца, просившего не трогать пружинку.
Этой простой фабулой автор отсылает нас к библейскому повествованию о грехопадении, о том, как человек мог ослушаться Бога и что из этого получилось.
Перечитываем четыре незаслуженно забытые сказки этого доброго и нравственного писателя, глубоко религиозного по настроению.
Удивительно, что книга Владимира Одоевского, современника Пушкина, философа, литератора и активного благотворителя с ярко выраженной христианско-религиозной печатью на всем, что он делал – книга «Городок в табакерке» – так активно переиздавалась в советское время.
Видимо, скрытое христианство вплелось в текст настолько органично, то обошло всякую религиозную цензуру, не обнаружив себя явно перед атеистическим цензором за сказочными приемами и языком.
Начиная с 1956 года в СССР и по сей день эта история обрастает новыми иллюстрациями, форматами, а самое главное, маленькими читателями, с восторгом погружающимися в причудливый мир музыкальной шкатулки с ее замысловатой механикой.
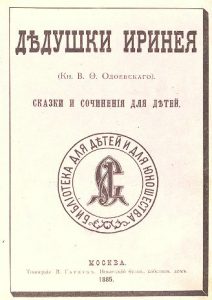 Между тем, спрятанная в ажурных переплетениях сказки религиозная мысль читается легко.
Между тем, спрятанная в ажурных переплетениях сказки религиозная мысль читается легко.
Нарушив гармонию микромира, маленький Адам должен уменьшиться до размеров обитателей музыкальной шкатулки, чтобы увидеть содеянное им беззаконие и попытаться исправить свой грех.
«Городок в табакерке» мы знаем почти наизусть.
Давайте же обратимся к другим малоизвестным историям удивительного автора, современника Пушкина, отдавшего дань русской философии и науке, романтической повести XIX века, изданию книг и журналов – одного из основателей Общества посещения бедных, разносторонне деятельного человека и настоящего христианина – всей своей не очень продолжительной жизнью (1804-1869) подтвердившего истину, что вера без дел мертва.
В конце нашей подборки вы можете скачать и прочитать «Городок в табакерке».
Итак, слово автору. Вспоминаем четыре сказки В.Ф. Одоевского.
Житель Афонской горы
На Афонской горе жил учёный, благочестивый муж. Смолоду он научился разным наукам, знал целебную силу трав и кореньев. Часто он ходил по хижинам бедных людей, лечил больных, утешал умирающих. И были ему от всех любовь и почёт.
Однажды ту страну посетила страшная зараза – чума моровая. Люди заболевали, и многие умирали; во всех хижинах были больные, и отовсюду посылали за добрым и учёным лекарем, чтобы пришёл он утешить и помочь страждущим.
Без устали ходил по больным добрый лекарь и раздавал лекарства. Иногда, когда мог захватить болезнь вовремя, он вылечивал; но чаще беспечные люди присылали за лекарем тогда, когда уже больной был при последнем издыхании, когда уж никакие лекарства помочь не могут, а неразумные люди упрекали и бранили доброго лекаря, как будто он был виноват в их беспечности.
Эти упрёки оскорбляли доброго лекаря; изнемог он и от усталости, и пришло ему на мысль:
– Зачем тружусь я для людей, да ещё неблагодарных? Зачем я жертвую собою для неразумных, которые не считают, кому я помог моим лекарством, а только жалуются, что я не вылечиваю полумёртвых? Зачем я подвергаю себя опасности заразиться от больных, мне вовсе чужих?
Останусь я спокойно на горе; чума сюда не заходит, а там внизу пусть заболевают неразумные; мне дела нет: их вина!
С этими мыслями он пошёл на гору. Вдруг видит он, невдалеке растёт прекрасный цветок, и такой он красивый, и такой от него запах.
– Вот, – подумал лекарь, – и цветок меня тому же научает: растёт он здесь на горе, красуется, и ни до кого ему нет дела; ему здесь хорошо, ветерок повевает, солнышко греет, роса обливает, и растёт он здесь никому другому, а только себе на радость. Так буду и я жить, думать только о себе, а о других не заботиться.
Между тем он наклонился над цветком, чтобы лучше разглядеть. Смотрит: внутри цветка – мёртвая пчела. Собирая мёд и цветочную пыль, она ослабела, прилипла к цветку и замерла. Лекарь посмотрел, подумал, и краска стыда выступила у него на лице.
– Боже! – сказал он, – прости моему унынию и неразумию! По Твоей воле набрёл я на этот цветок, чтобы простое насекомое пристыдило меня. Для кого трудилась эта пчела, для кого собирала мёд? Не для себя, а для других.
Так же, как и мне, ей никто не скажет спасибо; так же, как и меня, её всякий гнал, а между тем она всё трудилась и на труд свою жизнь положила. Прости, Господи, моему унынию и неразумию. Умудри и меня, как ты умудрил пчелу-медоносицу!
И снова начал лекарь собирать целебные травы, и снова до пота лица стал ходить по хижинам и помогать больным, утешать умирающих
Анекдоты о муравьях
Возле моей комнаты была другая, в которой никто не жил. В сей последней стоял на окне ящик с землёй, приготовленной для цветов.
Земля была покрыта обломками обвалившейся с верху стены штукатурки. Окошко было на полдень и хорошо защищено от ветра; в некотором расстоянии находился амбар; словом, это место представляло все возможные удобства для муравьёв.
Действительно, когда мне вздумалось посадить в этот ящик тюльпанную луковицу, я нашёл в ящике три муравьиные гнезда.
Здесь муравьям такое было привольное житье, так весело они бегали по стенам ящика; мне показалось, что было бы слишком жестоко для цветка нарушать спокойствие этих смышлёных насекомых; я приискал другое место для моей луковицы, а ящик с муравьями избрал предметом моих наблюдений.
Эти наблюдения доставили мне столько наслаждений, сколько бы никогда не могли мне доставить все цветы на свете.
Прежде всего я постарался моим гостям доставить все возможные удобства, и для сего я снял с ящика всё то, что могло мешать или вредить им.
По нескольку раз в день приходил я смотреть на их работу, а часто и ночью, при лунном свете: мои гости работали беспрестанно. Когда все другие животные спали, они не переставали бегать снизу наверх и сверху вниз, – можно было подумать, что отдых для них не существует.
Как известно, главное занятие муравьёв – это запасти себе в продолжение лета пищу на зиму. Я думаю, всем моим читателям известно, что муравьи прячут в земле собранные ими зёрна ночью, а днём выносят их сушить на солнце. Если когда-нибудь вы обращали внимание на муравейник, то, верно, замечали вокруг него небольшие кучки зёрен.
Я знал их обычай и потому чрезвычайно был удивлен, заметив, что мои постояльцы делали совершенно противное: они держали свои зёрна под землёю в продолжение целого дня, несмотря на солнечное сияние, и, напротив, выносили их наружу ночью; можно было подумать, что они выносили свои зёрна на лунный свет, но я ошибся, – мои муравьи имели преважную причину поступать так, а не иначе.
В небольшом расстоянии от окна находилась голубятня; голуби беспрестанно садились на окошко и съедали зёрна, попадавшиеся им на глаза: следовательно, мои муравьи поступали очень благоразумно, скрывая своё сокровище и не доверяя его похитителям.
Как скоро я догадался, в чём дело, то решился избавить моих постояльцев от их беспокойных соседей; я навязал несколько лоскутков бумаги на небольшие палочки и рассадил их вокруг ящика; движение этих бумажек пугало голубей; когда же какой-либо смельчак из них подлетал к ящику, несмотря на взятые мной предосторожности, тогда я криком и шумом заставлял похитителя оставлять свою добычу; вскоре голуби отучились прилетать на окошко.
Несколько времени спустя, к величайшему моему удивлению, муравьи вынесли наружу в продолжение дня два или три зерна хлеба; заметив, что эти зёрна остались невредимыми и что им нечего бояться, мои постояльцы вынесли на солнце и весь свой запас, подобно другим муравьям.
Во всяком муравьином гнезде находится узкое отверстие в вершок глубиною и посредством подземного канала соединяется с житницами муравейника; семена в сих житницах могли бы легко прорасти, что было бы очень невыгодно для муравьев; дабы предупредить эту неприятность, они всегда откусывают несколько зёрна, делая его через то неспособным к произрастанию.
Но другие беды грозят их житницам: от сырости, находящейся в земле, зёрна могут загнить и сделаться негодными к употреблению; чтобы предотвратить и это несчастие, они с большим рачением стараются собирать совершенно сухую землю.
Зерно, находясь в такой земле, не гниёт и не прорастает, и потому муравьи стараются иметь столь же сухую землю, как и сухие зёрна. Вот как они поступают в сём случае: сперва они устилают пол сухой землёй, потом кладут на неё ряд зёрен, которые покрывают тонким слоем земли и всякий день два раза вытаскивают свои зёрна для просушки.
Если вы обратите на это внимание, то увидите, что муравей прежде всего старается дотащить в нору небольшой комок земли, и это продолжается до тех пор, пока из сих комков не образуется небольшой слой, тогда они начинают сносить в нору самые зёрна, кои снова покрывают землёй.
Эту сушку производят они в хорошую, но не в дождливую погоду, и, что всего страннее, они как будто предчувствуют её перемену, ибо никогда не выставляют на воздух зёрен своих перед дождём.
Я заметил, что мои муравьи ходили за запасом большей частью в близстоящий амбар, в котором находились разного рода хлебы; муравьи таскали обыкновенно пшеницу. Желая испытать, до какой степени простирается смышлёность и терпение моих постояльцев, я велел не только затворить амбар, но даже заклеить бумагой все могущие быть в нём отверстия.
В то же время я положил кучку зёрен в моей комнате; я знал уже давно смышлёность моих муравьёв, но и не подозревал, чтобы между ними могло быть соглашение, и не ожидал также, чтобы они вдруг бросились на мою кучку зёрен: мне любопытно было знать, чем всё это кончится.
В продолжение нескольких дней они, по- видимому, находились в крайнем смущении; они бегали взад и вперёд по всем направлениям, некоторые из них возвращались очень поздно, из чего заключаю, что они очень далеко ходили за провизиею. Иные не находили того, чего искали, но я заметил, что они совестились возвращаться с пустыми руками.
Кому не удавалось найти пшеничное зерно, тот тащил ржаное, ячменное, овсяное, а кому ни одного зерна не попадалось, тот притаскивал комок земли.
Окошко, на котором они жили, выходило в сад и было во втором этаже дома; несмотря на то, муравьи, отыскивая зёрна, часто доходили до противоположной стороны сада; это была тяжёлая работа: пшеничное зерно совсем не легко для муравья; только что только может он тащить его, и доставить такое зерно в муравейник часто стоит четырёхчасовой работы.
А чего стоило бедному муравью взбираться с зерном по стене во второй этаж, головою вниз, задними ногами вверх? Нельзя себе вообразить, что делают эти маленькие насекомые в сём положении! Часто в удобном месте они останавливаются для отдыха, и число этих отдыхов может дать меру, до какой степени они приходят в усталость.
Случается, что иные едва могут достигнуть своей цели; в таком случае сильнейшие из их собратий, окончив собственное дело, снова спускаются вниз, чтобы подать помощь своим слабым товарищам. Я видел, как один маленький муравей тащил пшеничное зерно, употребляя к тому все свои силы.
После тяжкого путешествия, почти в ту минуту, когда он достиг ящика, поспешность или что другое заставило его оборваться, и он упал в самый низ. Подобные случаи отнимали у других мужество. Я сошел вниз и нашёл, что муравей всё ещё держит в лапках своё драгоценное зёрнышко и собирается снова подняться.
В первый раз он упал с половины дороги, в другой раз несколько выше, но во всех сих случаях он не расстался ни на минуту с своей добычей и не потерял мужества. Наконец, когда силы его совершенно истощились, он остановился, и уже другой муравей пришёл к нему на помощь. И в самом деле, пшеничное зерно стоило этих усилий: оно было белое, полное.
Если этот рассказ вам понравился, то когда-нибудь расскажу вам побольше об этих интересных тварях, потому что я наблюдаю их с давнего времени и всегда нахожу что-нибудь новое, любопытное, которое вполне вознаграждает меня за мои усилия.
Мне очень было весело доставлять моим муравьям разные маленькие удобства, и с тех пор я никогда не прохожу мимо муравейника, не вспоминая, что то, что нам кажется просто кучей сора, содержит в себе целое общество тварей деятельных, промышленных, которых сметливость и постоянство в исполнении своих обязанностей могут служить образцом для всего мира.
Эта мысль не позволяет мне никогда трогать муравейник и нарушать спокойствие его жителей. Посмотри, ленивый мальчик, посмотри на муравья и старайся последовать его примеру.
Сиротинка
У обгоревшей избы сидела, подгорюнясь, восьмилетняя сиротинка.
Вчера Божий гнев посетил её мачеху; ни с того ни с сего показался огонь из подполицы, пополз по брёвнам, выглянул в волоковое окошко, охватил соломенную крышку – да и выжег всё без остатка; едва домашние успели выскочить да кое-что хлама повынести; собирались и миряне с соседних домов; смотрели и дивовались, что горит изба словно свечка перед иконою; иные смекали, что если б не затишь, то несдобровать бы и целой деревне.
Ночью навалился снег и прикрыл пожарище; лишь торчали чёрные головни между сугробами да задымленная печка.
Утром взошло солнце: тихо смотрело оно сквозь алый туман и на пожарище, и на сиротинку; золотые искорки мелькали в воздухе; дым из труб низко тянулся между кровлями; тяжёлые возы скрипели по застылому снегу; колокольчик то звонко раздавался, то замолкал в далёкой степи…
По дороге бежал мальчик лет двенадцати, спустив рукава у рубашонки и похлопывая кулаками от холода.
– Бог помощь, Настя! – сказал он, поравнявшись с пожарищем.
– Спасибо, Никитка! – отвечала Настя печально.
– А мачеха где?
– Пошла милостыньку сбирать.
– А ты же что?
– А мне вот велела за хламом смотреть…
– А била мачеха больно?
– Нет, сегодня ещё не била…
– А вчера била?
– Вчера била…
– А за что?
– Известно, за дело: не будь голодна…
– Эвося! Голод-та не свой брат… Вот батька твой не таков был; бывало, и меня пряником кормил… Эка! Посадила девку… Ты смотри, рук-то не озноби…
– Нет, пока ещё солнышко греет… а вот как зайдёт, так и не знаю, что будет; вчера хоть у пожарища согрелись…
– А ты знаешь… хоть к нам приходи отогреться… право, приходи… матка слова не скажет… Ге, ге! Гнедко-то уплёлся, и не догнать его… Так, слышишь ты, приходи отогреться: у нас печка широкая…
Но Настя не пришла отогреваться; куда она девалась, Бог знает.
Говорили, что той порой у постоялого двора остановилась колымага, что вышла из неё какая-то боярыня, что увидела она Настю, что потом послали и за мачехой, и за сотским, что боярыня с ними долго толковала, а потом Настю усадили в колымагу.
А куда Настю увезли и зачем увезли, Никитка ни от кого не мог добиться; лишь мачеха, всхлипывая, говорила, что у ней по Насте сердце болит, а миряне поднимали её на смех и толковали, что она от барыни денежки неплаканные получила.
С тех пор прошло года четыре и больше. Одряхлела, обессилела Настина мачеха, с горя ли, с огневицы ли, что к ней припала; уж ходить ей стало невмочь.
Однако собралась с силами, пошла с поклоном к пономарю, и написал он ей грамотку к Насте о том, что-де пора ей домой воротиться, её, старую, приберечь, за неё по миру побродить, как умрёт – похоронить да за упокой души поминать.
Шли тогда парни в Питер, взялись ту грамотку передать и месяцев через шесть в самом деле передали её Насте.
Воротилась сиротинка в деревню, но уж мачехи не застала: преставилась горемычная. Но Настя не захотела жить мирским подаянием; она приютилась у дальней тётки – старушки доброй и не одинокой.
Начала Настя с того, что то сыну рубашку сошьёт, то дочери, а не то выстирает, да и маленьких детей то обмоет, то вычешет, то тётке к празднику ширинку вышьет. В деревне долго смеялись над сиротинкой, что она одета не по-нашенски, а ей, бедной, и перемениться было нечем; посмеялись, посмеялись, а потом попривыкли; а когда узнали про её рукодельство, то к ней же стали приходить: кому рубашку выкроить, кому повязку вынизать, кому плат обрубить.
Дошла весть о том и в соседние деревни, и в боярские домы, так что у Насти в работе и тонина завелась, и вышивала она для барышень оборки гладью и решёткою – всему свету на удивление. Вот – сперва гроши, потом гривны, ино место и рубли начали перепадать к сиротинке, и стала она тётке не в тягость, а в подмогу.
Пришло лето. В ясную погоду Настя выходила с работой на луг, что у погоста, и садилась под дубом; тут ни с того ни с сего начали к ней собираться ребятишки, сперва на неё поглазеть, а там и на то, что у неё за рукоделие?
Настя никого прочь не отгоняла, а, напротив, ещё сзывала: и с каждым днём всё больше и больше вокруг неё ребятишек набиралось. Иногда, по старой памяти, приходил сюда и Никитка; уперев руки в боки и выпучив глаза, он смотрел с удивлением на Настино рукоделье, прислушивался, о чём она толковала, и старался понять, где она так навострилась.
В то время поступил в село новый священник. Часто сиживал он у окна, с книгой в руке, а иногда поглядывал и на луг, где собирались ребятишки вокруг Насти. Детский говор так и рассыпался у открытого окошка.
– Эх! Матрёша, – говорила Настя одной девочке, – рубашонка-то у тебя разодралась, что бы тебе зачинить?
– И рада бы зачинить, – отвечала Матрёша, – да иголки нет.
– Вот тебе иголка! – сказала девочка постарше.
– А у тебя, Соня, откуда иголка взялась? – спросила Настя.
– Я у невестки взяла.
– Что ж, она тебе сама дала?
– Нет, куда! Она бы не дала, я сама взяла.
– Нехорошо, Соня!
– Ничего, у неё ведь много иголок, да и сама она на жнитво ушла, до вечера домой не придёт, ни за что не узнает.
– Хорошо, – отвечала Настя, – невестка-то не узнает, да другой кто-нибудь узнает… Ну, кто мне скажет: кто такой всё видит и знает, что мы делаем?
– Бог всё видит и знает! – отвечало несколько тоненьких голосов.
– Так видишь ли, Соня, – продолжала Настя. – Бог-то и видел, что ты украла чужое добро. Поди же, поди поскорее, отнеси иголку туда, откуда взяла, а я пока с Матрёшей своей поделюсь.
Соня покраснела, надулась, однако побежала в избу, через минуту опять возвратилась и сердито присела к кружку боком.
Между тем Настя всем дала работу: кому нитки мотать, кому верёвку плести, кому чулок вязать.
– А не рассказать ли вам сказочку, – сказала Настя.
– Да, сказочку, сказочку! – пролепетали дети.
– Ну-ка, посмотрим, – сказал Никитка, – мастерица ль ты сказки рассказывать, даром что ты на все руки.
– А вот, послушай, – отвечала Настя, – да только, чур, не перерывать!
Видишь ты, в одной деревне, недалеко отсюда, жил-был мальчик по имени Игнатий. Отец его, Прокофий, ходил в город в заработку да и Игнашу почасту водил с собой. В городе Игнаша приглянулся купцу.
«Оставь у меня малого-то, – говорил он Прокофью, – я его буду одевать, обувать и кормить, да ещё выучу его, так что он, пожалуй, когда придёт пора-время, и сам купцом станет». Прокофий подумал, подумал про свою бедность да бездомство и согласился. С тех пор жил Игнаша в городе, в большом доме и каждый день был обут, одет и накормлен.
И что ему купец ни поручал, Игнаша всё честно исполнял: и всякие товары, а ино место, и деньги носил, и никогда его купец ни в чём дурном не замечал.
Раз принесли купцу целый мешок серебряных гривенничков да пятачков, сроду Игнаша не видывал столько денег, и долго он любовался, смотря, как купец звенел по столу гривенничками и расставлял их в кучки, чтобы лучше счесть.
Вот купец счёл деньги, ссыпал их снова в мешок, мешок положил в сундук, запер и вышел вон со двора. Игнаша, глядь, ан на столе остался один пятачок, да такой хорошенький, новенький! Хотел было Игнаша закричать купцу, что пятачок забыл, да остановился, а остановившись, позадумался; а как позадумался, то на душе у него как будто кто и заговорил: ведь у купца целый мешок пятачков, что ему в одном?
Да и не заметит он, а тебе пригодится. Прислушался Игнаша к лукавой своей речи да и положил пятачок в карман. Купец и подлинно не заметил, а Игнаша купил пряник на пятачок, а как съел пряник, ещё захотелось. Улучив время, он у купца уже не пятачок, а целый рубль украл. И рубля стало ненадолго.
С тех пор напала на Игнашу тоска по деньгам; только и думал о том, как бы деньги стянуть. Сперва он крал по рублям, потом украл десять рублей, а потом всё больше и больше: да однажды, говорят, столько денег у купца стянул, что и не счесть.
Что ж вышло? Вот видели вы ономедни, вели по деревне колодников в цепях, в кандалах, и Игнаша с ними был – тоже колодник! И говорил он мне: «Ах, Настя, Настя! Пятачок меня погубил! С пятачка я начал, да вот до чего дошёл!»
Дети слушали молча, разинув рты, как вдруг Соня залилась слезами, бросилась на шею к Насте и проговорила:
– Я отнесла иголку… я вперёд не буду брать иголок у невестки.
– Хорошо сделала, – отвечала Настя, поцеловав её. – Ну, полно, полно: что было, то прошло; вперёд не делай.
Никитка повесил голову и крепко призадумался, потом подошёл к Насте, отвёл её в сторону и сказал, запинаясь:
– А за что же, Настя, ты меня-то обижаешь? Ведь я только подумал, а красть не крал, право слово, не крал.
– А таки подумал? – отвечала удивлённая Настя, улыбаясь.
– И не раз подумал, смотря, как отец деньги считает… Посмотрю я на тебя, Настя, никак ты колдунья!
– Колдунья не колдунья, а неспроста.
– Я и сам смекнул, что неспроста: как ты заговорила, так инда дрожь проняла и слеза пробила… так что теперь и думать не хочу…
– Смотри ж и не думай, а то опять узнаю.
– Нет, право слово, вот тебе Господь Бог, я думать брошу…
Между тем дети притихли. Настя обернулась к ним, ударив в ладоши, затянула песню, и все дети, став один за другим, принялись подтягивать ей всем хором и, ударяя в ладоши, мерным шагом ходили вокруг Насти, смеясь и ободряя друг друга, а за ними и Никитка туда же.
Священник с удивлением смотрел на эту необыкновенную в наших сёлах картину. Наконец он подозвал Настю к себе.
– Скажи мне, что ты делаешь с детьми? – спросил он.
– Да ничего, – отвечала Настя. – Учу их рукоделью, песни петь, молитвы читать.
– Доброе дело! – возразил священник. – И дети с тобой не скучают?
– Не знаю, может быть, им было бы веселее в деревне бегать, собак бить, да там, на конце, под ёлкою, слушать, как мужики песни орут и бранятся.
– Да отчего же они не убегут туда?
– Кажется, оттого, что им некогда: здесь им вокруг меня много работы: то одно, то другое. Когда замечу, что одно надоест, примусь их потешать чем другим: они как-то и позабудут и о собаках, и об ёлке, а время между тем идёт да идёт…
Священник задумался.
– Да кто же тебя-то этому научил? – спросил он наконец.
– Я и сама не знаю, батюшка, – отвечала Настя, – как я этому научилась. Жизнь моя уж такая была Божьим промышлением.
Видите, я из здешней же деревни; не было у меня ни отца, ни матери, а жила я при мачехе, оттого и пошло мне прозвище: сиротинка. Раз ехала здесь одна барыня; мы в ту пору погорели; лицо ли ей моё приглянулось, так ли она над нами сжалилась, только дала она мачехе денег, а меня увезла в Питер, к себе в дом.
На первых порах приводили меня к ней в хоромы, показывали меня гостям и лакомили, да велела она приходить к ней каждый день, чтобы обо мне не забыть. Только потом барыне стало как-то некогда: приду к ней, то она едет, то уехала со двора, то одевается, то гостей принимает.
Тем временем жила я у ней во дворе между чужими: грустна и темна была моя жизнь. Бывало, не только меня никто не приголубит, а иногда целый день и не накормят; и уж доставалось мне, горемычной, от слуг в барском доме: только и видела, что толчки, только и слышала, что зовут меня дармоедкой; говорили, что барыня взяла меня, да сама не знает зачем. Приходилось мне невтерпёж.
Однажды, проголодав целый день, поплелась я в барские хоромы и просила усильно, чтобы меня к барыне допустили. Как наконец доложили ей обо мне, я сквозь двери услышала, что барыня прогневалась и вскрикнула: «Ах, как она мне надоела!.. Не до неё мне теперь… Скажи, что после…»
Я вся так и обомлела. Не понимала я тогда, что со мной творится; знала только, что некуда мне головы приклонить. Часто хотелось до деревни добраться, чтобы по крайней мере с своими быть, хоть опять к мачехе, но как за это приняться – не знала.
И была я всё это время будто во сне и как собачонка лишь искала, где бы поесть да как бы на печке погреться да от побоев укрыться.
Однажды ключница взяла меня за руку и говорит: «Ну, пойдём-ка, нашли тебе место, не век тебе баклуши бить, вот я тебя в школу отведу, в ученье, там тебя каждый день сечь будут, забудешь день-деньской есть просить да съестное красть».
Я испугалась, затряслась всем телом, а делать было нечего, поплелась я за ключницей, думая, что тут и смерть моя будет. И теперь об этой минуте без ужаса вспомнить не могу. Пришли мы в какой-то дом, был он недалеко, вхожу – вижу: пропасть детей, моих же лет, сидят все рядышком на скамейках; и жутко и страшно мне стало.
Но вот подошла ко мне какая-то женщина: ключница поговорила с ней о чём-то, чего я не поняла, поговорила и ушла. Оставшись одна, я ещё больше испугалась, но незнакомая женщина, которая, как я узнала после, называлась смотрительницею, приласкала меня, вычесала, вымыла, дала мне сбитню и потом посадила на скамейку между другими детьми.
Дети пели песни, играли, бегали, ходили мерным шагом, но всё это мне казалось страшно, всё я дичилась, всё сидела поодаль и только того и ждала, скоро ли меня сечь станут: одно это я и понимала; но, однако ж, меня не высекли, а ещё накормили. К вечеру смотрительница опять меня приласкала, отпустила домой и велела на другой день приходить пораньше.
До дома, как я вам сказывала, было недалеко: всего двора через два. Хоть меня в школе и не секли, но я очень обрадовалась, что отпустили домой, прибежала я опрометью, нашла свой уголок, свернулась в клубок, крепко заснула и проспала бы до обедни, если бы повариха не выдернула из-под меня войлока и не толкнула ногою.
«Убирайся ты отсюда в школу, – сказала она, – и без тебя тут тесно». Не знаю, зачем поварихе хотелось меня выгнать, а сдаётся мне, что у ней в это время было на уме что-то недоброе и что я ей в чём-то мешала.
С испуга и не зная, куда деваться, я побежала в школу; помнила я, однако ж, что там вчера меня напоили сбитнем и накормили. Говорю вам, батюшка, что была я точно собачонка: только одну еду да побои понимала.
В школе меня опять приласкали, вычесали, вымыли, накормили: мало-помалу я стала привыкать и, смотря на других детей, делать то же, что они. Смотрительница показывала нам картинки, рассказывала сказки, учила петь, показывала нам деревянные дощечки и заставляла угадывать, какая на какой дощечке буква.
Сама не знаю, как промеж игры, пения, ходьбы я выучилась и грамоте, и выучилась кое-как писать; иногда приходил к нам и священник и поучал нас от Святого Писания.
В это время я будто начала просыпаться; стала понимать, что значит хорошо или худо делать, а всего больше научилась молиться. Скоро мне сделалось в школе так утешно и весело, что я и не замечала, как время проходило.
Когда приближался вечер, я уже нехотя возвращалась домой, где опять видела только толчки да слышала злые речи, но уже меньше прежнего, потому что я старалась уходить из дома как можно раньше и приходить как можно позже, так что днём меня никто не видал, а ночью все спали.
Так прошло два года, я не только привыкла к приюту (так называлась эта школа), но ещё скоро сделалась там из первых.
Часто приезжал к нам доктор, дамы, лаская меня, хвалили, повязывали мне на голову красный шнурок, часто ставили меня на подмостки и заставляли учить новоприходящих.
Наконец исполнилось мне десять лет, и раз смотрительница сказала мне, что ей очень меня жаль, но что мне нельзя больше оставаться в приюте, что я уже из лет вышла; что, однако же, за то, что я хорошо себя вела и хорошо училась, меня возьмут в другую школу, где я выучусь тонкому рукоделью.
Я узнала, что приют тот содержат прямо добрые люди, не из корысти, не из чванства, а так – за любовь.
Так и случилось. Перешла я на житьё в Частную школу (так называются такие школы в Петербурге), и сказали мне, что тою школою управляет Царевна. Это снова меня испугало, но девушки часто меж собою говорили, что Царевна – предобрая, и это меня успокоило.
Я уж была не так глупа, как прежде, не дичилась, а старалась прилежно учиться, работать и часто молилась Богу, чтобы Он помогал мне. Бог услышал мою молитву, и скоро моя работа стала из лучших. Выучилась я также чисто писать, читала я громко и явственно и всегда была исправна.
Часто в школу приезжала к нам и Царевна; она часто заставляла то одну, то другую из девушек читать или писать и пересматривала их работы, хвалила и хулила. Но меня Царевна как-то не замечала, и боялась я, и хотелось мне, чтобы она меня вызвала.
Вот однажды очередь дошла и до меня, так у меня коленки и подогнулись, но я скрепилась, сотворила в сердце молитву и вышла. Царевна милостиво спрашивала меня о разных вещах по нашему учению.
Кажется, мои ответы ей понравились; она заставила меня читать, писать, считать, спросила мою работу и всем так была довольна, что взглянула на меня, ангельски улыбнулась и сказала: «Хорошо, что ты прилежна – и тебе хорошо, и другим пригодится».
Я и плакала, и смеялась, то страшно, то как будто стыдно мне было, что дождалась я такого почёта, и хотелось мне, по-деревенски, прикрыться рукою, но рука не поднималась; то становилось мне отрадно и тепло на душе, и вспоминала я про старое время; как будто я снова на коленях у родимой матери, словно она поёт надо мною тихую песню и приголубливает.
Памятна была мне эта минута, никогда её не забуду. Как теперь гляжу в светлые, весёлые очи прекрасной Царевны, как теперь слышу её звонкие, серебристые речи…
Сначала я не совсем понимала их, хотя они часто приходили мне в голову, и лишь теперь я их вполне выразумела…
Между тем мачеха пред концом захотела со мною свидеться, я вышла из школы, откуда мне выдали денег в награждение, и возвратилась сюда.
Признаюсь вам, батюшка, что деревня показалась мне совсем иною, чем прежде.
Не то чтобы я возгордилась, но не могла я не спросить себя: отчего я умею и читать и писать и знаю всякое рукоделье, и опрятно я одета, и могу себе хлеба кусок добыть, а другие, такие же как я, из той же деревни, живут себе так, а маленькие дети даже не знают, какой рукой перекреститься, правой или левой.
И пришло мне на память прежнее моё житьё в той же деревне, и как я так же не знала, какой рукой перекреститься и отчего я стала совсем иная.
И тогда вспомнила я слова доброй, прекрасной Царевны, и стали они мне понятны. Показалось мне, что снова смотрят на меня её светлые, весёлые очи и будто велят они мне приберечь её добро, чтобы оно не пропало.
Тогда стала я собирать вокруг себя ребятишек и стала их забавлять и учить, как меня забавляли и учили. Бог благословил мои силы: ребятишки ко мне привыкли, а я отвожу их от худого, и часто, как задумаюсь в моём кружке, чудятся мне весёлые очи Царевны и как будто поощряют меня.
– Хорошее дело ты затеяла, – отвечал отец Андрей. – Но, добро, теперь лето, на поле простор; ну, а зимой-то как тебе быть?
– Да уж и сама не знаю, – отвечала Настя. – У тётки в доме тесно, семья большая.
– Так и быть уж, я тебе помогу, – отвечал отец Андрей. – Есть у меня светелка особая: как холода настанут, а ино место и в дождик, собирай свою мелюзгу к нам в светелку.
В ином чем тебе жена подсобит, да и я когда поучу, а теперь вот пока тебе книжка, да ещё с картинками. Поди толкуй её с своими ребятишками, а я послушаю, чтобы ты подчас сама не завиралась.
– Спасибо, батюшка, – отвечала Настя, – такой радости не чаяла, и ты сам меня будешь учить?
– И я сам буду тебя учить.
– И матушка будет мне подсоблять?
– И матушка будет тебе подсоблять.
– И светелку дашь?
– И светелку дам.
Настя захлопала в ладоши, все ребятишки собрались вокруг неё, они громким хором запели какую-то детскую песню, которую Настя затягивала лишь в самых торжественных случаях.
Так и пошло дело на лад. Ребятишки по-прежнему собирались вокруг Насти. Когда она отлучалась, жена священника занимала её место, а иногда и отец Андрей, когда был свободен от духовных треб, приходил, садился на скамейку под дубом и учил и учеников, и учительницу.
Когда крестьяне узнали об этом, то уже стали сами посылать детей к Насте, а иные и сами приводили, да, приводя, останавливались и прислушивались и даже потихоньку плакали от умиления. Ино место и мужик забывал об ёлке в праздник, засматриваясь на потеху детей, и часто мать стыдила взрослого сына, показывая ему на маленьких.
Скоро Настя, при пособии матушки, достигла до того, что не только лохмотья на ребятишках были зашиты, но и сами уже матери, посмотрев раз-два на детей чистых, опрятных, уже стыдились водить их замарашками, да и сами, глядя на детей, сделались попорядочнее.
Зимою в светелке отца Андрея мало-помалу завелись и доски с песком, на которых дети чертили буквы, а потом, гляди, и скамейки.
Почётный смотритель училищ, проезжая раз по деревне и заглянув в светелку отца Андрея, подарил большую чёрную доску с мелом, с дюжину грифельных досок да столько же разных детских книжек, вот какая завелась роскошь!
По воскресеньям дети парами ходили в церковь, не кричали и не зевали по сторонам, как бывало, а тихо становились на клирос и подтягивали дьячку, а миряне, тронутые детскими чистыми голосами, молились усерднее прежнего.
Настя радовалась и благодарила Бога за то, что Он благословил её дело, и вспомнила слова Царевны.
Между тем часто Никита заглядывался на Настю, и даже старики толковали, что не худо бы ему было такую добрую хозяйку себе нажить, но ещё откладывали до поры до времени. И до Насти доходили о том слухи, только что-то они её не радовали; ни с того ни с сего тоска напала на сиротинку, всё ей что-то становилось грустно, и когда отец Андрей спрашивал, что с ней такое, Настя отвечала:
– И сама не знаю, откуда эта грусть и зачем она, а только грустно мне, очень грустно: как будто чует сердце что-то недоброе, ничто меня не веселит.
По-прежнему во сне и наяву чудятся мне очи моей прекрасной Царевны, но мне всё кажется, что её светлые очи тускнеют. Я смотрю на них, и мне становится жалко, так жалко, что проснусь, и слёзы льются у меня из глаз, и на весь день остаётся на сердце такая грусть, что и сказать нельзя.
Отец Андрей утешал Настю, сколько мог, но понапрасну: она по-прежнему исправляла дело своё, собирала детей, толковала с ними, пела с ними вместе и вдруг останавливалась, и слёзы лились из её глаз сами собою, и она невольно начинала потихоньку молиться.
Между тем дни шли за днями, а Настя с каждым днём всё больше грустила и тосковала, с каждым днём всё больше худела и разнемогалась.
– Тускнут, тускнут весёлые очи моей прекрасной Царевны! – говорила она. – Чует моё сердце недоброе: молитесь, дети, за мою Царевну.
Дети не понимали её, но становились на колени и тихо молились о доброй Царевне.
– Нет силы больше, – сказала однажды отцу Андрею. – Во что бы то ни стало, а пойду в Питер, наведаюсь, что сталось с моею Царевною…
Но уже было поздно: силы оставили бедную сиротинку: кашель разрывал её грудь, тело её высохло и сделалось почти прозрачным, виски и щёки ввалились, и пальцы её дрожали. Уже Настя не могла сходить с места, едва могла говорить и только творила внутреннюю молитву.
Однажды, когда домашние, собравшись вокруг Насти, старались как могли облегчить её страдания и бедный Никитка сам не свой стоял у изголовья умирающей, вдруг Настя вскрикнула:
– Ничего мне теперь не надобно, потухли очи моей Царевны; нет её больше на свете, нет моей родимой… Позовите отца Андрея…
То были последние слова сиротинки… Священник пришёл, благословил, наставил её на путь в ту обитель, где нет ни печали, ни воздыхания, но – жизнь бесконечная…
И не стало на земле сиротинки…
В то время в царских чертогах плакали над другою потерею.
Шарманщик
Как вы счастливы, любезные дети! У вас есть маменьки, которые о вас заботятся: чего бы вы ни захотели, что бы вы ни задумали, – всё готово для вас.
Несколько глаз смотрят за каждым вашим шагом. Подойдёте близко к столу, – несколько голосов на вас кричат: берегись!.. – не ушибись!.. Вы занемогли, – маменька в беспокойстве, весь дом в хлопотах: являются и родные, и доктор, и лекарства: маменька не спит ночью над вами, заслоняет вас от ветра, а когда вы заснёте в своей мягкой постельке, тогда никто в доме не смей пошевелиться.
Едва вы проснётесь – маменька улыбается вам, и приносит вам игрушки, и рассказывает сказочки, и показывает книжки с картинками. Как вы счастливы, милые дети!
Вам и в голову не приходит, что есть на свете другие дети, у которых нет ни маменьки, ни папеньки, ни мягкой постельки, ни игрушек, ни книжек с картинками. Я расскажу вам повесть об одном из таких детей.
Ваня, сын бедного органного музыканта (одного из тех, которых вы часто встречаете на улице с органами или которые входят во двор, останавливаются на морозе и забавляют вас своею музыкою), Ваня шёл рано поутру с Васильевского острова в Петропавловскую школу. Не безделица была ему, бедному, поспевать каждый день к назначенному времени. Отец его жил далеко, очень далеко, в Чекушах.
Ваня в этот день вышел особенно рано; ночью слегка морозило, льдинки хрустели под ногами бедного Вани, который в одной курточке перепрыгивал с камешка на камешек, чтобы лучше согреться.
Несмотря на то, он был весел, прикусывал хлеб, который мать положила ему в сумку, повторял урок, который надобно ему было сказать в классе, и радовался, что знает его хорошо, – радовался, что в это воскресенье не оставят его в школе за наказанье, как то случилось на прошедшей неделе; больше у него ничего не было в мыслях.
Уж он перешёл через Синий мост, прошёл Красный и быстро бежал по гранитному тротуару Мойки, как вдруг Ваня за что-то запнулся, смотрит, – перед ним лежит маленький ребёнок, закутанный в лохмотья. Ребёнок уже не кричал: губки его были сини; ручки, высунувшиеся из лохмотьев, окостенели.
Ваня очень был удивлён такой находкой; он посмотрел вокруг себя, думая, что мать ребёнка оставила его тут только на время, но на улице никого не было. Ваня бросился к ребёнку, поднял его и, не зная, что делать, стал было целовать его, но испугался, – ему показалось, что он целует мёртвого.
Наконец ребёнок вскрикнул, Ваня очень этому обрадовался, и первая мысль его была – отнести его к себе домой; но, прошедши несколько шагов, он почувствовал, что эта ноша была для него слишком тяжела, и сверх того он заметил, что его найдёныш дрожал и едва дышал от холода. Ваня был в отчаянии.
Он скинул с себя курточку, накинул её на младенца, тёр у него руки, но всё было напрасно: ребёнок кричал и дрожал всем телом. Посмотрев снова вокруг себя с беспокойством, он увидел стоявшего близ дома сторожа, который хладнокровно смотрел на эту сцену. Ваня тотчас подошёл к нему с своею ношею.
– Дядюшка, – сказал он, – пригрей ребёнка.
Но сторож, чухонец, не понимал слов его и только качал головою. Ваня сказал ему то же по-немецки. Маймист опять его не понял. Ваня не знал, что делать; он видел, что минуты были дороги, что одна скорая помощь могла спасти оледенелого ребёнка. В это время из дома вышел какой-то господин и, увидев Ваню, спросил его:
– Чего ты хочешь, мальчик?
– Я прошу, – отвечал Ваня, – чтоб взяли и согрели этого ребёнка, пока я сбегаю за батюшкой.
– Да где ты взял этого ребёнка? – спросил незнакомец.
– Здесь на тротуаре, – отвечал Ваня.
Господин взял ребёнка на руки и дал знак Ване, чтоб он за ним следовал. Они вошли в дом.
Незнакомец спросил у Вани:
– Для чего ты хочешь идти за своим отцом?
– Для того, – отвечал Ваня, – что мне одному не донести до дому этого ребёнка.
– Да кто ты?
– Я сын органного музыканта.
– Так твой отец должен быть очень беден?
– Да, – отвечал Ваня, – мы очень бедны. Батюшка ходит по городу с органом, матушка учит собачек плясать: тем мы и кормимся.
– Ну, так где же ему содержать ещё ребёнка! Оставь его здесь. – Ваня был в недоумении. Незнакомец, заметив это, сказал: – Говорю тебе, оставь его здесь: ему здесь будет хорошо.
Между тем, как они говорили, вошедшая в комнату женщина раздела ребёнка, вытерла его сукном и начала кормить грудью.
Ваня видел, как заботились о его найдёныше; он понимал, что незнакомец говорил ему правду и что отцу его невозможно будет содержать нового питомца; но всё ему жаль было с ним расстаться.
– Позвольте мне, – сказал он сквозь слёзы, – хоть иногда навещать его?
– С радостью, – отвечал ему незнакомец, – и я тебе дам средство узнавать его между другими.
– Как между другими? – спросил Ваня.
– Да, – отвечал незнакомец, – таких детей здесь много; пойдём, я тебе их покажу.
Незнакомец отворил дверь, и Ваня с чрезвычайным удивлением увидел пред собою ряд больших комнат, где множество кормилиц носились с младенцами: иные кормили их грудью, другие завёртывали в пелёнки, третьи укладывали в постельку.
Это был Воспитательный Дом – благодетельное заведение, основанное императрицею Екатериною II.
Я называю её, любезные дети, чтоб это имя врезалось в сердце вашем. Впоследствии, учась истории, вы узнаете много славных дел в её жизни, но ни одно из них не может сравниться с тем высоким христианским чувством, которое внушило ей быть матерью сирот беспомощных.
До неё несчастные дети, брошенные бедными или жестокосердыми родителями, погибали без призрения. Она призрела их и назвала себя их матерью.
Когда Ваня с незнакомцем возвратились снова в прежнюю комнату, Ваня увидел, что его найдёныш был уже и обмыт, и обвит чистыми пелёнками.
– Что? Найдено ли что в лохмотьях? – сказал незнакомец кормилице.
– Ничего, – отвечала кормилица.
Тогда незнакомец велел принести крест с номером и написал на особенном листке: «N 2332 младенца, принесённого 7 ноября 18.. года сыном органного музыканта, Карла Лихтенштейна, Иваном, в С.-Петербургский Воспитательный дом» и проч.
И долго еще после того Ваня навещал своего найдёныша, которому дали имя Алексей. Алексей скоро привык узнавать Ваню и, когда Ваня входил, протягивал к нему свои ручонки.
* * *
Много лет протекло с тех пор. Надобно вам сказать, что отец Вани в молодости был музыкальным учителем; он давал уроки на фортепиано и на скрипке и тем добывал для себя и для семейства безнуждное содержание.
Продолжительная болезнь лишила его учеников; когда он несколько выздоровел, место его во всех домах было уже занято другими учителями; новых учеников он не находил, а если и находил, то ненадолго, ибо возобновлявшиеся припадки принуждали его опаздывать, а часто и совсем не приходить к урокам.
Мало-помалу Лихтенштейн впадал в нищету, мало-помалу всё его небольшое имущество распродано было для того, чтобы достать денег на хлеб, и, наконец, он принужден был приняться за ремесло уличного музыканта.
Года четыре спустя после рассказанного нами происшествия с Ваней отец его, думая больше выручить денег по разным городам, нежели в Петербурге, отправился в путь вместе с своею женою и Ванею.
Они ездили по ярмаркам; отец с сыном показывали марионетки, мать вертела орган. Иногда же на долю Вани доставалось вертеть орган; тогда мать играла на арфе, а отец на скрипке. Переход от безнуждого состояния к крайней нищете вконец расстроил здоровье стариков.
Впоследствии, от трудов ли, от того ли, что часто принужден был отказывать себе во всём нужном, от недостатка ли в пище, в одежде, – отец Вани так занемог, что не был более в состоянии даже вертеть орган.
Ваня с матерью на последние деньги купили лошадь с телегою и на ней перевозили из города в город больного Лихтенштейна, ибо когда они долго оставались в одном городе, то скоро сбор их прекращался, и они принуждены были выезжать в другое место; что они получали, то употребляли себе на пищу.
Как часто Ваня, оставляя отца своего без куска хлеба, сам голодный, дрожа от стужи, промоченный до костей, сквозь слёзы заставлял кукол своих хохотать или, показывая китайские тени, рассказывал забавные истории и тешил ими своих маленьких зрителей; а часто случалось, что зрители были недовольны им, находили картинки стёртыми, стекло не довольно светлым.
Смерть была на душе у Вани, а он принужден был выдумывать остроумные ответы, смешные анекдоты, чтобы как-нибудь укротить гнев маленьких настойчивых судей своих, от которых зависела жизнь его отца, его матери, его самого.
Любезные дети! Вы не знаете, что такое смеяться сквозь слёзы, и вы, может быть, не поймёте, как у Вани было тяжело на сердце.
Бедное семейство, наконец, решилось возвратиться в Петербург, где, по старой привычке, они снова надеялись получить больше пособия. Отец Вани не доехал до Петербурга; он умер на дороге.
Похоронив его, как могли, поплакав, погрустив, Ваня с матерью продолжали свой путь и, наконец, дотащились до Петербурга. По счастью, нашли они на старой своей квартире некоторых из прежних своих товарищей, которые с радостью приняли их в свою артель.
Ваня от природы был слаб здоровьем; ему было уж лет двадцать восемь, но, смотря на него, можно было его принять за старика: так беспрестанная нужда и горесть изнурили его; часто и сам он не мог выходить, часто не мог и оставить мать свою.
Товарищи на них роптали, упрекая Ваню в лености, и когда он с матерью садился за скудный обед, почти каждый кусок хлеба дорого им доставался.
Однажды после долговременной её болезни, которая требовала беспрестанного присутствия Вани, сотоварищи его объявили ему, что ежели он в этот день не заработает сколько-нибудь денег, то они не дадут ни крохи хлеба ни ему, ни его матери, а на другой день сгонят их с квартиры.
Скрепя сердце, полубольной, Ваня с трудом взвалил на плечи тяжёлый орган и вышел из дому на шумные петербургские улицы. Кто бы из проходящих подумал, слушая весёлую песню, которую он наигрывал на органе, что в этом человеке жизнь боролась со смертью и что самые чёрные мысли проходили в его голове и сердце.
В этот день Ваня был особенно несчастлив: тщетно проходил он мимо домов, показывая сидевшим у окна детям свои прыгающие куколки; тщетно входил во дворы и до изнеможения сил вертел рукоятку своего осиплого инструмента, – никуда его не позвали, ни гроша денег ему не было брошено!
Уже поздно к вечеру Ваня, с отчаянием в сердце, возвращался домой; ужасная участь его ожидала: оставалось ему заложить свой орган, единственное средство к пропитанию, потом проесть вырученные за то деньги, потом умереть с голоду. Когда Иван проходил чрез перекрёсток многолюдной улицы сквозь толпы народа, проскакали сани и зашибли женщину, шедшую подле Вани.
Женщина упала без памяти. Ваня, движимый чувством сострадания, бросился к ней на помощь. Столпился народ, явились полицейские служители; сани были уже далеко. Одни в толпе кричали, что сани задели женщину, другие толковали, что органщик, попятившись, зашиб её своим органом; сама женщина была без языка.
Ваня найден наклонившимся над нею; к тому же он, как ближайший свидетель, мог точнее рассказать, как было дело, и полицейские служители рассудили взять вместе с зашибленною женщиною и органщика.
Ваня знал свою невинность и был уверен, что его продержат недолго, но это «недолго» могло быть дня два или три, а в продолжение этого времени что могло случиться с его матерью? В этот день и так уже у неё не было ни куска хлеба, а назавтра жестокосердые товарищи могли вытолкнуть на мороз больную, едва дышащую мать его.
Тщетно он уверял в своей невинности, тщетно упрашивал – полицейский служитель готов уже был связать ему руки назад, когда его остановил человек, хорошо одетый, который давно уже наблюдал эту сцену и приблизился в ту минуту, когда для органщика не было уже спасения.
Он остановил полицейского служителя, сказал ему своё имя и квартиру, прибавил, что он был свидетелем не только невиновности, но даже великодушного поступка органщика, и, после долгих переговоров, убедил блюстителя благочиния отдать ему Лихтенштейна на поруки.
Убеждённый ли его словами, или потому, что он знал в лицо незнакомца, полицейский служитель согласился на его предложение. Когда бедный Ваня избавился от рук своего страшного неприятеля, тогда незнакомец сказал ему:
– Ну, теперь ступай своей дорогой, да скорее.
Ваня, поблагодарив незнакомца за его участие, сказал ему:
– Милостивый государь! Вы мне сделали благодеяние большее, нежели вы думаете, но оно будет для меня ничем, если вы мне ещё не поможете.
– Что тебе надобно? – спросил незнакомец.
– Вы, я вижу, человек добрый, – продолжал Ваня. – Дайте мне денег.
– Не стыдно ли тебе, молодому человеку, просить милостыню? Ты можешь работать.
– Если б мог, то не просил бы у вас! Сегодня уже поздно работать, а мне деньги нужны сегодня! – отвечал Ваня отчаянным голосом.
Этот голос поразил незнакомца.
– Где ты живёшь? – спросил он.
– В Чекушах, в доме мещанки Р***.
– Как спросить тебя?
– Спросите органщика Лихтенштейна.
– Лихтенштейна? – вскричал незнакомец, положил руку на голову и задумался. Пристально посмотрел он на Ваню и сказал: – Вот тебе пять рублей; постарайся завтра поутру быть дома, я приду к тебе.
– Ко мне? – вскричал в изумлении Ваня; так удивило его столь небывалое участие в судьбе его.
Они расстались.
На другой день Ваня печально сидел у постели своей больной матери. Вчерашняя его ходьба, случившееся с ним происшествие, всё это так расстроило его, что он едва держался на полуразвалившейся скамье. Пять рублей были отданы в общую артель: они едва уплачивали то, что следовало за прожитое матерью и сыном.
Не надеялся он на посещение незнакомца; не раз уже с ним бывали подобные случаи; часто люди, тронутые его выразительною физиономиею, также расспрашивали о его житье-бытье, его квартире – и забывали; ибо много людей на свете, которые и способны пожалеть о судьбе несчастного, но много ли таких, которые будут помнить о ней и возьмут на себя труд докончить доброе дело?
Но на этот раз Ваня обманулся. Ещё не благовестили к обедне, когда вчерашний незнакомец вошёл в тёмную каморку Вани. Ваня как будто оторопел: ему было стыдно своей бедности; он хотел и не смел предложить гостю единственный изломанный стул, стоявший в комнате, но гость скоро прекратил его недоумение.
– Скажи мне, – сказал он трепещущим голосом, – сколько тебе лет?
– Тридцать, – отвечал Ваня.
– О, так это не то, – сказал с горестию незнакомец, – скажи мне, не было ли у тебя отца или какого родственника, который когда-нибудь жил на этой квартире?
– Отец мой жил здесь, – отвечал Ваня, – но он уже умер.
– Не его ли звали Иван Лихтенштейном? – спросил незнакомец.
– Нет, – отвечал Иван, – но так меня зовут.
– Знаешь ли ты, – продолжал незнакомец с ежеминутно возраставшим волнением, – N 2332 Воспитательного Дома?
Дрожа сам не зная отчего, Ваня в истёртом книжнике отыскал записку, более двадцати лет тому назад полученную им из Воспитательного Дома, и показал незнакомцу.
Едва молодой человек взглянул на неё, как бросился в объятия Вани:
– Спаситель мой!.. Отец.
– Как!.. неужели? – говорил Ваня прерывающимся голосом. – Вы… ты!.. Алёша!
И оба они плакали, и оба долго не могли выговорить ни слова.
* * *
Для объяснения сей истории нужно прибавить, что Алёша, найденный Ванею и воспитанный в Воспитательном Доме, показал необыкновенные дарования к живописи. Из Воспитательного Дома он поступил в Академию и скоро сделался известным живописцем. Нажив достаточное состояние своим искусством, он вспомнил о том, кому одолжен был жизнию.
По журналу Воспитательного Дома, в котором записываются все обстоятельства, случившиеся при поступлении в оный младенцев, ему легко было узнать и имя Лихтенштейна, и его квартиру; но когда он наведывался о нём, тогда Лихтенштейнов не было уж в Петербурге, и никто не мог дать ему ни малейшего о них известия, пока случай не свёл его с своим избавителем.
Ваня вместе с матерью переселился к своему Алёше.
Спокойная жизнь и довольство возвратили здоровье несчастным, и они до сих пор живут вместе. Иван, вспомнив некоторые уроки музыки, переданные ему отцом, посвятил себя сему искусству и достиг до того, что теперь сам может давать в ней уроки и тем увеличивать общие доходы.
Скачать книгу Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке»
Вместе с вами читала сказки Валентина Киденко

Комментировать