Июль-Август
Кирилл, архиеп. Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна [Кн. 3: гл. 1–2 (Ин.5:35–40)] / Пер. и примеч. М.Д. Муретова // Богословский вестник 1901. Т. 2. № 7/8. С. 385–400 (1-я пагин.). (Продолжение.)
—385—
святой скинии, после устроения десяти завес, говорит к священно-начальнику Моисею: „и ты заповедай сынам Израилевым, и да возьмут для тебя елей из маслин, без осадка, чистый, выжатый, для возжжения света, дабы горел светильник всегда в скинии свидетельства вне завесы, что над Заветом: зажигать будет его Аарон и сыновья его с вечера до утра, пред Господом – (это) узаконение вечное в роды ваши от сынов Израилевых: и ты приведи к себе Аарона, брата твоего, и сыновей его, от сынов Израилевых священнодействовать Мне“ (Исх.27:20–21,28:1). На этом да престанет божественное откровение, и перейдём уже к посильному изъяснению его. Елеем чистым и без выжимок, кажется, обозначает чистейшую и совершеннейшую природу Духа Святого, которая, входя в нас непостижимым для нас образом, подобно елею, питает, поддерживает и умножает в душе нашей освещение, как в светильнике находящееся. Так и божественный Креститель, веруем, воссиял светом свидетельства о Спасителе нашем, не отинуду получив силу световождения, как через умственный елей, способный и годный к возжжению божественного света в нас, на который прикровенно указал и Сам Спаситель в словах: „огонь пришёл Я низвесть на землю и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!“ (Лк.12:49). Итак, блаженный Креститель был светильник, всегда в скинии свидетельства, как опять в прообразе, горящий и светящий. Что он светит в скинии свидетельства, этим прекрасно указывается на то, что принято в церквах освещение от него и оно должно находиться не вне священного и божественного двора Спасителева. Впрочем, светильник оказывается вне
—386—
завесы, чем указывается на то, что он (Креститель) должен вносить простейшее и предварительное только освещение, говоря: „покайтесь, ибо приблизилось царство небесное“ (Мф.4:17), но он не открывает ничего из сокровенного внутри завесы, очевидно из тайн нашего Спасителя, ибо не крестил в причастие Святого Духа и не внёс освещение от Него во внутрь завесы, а был во внешней (первой) скинии, „имевшей ещё стояние“ (Евр.9:8), по слову Павла1085. Если же говорит, что „будет возжигать его Аарон и сыны его от вечера до утра пред Господом – (это есть) закон вечный в роды ваши“, то и эти слова, думаю, должно толковать подобным же образом. Аарон и сыны его означают священнодействующих в своё время в церквах, то есть учителей в них и служителей божественных жертвенников. Им повелевается всегда сохранять сияющим умственный светильник, то есть Иоанна, на что указывают слова: „будут возжигать его от вечера до утра“. Ведь всё то время, в которое подобало светиться свету светильника, есть продолжительность ночи, через которую знаменуется мера настоящего века, – а под светом разумеем будущий век. Впрочем, горит или сияющим сохраняется светильник, давая всегда приятное верующим в Христа освещение Его и голосом служащих, каждого в своё время, священников будучи свидетельствуем, что истинен говорящий это.
А чтобы научить тебя тому, что через это прообразовывал Спасителева предвозвестника, Бог тотчас же присоединяет избрание священнослужащих.
—387—
Обдумай всё содержание главы, и ты придёшь опять к такому, как мне кажется, не бесплодному созерцанию. При окончании скинии приводится установление о светильнике, после чего тотчас же следует избрание и назначение священников. Это потому, что при конце закона и пророков воссиял Предтечи „глас вопиющего в пустыне, как написано: приготовьте путь Господень, прямыми делайте стези Бога нашего“ (Ис.4:3; Мф.3:2), – после которого тотчас же последовало избрание и объявление через Христа святых Апостолов, ибо избрал Господь „Двенадцать, коих и апостолами наименовал“ (Лк.6:13).
На этом покончив наше рассуждение о светильнике, обратимся опять к изречению Спасителя: „он был светильник, говорит, горящий и светящий, вы же пожелали возрадоваться на час в свете его“. Обвиняет и обличает опять невежественное и упрямое отношение к послушанию со стороны фарисеев, как страдавших несравненною грубостью, – кои не были в состоянии понимать даже то, чего знатоками возвещались, и оказались весьма далёкими от точного законоведения, совершенно не зная того, что Законодатель, как в образах, предначертал через Моисея. Словами: „светильник был он, горящий и светящий“, по нашему мнению, постыжает ещё не уразумевших того, что уже давно начертано прикровенно в прообразах закона. А в словах: „вы же пожелали возрадоваться на час в свете его“ опять представляет их всегда предпочитающими вышнему решению свою волю и обвыкшими следовать одним только собственным своим желаниям. Между тем как Законодатель, говорит, постановил светить и гореть светильнику всегда, вы пожелали гореть ему не навсегда,
—388—
но на один час, то есть на совершенно малейшее время. Удивившись ему в начале, вы, насколько это вас самих касалось, загасили свет светильника, безумно восставая на посланного от Бога, и не только сами отказываясь креститься, но и препятствуя крестить других. Так они посылали к нему, говоря: „за чем же крестишь!“ (Ин.1:25), – то есть: зачем просвещаешь к покаянию и познанию Христа? Итак, подвизаясь опять за Иоанна, Спаситель возлагает на неразумных книжников и фарисеев обвинение в глупости и беззаконии. Это, думаю, уразумев и прекрасно разобрав, и блаженный Лука обвиняет их безумие, говоря: „и весь народ, слышав, очевидно слова Спасителя, оправдал Бога, крестившись крещением Иоанна: а фарисеи и законники волю Божию отвергли в себе, не крестившись от него“ (Лк.7:29–30).
Ин.5:36–37. Аз же имам свидетельство более Иоаннова: дела бо, яже даде Мне Отец, да совершу Я, та дела, яже творю, свидетельствуют о Мне, яко Отец Мя посла. И Пославый Мя Отец Сам свидетельствова о Мне1086.
Хотя и был, говорит, он светильником, прообразован в постановлениях закона и предвозвещён гласом святых пророков, как имевший некогда явиться для предвоссияния Истинному Свету и возвещения среди нас о том, что подобает делать благоустроенным путь Господа и Бога, – но если вам может казаться недостоверным даже и тот,
—389—
кто столь велик в добродетели, по присущему вам необузданному и нелепейшему безрассудству, то перехожу уже к большему, против чего вы, естественно ожидать, не должны уже предъявлять какого-либо возражения, стыдясь, даже против своей воли, пред самой красотой истины. Не словами уже и решениями человеческими славлюсь и не стану считать нужным собирать свидетельства о Себе из одних только слов, но предоставлю Себя досточуднейшему и гораздо большему сказанного и из самого уже величия дел открываю ясно, что Я – Бог по природе и явился из Бога Отца: вреда же Моим законам Я не причиняю никакого, если преобразую их по Своей воле и прикровенно сказанное древним из грубой буквы превращаю в духовное созерцание.
Любознательный да обратит опять своё внимание на то, что Спаситель в словах о свидетельстве дел в пользу Его божественной природы ясно научает тому, что не допустимо было бы иметь кому-либо всецело подобающую Богу силу и действенность, если и Сам Он не будет Богом по природе, ибо Он свидетельствуется через дела не другим каким, думаю, образом, но этим самым. Ведь если Он является Совершителем дел Родителя и то, что оказывается вполне подобающим Тому только Одному, это Он исполняет и Сам Своей силой: то разве не ясно должно быть каждому, что Он унаследовал тожественную с Ним природу и, блистая свойствами Родителя, как сущий из Него, имеет равную с Ним силу и действенность?
Впрочем, от Него, говорит, получил дела: или по образу человечества и зраку раба говоря это как бы уничижённее, чем надлежало, и домостроительно, –
—390—
или же именем даяния обозначая благоволение и согласие Бога и Отца во всех чудесных деяниях. Так утверждает Он и то, что послан, как умаливший Себя1087, согласно написанному (Флп.2:7). ради любви к нам, по отношению к истинно подобающему Богу достоинству. Он унизил Себя, и это уничижение унижения мы можем находить не в других способах, как в тех, какими Он иногда говорил, как человек. С этим согласуется через Псалмопевца сказанное от Него опять ради нас человекообразно: „Я же поставлен царём от Него над Сионом, горою святою Его, возвещать повеление Господне“ (Пс.2:6–7). Будучи царём всегда с Отцом, со-престольный и со-восседающий с Ним, как Бог с Богом Родителем, Он, говорит, рукоположен в Царя и Господа, называя получающим то, что как Бог имел, когда явился человеком, которому по природе не свойственно царствовать, но как имя, так и дело господства ему конечно только даётся отъинуду.
Глава II. О том, что Сын есть образ Бога и Отца, – причём (даётся) и обличение против Иудеев, как не разумеющих того, что Моисеем сказано более прикровенно.
Ин.5:37–38. Ни гласа Его нигдеже слышасте, ни видения Его видесте: и словесе Его не имате в вас пребывающа,, зане, егоже посла Той, Сему вы веры не емлете1088.
Не простое только построение мыслей, вложенное в предложенное опять речение, можно видеть здесь,
—391—
но великое множество сокровенных созерцаний, весьма легко ускользающих от внимания нелюбознательных слушателей, а доступных только более глубоким исследователям. Например, может кто-либо спросить: что же побудило Иисуса после слов о засвидетельствовании Его божественной действенностью (Ин.5:36–37) прийти к речи, подобной предложенной и от предыдущей весьма отдалённой, именно, что Фарисеи никогда не слыхали голоса Бога и Отца, ни также не созерцали вида Его, но даже не имеют и слова Его живущим в них? И я соглашусь, как, полагаю, и всякий другой, что такое недоумение со стороны кого-либо не было бы излишним. Какой же поэтому смысл будем соединять с предложенным изречением и какое умозрение применим к нему, это, держась повсюду истины, попытаюсь высказать, при содействии силы и благодати Духа.
Обычай есть у Спасителя Христа, при ведении полезных бесед, особенно с неразумными фарисеями, часто устремлять взор Свой в глубину их сердца, – боголепно усматривать помыслы, ещё без слов обращающиеся и движущиеся в душе и преимущественно на них-то и давать ответы, говорить иногда о них и обличать их, причём совсем не соблюдает неразрывной связи своих речений, но (Своим ответом) тотчас же встречает то, чего те желают и о чём помышляют в себе, и через это являя, также что Он есть Бог по природе, как ведущий сокровенное в глубине и испытующий сердца и ут-
—392—
робы. Очевиднейшее доказательство сказанному можно, если кому угодно, получить у других евангелистов, – разумею, у Луки и прочих.
В евангелиях написано, что некогда собрались со всей окрестности Иудейской фарисеи и законоучители. „И вот, сказано, мужи несут на постели человека, который был расслаблен, и старались его внести и положить пред Ним. И не нашедши, где внести его, по причине толпы, взошедши на дом через черепицы (кровли) спустили его с постелью1089 в средину пред Иисуса. И видя веру их, сказал расслабленному: человек, отпускаются тебе грехи твои. И начали размышлять книжники и фарисеи, говоря: кто есть Сей, Который говорит хулы? Кто может отпускать грехи, кроме одного Бога? Уразумев же Иисус, сказано, размышления их, отвечав, сказал к ним: что размышляете в сердцах ваших? Что удобнее сказать: оставляются тебе грехи твои, или сказать: поднимись и ходи“ (Лк.5:17–23; ср. Мф.9:2 сл. Мк.2:3 сл.). „Случилось же в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. И был человек там, и рука его правая была суха. Наблюдали же за Ним книжники и фарисеи, исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. Он же знал, сказано, размышления их и сказал человеку, имевшему сухую руку: поднимись и стань в средину. И восстав стал. Сказал же Иисус к ним: вопрошу вас: должно ли в субботу доброделать или злоделать?“ (Лк.6:6–9 ср. Мф.12:9 сл. Мк.3:1 сл.). Видишь, вот и здесь опять открыто вёл беседу как Смотрящий в самое сердце безумно пы-
—393—
тавшихся обвинять Его. Таковое же нечто, предполагаем, и при произнесении толкуемых слов Спаситель усматривал в душах фарисеев. Если не поленишься снова обозреть всё уже сказанное, увидишь, что эти слова не уклоняются от прямого пути или положения дел.
В начале была против них большая и длинная речь эта об исцелённом в субботу, в которой Христос посредством различных доказательств и рассуждений, особенно же через нарушение, с их точки зрения, чести субботы или и через преступление этим самого даже закона, старался убедит тех, кои сильно негодовали на Него за такое нарушение субботы, что и в субботу можно миловать и совершать добро всем, – и кроме того (старался убедить в том), что закон установлял субботний покой как тень досточуднейшего предмета, – а также весьма решительно утверждал, что Он послан от Бога и Отца, и при этом ясно говорил, что Он свидетельствует о Нём и будет благоволить ко всем делам Его. Вот против этого-то фарисеи, как приверженцы законной буквы, всегда выставлявшие на вид заповеди Моисеевы и хвалившиеся знанием их, по всей вероятности, и помышляли опять в себе самих: что это за речь (слышим) от Него? Как же Бог и Отец будет благоволить нарушителю закона? И когда это Он засвидетельствовал или какое это решение сделал о Нём? Ведь из Моисеева закона мы знаем, что Бог сходил на гору Синай, зрим был для отцов вид Его, слышен, сказано, был голос Его (Исх.19:9 дал.). Он говорил всему собранию (народа), повелевал соблюдать день субботний, ясно заповедав следующее: „помни день субботний, чтобы
—394—
святить его: шесть дней делай, и исполнишь вся дела твоя, в день же седьмый – субботы (покой) святыя Господу Богу твоему: не делай в оный ни какого дела“ (Исх.20:8–10). Не от другого кого, сказано, мы услышали эти слова, но всё множество отцов самолично слышало божественный голос, и после них – у нас слово Божие. А Этот кто такой?
Так как Он опять видел такие их помышления, то обличает горько заблуждающихся, говоря: „ни голоса Его никогда не слышали вы, ни вида Его не созерцали, и слова Его не имеете в вас пребывающим: потому что, Коего послал Он, сему вы не веруете“. Ведь то, что было тогда в прообразе и через что представлялось им сошествие Бога на гору Синай, опять совершенно не зная этого, они принимали не за образы духовных предметов, но думали, что действительно и телесными очами может быть видима божественная природа, и верили, что Она пользуется телесным голосом. Что истинно было слово Спасителя о них, именно: ни голоса не слышали никогда Бога и Отца, ни телесным зрением никто не созерцал вид Его, то есть подобное Ему во всём Слово, – это, по моему мнению, могут опять ясно доказать слова книги Исход, при духовном их объяснении и исследовании. Читается так: „и вывел Моисей народ в сретение Бога из стана, и стали у подошвы горы (Синай). Гора же Синай дымилась вся, потому что сошёл Бог на неё в огне, и восходил дым как дым печи: и ужасался весь народ сильно. И слышались звуки трубы, раздававшиеся сильно весьма. Моисей говорил, Бог же отвечал ему голосом“ (Исх.19:17–19). Так гласят нам слова премудрого Моисея. Теперь же, по-
—395—
лагаю, надо показать, что Иудеи впадали в смешное мнение о Боге и думали, что созерцали сам вид Его и слышали действительно присущий божественной природе голос.
Итак, полагаясь на щедрую благодать Спасителя, постараемся грубость буквы законной утончить в духовное созерцание, ибо тогда с особенной ясностью окажется истинным и сказанное к фарисеям о Боге, что ни голоса Его никогда не слыхали вы, ни вида Его не созерцали.
Изведение Моисеем народа в сретение Богу, как написано, могло быть ясным знамением и как бы речью в виде загадки о том, что никто не может приступать к Богу без наставлений и познания, но что только руководимые законом к познанию того, чего ищут, научаются, ибо Моисей может разуметься вместо закона, по сказанному негде: „имеют Моисея и пророков (Лк.16:29).
Стояние (народа) под горою, когда Бог уже сошёл и был на ней, указует на готовность души и охотность к рабству призываемых, не уклоняющихся каким-либо образом от стремления к тому, что сверх сил и выше природы, при содействии им Бога. Таковы без сомнения сообщники Спасителя. Посему и, заботясь о вышечеловеческом мужестве, говорят: „кто бы нас отлучил от любви Христовой? – Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч“? (Рим.8:35). Все ужасы могут переносить благочестивые ради любви ко Христу. И если скорбь поднимается как гора, они преодолеют всякую опасность и не отвратят души от любви к Богу.
Говорится потом, что Бог снизшёл не в низменную какую-либо местность, но является опять на
—396—
высоте и на горе, дабы ты помышлял подобное же нечто и по отношению к самому себе, то есть: если божественная природа, снисходя к нашим душам, и приводит нам Себя Саму к некоему разумению, но при этом остаётся бесконечно выше наших слов и созерцаний. Эта высота и привыспренность догматов о Ней означается посредством горы, которая, сказано нам, чернела дымом. И действительно, темны и не очень ясны наши речи о Божестве, застилая, подобно дыму, умственное око. Поэтому премудрый Павел засвидетельствовал, что мы видим в зеркале и в загадке (1Кор.13:12). Положил, очевидно Бог, тьму покровом Своим (Пс.17:12), говорит в одном месте также и Псалмопевец, именем тьмы означая непознаваемость Его, за образ которой вполне можно принять дым около огня на горе.
Само же Божество сходит в виде огня, что особенно нужно было именно в то время и необходимо требовалось природой дела. Да, подлинно подобало, чтобы Тот, Кто посредством предстоявшего определения закона призывал Израиля к рабству и разумению, оказывался Просветителем и Карателем. А то и другое совершается посредством огня.
Но и „звуки, сказано, трубы слышались, раздававшиеся весьма сильно“, дабы и здесь получились подобного же рода мысли. Закон ведь провозглашён был Богом, однако же сначала не сильно, по немощи воспитывавшихся, но, так сказать, тихогласно и не во всю силу трубы. Посему и косноязычным называл себя Моисей. С течением же времени, возведшем верующих во Христа от сеновной буквы к духовному служению, раздались несравненно сильнейшие голоса божественной трубы, то есть спаситель-
—397—
ной и евангельской проповеди, оглашающей некоторым образом всю вселенную. Не так, как закон, слабогласный и малоизвестный, был слышен в одной только стране Иудейской или даже от Дана и до Вирсавии возвещался, но по всей земле прошло вещание их, как написано (Пс.18:5).
Что же ещё при этом? „Моисей, сказано, говорил, Бог же отвечал ему голосом“. Проницательным опять да будет ум любознательнейших, пусть точно наблюдает присущую божественным откровениям верность. Говорит-то ведь Моисей, а Бог отвечает ему гласом, не Своим конечно голосом, – этого не говорится, – но (сказано) просто и без всяких определений „голосом – φωνῇ“, издаваемым чудесно по человечески через произнесение слов. И подлинно, разве Бог может оказаться бессильным в каком-либо деле? Чего же не совершит Бог, и притом вполне беспрепятственно, если пожелает? Итак, говорил Моисей, а Бог отвечал ему голосом. В этом (состоит) прообраз. Теперь посмотрим на истину. Так, в святых евангелиях находишь Господа говорящим: „Отче, прославь Твоего Сына!“ – а Отца – отвечающим посредством голоса: „и прославил и опять прославлю“ (Ин.12:28). Что-то в действительности не был голос Бога и Отца, показал Спаситель, сказав присутствовавшим тогда: „не ради Меня голос сей произошёл, но ради вас“ (Ин.12:30). Как видишь, ясно выразил, как произошёл – γεγονεν 1090 голос, так как не естественно думать, чтобы (Сама) Божественная Природа пользовалась голосом посредством звука, хотя и сообразуется с нашими нуждами (принимая внешне-че-
—398—
ловеческий вид) и говорит подобно нам из промыслительных целей.
Эти созерцания сочли мы необходимым внести опять в настоящее наше рассуждение. Таким образом, как думаем, Иисус без сомнения должен являться читателям, высказывающим истину, когда оказывается говорящим к Иудеям о Своём Родителе: „ни голоса Его никогда, не слыхали вы, ни вида Его не созерцали, – и слова Его не имеете в вас пребывающим, потому что. Коего послал Он, Сему вы не веруете“. А что и фарисеи, надутые нелепой гордыней, воображали, будто божественное слово находится с ними и у них, и поэтому безумно считали себя достигшими досточудной мудрости, – об этом засвидетельствует и Сам Дух, когда Христос говорит к ним1091 через пророка Иеремию: „как скажете, что мудры мы, и Слово (Слав: закон) Господне с нами есть? Всуе стала трость лживая книжникам, посрамились мудрецы, смутились и уловлены, – мудрость какая есть в них? За то, что слово Господне отвергли“ (Иер.8:8–9). В самом деле, разве не окажутся отвергшими живое и ипостасное Божие Слово, не приняв веры в Него, но обесчестив Образ Бога и Отца и отказавшись созерцать истиннейший как бы Вид Его через боголепную власть и силу? Ведь божественная и неизреченная Природа не может быть доступной нашему восприятию иначе, как через дела, кои Она совершает и производит. Вот поэтому-то и блаженный Павел повелевает нам от величия и красоты созданий соответственно (сему) идти к созерцанию Мирозда-
—399—
теля (Рим.1:20 ср. Прем.13:5). Также и Спаситель руководствует к познанию о Себе в словах: „если не творю дел Отца Моего, не верьте Мне: если же творю, то, когда Мне не верите, дедам Моим верьте“ (Ин.10:37–38). А однажды обвинял, и конечно справедливо, ученика Своего, – Филипп то был, – неосновательно вообразившего, что иначе (как через видение) невозможно прийти к созерцанию Бога и Отца, хотя у него во власти было – рассматривать подлинный Образ, точно показующий в Себе Родителя. Посему-то и сказал: „столько времени с вами Я, и не познал ты Меня, Филипп! видевший Меня видел Отца“ (Ин.14:9).
Ин.5:39–40. Испытайте Писания, яко в них мните вы живот вечный имети: и та суть свидетельствующая о Мне: и не хощете приити ко Мне, да живот имате1092.
Обычный, общепринятый и общеизвестный смысл этого изречения заставляет думать, что в виде повеления сказано Спасителем нашим к фарисеям, чтобы они, исследуя божественные Писания, собирали свидетельства о Нём к жизни. Но так как, поставив в средине союз, разумею „и“, присоединяет слова „не хотите прийти ко Мне“, то очевидно уже должен указывать на что-либо другое, хотя и родственное сказанному, но и имеющему какое-либо малое отличие. Ведь если надлежало разуметь в смысле повеления, то не должны ли мы будем утверждать, что тогда всему изречению необхо-
—400—
димо иметь, например, такой вид: „исследуйте Писания, потому что в них думаете вы жизнь вечную иметь и они свидетельствуют о Мне – исследовав же, приходите ко Мне“. Но (вместо этого) Он обвиняет их, как не желающих прийти (к Нему), хотя через исследование и руководствуемых к этому, говоря: „и не хотите прийти ко Мне“.
Итак, принимая более плодотворный и соответствующий предыдущим словам смысл, будем читать не в виде повеления, но скорее в виде признания и указания. Поэтому смысл изречения будет такой:
Так как Он видел, что они постоянно обращаются к писаниям Моисея и оттуда невежественно собирают поводы к противоречиям, но ничего другого не отыскивают или не принимают, что могло бы доставить им веру: то посему опять по необходимости открывает им бесплодность и бесполезность труда такого исследования и ясно изобличает их в том, что они не надлежащим образом стараются употреблять столь великий и полезнейший предмет. В самом деле, что пользы, скажи мне, в том, что божественные, говорит, исследуете писания, думая через них войти в жизнь вечную. Но когда находите их свидетельствующими обо Мне и называющими Меня жизнью вечной, то не хотите прийти ко Мне, чтобы жизнь иметь? Таким образом, откуда надлежало получать спасение, говорит, оттуда вы, не разумея того, причиняете величайший вред своим душам, изощряясь из Моисеевых речений в одном только противоречии, но нисколько не внося в свой ум того, чем можно было вам приобретать вечную жизнь.
А что и в законе, и у святых пророков много
(Продолжение следует).
Никифор, архиеп. Константинопольский, свт. Слово в защиту непорочной, чистой и истинной нашей христианской веры и против думающих, что мы поклоняемся идолам / Пер. И.Д. Андреева; под ред. М.Д. Муретова // Богословский вестник 1901. Т. 2. № 7/8. С. 193–208 (2-я пагин.). (Продолжение.)
—193—
время освящения и обновления священных храмов служащими иереями возносятся Богу молитвы и прошения, которыми испрашивают ниспослания Всесвятого Духа и освящения храма и наполнения его вечным светом, а также, чтобы Он избрал храм Своим жилищем, соделал его местом обитания славы Своей, украсил его божественными дарами, подавал в нём исцеление страданий и изгнание демонов и соделал его святым святых. При этом в некоторых местах храма бывает помазание божественным миром и положение священных мощей святых. Неужели же противники наши думают, что их учение согласно с этим? Разве священнодействия, здесь совершаемые, и их странные объяснения согласны и соединимы друг с другом? И кто настолько глуп и неразумен, чтобы об одном и том же доме говорить, что в нём изгоняют демонов и в тоже время он есть их жилище, что он оказывается святым и вместе с тем нечистым, что в нём осеняет божественный Дух и в тоже время пребывает вражеская сила? А ведь они, вышедши за пределы всякого безумия и умопомрачения, думают именно так. Впрочем, их нечестие не останавливается на этом: они отказываются даже полагать в освящаемых алтарях святые и священные мощи святых, за Христа боровшихся и до крови подвизавшихся, коих и ходатайства они презирают и отвергают, согласно усвоенному ими учению, ибо непщевани быша во очию безумных умрети, и вменися озлобление исход их, и еже от нас шествие сокрушение: они же суть в мире (Прем.3:2). Посему во всём этом эти несчастные явно оказались беззаконствующими вотще.
Им кажется, что они хулят и оскверняют имя
—194—
Господне, на жертвеннике возносят осквернённые хлебы и дерзают говорить: трапеза Господня осквернена есть, и возлагаемая брашна его ничтоже не быша (Мал.1:21), в чём, как мы знаем, обвинялись священники подзаконной религии. Совершенно по заслугам пусть также услушат они то, что было сказано древнему Израилю: доколе храмлете на обе плесне (3Цар.18:21)? Подражая в богопочтении тем (ветхозаветным священникам), они презрели божественный закон и спешат перейти к святыням соседних народов. В этом отношении они оказались имеющими настроение Самарян, которые и Господа боялись и Богам своим служили, что хотя и дурно было, однако они, кажется, совершали богослужение так, как это соответствовало тем, кому они поклонялись. Эти же, сливая, смешивая и соединяя вместе то, что совсем не может быть соединено и существовать рядом, о чём одна мысль есть уже крайнее богохульство, по своему невежеству и безбожию хотят воздавать им одну и туже честь и поклонение. В виду того, что в последнее время всё выяснено и в догматах, и в учениях, их отнюдь нельзя уравнивать и с Коринфянами, которые только что отрезвились от идольского опьянения, пребывали ещё плотяными и младенцами о Христе и нуждались в молоке, а не в твёрдой пище (1Кор.3:2). На это они не способны ничего возразить или представить какое-либо оправдание. Нельзя также их уравнивать с Евреями, которые крепко держались иудейского и преданного отцами образа жизни, так что им требовалось учитися, кая письмена начала словес Божиих, и нужно было млеко, а не крепкая пища (Евр.5:12). Если же они омрачились в своих помышлениях и объюродело сердце их
—195—
и они смежают очи свои пред лучами евангельской проповеди и не в состоянии познать различие предметов, от нас бесконечно далёких и превосходящих всякое сравнение, ибо они не умеют различать между святым и скверным, то пусть выслушают, что откроет им священнослужитель евангелия, указывая на мрак, облегающий их души: Аще ли же есть покровенно благовествование наше, в гибнущих есть покровенно: в них же Бог века сего ослепи разумы неверных, во еже не возсияти им свету благовествования славы Христовы (2Кор.4:3–4), – и еще; не хощу вас общников быти бесом: не можете чашу Господню пити и чашу бесовскую, не можете трапезе Господней причащатися и трапезе бесовстей (1Кор.10:20–21).
Может быть, подумают, что я оказываюсь суровым обвинителем и сверх меры преследую извращения этого многовидного заблуждения. Но я не перестану защищать истины до тех пор, пока Виновник нашего спасения поражается дерзкими речами, как стрелами из лука, а церковь более и более подвергается осаде, ибо, ревнуя поревновах по Господе (3Цар.19:10), ревность дому твоего снеде мя, и: поношения поносящих ти нападоша на мя (Пс.68:10). Святые в своих писаниях будут согласны со мной. А они пусть не откажутся дать мне ясные ответы на следующие вопросы. Чьё тело и кровь, священнодействуя, приносят они в жертву? Если скажут, что – Христа, то кто же может поверить им, когда они ниспровергают дивное и спасительное для нас воплощение, невежественно и нечестиво думая, что Слово восприняло плоть не такую, какова наша, нечестиво приписывая какую-то особую важность словам: неописуемый и неизобразимый, ложно
—196—
представляя дело согласно манихейским бредням? Если же они признают, что (приносят в жертву) тело, то как в одно и тоже время и отвергают его и священнодействуют над ним? Но оставим это, ибо что они обыкновенно пустословят пред невеждами, то мы презираем как преисполненное пустословия и нелепости. Ведь, как беззаконники, они рассказывают нам только всякий вздор, но не яко закон Господа (Пс.118:85), и: взыщеши премудрость у злых и не обрящеши (Прит.14:6) и: мерзость Господеви помысл неправедный (Притч.15:26). Слова мудрецов мы слышим здесь. Что же скажет об этом причастник неизреченных тайн? Ведь не иное что следует применять к тем, кои болтают от пустого сердца и вещают от духа противления. Чаша благословения, юже благословляем, не общение крови Христовы есть? Хлеб, его же ломим, не общение ли тела Христова есть (1Кор.10:16). Кое бо причастие правде ко беззаконию? Или кое общение свету ко тьме? Кое же согласие Христова с велиаром? Или кая часть верну с неверным? Или кое сложение церкви Божией со идолы? (2Кор.6:15–16). А что такое идол и идоложертвенное, он сам определяет, говоря: яже жрут язы́цы, бесом жрут, а не Богови (1Кор.10:20).
Так говорит тот, кто ясно открыл нам тайну вышнего и божественного учения. Мы же перейдём теперь к рассуждению о других из наших таинств. Когда Господь наш Иисус Христос и Бог, одержав победу над смертью, водрузив славное знамя против тирании ада, укротив великого кита, тридневен возстал из мёртвых, то, явившись ученикам, заповедал им: шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа
—197—
(Mф.28:19). Они же тотчас рассеялись по всей земле, которую озаряет солнце, и прошёл по ней глас их и до пределов вселенной достигло слово их. Так эти ловцы народов сетью слова живыми уловили тех, которые хотя немного подымались наверх из горького неверия. И первыми от обрезания притёкшие к проповеди и таинству предвосхитили благословение благодати. Многие, отвратившись от Еврейского неверия и оставив отеческие обычаи, освободились от тяжести ига, под которой рабствовали закону, пока держались буквы, и приносят Богу всяческих вместо подзаконного служения поклонение в духе и истине. Вслед затем освободились от идольского безумия исторгнутые из Эллинского суеверия, жертвенников и тука. Другие, убегая варварского нелепого служения, были освобождены от властвовавшего дотоле обмана дьявольского. Из всех их, сошедшихся во единое исповедание веры, составилась и устроилась кафолическая Христова Церковь. И все вместе приводимые к познанию Троицы во имя Её окрестились, причём нигде не вкрадывалось никакое (которое не прилично называть) именуемое на небе и на земле имя. Поэтому и к таинствам нашим отнюдь нельзя приступать, как к лишённым святости, и невозможно думать, что они как-либо восприняли скверну нечистых идолов. И потому говорящие Духом Божиим не произнесут анафемы на Иисуса (1Кор.12:3). Эти же безбожники и неверы, если конечно не во имя Константина, но в Троицу крестились (думаю, что они не станут отрицать этого, ибо в противном случае нам не было бы нужды в этих состязаниях и борьбе, и они не доставили бы нам такое множество дел), – пусть ясно ответят нам, откуда же у них вкрались
—198—
идолы? И если они хранят неприкосновенной и целой печать исповедания, то почему у них на языке всегда готово имя идолов?
28. И если в смерть Христа крестившимся Христос не может принести пользы, то разве эти не более безрассудны, чем Евреи, не более неверны, чем Эллины, и не более безбожны, чем варвары? Ибо никто из этих последних не осмеливался обвинять Церковь Божию. Что может быть больше этого нечестия? Какое слово способно представить столь великое их неразумие? Может ли быть кто другой, который бы мог избавить их своей кровью от такого заблуждения? Разве можно называть их не только уже епископами, но и просто христианами? Посему они должны быть вынуждены искать другого крещения для своего освящения и усовершения, распинающе Сына Божия себе, и обличающе (Евр.6:6), хотя уже однажды они были просвещены, вкусили небесного дара и со делались причастниками Святого Духа. В таком случае, нуждаясь в новом освящении, они будут нуждаться и в новом помазании и рукоположении, после того как раз отринули и отвергли прежнее. Иначе как же стали бы они сообщать другим освящение, которого не сохранили сами? Или каким образом те, кои сами себя расхиротонисали, могут решаться крестить и учить? Да и как наконец их учение и крещение может быть благоприятным и достоверным.
29. К сказанному надо прибавить следующее, в чём согласятся со мной и они, хотя обыкновенно всё извращают, всё легко меняют и не имеют никогда ничего твёрдого. Когда кто-либо от нашей веры добровольно или невольно переходит в другую религию, оскверняясь с неверными язычниками,
—199—
вкушает гнусную пищу или как-либо иначе отступает от наших обычаев, то божественные постановления церковные повелевают, чтобы он, – сознав свой грех, и раскаявшись в том, что сделал дурного, в покаянии прибег к церкви и объявил, что отвращается от неразумно и нечестиво содеянного им, – ни в каком случае не вступал на помост божественного храма, но пребывал вдали от наших собраний и удерживался от общения в божественных таинствах. И для него назначается определённое время, в течение которого он с сокрушённым сердцем и смиренным духом, при искреннем и усердном исповедании допущенных им прегрешений, может загладить свою вину. И только тогда он может удостоиться причастия святынь и быть сопричислен к верным. Итак, пусть скажут нам они, утверждающие, что поклоняются идолам, если они желают быть причисленными к христианам, какой у них установлен способ обращения и время? Кто принимает отречение от нечестия? Каким канонам они повинуются? И как у них происходит исправление неразумных и нечестивых учений и действий? И таким образом пусть рассудят, достойны ли они священного стада. А пока будут бороться со Христом, да удалятся они от священной ограды и да будут отсечены, как гнилые и негодные члены, от стада Христова, дабы не заразили душепагубной болезнью и тех, которые здоровы и крепко держатся истинного исповедания.
30. Идолы и те, которые, заблуждаясь, поклоняются им, разделяются на два разряда. Одни, по тупости и плотяности мысли останавливаясь только на явлениях, и неспособные уразуметь ничего бо-
—200—
лее, устремляют ум свой на камни, деревья и прочую бездушную материю и поклоняются только им. Другие же, которые по-видимому рассуждают с большим пониманием и любомудрием, думают, что в статуях обитают некие силы. Эти силы, равно как и изображения богов, обыкновенно называют богами. Спрашивается, к каким же из этих идолопоклонников должны быть отнесены новые почитатели идолов? Если они вследствие крайнего невежества относят себя к низшему разряду, то они впадают в явное скотство и неразумие. Если же, поступая разумнее, изберут другой разряд, то они ввергнутся в крайнее нечестие и безбожие. И за тем: нравится ли им мужской пол и в нём кто-нибудь особенно, например, Кронос, Зевс, Аполлон, – или женский, например, Рея, Гера, Артемида? А также: признают ли они разряды среди них, класс первый и второй, преимущество одних перед другими, разницу между ними и степени их достоинств, чтобы если, уж они принуждены язычествовать, то не упускали бы из виду превосходства одних над другими? Поистине, до изумительного безумия доходят они, если не хотят видеть, не говоря о чём другом, того, что у каждого бога есть свой особый культ, разные храмы, жертвы и изображения. И как предметы поклонения имеют свойства совершенно одни с другими не сравнимые (ибо одни божественные и досточтимые, а другие мерзостные и демонские), так совершенно ясно различаются между собой богослужение и места, где происходит почитание их. Их обряды, как исполненные тьмы и достойные мрака, и совершаются большей частью во мраке, в подземных убежищах и пещерах. Наши же таинства, так как мы ходим
—201—
во свете лица Господня, во освещении божественного сияния, открываются при свете, ибо они сами свет.
31. Что касается изображений, то так как заблуждение принимает множество форм (ибо богов и демонов у них много), они неизбежно имеют много видов, и фигуры их разнообразны и многочисленны, различны по виду, друг на друга не похожи, и каждому богу усвояются разные изображения. У нас же христиан истина проста и едина и так как Христос един, то едина по виду и икона Его, и изображения Его одинаковы, исходя всегда от одного первообраза подобно тому, как например от одной печати получается много оттисков. И хотя по различию времени и условий места они и отличаются несколько по виду и форме и умножаются, но печать остаётся той же самой. Так и огонь остаётся одним и тем же, хотя от одной лампады зажигаются многие усердием и верой тех, которые ищут тут помощи и благодати. Каково же различие в жертвах, это трудно и представить, ибо какое может быть сходство нашей бескровной и святейшей жертвы с теми мерзкими и безбожными сквернами?
32. Но раз они, по их же словам, поклонялись идолам, то почему же предметы их поклонения не гневаются на них, ибо они служат им в чужих храмах? Каким образом они выносят их ярость? И естественно сердиться им, потому что им не восстановляют и не возобновляют тех храмов, которыми они владели в древности и которые в течение долгого времени разрушились и сравнялись с землёй, так что от многих из них не осталось и следа. Приходя туда, им необходимо чтить и украшать их (богов) изображения
—202—
и приносить подобающие им жертвы, – а также по обычаю вкушать от этих жертв, есть тук их и пить вино их возлияний, обдаваемые дымом и запахом горящего жира и мараясь грязью жертвенников, – выдерживать зловоние от нечистот, которые всегда отвратительны для обоняния. И как не страшатся эти несчастные и душой, и языком столь безбожно смешивать и соединять вещи, разделённые такой преградой? И как Бог терпит такое поношение? Наконец, следует обратить внимание и на то, что в их обвинении нас заключается двоякое преступление: во-первых, борьба против правой веры, а во-вторых, речи их, исходя из лжи, имеют много спорного и сомнительного, оспаривая при этом друг у друга первенство в болтливости.
33. Христоборцы не устыдились честное изображение Спасителя нашего Христа и Бога называть идолом, а также болтать, что христиане почитают священные иконы, как богов. Они дошли до такой степени одурения и безумия, что не в состоянии понять ни природы предметов чтимых, ни уразуметь воззрений почитающих, хотя это ясно подобно свету светящихся предметов. Между тем богохульство гонит их в одну пропасть нечестия с обеих сторон. Так как мы прочно утверждены на основании правой веры, то для тех, которые тщатся мудрствовать по истине и сохраняют здравый разум, совершенно ясно как учение о священных иконах, так и поклонение им. Напротив, те, подобно блуждающим неразумным зверям, утверждают, что нечистое и святое одно и тоже. И я не знаю, как они смоют позор с лица своего, ибо он навсегда пристал к ним и неустраним. Каким образом они решаются неразумно и невеже-
—203—
ственно обвинять христиан, как будто последние безумствуют при почитании священных предметов, вымышляя это по своему неразумию и отступничеству и сочиняя от себя несообразности. И эти несчастные и презренные заслуживают порицания и отвращения за свою бессовестность и безумие не менее, чем за своё безбожие. Даже всегдашние враги нашей пречистой веры из Иудеев и Эллинов не пустословят так.
34. Таковы их нелепости. Но мне для обличения лжи необходимо перейти на другой путь и на основании изречений Духа, коим всячески подобает повиноваться, оценить, сколько правды ли или же вздора в словах этих глупцов. Апостольская заповедь повелевает нам не всякому духу веровать, но испытывать, от Бога ли он, поскольку и теперь уже многие лжеучители, говорит, выступили (1Ин.4:1). Итак, посмотрим, водятся ли они Духом Божиим и мыслят ли они согласно и сообразно с теми, кои говорили Духом Божиим. И если мы заметим, что они не сообразуются с оными, то узнаем отсюда, что они – не Божии, а антихристовы. И прежде всего, если угодно, пусть будут приведены древнейшие по времени, а потом к ним должны быть присоединены те, которые достойно первенствовали в церкви. Но всем им должны предшествовать, изречения, изложенные и преподанные Духом для всех вообще, – и притом из них многих – только весьма немногие.
35. Так как они обвиняют Христа Бога нашего в слабости и бессилии, как будто Он оказался не в состоянии освободить людей от эллинского заблуждения и напрасны были крестные страдания и всё совершенное Им домостроительство, и, воображая
—204—
доказать своими ложными рассуждениями тщетность божественной проповеди, они обвиняют и проповедников истины во лжи: то вот что (против сего) поёт блаженный Давид на божественной лире, настроенной Духом: Яко Бог велий Господь, высок и страшен, и царь велий по всей земли (Пс.94:3). И ещё: воцарися Бог над языки (Пс.46:9). И: упразднитеся и разумейте, яко аз есмь Бог: и вознесуся во языцех, вознесуся на земли (Пс.45:4). И: сказа Господь спасение свое: пред языки откры правду свою (Пс.97:2). И: видеша вси концы земли спасение. Бога нашего (Пс.97:3). Каким же образом, когда и в чём Бог всяческих является Богом великим и царём великим по всей земле, проявил спасение Своё и пред языками открыл правду Свою, это легко познать отсюда людям истинно разумным, устремляющим правую и неизвращённую мысль к богопреданным изречениям. Ведь если Он мыслится как Бог всяческих и Создатель, то уже (этим признаётся, что) Он и над всем царствует и властвует. Владычествуяй силою своею веком (Пс.65:7), яко в руце его концы земли (Пс.94:4). И: вси поработают ему (Пс.71:11). Правда, это говорится как будто о некоем народе близком Ему и Им особливо избранном, который познает Его, как единого истинного Бога и Ему единому служит, ибо Бог и в этом смысле называется Богом и царём некоторых, и древле познавался таковым только потомками Израиля, как сказано: егда разделяше Вышний языки, яко разсея сыны Адамовы, постави пределы языков по числу Ангел Божиих. II бысть часть Господня, людие Его Иаков: уже наследия Его, Израиль (Втор.32:8–9). И: из всех языков избра вас (Втор.14:2). И: людие мои, приставницы ваши пожи–
—205—
нают вас (Ис.3:12). И: мы людие твои и овцы пажити твоей (Пс.94:7). И многое подобное сему говорится о нём (народе) в священных изречениях, что можно считать не без основания обычными особенностями языка, которые употреблены для отличения и отделения Израиля от неверных и безбожных язычников, (для обозначения) его близости к Богу. О язычниках же это никогда не могло быть сказано, ибо их цари и подчинённый им народ, поддавшись неразумию души и вследствие этого блуждая подобно неразумным животным, не познали истинного Бога, сотворившего их, давшего им дыхание жизни, промышлявшего о них, а нарекли своим царём сатану, и поклоняясь каждый особо Богам и пагубным демонам, разделённые и рассеянные сообразно различиям в вере, они усвоили себе особые религии. Итак, поскольку они не признали Бога всяческих царём, то не сделались и народом близким Ему, хотя и были Его творением и созданием, Но ведь не все народы Израиль и не вся земля Иудея, так что эти пророческие речения не могут считаться исполнившимися именно на Израиле и Иудейской, стране. Поэтому остаётся (признать), что эти изречения разумеют и говорят о нас, призванных к познанию Бога из язычников, или о кафолической и апостольской Церкви, которая распространилась всюду до пределов земли и которая согласно исповедует и почитает единого Бога Владыку всего, великого Царя и Господа. Какое же время разумеют эти изречения? Егда прииде кончина лета и приблизилось царство небесное, посла Бог Сына Своего единородного, рождаемого от жены (Гал.4:4), соделавшегося человеком, во всём подобным нам кроме греха. И Он призвал все народы к позна-
—206—
нию Себя и освободил нас от горестного рабства сильному врагу. Тогда-то вот и мы также, будучи язычниками, а не из народа, соделались народом Божиим и приобрели в Нём новое имя. Служащий Мне, как написано (Ис.62:2), прозовутся именем новым, которое будет благословенно во веки, ибо от Него мы называемся и суть христиане. И свет богопознания воссиял для нас, ибо сказано: во свет языком дах тя (Ис.49:6). Итак, мы, народ созданный, хвалим Господа, говоря с Давидом: яко царь наш велий Господь (Пс.94:3), все именуем Его Богом и исповедуем главой Церкви, которую Он искупил из язычников кровью Своею, ибо Он стяжал нас Себе в народ избранный, род святой, царственное священство, чтобы мы возвещали совершенства и славу Его (1Пет.2:9). И все народы теперь служат Ему, благословляются о Нём все племена земные, поклоняются Ему все колена народов, приходят и преклоняются пред Ним все народы и все цари земные служат Ему, удаляются от отеческих обычаев, богов и господствующего у них безбожия и притекают с усердием к пречистой и непорочной вере. Что же думают об этих изречениях противящиеся Духу? Если по своему неразумию они, может быть, станут утверждать, что это было сказано об Иудеях, то ведом во Иудеи Бог: во Израили велие имя Его (Пс.75:2), ибо здесь в то время и народ, и служение, и поклонение были ограничены. Во Иерусалимех кланятися подобает (Ин.4:20), как было издревле установлено законом. Поэтому даже те, которые некогда пленными переселились в Вавилон, повесив органы свои на вербах, говорили: како воспоем песнь Господню на земли чуждей? (Пс.136:4,2). Если же
—207—
по неразумию своему они вознамерятся славу эту приписать Эллинам, то ведь эти последние осуетишася помышлении своими, и омрачися неразумное их сердце. Занеже разумевше Бога, не яко Бога прославиша или благодариша (Рим.1:20–21). Униженно повергались они пред созданиями рук своих, служили твари вместо Творца и скверным демонам воздавали почтение подобающее Богу, – чем отличаются и все прочие (вместе с Эллинами) язычники. Но идолы язычников, серебряные ли то или золотые, суть дела рук человеческих, не могущие ни говорить, ни видеть, ни двигаться.
Итак, отовсюду следует, хотя враги истины и не допускают этого, что именно мы, христиане, получили этот удел, ибо Дух повелевает нам петь Господу песнь нову (Пс.97:1) не в Иерусалиме только или во Иудее, этих малых частицах вселенной, но во всяком месте владычества Его, воздевая чистые руки (1Тим.2:8), служить Богу в святости и правде, когда явился нам восток с высоты и даровал нам, народу Своему, познание спасения во оставление грехов наших. Итак, мы, как народ Его, знаем кличь Его, ходим во свете лица Его, и – все народы вместе – надеемся на Него. И у христиан Бог – не новый, но мы знаем одного и того же всегда Бога, ибо Аз говорит, Бог первый, и во грядущая Аз есмь (Ис.41:4) разве Тебе иного Бога не знаем, говорим мы Ему. Сказа Господь спасение свое: пред языки откры правду свою (Пс.97:2). Какова же эта правда, о сём выслушай Павла: иже бысть нам премудрость от Бога, правда же и освящение, и избавление (1Кор.1:30). А это есть Еммануил. Итак, если мы, оправданные в Нём верой, через Него искуплены, ибо видеша вси концы
—208—
земли спасение Бога нашего (Пс.97:3), то ясно, что те, которые говорят от своего чрева, а не от уст Господа, и открывают уста свои для хулений против Единородного, говорят от антихриста, как истинно думает великий Иоанн (1Ин.2:22), ибо они совершенно безумно говорят иное по сравнению с изречениями божественного Духа. Они никогда не пели песнь Господню, которая поётся и земледельцами, и торговцами, и моряками, и лицами всякого достоинства, возраста и положения – и потому они по справедливости могут считаться людьми более невежественными и неразумными всех прочих. А вследствие этого они не могут быть названы и священниками: у них совсем нет ничего священного, напротив – много невежества и неразумия; они подвергнутся посмеянию и заслуженно понесут тяжкое наказание; они не в состоянии уразуметь те божественные изречения, которые вверены священникам. Муж безумен не познает, и неразумив не разумеет сих (Пс.91:7). Посему, оказавшись говорящими не от божественного Духа, они, следовательно, должны явиться говорящими от духа противного.
36. Так и пророком воспевается согласное тому, что сказано нами, именно, что Церковь утверждена в Боге и пребывает неподвижной: Бог посреде его, и не подвижится: поможет ему Бог утро заутра (Пс.45:6). Пусть бесчисленное множество злобных угроз со стороны беззаконников изливается подобно наводнению, пусть духи злобы дышат яростнее, пусть разливаются потоки, бушующие и ценящиеся течением нечестия: – Она основана на непоколебимом камне, который есть Христос, ибо вся, елика восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли (Пс.113:11). Да постыдятся же беззаконники!
Павлов А.С., проф. Из лекций: Церковный суд // Богословский вестник 1901. Т. 2. № 7/8. С. 415–439 (3-я пагин.). (Продолжение.)
—415—
(Из лекций покойного профессора Московского Университета, А. С. Павлова).
§ 1. Правительственная власть церкви. Церковный суд; двоякий характер дел, подлежащих церковной юрисдикции. Правительственная власть церкви, в сфере её собственного полномочия, которое она получила от своего Божественного Основателя, проявляется в таких же функциях, как и правительственная власть в государстве, именно: 1) как власть учредительная или законодательная и 2) как власть исполнительная, с её необходимыми подразделениями: административная и судебная. О церковном законодательстве, его характере и предмете мы говорили в учении об источниках церковного права; органы законодательной власти в церкви рассмотрены нами в учении о церковном устройстве; там же указаны нами органы и главнейшие функции административной церковной власти. Таким образом, нам остаётся теперь специально рассмотреть только один вид правительственной власти в церкви – власть судебную.
С понятием о церкви, как самостоятельном общественном организме, отличном от государства, неразрывно соединено понятие о принадлежащей ей власти управлять своими внутренними делами, разрешать относящиеся к ним спорные случаи – на основании своих собственных законов и правил, судить своих членов за нарушение этих правил и законов и свои приговоры приводить в исполнение собственными средствами. Словом: церковь в своей сфере имеет право суда, которому подлежит определён-
—416—
ный круг лиц и дел и в котором она исключительно компетентна. Впрочем, как объём предметов церковного суда, так и компетентность церкви в их обсуждении, зависят от отношений церкви к государству. Поэтому, чтобы понять настоящее состояние церковного суда, нужно бросить взгляд на его историческое развитие, и при этом не опускать из вида различия церковной юрисдикции по делам спорным или тяжебным и по делам о преступлениях.
I. Церковный суд по делам тяжебным (jurisdictio contentiosa).
§ 2. Исторический очерк церковной юрисдикции по делам чисто-гражданским и тяжебным. К первой категории дел, имеющих аналогию с гражданскими, относятся все те, которые возникают из пользования чисто-церковными правами, насколько права эти могут сделаться предметом юридического спора. Таковы, например, спорные вопросы о таинствах (о действительности крещения, рукоположения, брака), о пользовании церковными имуществами; о пространстве иерархической юрисдикции в церкви (греко-болгарский спор) и пр. Вопрос о том, насколько решения церковного суда по делам этого рода имеют юридическое действие в области чисто-гражданского права, есть вопрос положительного права, разрешаемый здесь различно, смотря по существующим отношениям между церковью и государством.
Что касается до дел чисто-гражданских, то они, по существу своему, не подлежат суду церкви. Вспомним ответ Спасителя одному человеку, который просил Его рассудить спор с своим братом о наследстве: „человече, кто мя постави судию или делителя над вами“, отвечал Христос на эту просьбу (Лк.12:13,14). Вообще Основатель нашей религии, который проповедовал только любовь, кротость, мир, не мог одобрительно смотреть на тяжбы между своими последователями. Но так как этот божественный дух христианства слишком возвышается над естественными свойствами человеческой природы и человеческих отношений, то Спаситель указал и средства
—417—
к прекращению тяжбы между своими последователями. Эти средства состояли в разборе дела сначала между самими тяжущимися, потом – в присутствии двух или трёх свидетелей, наконец – в перенесении спора на суд всей церковной общины, которая, в случае безуспешности своих увещаний, обращённых к обидчику, исключала его из своей среды, как язычника (Мф.18:15). Это наставление, которое, очевидно, есть более совет, чем прямое предписание, особенно в отношении к делам гражданским, в первые три столетия христианства вошло, однако ж, во всеобщий обычай церкви. Уже Апостол Павел предостерегает коринфских христиан, чтобы они с своими житейскими тяжбами не обращались к языческим судьям, а избирали из среды своей мудрого мужа, который бы рассудил дело (1Кор.6:1 и сл.). Этот совет мотивирован был такими соображениями, которые, по тогдашним обстоятельствам, имели для христиан решающую важность. Являясь с своими тяжбами в общие (языческие) суды, христиане роняли бы в глазах язычников нравственное достоинство своей религии, которая объявляла себя религией любви и всепрощения; с другой стороны, римское судопроизводство соединялось с некоторыми религиозными обрядами (например – воскурением фимиама богине правосудия), исполнение которых естественно должно было возмущать христианскую совесть. Эти побуждения были так сильны для христиан, что они стали смотреть на совет Апостола, как на обязательное предписание. В особенности клирики обязаны были приносить свои тяжбы на суд своего епископа. Что же касается до мирян, то суд епископа имел для них преимущественно характер полюбовного разбирательства или суда третейского. Но если бы недовольная сторона решилась, после епископского приговора, искать своего права в гражданском языческом суде: то это было бы в глазах древней церкви преступлением, равным кощунству или поруганию святыни. Так в первые три столетия христианства, когда церковь стояла ещё среди враждебного ей государства, развилась довольно обширная audientia episcopalis, имевшая характер не только посреднического разбирательства, но и суда гражданского в собственном смысле этого слова. В известных уже нам
—418—
Апостольских Постановлениях, памятнике конца III века, находится довольно полный образ процедуры в судах епископских.
С эпохи Константина Великого обычай христиан судиться у своих епископов получил государственную санкцию. Константин дозволил христианам приносить свои тяжбы на третейский суд епископов даже и после того, как иск был уже вчинён в суде гражданском, если только обе стороны соглашались, до судейского приговора, перенести дело на решение епископа. Но в позднейшем постановлении того же императора приведённый закон отменён в том отношении, что каждой стороне предоставлено, даже без согласия другой, переносить дело на суд епископа, приговор которого и в таком случае признан окончательным. Это постановление не только переступало границы компромисса, который предполагает обоюдное согласие сторон, но и обременяло епископов множеством дел, чуждых их званию. Неудивительно, поэтому, если позднейшие императоры, не разделяя излишней ревности Константина В. в расширении судных прав церкви, снова обусловили компетенцию епископского суда в решении гражданских дел обоюдным согласием сторон и только под этим необходимым условием признали епископский приговор не подлежащим апелляции.
Независимо от этого полюбовного разбирательства епископов, которое могло иметь место и силу только по обоюдному согласию сторон, некоторые дела суда гражданского по самому закону предоставлены были решению духовной власти или исключительно, или совместно с светской властью. Исключительно епископскому суду подлежали: 1) гражданские тяжбы между клириками, когда т. е. и ответчик, и истец были лица духовные. Так постановил, между прочим, халкидонский, IV вселенский собор (пр. 9), определения которого утверждены были императором Маркианом, вследствие чего они получили значение государственных законов. Государство должно было признать исключительную компетентность епископских судов в гражданских делах духовенства, как результат безусловного подчинения клириков своим епископам, епископов – соборам. От этой чисто-гражданской юрисдикции
—419—
епископов, основанной на одной только уступке со стороны государства, была совершенно независима юрисдикция, которой подлежали – 2) дела собственно церковные, но имевшие тяжебный характер, т. е. дела только аналогические делам гражданским, куда относились споры между епископами о правах церковного управления (например, о принадлежности известной христианской общины к той или другой епархии и т. п.) и споры между клириками о пользовании церковными имуществами и доходами. Юрисдикция по этим делам всегда принадлежала только церкви, что несколько раз подтверждаемо было и законами византийских императоров. – Совместно или в конкуренции с гражданским судом духовная власть судила, во 1-х, тяжбы клириков с мирянами. До Юстиниана мирянин мог начать иск против клирика или у светского судьи или у епископа. Но Юстиниан окончательно установил для клириков privilegium fori, т. е. право отвечать только перед своим епископом. Впрочем, если та или другая сторона изъявляла, в определённый срок, неудовольствие на решение епископа, то дело переносилось на суд местного гражданского магистрата. Если гражданский судья соглашался с решением епископа: то он должен был привести его в исполнение, после чего дело не могло уже подлежать новому пересмотру. В случае же несогласия гражданского суда с епископским, допускалась апелляция и новый пересмотр дела уже в высших церковных инстанциях (у митрополита, патриарха, на соборе). Во 2-х, к делам смешанной, церковной и гражданской подсудности относились в византийской империи дела брачные. Так, например, духовные суды решали вопросы о действительности браков, заключённых вопреки церковным канонам. Но брачные дела подлежали и суду светской власти, если заключение или расторжение сговора, или брака соединено было с нарушением гражданских законов; преимущественно же светскому суду принадлежало определять гражданские последствия сговора и брака, незаконно заключённых или расторгнутых.
§ 3. Церковный суд по гражданским делам в России. Ещё обширнее была гражданская юрисдикция русской церкви, определённая первоначально, на основании греческого номоканона,
—420—
церковными уставами Владимира и Ярослава. По этим уставам все отношения гражданской жизни, в которых так или иначе обнаруживалось действие религии, или которые имели более нравственный, нежели юридический характер, отнесены к области суда церковного. Так как христианство и церковь, при своём водворении на Руси, застали здесь ещё довольно слабые зачатки гражданственности, то нет ничего удивительного, если духовная иерархия, пришедшая к нам из высоко-цивилизованной Греции, получила в своё судебное ведомство очень много таких гражданских дел, какие вовсе не были подсудны ей в своём отечестве. Мы ограничимся здесь только кратким исчислением этих дел или, как выражаются наши источники, судов церковных. Сюда относятся:
1) Дела союза супружеского. Если значительная часть этих дел, как мы видели, ведалась церковным судом и в византийской империи, то у нас церковь естественно должна была получить в своё исключительное ведение весь брачный институт, находившийся ещё на очень низкой степени развития. Нужно было провести в народное сознание и в саму жизнь христианское понятие о браке, уничтожить многожёнство, браки насильственные, кровосмесные, произвольные разводы и т. под. Всё это было предоставлено церковному ведомству уставами Владимира и Ярослава.
2) Дела союза родителей и детей. Церковь ведала эти дела по их связи с делами союза супружеского. „Сила этого союза, по меткому замечанию Неволина, раскрывается не в нём самом, а в другом союзе, который из него вытекает, в союзе родителей и детей“. Здесь церковь судила и злоупотребление власти с одной стороны, и непризнание естественных и законных прав этой власти – с другой. Родителям церковь не дозволяла обращаться с детьми, как с слугами, брала – например – их личность под своё покровительство в таком деле, как вступление в брак, объявляла, по их жалобе, брак, заключённый против их воли, недействительным и на виновников такого брака обращала строгость своих законов. Так уже в уставе Ярослава находим постановление: „Аще девка не всхощет замуж, а отец и мати си-
—421—
лой дадут, а что сотворит над собою, отец и мати епископу в вине; такоже и отрок“. Таким же образом поступала церковь по отношению к родителям и в случаях принуждения ими детей к пострижению в монашество. Вообще она входила в рассмотрение и всяких других злоупотреблений родительской власти. С тем вместе церковь отстаивала и права этой власти над детьми, давая чувствовать силу своего суда детям непокорным, непочтительным, своевольным. При посредстве церкви установлялся союз родителей и детей и между лицами, не связанными одно с другим естественным фактом рождения. Усыновление чужих детей совершалось у нас в древности религиозным актом и утверждалось высшей духовной властью. Древнейшее свидетельство об этом находим в грамоте м-та Киприана об усыновлении вдовой приёмыша с признанием за этим последним всех прав законного сына, т. е. и прав наследственных.
3) Дела по наследству. Древнейшее свидетельство о подсудности этих дел духовной власти находим в словах церков. устава Владимира: „аще братья или дети тяжются о заднице“. Затем ряд свидетельств, начиная с XIV в., идёт непрерывно до времён Петра В. Правда, большая часть этих свидетельств относится к наследству по завещанию, но несомненно, что духовному суду подлежали дела и о наследстве по закону. Принадлежность дел последнего рода (т. е. о наследовании по закону) к ведомству духовного суда необходимо допустить уже по связи их с делами союза брачного. Предоставляя церкви решать вопрос о законности или незаконности браков, древнерусский церковный устав тем самым отдавал на тот же суд и вопросы о происхождении от законного или незаконного брака. Само собой понятно, что церковь могла признавать законными наследниками умершего только его законных детей или родственников. А как в древние времена у нас, по свидетельству источников, весьма часты были примеры браков, с церковной точки зрения незаконных, каковы браки „невенчальные“, браки в степенях родства и свойства, запрещённых церковными правилами, браки повторительные до четвёртого и далее, и т. п., – то компетенция церковного суда по делам о наследстве
—422—
по закону должна была установиться у нас довольно рано и получить широкое развитие. Само собой понятно, что наша древняя духовная иерархия в решении дел этого рода не могла руководствоваться исключительно греко-римскими законами, содержащимися в номоканоне, но должна была принимать во внимание и местные обычаи. Таким образом и незаконные дети или родственники умершего должны были получать от церковного суда известную долю наследства, как они получали её прежде от суда княжеского в качестве „робичей“ наследооставителя. Припомним пример решения подобного дела в XII веке новгородским князем Святославом, который, однако-ж, на будущее время отказался принимать такие дела на свой суд, а предоставил решать их епископу на основании номоканона. Происхождение церковного ведомства по делам о наследстве по завещанию прекрасно объясняет Неволин в своём сочинении о пространстве церковного суда в России. Составление духовного завещания, говорит он, было последним нравственным действием умирающего, которое при том касалось самых разнообразных предметов. Умирающий делал посредством завещания последний расчёт с своими мирскими отношениями, объявлял по совести, кто и чем ему должен, кому и чем он сам должен; принимал меры для устроения судьбы своего семейства, оставлял отказы в пользу тех или других лиц, отделял часть своего имения для богоугодных дел и особенно „на поминок своей души“. Вследствие такого нравственного значения завещания, при его составлении обыкновенно присутствовал духовный отец завещателя, и оно получало силу только по утверждении его духовною властью. Естественно, поэтому, что и все споры, какие могли возникнуть по поводу духовного завещания, решались той же, т. е. духовной властью.
Изложенные постановления церковных уставов Владимира и Ярослава оставались в полном действии до времён Петра В. Мы уже знаем, что в начале XV века оба эти устава подтверждены были в договорной грамоте в. к. Василия Димитриевича и м-та Киприана. В Стоглаве церковный устав Владимира приводится вполне, как действующий и вновь подтверждённый закон. Из одного
—423—
акта XVII века видно даже, что церковная юрисдикция по делам гражданским в московский период не только не сузилась, но даже отчасти распространилась. Мы говорим о выписке, сделанной для Большого московского собора 1667 года, о делах, находившихся в заведывании Патриаршего разряда. Здесь исчислены следующие дела гражданские: 1) утверждение духовных завещаний и решение споров о их действительности, 2) дела о разделе наследства без завещания, или, говоря подлинными словами акта: „аще кто праведными судами Божиими преставится, а после него о разделе животов бьют челом патриарху жена и дети и сродники их“; 3) дела по рядным записям, т. е. о брачном сговоре с назначением неустойки (то же, что смильное церков. устава св. Владимира); 4) споры между мужем и женой о приданом; 5) дела по спорам о рождении от законного брака; 6) дела об усыновлении и о праве наследования усыновлённых; 7) дела о душеприказчиках, женящихся на вдове умершего, и 8) дела по челобитьям господ на беглых холопов, постригшихся в монахи или вступивших в брак с свободными людьми. Таков был круг церковной юрисдикции по делам гражданским до времени Петра В. По смерти последнего патриарха (Адриана), Пётр в 1700 г. повелел все судные дела, бывшие в Патриаршем Разряде, по челобитьям разных лиц, отослать в те приказы, которым подсудны были челобитчики и в которых на будущее время вообще должны были производиться суды и расправа по таким делам. В следующем году велено было дела о наследстве по завещанию и по закону, также по рядным или сговорным записям и другие тому подобные ведать, вместо Патриаршего Разряда, в Московском Судном Приказе. Эти распоряжения прямо и непосредственно касались только одной патриаршей области и были предвестиями предстоящего уничтожения самого патриаршества. С учреждением в 1721 г. Св. Синода сила вышеизложенных мероприятий распространена была и на все епархии. В Дух. Регламенте и в резолюциях Петра на докладные пункты Синода 12 апр. 1722 г. из всех дел гражданских, подсудных прежде церкви, в ведомстве духовного суда оставлены только: 1) дела о сомнительных бра-
—424—
ках и в особенности о браках, заключённых в запрещённых степенях родства и свойства; 2) дела о браках, совершённых по принуждению со стороны родителей или помещиков; 3) дела о браках, заключённых при жизни мужа или жены и 4) дела о расторжении браков. Короче сказать: дела бракоразводные и о признании браков недействительными. В сущности, так же определена юрисдикция духовного суда по гражданским делам мирян и в действующем Уставе Дух. Консисторий. По этому уставу лица светского звания подлежат духовному суду: а) по делам о браках, совершённых незаконно; б) по делам о прекращении и расторжении браков и в) по случаям, в которых нужно удостоверение о действительности события браков и о рождении от законного брака (ст. 148, пун. 2, лит. а, б, в).
§ 4. История церковной компетенции по гражданским делам духовенства. – Кроме рассмотренных нами дел гражданских, по которым лица всех состояний подсудны были церкви, ведомству духовного суда, по древним церковным уставам, предоставлены были ещё все гражданские дела духовенства. Если обе тяжущиеся стороны принадлежали к духовенству, то суд был исключительно святительский. Если же ответчик или истец был мирянин, то составлялся суд „вопчий“ или смесный и судные пошлины делились между обоими судьями поровну. Вот эти-то пошлины нередко подавали поводы к вмешательству светской власти в область гражданского суда церкви над лицами духовного звания. Примеры такого вмешательства всего чаще повторялись в Новгороде и Пскове, где вечевое правительство вообще держало себя гораздо самостоятельнее относительно церковной иерархии. Да и само здешнее духовенство нередко предпочитало искать правосудия не у своих судей, а у мирских. Так в 1416 году новгородский архиепископ Симеон писал в один монастырь своей епархии, что чернецы, выходя из монастыря, поднимают мирских судей на игумена и братию, а мирские судьи судят их мирским обычаем, именно присуждают „роту“, которая запрещена духовным лицам церковными канонами. Архиепископ запретил монахам обращаться к светским судьям, а последним вступаться в дела духовенства,
—425—
под страхом отлучения от церкви. Через два года сам митрополит Фотий должен был повторить это запрещение в грамоте к тому же монастырю. Но главная причина постоянных вмешательств светской власти в эту область церковного суда заключалась в недостатках самой церковно-судебной организации. Органами архиерейского суда по гражданским делам духовенства были в волостях – десятинники, а в городах – святительские бояре. Мздоимство и всякие неправды, чинимые этими судьями, естественно побуждали духовенство искать себе правды на стороне, домогаться, как привилегии, суда у высших княжеских и потом царских судей. Так произошли несудимые грамоты, которыми духовенство сначала княжеских и царских вотчин, а потом чёрных волостей освобождалось от подсудности своим епископам, т. е. их десятинникам и боярам. Стоглавый собор 1551 г. в первый раз дал некоторую основу исключительному суду епископов по гражданским делам духовенства. Несудимые грамоты были отменены, как противные церковным канонам, и всё духовенство в тяжебных делах между собой подчинено было суду своего епархиального начальства, т. е. тем же десятинникам и боярам, но уже поставленным теперь под более строгий контроль архиереев и даже самого царя, которому, по соборным постановлениям, подсудимые могли приносить жалобу на решение архиерейского суда. Но иски на мирских людей духовенство, по Стоглаву, должно было вчинять у царских дворецких, пользуясь только правом просить за собой „присадки“, т. е. депутатов, и судиться в присутствии десятских священников и земских старост. Вероятно, вследствие этого самого постановления суд над духовенством по делам гражданским вскоре совершенно перешёл в ведомство Приказа Большого Дворца. Из источников XVII в. мы узнаём, что до 1625 г. духовенство патриарших монастырей и церквей судилось в названном Приказе. В этом году царь Михаил Феодорович дал отцу своему, патриарху Филарету, жалованную грамоту, по которой духовенство должно было судиться в Патриаршем Разряде не только в тяжбах между собой, но и по искам мирян. Однако ж действие этой грамоты было весьма непродолжительно. Так как духовенство и
—426—
теперь обязано было вчинять иски на мирянах в Приказе Большого Дворца, то это опять повело к тому, что и миряне стали привлекать духовных лиц к суду того же приказа. При царе Алексее Михайловиче все гражданские дела духовенства перенесены были в ново-учреждённый знаменитый Монастырский Приказ, против которого энергично, но безуспешно протестовал патриарх Никон. Постоянные пререкания между духовной и светской властью о гражданской подсудности духовенства побудили Большой московский собор 1667 года обратить своё внимание и на этот предмет. Говоря вообще, названный собор подтвердил выше изложенные постановления Стоглавого собора, но и его собственные постановления по этому предмету остались, можно сказать, без всякого действия. Монастырский Приказ продолжал существовать на прежнем основании, и если архиереи получали теперь право судить духовенство в тяжебных делах, то не иначе, как по особым жалованным царским грамотам, в виде исключения из общего правила. Едва прошло три года по закрытии собора, как патриарх Иоасаф, сам принимавший в нём участие, должен был просить царя Алексея Михайловича о возобновлении прежней жалованной грамоты, данной в 1625 г. патриарху Филарету. Последняя попытка к восстановлению церковной юрисдикции по гражданским делам духовенства в прежнем её объёме сделана была на Московском соборе 1677 года, но она сопровождалась только тем результатом, что царь Феодор Алексеевич, указом 19 декабря показанного года, повелел закрыть ненавистный для духовных иерархов Монастырский Приказ и дела его передать в Приказ Большого Дворца. Но дух времени неуклонно вёл правительство к совершенному упразднению особенных судов для гражданских дел духовенства. В 1701 году Пётр Великий возобновил Монастырский Приказ и этой мерой положил начало окончательному уничтожению привилегированной гражданской подсудности духовенства. Дальнейшим и последним шагом Петра в этом направлении были его резолюции на докладные пункты Синода 1722 г. Утверждая доклад Синода о том, чтобы все уголовные дела духовенства, возбуждённые по жалобам частных лиц, ведались в Синоде, Пётр прямо запретил
—427—
распространять новый закон на тяжебные дела, к которым сами духовные себя привязали, как то: торговля, промыслы, откупы и тому подобное. Поводы к гражданским искам духовенства или против него были значительно сокращены синодским указом 1743 г.: этим указом запрещено духовенству вступать в торги, подряды или откупы, а также заниматься промыслами, или отдавать деньги в займы под проценты. – Таким образом, со времён Петра В. духовенство по гражданским делам стало подсудно общим судам. По действующему уставу Дух. Консисторий лица духовного звания подлежат суду епархиального начальства только по следующим делам, имеющим гражданский характер: а) по взаимным спорам, могущим возникнуть из пользования движимой и недвижимой церковной собственностью; б) по жалобам духовных и светских лиц на духовных лиц в нарушении бесспорных обязательств, и просьбам о побуждении к уплате бесспорных долгов (§ 148. 1. б. в.).
2. Церковно-криминальный суд (jurisdictio criminalis)
§ 5. Общие замечания о нём. Предписывая правила внешней деятельности для своих членов, церковь естественно имеет власть наблюдать за исполнением этих правил и, в случае их нарушения, принимать известные карательные меры против нарушителей существующего в ней порядка. Эти карательные меры состоят в удалении преступника церковных законов от пользования всеми или только некоторыми правами и благами, которые принадлежат ему, как члену церковного общества. Цель такого удаления, как и всех вообще церковных наказаний, состоит в заглаждении вины противоположными ей добрыми делами и подвигами покаяния, удостоверяющими во внутреннем, нравственном исправлении виновного, в уничтожении в нём самого корня всех преступлений – порочной и злой воли, против которой и направлена вся система церковных наказаний. Отсюда возникают следующие основные принципы криминального права церкви:
—428—
1) Ни одно, даже самое крайнее, наказание церковное не может быть исключительно карой преступника, т. е. воздаянием злом за зло. Церковь должна подчинять преступную человеческую волю закону Божию, исправлять её, а не уничтожать, и ни в каком случае не должна отказываться от этой своей цели.
2) Чисто церковные наказания, состоя в лишении преступного члена церкви духовных прав и благ, находящихся в исключительном её распоряжении, могут назначаться только духовной властью.
3) Карательная юрисдикция церкви может распространяться только на её действительных членов: „внешних судит Бог“, сказал Апостол.
4) Понятие церкви о преступном деянии шире, чем какое принято в уголовном праве. Церковь рассматривает всякое преступление, как грех, и признаёт грехом не только нарушение непосредственно-божественных заповедей, но и каждого человеческого закона, имеющего своё основание в нравственной природе человека. Вот почему в каноническом кодексе мы находим определения о церковных наказаниях за чисто-уголовные преступления разного рода: за прелюбодеяние, убийство, воровство, грабёж и т. д. Такие преступления могут сделаться предметом суда церкви и после уголовного суда над виновным, и помимо этого суда, если они делаются известными только церкви (например, через исповедь) или если государственная власть сама отдаёт преступника на суд церкви (как было, например, в средние века в силу известного jus asyli – права преступников прибегать под защиту церкви от угрожающего уголовного наказания). Но, с другой стороны, не каждый грех есть преступление, а лишь такой грех, за который прямо изрекается определённое наказание в церковном или государственном законе и который состоит в открытом нарушении того или другого закона; поэтому и в области церковно-криминального права существует различие между грехом вообще и преступлением в особенности. Те грехи, которые не суть вместе и преступления, т. е. состоят в нарушении чисто нравственных требований, судятся церковью in foro interno – на тайном суде исповеди, где виновный, совместно с служителем
—429—
церкви, сам является судьёй своего деяния перед лицом Бога; напротив, суд над преступлением в собственном смысле церковь делит с государством: в тех случаях, когда нарушаются чисто церковные законы, судит церковь, и при том судит in foro externo – открыто, формальным судом, по известным процессуальным правилам, а преступления, нарушающие светские или мирские законы, подлежат компетенции государства; но, если известные действия признаны преступлениями и в государственных и в церковных законах, то о них судит и церковь и государство. С этих трёх точек зрения надо различать: 1) преступления чисто церковные (delicta mere ecclesiastica), 2) преступления чисто уголовные (delicta mere civilia) и 3) преступления смешанного характера и, следовательно, смешанной подсудности (delicta mixti fori).
§ 6. Исторический очерк криминальной церковной юрисдикции. В первые три столетия, пока церковь не была ещё в союзе с государством, она располагала лишь теми средствами наказания, которые вытекали из её природы, – именно, она отказывала своим преступным членам в благах религии и даже совершенно исключала из общества верующих. В этом и проявлялась данная ей Иисусом Христом власть связывать и разрешать, т. е. наказывать виновного и снимать с него наказание. Если один верующий нарушал право другого, то древняя церковь руководилась правилами, изложенными в Евангелии: обиженный сначала должен был обличить обидчика с глазу на глаз, затем при двух или трёх свидетелях, и, если обидчик и тут не сознает своей вины, дело должно быть отдано на суд всей церковной общины, которая может подвергнуть неисправимого, если он и церкви не послушает, исключению из своей среды (Мф.15:15–17). Здесь мы видим уже зачатки особенного канонического процесса, который начинался с так называемой denuntiatio evangelica, т. е. заявления перед церковью о правонарушении, и оканчивался отлучением от церкви в случае нераскаянности виновного.
С признанием церкви в государстве при Константине Великом, круг её компетенции по делам о преступлениях значительно расширился и государство в своей сфере
—430—
стало поддерживать авторитет суда церковного. Так, церковная анафема за ересь и раскол стала сопровождаться невыгодными последствиями и в сфере государственного и гражданского права. Но так как главнейшие преступления против веры и чистоты нравов в христианской греко-римской империи признавались преступлениями и с точки зрения уголовного права, то внешний суд церкви по означенным преступлениям мирян не мог иметь обширного действия. Церковь судила мирян только за такие преступления, которые действительно имели чисто церковный характер или которые не были предусмотрены в государственных законах. Гораздо обширнее была компетенция церковно-криминального суда по отношению к лицам духовного звания. Именно с эпохи установления союза между церковью и государством, христианские императоры не только признали за церковной властью право исключительного суда над клириками по преступлениям против обязанностей своего звания, определённых специальными церковными законами, но и сделали значительную уступку стремлению духовной иерархии подчинить клириков своему суду в делах уголовных. Церковные правила требовали, чтобы клирики свои уголовные иски против клириков же приносили на решение не светских судей, а духовных в порядке церковно-судейских инстанций (карф. пр. 15; халк. 8). Государственные законы допускали это сначала только по отношению к лёгким преступлениям клириков, и притом безразлично, будет ли виновный привлечён к ответу клириком или мирянином. Но уже Юстиниан постановил, что суд над клириками по уголовным делам вообще может быть начат и у духовного и светского судьи. Епископ, по рассмотрении дела, произносил приговор на основании церковных канонов и именно о церковном наказании, а затем препровождал виновного в светский уголовный суд, где определялось наказание уже по уголовным законам. Если же жалоба на клирика приносилась сперва к светскому судье, то последний, по окончании процесса, но ещё до произнесения приговора, должен был передать все судебные акты епископу для определения меры церковного наказания виновному. Если епископ находил преступление недоказанным или решение
—431—
дела неправильным, то он мог остановить исполнение приговора уголовного суда, и дело переносилось на решение самого императора. В VII столетии император Ираклий уничтожил эту двойственную подсудность духовенства по делам уголовным и отдал эти дела в исключительное ведомство епископов. Если бы епископ, по рассмотрении дела, нашёл, что подсудимый заслуживает строжайшего наказания, чем какое определялось в церковных канонах, то он, епископ, должен был, лишивши виновного духовного сана, передать его гражданскому начальству для наказания по уголовным законам.
§ 7. Церковно-криминальный суд в России. Русская церковь, при самом своём основании, получила в своё ведомство чрезвычайно много уголовных дел разного рода. Одни из этих дел судились церковной властью потому, что преступление совершено было ближайшим образом против веры и церкви, другие – потому, что преступление стояло в связи с такими гражданскими делами, которые были отданы в ведомство духовенства нашими старыми церковными уставами; третьи – потому, что преступление совершено было в кругу лиц, всецело подчинённых церкви; четвёртые, наконец, потому, что преступление не каралось уголовными законами страны, т. е. не считалось преступлением. Преступления, которые по той или другой из указанных причин судимы были духовной властью, могут быть подведены под следующие категории:
1) Преступления против веры и церкви. Сюда, по церковным уставам Владимира и Ярослава, принадлежали: совершение христианами языческих обрядов, волшебство, святотатство, нарушение святыни храмов, а церковь, руководясь греческим номоканоном, причла сюда же богохульство, отступничество от веры, ересь и раскол.
2) Преступления против общественной чистоты нравов: блуд, изнасилование женщин, противоественные плотские грехи (содомия, скотоложство).
3) Преступления против союза семейного и против церковных оснований брачного права: многожёнство, браки в запрещённых степенях родства, кровосмешение, своевольный развод, жестокое обращение мужа с женой или родителей с детьми и неуважение детьми власти родителей.
—432—
4) Некоторые случаи смертоубийства, именно – когда дело о нём соприкасалось с другими делами гражданскими и уголовными, предоставленными судам святительским, напр., если убийство совершалось в кругу супружеского или семейного союза (например, изгнание плода, посягательство одного супруга на жизнь другого), или, когда объектом его являлось лицо бесправное, каковы изгои и рабы.
5) Личные обиды, когда они совершались в кругу семейного союза или наносились способом особенно позорным по понятиям того времени или состояли в оскорблении женщины словом, обидным для её целомудрия, а мужчины – в названии его еретиком, волшебником и т. п.
Ещё обширнее был круг уголовной юрисдикции церкви над лицами духовного звания. Кроме исчисленных преступлений, духовенство подлежало ведению духовного суда в преступлениях и проступках против обязанностей своего звания и даже в уголовных преступлениях, кроме смертоубийства, разбоя и татьбы с поличным, хотя, впрочем, церковным властям иногда предоставляем был суд над духовными и по этим преступлениям. Вообще в древнем русском праве заметно преобладание принципа, по которому юрисдикция церкви определялась не столько существом самих дел, сколько сословным характером лиц: лица духовные, как по преимуществу церковные, и судились у церковной иерархии. Причины тому понятны: с одной стороны, светская власть не имела ни внутреннего полномочия, ни положительных оснований для суда над духовными лицами, виновными в нарушении обязанностей своего звания, определяемых исключительно церковными законами; с другой стороны, по понятиям того времени, считалось неприличным отдавать духовных пастырей на суд мирян в таких делах, где на первом плане стоит нравственность, где требуется вменение (суждение о нравственных мотивах деяния): это представлялось оскорблением пастырского звания и унижением достоинства церкви. Оттого то духовные власти особенно отстаивали неприкосновенность своей юрисдикции над лицами духовными именно в уголовных делах. В московском периоде исключительная подсудность духовных лиц своей ие-
—433—
рархии была возведена в общий закон для земель, подвластных московским великим князьям. В Судебниках Ивана III и IV читаем: „а попа, и диакона, и чернеца, и черницу, и старую вдовицу, которые питаются от церкви Божией, то судит святитель“. Собор 1551 года по вопросу Ивана IV „о святительских судах“, т. е. о пространстве церковного суда в Московском государстве, привёл длинный ряд источников византийского и русского церковного права (между прочим целиком устав Владимира) в доказательство неприкосновенности этих судов и принял за правило подсудность духовных лиц „святителям“ во всех делах уголовных, кроме душегубства, разбоя и татьбы с поличным. На этом же соборе учреждено было два разряда архиерейских судов: один для духовенства, другой для мирян, насколько последние были подсудны святительскому суду. Изложенные постановления подтверждены были Большим московским собором 1667 г. По вопросу о суде и наказании священнослужителей и лиц монашеского чина, „обретающихся в смертоубийстве, татьбе, денежных делах“ (подделке монеты) и пр., собор определил, что первоначальное осуждение и наказание виновных должно принадлежать церковной власти, которая, лишив таких преступников духовного сана, предаёт их в руки светского суда для наказания по законам уголовным. Установленный собором порядок суда над духовными лицами, обвиняемыми в уголовных преступлениях, был затем утверждён новоуказными статьями 1669 года. Здесь предписано уголовным сыщикам, чтобы они по „изымании“ духовных лиц, оговоренных в каком-либо преступлении, немедленно давали об этом знать закащику священного чина, т. е. духовному следователю, который и снимает допрос, „а сыщику мирскому тех лиц священного и монашеского чину не расспрашивать“. Если обвиняемый не сознавался в своей вине перед заказчиком, то последний отсылал его скованного и под стражей к епархиальному архиерею с точной отпиской о том, в чём он обвиняется. Если же сами архиереи отошлют преступника к уголовному сыщику с объявлением, что с него снят духовный сан, то суд производится обыкновенным уголовным порядком. Дети
—434—
священнослужителей и пономари, как лица непосвящённые, подлежат, по „новоуказным статьям“, уголовному светскому суду; это было уже ограничение устава св. Владимира. В таком виде существовал уголовный духовный суд до Петра В.
По учреждении Синода большая часть уголовных дел, по которым лица всех вообще классов подсудны были прежде церкви, отнесена к общим судам. Ведомство общего церковного суда, т. е. такого, которому подлежали прежде как лица духовные, так и миряне, ограничено лишь делами о богохульстве, ереси, расколе, волшебстве, о браках, заключённых детьми по принуждению родителей или крепостными по принуждению господ и о насильственном пострижении в монашество. (Докладные пункты Синода 12 апреля 1722 года, п. 1–4, 15, 16). Впоследствии, особенно при Екатерине II, и многие из этих дел отнесены были к ведомству общих уголовных судов, но перемена подсудности этих дел не сопровождалась соответствующими преобразованиями материального права. Отсюда и произошло, что в действующем нашем уголовном кодексе принято правило о двойственной, так сказать, подсудности известных преступлений, – именно, в Уложении о наказаниях удержано правило подвергать за преступления против веры, церковных правил и общественной нравственности не только уголовному наказанию, но и церковному покаянию, виды и продолжительность которого определяются духовным начальством (Ул. о нак. ст. 58, прим. 1). По действующему Уставу уголов. судопроизв. к таким преступлениям отнесены: а) преступления против веры (ст. 1004–1010) и б) преступления, соединённые с нарушением церковных правил (1011–1016). Участие духовного суда в производстве дел этого рода по большей части ограничено только определением меры церковного наказания. Иногда духовному начальству принадлежит инициатива возбуждения дел по преступлениям против веры и церкви, судимых теперь в уголовном суде: так, в случае совращения из православия в раскол или ересь, духовное начальство, по дознании о том от причтов церковных, требует предварительного следствия через судебного следователя, и ни один следователь не имеет права
—435—
отказаться от исполнения этого требования (Уст. гр. суд. ст. 1006 и 1008). Если раскол или ересь не имеют характера, по которому закон признаёт их особенно вредными, то всё дело о совращении ограничивается только тем, что совратившиеся увещеваются и вразумляются духовным начальством (т. е. дело до уголовного суда не доходит). В случае неуспешности этих увещаний совратившиеся не предаются уголовному суду, но в отношении к ним принимаются только некоторые меры, ограничивающие их в пользовании правами своего состояния, а их имение и малолетние дети отдаются под опеку (Уст. гр. суд. ст. 1084; Улож. о нак. ст. 185 и 188). Дела по преступлениям против союза брачного относятся также к делам смешанной подсудности: суд уголовный решает эти дела на основании уголовных законов, а суд духовный на основании церковных правил. Замечательную особенность представляет подсудность дел по жалобе одного из супругов на нарушение другим святости брака прелюбодеянием: смотря по цели иска, дела эти ведаются или исключительно уголовным судом, или исключительно духовным. Если оскорблённый супруг просит только о наказании виновного по уголовным законам, то дело подсудно уголовному суду, приговор которого сообщается духовному начальству для предания виновного церковному покаянию (Ул. о нак. ст. 1585); если же оскорблённый супруг просит о расторжении брака, то дело поступает в духовный суд (Уст. гр. суд. ст. 1016). Необходимое юридическое последствие того и другого иска состоит в том, что кто на указанном основании начал дело в уголовном суде, тот теряет право объявить иск в духовном, и наоборот – кто обратился к духовному начальству с исковою просьбою о расторжении брака, тот не может искать в уголовном суде о наказании виновного по уголовным законам.
Наконец, духовному суду исключительно подлежат ещё и теперь все те преступления и проступки мирян, за которые в наших законах (Ул. о нак.) определено одно только церковное покаяние, а уголовного наказания не положено. В Уложении о наказаниях предусмотрено несколько таких проступков и преступлений. Сюда относятся: 1) уклонение от исповеди и причащения по нерадению и не-
—436—
брежности (ст. 207 и 208); 2) неисполнение родителями обязанности приводить к исповеди своих детей, достигших семилетнего возраста (ст. 209); 3) неисполнение новообращёнными в православную веру инородцами уставов церкви и соблюдение ими прежних иноверных обычаев (ст. 207); 4) блуд, противозаконное сожительство неженатого с незамужней (ст. 994, 1597); 5) случайное, т.е. не только не предумышленное, но и без всякой неосторожности совершенное убийство, причём и само покаяние, по закону, налагается не иначе, как по собственному желанию неумышленного убийцы (ст. 1470); 6) покушение на самоубийство, остановленное посторонними обстоятельствами (ст. 1473); 7) неподаче возможной и безопасной помощи погибающему (ст. 1521); 8) лживая присяга, данная на суде без намерения повредить подсудимому (240); 9) принуждение родителями своих детей ко вступлению в брак или в монашество (ст. 1586). Ясно, что ни один из сейчас указанных случаев не содержит в себе преступления в собственном смысле этого слова. Государство отдаёт их на суд церкви, конечно, потому, что в них содержится нарушение не уголовного, а нравственного закона. С другой стороны, несомненно, что указанные случаи далеко не обнимают всего круга дел, по существу своему подлежащих карательному суду церкви. Эти случаи попали в Уложение о наказаниях по традициям, как случайные фрагменты старого, отжившего права, которое действовало до времён Петра Великого. Но пока, однако, такие случаи будут предусматриваться нашими уголовными законами, до тех пор в формальном праве (т. е. в законах уголовного судопроизводства) необходима оговорка, что духовному суду подлежат те преступления и проступки, за которые в законах (т. е. в Улож. о нак.) определено только церковное покаяние (Устав угол. суд. ст. 1002). Таким образом, в этой оговорке содержится только отрицательное определение ведомства суда уголовного по отношению к суду церковному, но никак не прямое и точное указание границ этого последнего. Церковь судит и наказует все деяния своих членов, содержащие в себе явное нарушение чисто-церковных уставов, – вот общее формальное определение того, что подсудно церкви в силу принадлежащей ей власти
—437—
вязать и решить... Без сомнения, то же самое хочет сказать и Уст. Дух. Конс. своим следующим определением: „Люди светского звания подлежат епархиальному суду по проступкам и преступлениям, подвергающим виновного церковной епитимии“ (ст. 148, п. 2 лит. г). Но и устав Духовных Консисторий не исчисляет всех таких проступков и преступлений. Да это едва ли и возможно. Проявления злой и порочной воли, противные церковным правилам и уставам, могут быть разнообразны до бесконечности. Поэтому рассуждению духовного судьи должно быть оставлено, насколько известным деянием члена церкви, как такового, нарушается закон Божий или церковный. Например, в церковных правилах прямо не предусмотрен следующий случай: некто после исповеди, но до причащения, напивается пьян и утром на следующий день, со всеми признаками похмелья, заметными и для других, является в церковь для принятия св. тайн: тут нет ни уголовного преступления, ни полицейского проступка, но с точки зрения церковного права, это есть глубокое и в то же время явное оскорбление величайшей христианской святыни, за которое виновный должен, конечно, подвергнуться заслуженному церковному наказанию.
Что касается до уголовной подсудности духовенства, то Пётр Великий, по учреждении Синода, повелел: о духовных, взятых в явном злодеянии, производить следствие и суд гражданскому начальству, т. е. за уголовные преступления подвергать их ответственности на общем основании, и только для снятия сана присылать их в Синод; духовных же, оговариваемых в каком-нибудь частном преступлении, отсылать в Синод, где и судить их, пока дело не дойдёт до розыска; наконец, жалобы на духовных лиц в брани, бою, краже и тому подобных делах приносить и рассматривать в Синоде (Докл. пук. 1822 г.). В следующие царствования духовенство более и более подчинялось общей уголовной подсудности. В этом отношении особенно замечательно царствование Анны Ивановны. Так, в противность закону Петра В., она повелела судить светским судом священников и диаконов, которые скажут за собой „слово и дело“ в пьянстве, драке или ссоре. Это повеление мотивировано было тем, что Си-
—438—
нод наказывал за это преступление, из уважения к духовному сану, не кнутом, а плетьми. Закон Петра был восстановлен Елизаветой: в Синод возвращены дела по частным жалобам на духовных лиц. Вообще в это время духовенство больше прежнего пользовалось защитой правительства. Так, в 1744 году Сенат воспретил губернаторам „привлекать к себе на суд духовные персоны и чинить им смертельные и ругательные побои“. По действующему ныне уставу Духовных Консисторий, уголовная подсудность духовенства определена следующим образом: лица духовного звания подлежат суду епархиальному 1) по проступкам и преступлениям против должности, благочиния и благоповедения, 2) по жалобам о личных обидах (ст. 148, п. 1, лит. а и в). Затем в судебных уставах 20 ноября 1864 года удержано правило, что духовные лица подлежат исключительно церковному суду за нарушение обязанностей своего звания, установленных церковными правилами и другими действующими в духовном ведомстве постановлениями (Уст. угол. суд. ст. 1017). Это правило, общее всем христианским законодательствам, основано на том принципе, что права и обязанности лиц духовных, как состояния церковного, определяются самой церковью – и только одной ей; следовательно, ей же необходимо принадлежит и суд по преступлениям лиц этого состояния против обязанностей своего звания. Далее, в той же самой 1017 ст. Уст. уг. суд. оставлены в ведении суда духовного и те противозаконные деяния духовных лиц, за которые в законах определено подвергать их ответственности по усмотрению духовного начальства. Под законами здесь, конечно, нельзя подразумевать ничего другого, кроме относящихся сюда статей Уст. Духовных Консисторий. Итак, по действующим законам, духовные лица подлежат суду своего начальства, а не уголовному: 1) по преступлениям против благочиния и благоповедения, причём, как справедливо разъясняет Неклюдов в своём „Руководстве для мировых судей“, имеются в виду случаи нарушения духовными лицами общественной тишины и другие подобные проступки, предусмотренные в ст. 35–51 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями; 2) по жалобам духовных же и светских лиц на них в обидах,
—439—
т. е. в личных оскорблениях словом или действием. Это правило основано на том каноническом положении, что клирик, наносящий кому-либо обиду словом или действием, не только совершает поступок, нравственно недозволенный и юридически наказуемый, но вместе с тем более или менее глубоко оскорбляет достоинство носимого им сана (апост. 27, двукр. 9) Поэтому-то дела этого рода, по нашим законам, не могут прекращаться примирением сторон (Уст. Дух. Кон. 202) и не могут обращаться в иск гражданский (т. X, ч. 2 изд. 1876 года, ст. 6 прим. 1); виновный клирик во всяком случае должен понести наказание, определённое в законах. Но по уголовным преступлениям духовные лица подсудны общему уголовному суду, с разными изъятиями из общих правил уголовного судопроизводства, указанными в 1020–1029 статьях устава (содержатся под стражей отдельно от других заключённых; все следственные акты о духовных, привлекаемых к уголовному суду с участием присяжных заседателей, предварительно посылаются прокурором на рассмотрение духовного начальства, которое сообщает своё мнение о виновном, и это мнение, по требованию прокурора и защиты, может быть прочитано в суде и проч.).
А. Павлов
Введенский А.И. Браманизм // Богословский вестник 1901. Т. 2. № 7/8. С. 440–477 (3-я пагин.). (Начало.)
—440—
Глава первая
I. Культурно-социальные условия возникновения браманизма
Духовная жизнь эпохи возникновения браманизма характеризуется двумя чертами: во-первых, критико-скептическим, часто даже ироническим, отношением нации к своему религиозному прошлому и, во-вторых, рождением новой идеи, определившей её религиозное будущее. Изучая генетически эту перемену в жизни индийского религиозного сознания, мы находим целый ряд подготовивших и вызвавших её факторов.
Прежде всего здесь сказалось действие факторов общепсихологических.
Творчество народа, как и отдельного человека, начинается лирикой, затем переходит к эпосу и кончает философией. Так было и в Индии. За эпохой религиозно-лирических излияний (Ведийские „гимны“) последовал эпос (начало слагавшейся целые века Магабгараты) и, одновременно с ним, стало пробуждаться к жизни сознание философско-критическое. Вследствие этого, „гимны“ отступили уже на второй план. Мало по малу в отношении к ним утрачивались чуткость и понимание. Живое излияние религиозного чувства превратилось в условные формулы, которые становились мало вразумительными не только вследствие своей элементарности и наивности, как для взрослого мало вра-
—441—
зумителен лепет ребёнка, но и вследствие всё меньшей и меньшей понятности самого языка1093. В конце концов то, что прежде принималось с доверием и религиозным трепетом, как непогрешимое откровение самой истины, то сделалось теперь предметом раздумья, критики, порой насмешки, вследствие чего религиозное сознание стало искать иной формы выражения. Пластичные образы богов Риг-Веды сменились бледными обобщениями. Мысль углублялась и ставила новые запросы, на которые и ответил браманизм.
К этой первой и общей причине, изучаемой нами перемены в жизни индийского религиозного сознания, присоединилась другая, частная и местная.
В эпоху возникновения браманизма центр индийской жизни мало по малу переносился из области верхнего бассейна Инда в средний, а потом и в бассейн Ганга. Вынужденная необходимостью, ростом населения, эта перемена места обитания, а вследствие этого и условий жизни, глубоко изменила народный характер, наложив на него особенную печать. Новое отечество оказалось далеко не столь приветливым и ласковым, как прежнее, – с его плодородной почвой и ровным, почти умеренным, климатом. „Бассейн Ганга с севера граничит с нездоровой местностью, известной под именем Тераи; на восток соприкасается с областью, откуда несутся страшные смертоносные миазмы; ядовитые змеи в громадных количествах ползают в траве; королевский тигр нераздельно властвует в джунглях; с севера и с юга жителям долины Ганга угрожают дикие народы; наконец, ветры, мирно дующие в области Инда, разгоняющие и сгоняющие там дождевые облака, обращаются здесь в ужасные циклоны, губящие иногда сотни тысяч жизней. Ещё губительнее отзывается на населении голод, зачастую, в течение нескольких месяцев, уничтожающий значительную часть населения. Пожалуй, ни в одной стране чело-
—442—
век не чувствует себя более вечным пленником могущественной повелительницы – природы, иногда награждающей, но ещё чаще насылающей невообразимые бедствия. Никакая другая среда не в состоянии столь ясно дать понять, что жизнь и смерть, добро и зло – два цветка на одном и том же стебле1094“. Как и долины среднего течения Инда, бассейн Ганга беден влагой, но богат палящим зноем и, потому, кроме периодических голодовок, часто страдает от эпидемических и повальных болезней. Всё это не могло не налагать своеобразной печати на характер, поэзию, мысль Индийцев изучаемой нами эпохи. Апатия, с одной стороны, пессимизм, с другой, стали проникать в душу дотоле бодрого и жизнерадостного народа. Мысль стала всё более и более уходить от мачехи-природы в себя. Непосредственное творчество иссякло под палящими лучами солнца, точно также, как влага и питаемая ею растительность. Сурья, бог солнца, был теперь уже не тот: он палил и сжигал, а не светил только и грел, как прежде. Не тот был и „тучегонитель“ Индра: он не пригонял отовсюду дожденосные тучи, как прежде, а напротив разгонял их силой страшных гроз, лишая жаждущую землю влаги и питания. Изменились и другие боги. Остались, правда, ещё их имена, но куда-то уже исчезла их благодетельная сила, заменившись злотворной. И вот вместо непосредственного погружения в полную богов природу, вместо религиозно-поэтической жизни одной с ней жизнью, начинается трезвая, ленивая, медленно-движущаяся проза жизни, мысли, языка, – мирского и религиозного1095.
—443—
К двум указанным нами факторам, вызвавшим переворот в жизни индийского религиозного сознания, общепсихологическому и климатогеографическому, присоединился ещё третий, может быть самый важный. Мы разумеем фактор социальный, именно – расслоение общества на касты.
Касты в зародыше есть у всякого народа, так как они коренятся в сословных различиях, без которых, как известно, немыслима ни одна социальная организация. Но
—444—
благодаря специальным, экономическим и социально-историческим, условиям жизни индийского народа в изучаемую нами эпоху, именно здесь эти зародыши развились с такой силой и приняли такую форму, что Индия, по справедливости считается в этом отношении страной исключительной, как бы классической. Прежде всего, необходимость постоянных военных, наступательно-оборонительных действий в отношении к аборигенам выделила сословие кшатриев, во главе с царями и вождями. Затем, условия экономические повели к обособлению состоятельных собственников и кабального рабочего пролетариата1096. Наконец, над всеми ими возвысились брамины, посредники между народом и божеством: без них не могли обходиться даже привилегированные кшатрии, так как военный успех был, согласно общему верованию того времени, всецело обусловлен тем, предварены ли их предприятия известными, и при том правильно совершёнными, религиозными обрядами, или нет, а это знали только брамины1097.
—445—
Социальное значение браминов росло в Индии прямо пропорционально росту и закреплению кастовых расслоений. А эти последние в Индии, как известно, являлись не только фактом, исторической действительностью, но и возводились в норму, в незыблемый, потому что будто бы богоустановленный, порядок. Правда, из народной памяти никогда не исчезала мысль о том, что кастовый строй не есть нечто бывшее изначала, что касты имеют свою историю, что было время, когда кастовых обособлений совсем не знали. Популярная легенда, в различных вариациях, рассказывает о том, как, вследствие человеческой страстности и тяготения к чувственному, первоначальное состояние кастового безразличия, когда все люди были равно добродетельны и благочестивы, то есть когда все были брамины, – это своего рода золотой век в воззрениях индийцев, – как это состояние мало-по-малу сменилось кастовым обособлением, выразившимся и внешним образом, в цвете кожи: сначала часть браминов, забыв закон, подпав страстному гневу и окрасившись кровью, превратилась в красных кшатриев (воины); затем, другая часть, погрузившись в заботы о стяжаниях через обработку земли, как бы приняла и её цвет, превратившись, таким образом, в жёлтых вайсьев; наконец, иные, очернив свою душу рабским ласкательством и человеко-угодничеством, превратились в чёрных и презренных судров. Так говорила легенда, не желавшая видеть в кастовых различиях богоустановленный порядок. Однако, брамины, с своей стороны, чтобы парализовать это народное воспоминание о происхождении кастовых различий, создали своё известное учение об изначальном существовании каст, как сотворённых самим Брамой. В различных редакциях, с космологическими, мифическими и мистическими осложнениями, они передавали сказание о том, как из уст Брамы вышли брамины, с готовыми Ведами в устах, как из
—446—
его рук образовались предназначенные действовать всего больше руками кшатрии, из бёдер – усидчивые промышленники, оседлые земледельцы, торговцы и т. д., а из ног – предназначенные пресмыкаться у ног людей влиятельных и сильных презренные судры... Брама сравнил эти четыре касты и, за ум и знания, выше всех поставил браминов1098.
Под совокупным действием всех, указанных нами, факторов, – психологического, климатогеографического и социально-исторического, – в дотоле целостном индийском религиозном сознании совершилось расслоение и даже как бы разрыв. С одной стороны, так сказать, „мирские“ касты (кшатрии, вайсьи и судры), сполна увлечённые и безраздельно поглощённые своими новыми колонизаторскими задачами, борьбой с аборигенами и негостеприимной природой, не имели ни сил, ни желания столь интимно входить в религиозную жизнь, как это было прежде, – тем более, что проза новой жизни и рассудочность, характеризующая вообще зрелость народа, точно так же, как и отдельного человека, уже в значительной степени вытравили из индийской народной души восприимчивость, а может быть отчасти даже и понимание к тем возвышенным и задушевным религиозно-лирическим излияниям, которыми она питалась в „эпоху гимнов“. С другой стороны, „духовная“ каста, вследствие этого обмирщения общенародной жизни, считала именно своей обязанностью стать на страже религиозных интересов. Но так как непосредственная религиозная продуктивность, под влиянием тех же факторов, и в ней исчезла точно также, как в массе, то ей приходилось теперь или погружаться во внешний ритуал, или же заниматься комментированием „гимнов“, которые, силой времени и обстоятельств, в большинстве своём, превратились в условные символы. Таким образом, как бы по закону сохранения духовно-общественной энергии, вялость религиозной жизни в одной части общества тотчас же отразилась повышением степени её интенсивности в другой: из состояния рассеяния в массах энергия религиозной жизни и мысли перешла в
—447—
состояние сосредоточения, как в фокусе, в одной касте, чем поставила её в социальной иерархии на такую высоту, сообщила ей такую власть и силу, подобных которым не знает история, в сравнении с которыми, по справедливому замечанию Дейсена, даже власть пап должна быть признана скромной 1099. И – таково могущество власти, покоящейся на силе властной в сознании масс идеи! – между тем как одни, неизбежные везде и повсюду протестанты и скептики, жестоко и зло осмеивали браминов, другие, и притом несоизмеримое с первыми большинство, охотно признавали их именно за то, за что они себя выдавали, видели в этих былых народных „молитвенных“ и смиренных „богомольцах“ властных наместников и представителей богов на земле, чувственное и телесное явление самого Брамы, которым поэтому, на земле все должны повиноваться точно также, как боги повинуются Браме на небе...
Мы уже сказали выше, что непререкаемый авторитет браминов покоился на том, что лишь они одни знали, как, какими жертвами и церемониями, можно привлечь к людям благоволение богов и лишь они одни умели правильно объяснять священные гимны, смысл которых становился с течением времени всё более и более непонятен. Однако, – не только на этом. Нет. Сверх этого, в эпоху одностороннего преобладания в массах так называемой материальной культуры, лишь одни брамины имели славу сведущих, в собственном смысле „учёных“ людей, к которым не только по необходимости, за отсутствием других учителей, но и добровольно шли в науку. В этом отношении жизнь Индии, в изучаемую нами эпоху, представляет весьма своеобразную картину, на которую жизнь новейших европейских (особенно немецких) университетов, – также достаточно характерная, – даёт разве лишь отдалённый намёк. Подобно тому, как европейское юношество, странствуя от университета к университету, искало наиболее знаменитых своим красно-
—448—
речием и учёностью профессоров, – так же точно и в древней Индии юноши странствовали повсюду, отыскивая наиболее прославленных учителей, которым бы могли отдаться в вольное духовное рабство с наибольшим доверием. Именно рабство! Ибо учитель-брамин брал в свою власть не только ум ученика, но и его волю и, рядом с изучением Вед (изустным, со слов учителя), как необходимая составная часть курса, проходило упражнение воли в послушании ему (так называемая Açrama): как бы в отплату за своё учение, кроме более или менее крупных подарков в конце курса, ученик обязан был исполнять всё, что прикажет учитель (стеречь скот, собирать подаяния и т. д.). По окончании курса, воспитанник мог, по мере своего проникновения учением, избрать различные роды дальнейшей жизни. Он мог остаться в доме учителя. Мог удалиться в лес, чтобы там смирять себя лишениями и подвигами, до самобичевания включительно. Мог, оставив всё своё имение (samnyâsin) начать странствовать, в качестве нищего (bhikshu). Но при этом разнообразии существовал общий тип жизни или, так сказать, её общая схема, предназначенная для каждого двиджы, „дважды-рождённого“ (то есть не-судры): 1) жизнь в доме учителя (brahinanaçarin), 2) основание семьи (grihastha) 3) удаление (под старость) в лес для подвигов (vanaprastha) и, наконец, 4) отказ от собственности и жизнь подаянием (samnyasin, bhikshu, parivrâyaka). Таким образом, было, по замечанию Дейсена1100, в тенденции браманизма подчинить „ашраме“ (açrama), то есть привести в послушание, всю жизнь не только браминов, но всех вообще ариев Индии.
Те два–три века, которые отделяют светлую эпоху Ведийской религиозной поэзии от времени Упанишад, то есть времени расцвета браманистической философии, обыкновенно сравнивают с эпохой „переселения народов“ (в Европе), когда жизнь так же приняла односторонне-внешний характер, а духовные, и в частности религиозные, интересы в сознании народов угасли или отступили на задний план.
—449—
Точно так же очень охотно обыкновенно проводят параллель между браминским режимом в Индии и режимом католического духовенства, во главе с папой, в средневековой Европе: там и здесь, говорят, духовная жизнь перерождалась в односторонний и мертвящий схоластицизм. Сравнения, в общем, верные и при том первое – без всяких ограничений. Но что касается последнего, то, как бы много оснований ни имели мы рассматривать режим духовной „касты“ в Индии, как и в Европе в средние века, в смысле односторонности и причины духовного застоя1101, – однако, нельзя, с другой стороны, забывать и о том, что брамины должны же были иметь в себе нечто положительное, нечто такое, что, при полном отсутствии в их руках внешней власти и внутренней сословной организации, подчиняло им, чисто духовно, весьма большое численно население Индии, не исключая и влиятельных кшатриев. И это „нечто“, могущественное средство держать во власти народ, в руках браминов действительно было: мы разумеем систематизированные и, в значительной
—450—
части, дополненные (философско-религиозными и ритуалистическими комментариями) Веды, в которых заложена утончённейшая, достаточно согласованная внутренне, при всех своих внешних противоречиях, и чрезвычайно выработанная в деталях религиозная философия, – „слово Божие“, индийцев, незыблемое основание их культа и жизни, „богоугодной“ и мирской, между которыми для индийцев, как известно, отнюдь нет непроходимой пропасти.
II. Организация Вед и её основной принцип
Веды (то есть знание, собственно знание богословское, которое, однако, в Индии, как, впрочем, и повсюду в древнее время совмещало в себе всё и всякое), – исполинский религиозный памятник, в шесть раз превосходящий по своему объёму Библию, – в том виде, в каком они предлежат современным европейским учёным1102, суть не что иное, как собрание богослужебных книг браминов или, просто, „служебник“. Они чрезвычайно сложны и разнохарактерны по своему составу: это подлинно silva silvarum. Но мы легко можем ориентироваться в них, если взглянем на них именно с той точки зрения, которой достигли теперь, то есть если будем рассматривать их, как дело браминов, всецело и строго определявшееся их специальными задачами. Ибо и в организации того, что мы должны рассматривать как продукт непосредственного народного
—451—
творчества предшествующей эпохи (гимны Риг-Веды), и в составлении новых частей обширного сборника, есть своя психология, очень ясная и, по-видимому, вполне ясно сознанная, которая, если мы поймём её, сразу даст в наши руки ключ для понимания организационного принципа этого замечательного религиозного памятника.
Исключительное социальное значение браминов, как мы видели выше, определялось их двоякой функцией: педагогической и литургической. Мы уже сказали всё существенное о первой. Теперь, для понимания принципа организации Вед, нам необходимо несколько остановиться на второй.
Чтобы предпринятое дело было успешно, необходимо заранее привлечь к нему и деятелю благоволение богов. А чтобы достигнуть этого, необходимо вознести к ним молитву, сопровождаемую жертвой и, – главное, – необходимо сделать всё это, как должно, „по правилу“. И прежде всего необходимо правильно воззвать к божеству, назвать и призвать его: это знал только брамин – „взыватель“ (hotar), лучше которого никто не мог подобрать из „священного писания“ соответствующий случаю стих. Далее, призванному к жертве божеству необходимо было воздать подобащее ему величание, восславить его и воспеть ему приличную песнь: это мог сделать только брамин – „певец“, специально к тому приставленный и тому обученный (udgâtar). Наконец, жертву нужно было вознести и предложить божеству не как-нибудь, а как подобает, с соответствующими приёмами и причитаниями: это мог сделать опять-таки лишь специальный брамин (adhvaryu). У каждого из этих браминов-специалистов были свои „служебники“: у одного собрание „гимнов“, представляющих неистощимое собрание всяких воззваний, обращений и т. д., расположенных так, что в них сравнительно нетрудно ориентироваться (это и есть Риг-Веда, с её ма́ндалами, то есть кругами или отделами гимнов); у другого – собрание песнопений, опять-таки удобно расположенных в целях литургической ориентировки (это Сама-Веда); наконец, у третьего – собрание стихов и кратких, по большей части, тёмных мистико-каббалистических формул и причитаний, которыми приправлялись тонкие оттенки жертвенных манипуляций (это – две Яджур или, как читают другие, Ягур–
—452—
Веды). К этим трём основным Ведам, с течением времени (гораздо позднее двух последних, которые сами появились позднее первой), присоединилась четвёртая: Атарва-Веда, эклектический и сначала полуканонический сборник из разных фрагментов, так сказать растерянных первыми тремя Ведами и долгое время живших лишь в памяти народа, вне браминских традиций и школ, поэтому значительно искажённых и, может быть, даже намеренно фальсифицированных, в тех или других, сторонних браминам, целях (особенно со стороны кшатриев, у которых он был больше в употреблении, чем у браминов). Лишь позднее, чтобы придать этому последнему сборнику равный с остальными канонический авторитет, его стали ставить в связь с брама̀ном, то есть верховным брамином, жрецом-наблюдателем, который сам не выполнял никакой специальной функции при жертвоприношении, но надсматривал за правильностью действий трёх непосредственных его исполнителей. Некоторое основание для этого сближения брама̀на с Атарва-Ведой, конечно, было: в известном смысле эклектическая Атарва-Веда стояла выше всех других Вед, из которых заимствовала фрагменты, точно также, как и брама̀н стоял выше других, простых браминов, из которых каждый опирался лишь на свою Веду, тогда как он на все три. Но связь эта, очевидно, чисто внешняя, которая, впрочем, – и при том именно своей условностью и внешним характером, – показывает, с какой последовательностью был проведён, при организации Вед, указанный нами принцип.
Но литургический принцип организации Вед ведёт нас и дальше.
Недостаточно брамину-специалисту иметь в руках соответствующий служебник, чтобы хорошо им пользоваться. В самом деле, как бы хорошо служебник ни был составлен и как-бы, с другой стороны, ни был обучен и памятлив брамин, им пользующийся, но, при исполинских размерах книг, всё же не легко было в них разбираться и в каждом данном случае ими пользоваться. Поэтому, кроме существенных и основных частей, то есть кроме „собрания“ (samhitâ) воззваний (стихов и гимнов), песнопений, таинственных формул, – кроме этого в каж-
—453—
дом служебнике сделались необходимы ещё дополнительные части, имеющие значение, с одной стороны, практическо-руководственное, указывающее, когда и как пользоваться „самхитами“ (это – brâhmanam), а с другой – просто мнемоническое, помогающее, в сжатом и синоптическом изложении, охватить памятью всё существенное в служебнике (sûtram, – сутры, то есть нитки, коротенькие двух- и трёх-словные строчки, с очень значительным, при сжатости, содержанием). Таким образом, каждая Веда распалась на три части: „Самхиты“, „Бра́маны“ и „Сутры“.
Но и здесь ещё не конец архитектоники Вед. По крайней мере, одно из только что указанных нами подразделений, „Бра́маны“, представляют из себя опять-таки нечто сложное. Но литургический принцип, который вёл нас через silvam silvarum доселе, не покидает нас и теперь.
„Бра́маны“, как мы сказали, имеют практическо-руководственное значение для браминов. Однако, брамин, – развитой, сознающий и понимающий своё дело, – конечно, не может удовлетвориться знанием одной технической стороны его. Ему недостаточно знать, когда, как и что читать, петь или делать, но необходимо знать ещё и то, почему нужно делать своё дело именно так, с такими или иными манипуляциями и причитаниями, а не иначе. Вследствие этого в „Бра́манах“, кроме описания и определения для каждого данного случая внешне-технической стороны ритуала (vidhi, – предписания, нечто вроде наших „требников“), сделались необходимыми ещё объяснительные замечания, указывающие на внутренний смысл тех или иных церемоний. По силе этой необходимости, к собственно „Браманам“ (vidhi), то есть внешним правилам и указаниям (когда, как и что́), с течением времени был присоединён непрерывный комментарий ритуала, принявший в свою очередь, два различных направления, обособленные и внешним образом, как две дополнительные части „Браман“, вторая и третья, причём вторая носила историко-экзегетический, мифологический и полемический, характер (arthâvada, то есть „объяснение“), а третья – преимущественно философский, возводивший технические определения ритуала и его историко-мифологическую основу к свету высшей философской идеи и тем как бы доводивший Веды до конца (ve-
—454—
dânta, то есть конец Вед, – конец, всего и всякого, включённого в них, знания). Таким образом, и „Бра́маны“, в свою очередь, – и все по тому же принципу, – распались на три части, из которых одна излагает правила или „предписания“ для церемоний, другая мотивирует их указанием на их историко-мифологическое происхождение, а третья вскрывает их внутренний или идейный смысл, даёт, так сказать, философию ритуала.
Этими подразделениями, если не принимать во внимание более мелких и специальных, организация Бед закончена и теперь открылась возможность весь громоздкий материал исполинского религиозного памятника включить в одну, удобную для обозрения, общую схему, а именно:
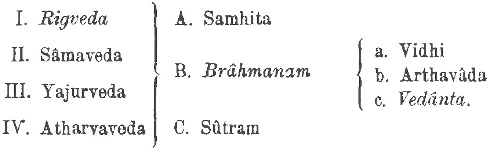
Конечно, не все части Вед имели (для индийцев) и имеют (для европейских учёных) одинаковое значение. Мелкие ритуалистические подробности, перечни заклинательных формул и т. д., – всё это конечно, далеко не то, что изложение основ вероучения. Поток религиозной жизни индийцев, в своей истории, раздробился на множество рукавов, – хотя его главное русло всё же можно определить с ясностью. Именно оно определяется теми частями неисчерпаемого религиозного памятника, которые в нашей схеме отмечены курсивом: религиозная мысль впервые с достаточной ясностью выразилась в Самхите Риг-Веды, прошла через „Бра́маны“ (особенно – также Риг-Веды) и, так сказать, излилась в Ведантах. Поэтому, как Риг-Веда имеет значение основного (и в сущности единственного) вполне надёжного источника для изучения жизни религиозного сознания в первый, раннейший период индийской религиозной истории, так Веданты, „конец Вед“, имеют преимущественное значение для изучения жизни религиозного сознания в эпоху возникновения браманизма и последующие, вплоть до начала его действительного исторического конца (то есть упадка и окончательной утраты влияния). Поэтому на Ве-
—455—
дантах нам необходимо здесь остановить своё внимание несколько долее.
Веданты часто отожествляют с Упанишадами и, поэтому, одно слово ставят на место другого. Для этого, как сейчас увидим, есть некоторые основания, но всё же это не совсем так, – не вполне точно. Веданты обширнее Упанишад. Ведантами в общем смысле, называется тот разносоставный и разнохарактерный материал, те, более или менее толковые, более или менее глубокие, – размышления о сущности, символическом и философском значении индийского ритуала, которые первоначально предназначались для отшельников (aranyaka), как некоторая замена самого ритуала, недоступного для людей, находящихся в лесу или в пустыне (поэтому они и назывались так же „араньяками“, то есть предназначенными для отшельников, людей уединённых): на место невозможного для отшельника участия в культе или его исполнения рекомендуется простое размышление о нём. При этом людей, наиболее наделённых от природы наклонностью и способностью к философствованию, такие размышления иногда наводили на свои собственные и иногда очень глубокие философские идеи. К этому присоединялась работа „школы“. И вот всё это мало по малу заносилось в те части Бра́ман, которые назывались „араньками“, а потом, вследствие естественного расширения смысла, стали называться „ведантами“. Но из этой разносоставной смеси, разраставшейся с чрезвычайной быстротой, позднее были выделены лучшие, наиболее глубокомысленные и философичные, части, которые и образовали Веданты в собственном, тесном смысле или Упанишады. Таким образом, Упанишады суть лучшая часть Ведант (если под этими последними разуметь вместе и Араньяки и Упанишады, словом всю третью часть „Браман“).
Но что такое собственно Упанишады? Что означает само это слово?
Мнения учёных, туземных и европейских, по вопросу об этимологии этого слова, расходятся1103. Но несомненно,
—456—
что оно содержит в себе указание на нечто таинственное. Это основное значение популярного термина можно раскрывать в различных отношениях: учитель предлагал своё „таинственное“ учение не повсюду, но в укромных, „таинственных“, местах и не всем, но лишь людям испытанным, искушённым подвигами послушания („ашрамы“) и тем доказавшим свою способность принять „тайну“ учения; далее, он сообщает его в таких словах и выражениях, которые, при своей внешней простоте, скрывают в себе глубокий, „таинственный“ смысл и т. д. Но при этой подвижности и растяжимости общего смысла термина, путём анализа словосочетаний, в каких он употребляется, можно установить три основных его значения, а именно: 1) таинственное слово или формула; 2) таинственный текст или учение и, наконец, 3) таинственный (=аллегорический) смысл. Развитие понятия, несомненно, шло от первого значения к последнему: сначала, в целях сохранения „тайны“, был выработан запас кратких слов и формул, которые, затем, при изустной передаче, комментировались более подробными пояснениями („тексты“, „учения“) и, наконец, вместе с последними, слагались в более или менее длинные изложения, с условным и растяжимым аллегорическим смыслом.
Упанишадами „слово Божие“ (Çruti, – откровение и слово Божие) индийцев, то есть их каноническое, или „священное“ писание, заканчивается. Далее начинается уже слово человеческое (Smriti, „предание“), хотя и опирающееся на „откровение (Çruti), однако допускающее в свой состав и
—457—
соображения ума человеческого. Таковы: Магабгарата, Бгагават-Гита (эпизод из Магабгараты), Книга законов Ману и, наконец, „системы“ философские. Эта литература уже далеко выходит за эпоху возникновения браманизма и, поэтому, интересовать нас здесь не может. Только одна из философских школ, а именно вторая Миманза (Çàrîraka – mîmânsâ, Uttara – mîmânsâ), как прямое продолжение и дальнейшее развитие той же идейной основы, какая заложена в Упанишадах, должна остановить здесь наше внимание.
Основатель этой школы, некий Бадарайяна, опираясь, главным образом на каноническую Веданту, изложил в форме „сутр“ (Брама-Сутры или Веданта-Сутры) всё существенное содержание канонической Веданты, придав ей, через это, характер и форму философско-теологической системы. Так как, однако, эти „сутры“ (=нитки, то есть краткие двух-и трёх-словные строчки) всего чаще выражают не самое существенное, но лишь самое заметное для памяти, суть по выражению Дейсена не Schlagworte но лишь Stichworte, то без комментария они часто совершенно непонятны. Таким образом, комментарии к ним явились делом не роскоши, а необходимости. Замечательнейший из них, комментарий известного Санкары, жившего в VII–VIII вв. после Р. Хр., единственно доступный современным учёным в полном составе, образует с Веданта-Сутрами Бадарайяны как бы одно целое, одну философско-догматическую систему, в отношении к которой „сутры“ являются тем же, чем нитки (уто̀к), вводимые „челноком“ в „основу“ ткани, служат в отношении к этой последней.
Не смотря на то, что Комментарий Санкары отделён многими столетиями от раннейших Упанишад, – сколькими именно неизвестно, так как хронология не только Упанишад, но даже и Брама-Сутр Бадарайяны, не менее темна и запутанна, чем и хронология Риг-Веды, – не смотря, говорим, на это расстояние между источниками, историк религиозного сознания, характеризуя учение браманизма, может спокойно и доверчиво пользоваться как Упанишадами, так и Сутрами Веданты (или Брама-Сутрами), вместе с нераздельно с ним связанным творением знаменитого индийского комментатора, ибо идейная основа их, как
—458—
мы уже говорили, в сущности одна и таже: Веданта Бадарайяны и Санкары, в отношении к Веданте Вед (=Упанишадам) есть тоже, что у нас и вообще в христианских исповеданиях „система“ (или учебник) догматического богословия в отношении к Священному Писанию1104.
III. Неудавшаяся попытка Индийского религиозного сознания подняться над мифологическим миросозерцанием: концепция Праджапати
Если последовательно, один за другим, мы прочитаем из Вед два отрывка, – один из древнейших гимнов Риг-Веды, а другой из Упанишад, – то ясно увидим, какое громадное различие, по характеру и форме, существует между началом и „концом“ Вед: там мышление существенно мифологическое, здесь метафизическое или спекулятивное. Переход от первого к последнему, как мы сказали, был делом естественным и даже неизбежным. Но в жизни народов, как и в жизни отдельного человека, переход от детски-наивных олицетворений к философии не совершается внезапно, скачком и между мышлением мифологическим и собственно-философским всегда бывает переходная ступень: так и в Индии конец Ведийского периода и начало эпохи возникновения
—459—
браманизма мы должны рассматривать как именно переходную ступень, когда образность уже поблекла, а мысль ещё не окрепла и на жизнь религиозного сознания, поэтому, спустился туман религиозного мистицизма, развитие которого шло параллельно осложнению культа. Этот мистицизм, который точнее можно назвать литургическим мистицизмом, сказался уже в гимнах Риг-Веды, посвящённых специально-культовым божествам: Агни, Соме, Бригаспати и др. Но ещё яснее он выразился в Бра́манах. Зародыши позднейшего пантеистического умозрения, которое развёртывается во всех подробностях лишь в Упанишадах, здесь, правда, ещё скрыты под формой мистико-символического толкования культа и его сложной техники. Однако, если мы хотим понять браманизм, с его характерными для истории Индии особенностями, в его генезисе, мы не можем не коснуться Бра́ман, которые, впрочем, и сами по себе, со стороны чисто психологической, представляют крупный интерес. По Бра́манам мы можем проследить не только те ступени, по которым религиозная мысль поднималась от мифологического миросозерцания к религиозно-умозрительному миропониманию, но также и те психологические процессы, посредством которых совершалось это восхождение.
Первая ступень подъёма есть концепция Праджапати, (=„Владыка созданий“), удерживающаяся пока ещё на существенно мифологической почве, но уже проникнутая характерным для религиозной мысли этого периода стремлением к единству.
Праджапати1105 впервые определился перед религиозным сознанием, как золотой росток, который, неизвестно когда и как, возрос на первоводе (первоначало, из которого всё). Сначала он был одинок, но он захотел умножиться, – воспроизвести себя в других золотых ростках, а через них и в других вещах, во всём мире. И это было для него возможно – через tapas. Понятие tapas’a, свойственное преимущественно древнейшим Бра́манам, есть специально-индийское понятие. Его реально-чувственная основа была
—460—
дана процессом высиживания (птицей яйца). Но так как сущность этого последнего процесса есть развитие теплоты, а теплота в знойной Индии есть причина страданий, упадка сил и изнеможения, то понятие tapas’a было развито мало-по-малу именно в эту сторону и в этом направлении и, наконец, перешло в понятие самоистощения, самобичевания, самоотречения, самоотчуждения (различных форм аскетизма), – ради других созданий. Применённое к Праджапати, это понятие дало концепцию его самоотречения ради мира, самоотверженного самораскрытия его в мир: из отдельных органов или частей Праджапати, которые отпадали от ослабевшего, вследствие трудных подвигов tapas’a, тела, образовались все элементы и вещи мира, весь мир и все миры. Таким образом, по этой концепции, мир, во множественности своих явлений, есть не что иное, как бесконечно умноженный через самовоспроизведение и распавшийся в каждом вновь воспроизведённом явлении своём на свои части единый Праджапати. И как его самораскрытие в мир совершилось силою tapas’a, который мыслится нераздельно с выполнением различных приёмов сложного ритуала, так и восстановление изначального единства, – не действительное, а в созерцании, то есть возвышение к пониманию мира не в его множественности, а в его единстве, – возможно опять-таки лишь через ритуал и жертву: „кто приносит жертву“, говорит один текст, „тот восстановляет Праджапати в его единстве и целости“1106. И боги непрестанно делают это. Таким образом, в Индийское религиозное сознание впервые вступила мысль, что в сущем две стороны: зримая, постижимая, именуемая, и – незримая, непостижимая, неизреченная.
Золотой росток Праджапати, как мы сказали, родился из первоводы и, следовательно, он ни в каком случае не мог быть мыслим с чертами самобытности и безусловности. И действительно признаки абсолютности не только совершенно отсутствуют в его концепции, но ему усвояются признаки прямо противоположные, – хотя и под мифологической оболочкой. И, во-первых, как определённо говорят тексты, лишь одной своей половиной Праджапати бессмер-
—461—
тен, другой, поскольку, то есть, он перешёл во множественное бытие мира, он сам смертен и „тем, что есть в нём смертного, он трепещет смерти“. Правда, всё существующее (мы увидим дальше, что в том числе и вода из которой он вышел, – по некоторому мифологическому tour de force) вышло из него, им „создано“. И тем не менее, он всё же лишь первый среди своих созданий, – особенно среди опять-таки им „созданных“ богов. В отношении к последним он в собственном смысле „первый между равными“. Он тридцать-четвёртый, в дополнение к тридцати-трём божествам Ведийского пантеона. Он четвёртый в дополнение к трём главным божествам сфер: земной (Агни), воздушной (Вайю) и небесной (Сурья). В лучшем случае, он лишь руководитель, мудрый советник богов и верховный вершитель их разногласий и споров. С другой стороны, – и это главное, – он, как источник всего, есть вместе и источник зла. Вопрос о зле (πόθεν τὸ κακόν) искони тревожил человеческую мысль. Но первоначально (в Ведийский период) индийцы довольствовались лишь тем, что констатировали факт существования зла и указывали формы его проявления, причём силы зла гипостазировали в образе демонов. Но теперь, в концепции Праджапати, в нём именно была указана и первоначальная причина, так сказать, демонства демонов: создав богов из дыхания уст своих, Праджапати, – говорит текст, – создал демонов „из противоположного“, причём у него в глазах потемнело, откуда он тот час же заключил, что должно быть он ошибся и создал нечто дурное... Странная и грубая концепция, которая, при сопоставлении с несомненной условностью Праджапати, показывает, что, хотя религиозное сознание на этой ступени уже и проникнуто философским и, частнее, монистическим стремлением (к единству), однако в сущности стоит ещё на мифологической почве.
Концепция Праджапати была слишком несовершенна для того, чтобы удовлетворять хотя бы даже такое несовершенное религиозное мышление, каково мышление авторов Бра́ман и их современников1107. Поэтому, параллельно с её
—462—
развитием, идёт ряд попыток исправить эту концепцию. Но так как эти попытки касаются не существа, а лишь
—463—
формы, то все они остаются равно неудачными и бессильное мышление, потерпев неудачу, всякий раз всё снова и всё с большей стойкостью возвращается к основной концепции, то есть к концепции литургической.
И прежде всего, хотя Праджапати происходил из первоводы, однако, – такова первая (неудавшаяся) поправка, – сам он иногда считался (впрочем, в штрихах беглых и робких) „творцом“ первоводы: он сначала „создал“ воду, чтобы затем из неё явиться в форме золотого ростка. Затем, – другая поправка, – в Праджапати указывалась некоторая внутренняя, метафизическая основа, которая делала как бы излишним выведение его из первоводы: он есть не что иное, как первое явление „не-сущего“ (а – sad), которое было понято конкретно, как семь элементарных дыханий жизни, составивших из себя, по своём сложении, единый дух, Пурушу, он же и Праджапати1108. Далее, была сделана смелая попытка понять Праджапати, как самосущую и самоопределяющуюся волю (manas = решение и вместе сокровенная мысль = λόγος ενδιάθετος), которая создала мир, породив его, как мысль рождает слово (vac = λόγος προφορικός): Праджапати, с этой точки зрения, есть нечто подобное гипостазированной воле позднейших немецких „волюнтаристов“ (Шопенгауера и Гартмана). Наконец, – последняя поправка, которую можно считать господствующей, – Праджапати был понят и определён, как годичный круг жертвы или как сама всесильная, над богами, людьми и всей природой, жертва, взятая разом во всех формах своего годичного изменения, так что в концепции Праджапати гипостазировались вместе и год, и жертва. „Мотивы этого последнего отожествления“, – пишет Дейсен1109, – „открыть не трудно: Праджапати, владыка созданий, есть первонификация творческой силы природы, поскольку она обнаруживается в течение
—464—
года в продуктах каждого времени года. Но как люди живут дарами года, так и боги живут повторяющимися в течение годичного оборота жертвами. Теперь, Праджапати есть сохранитель не только людей, но и богов. Поэтому, как для людей он создал год и его продукты, так для богов – жертву, в конце концов вполне исчерпывается в этих своих созданиях и, таким образом, сам он, в строгом параллелизме, становится вместе и годом, и жертвой“. Как видим, это концепция вместе и натуралистическая, и литургическая. И она, повторяем, есть концепция господствующая.
В истории религиозного сознания индийцев концепция Праджапати имеет значение не сама по себе, но именно как переходная ступень, – значение, говоря иначе, не положительное, но отрицательное. Всматриваясь в это божество, индийская мысль не открыла в нём никаких положительных предикатов истинного Божества. Но за то она сознала, чем истинное Божество не может быть и как оно не должно быть представляемо и мыслимо. Божество не человек, не мир и даже не боги, но то, что в них и за ними. He-боги, не-божественное – вот Божество1110. Научившись из бесплодных попыток остановиться на Праджапати, как на истинном и верховном Божестве, лишь тому, как не должно мыслить о нём, религиозное сознание именно через то самое созрело для того, чтобы отсюда сделать ещё усилие и подняться ещё ступенью выше. И здесь, – действительная ступень подъёма, – Божество предстало ему уже в своих истинных аспектах: с одной стороны, как начало космическое, как верховный объективный принцип действительности, с другой, как субъективное откровение этого принципа, – как Атман и как Брама1111.
—465—
IV. Первый действительный подъём религиозного сознания Индии над мифологическим миросозерцанием: концепция Атмана, как единого, духовного космического Первопринципа
Основное и первоначальное значение трудно переводимого слова Атман, как бы филологи ни расходились в его объяснении1112, во всяком случае характера субъективного: именно „это я“, моя „собственная самость“, в отличие от всего того, что есть во мне не-я, мне внешнее и чуждое, – вот идейное зерно понятия. Человек, – так объясняет это понятие один позднейший памятник, – прежде всего есть внешне-чувственное явление, „тело“. Но „тело“ есть лишь оболочка, скрывающая некоторую существенность: если мы отбросим её (мысленно), то останется некоторая, живая и дышащая, „самость“. Но и это есть лишь оболочка, в которой скрыта своя „самость“, – нечто познающее и рассуждающее. В нём опять своя „самость“, которая уже
—466—
не может быть объектом познания и лишь чувствуется нами самими, как центр нашей жизни и радость1113.
Однако, это, субъективное по своему первоначальному значению, понятие атмана, в своём дальнейшем развитии получает объективно-космический смысл. Мы видим, впрочем, из только что, приведённой справки, что уже и в чисто субъективной сфере понятие атмана есть понятие подвижное и относительное: это наше тело в противоположность внешнему миру, туловище – в противоположность членам и органам, душа – в противоположность телу, существенное или сущность – в противоположность несущественному в нас. Так, говорим, уже в чисто субъективной сфере. Но будучи переносимо, по мере своего дальнейшего развития, за её пределы, оно получило ещё более условное и относительное значение: атман, по этому позднейшему употреблению, есть вообще „самость“ (= самая суть) предмета – в противоположность всему тому в нём, что не есть он сам. Понятие атмана сделалось, таким образом, не только условным и относительным, но и отрицательным, лишённым, само по себе, всякого содержания и получающим содержание лишь в зависимости от того, что оно отрицает и чему противополагается1114. Но именно такой его характер и сделал его как нельзя более пригодным для выражения того умозрительно-богословского понятия о Божестве, как не-божественном („не-боги“), о котором мы говорили выше. В этом термине, именно вследствие его крайней пустоты и абстрактности, религиозное сознание индийцев впервые нашло для себя ту точку опоры, которой доселе тщетно искало и вот почему, когда оно нашло это понятие, оно положило его в основу своих дальнейших утончённых богословских спекуляций.
Что же такое Атман, как специально-религиозное или, частнее, специально-богословское понятие?
Так как понятие Атмана, само по себе, как мы только что видели, пусто и бессодержательно, то, очевидно, оно могло дойти до сознания религиозных мыслителей Индии,
—467—
лишь просвечивая через другие понятия, более конкретные и доступные. Так как, с другой стороны, религиозная мысль изучаемой нами эпохи, как мы видели при анализе концепции Праджапати, уже приходила к сознанию необходимости покинуть путь внешнего мифологизирования, как совершенно бесплодный и приводящий лишь к противоречиям и уже обнаружило заметную наклонность к субъективному углублению, то естественно, что и понятие атмана она стремилась разъяснить прежде всего именно на понятиях о реальности субъективной, о духе и духовном, – и это тем более, что и сам атман происхождения субъективного. Так действительно мы и видим в истории: обобщающая мысль идёт к концепции атмана, как мирового принципа, отправляясь от субъекта и именно в нём имея для себя опорные точки.
Первый, ещё тусклый, просвет Атмана открылся индийскому религиозному сознанию в Пуруше. Подобно Праджапати, и Пуруша удерживается ещё на существенно мифологической почве, но в нём есть уже новый, спектулятивный оттенок. Прежние боги, хотя и представлялись человекообразно, но стояли к их чтителю во внешнем отношении, как человек к человеку. Пуруша же стоит к своим чтителям в отношении внутреннем и, поэтому, хотя он и может быть, согласно текстам, рассматриваем, как тот же в сущности Праджапати, но – Праджапати, взятый в другом, новом отношении: это есть, так сказать, субъективный его аспект. Пуруша есть внутреннее человека, его душа, – тот принцип, который, входя в утробу матери, образует человека и вселяется в него. И так как это вхождение Пуруши повторяется во всех рождениях, то, в конце концов, Пуруша был перенесён за область человеческих рождений и был понят, как принцип всяких вообще рождений, как душа вселенной. Кто, углубившись в себя, познал в себе Пурушу, а в нём его интимную „самость“, его Атмана, тот сам, в некотором смысле, сделался Пурушей и Атманом, обожествился, по известному афоризму индийской философии Упанишад: quisquis Deum intelligit, Deus fit1115. Мы назвали бы концепцию Пуруши, в современ-
—468—
ных терминах, анимистическим принципом индийской религиозной философии.
Новый просвет Атмана открылся в Пране. Если Пурушу мы назвали принципом анимистическим, то Прану мы могли бы назвать виталистическим принципом индийской религиозной философии. Прана есть дыхание и, поскольку дыхание служит источником жизни, Прана есть жизнь, – именно принцип жизни, жизненная сила. Эта единая, в своей основе, сила дробится в явлении на множество жизненных сил: каждый орган тела, нашего и других существ, имеет в себе своего Прану; каждое существо или каждый организм также имеет своего Прану; наконец, мир, как совокупность существ, как единый, бесконечно сложный организм, сам имеет своего Прану, – истинного, верховного. Он есть первородный и вместе отец твари. Он также, как и Пуруша, образует зародыш и одушевляет человека, все существа и весь мир. Таким образом, в известном смысле он есть уже предположение Пуруши и если уже познание Атмана Пуруши делает человека богоравным, то тем более – познание Атмана Праны, как более глубокого и сокровенного.
Отсюда ещё одно усилие мысли, и мы вступаем в сферу собственно метафизическую. Если миросозерцание, с концепцией Пуруши в основе, сообразно его основному характеру, мы можем назвать анимистическим, а миросозерцание, с концепцией Праны в основе, биологическим или органическим, то новую точку зрения, которая поднимает нас ещё ступенью выше этих двух, мы могли бы назвать субстанционалистической. Понятия субстанции, в точно определённой форме, конечно нет в памятниках, относящихся к изучаемой нами эпохе. Но за то, с удивительной глубиной мысли в них указаны и метко выражены, точными техническими терминами, те основные признаки субстанции, которые входят и в наше развитое понятие о ней: это, во-первых, ucchishta, признак отрицательный и, во-вторых, ’skambha, признак положительный. Ucchishta (термин литургический=остаток от жертвы) буквально означает не-то, что̀ является под формой (в чувственных образах) и именем. По своему содержанию, это понятие пусто и беспредметно. Говоря строго, это не столько понятие,
—469—
сколько психологический метод, требование отвлечься от всего конкретного и определённого, включая и свою собственную внутреннюю жизнь, свою „душу“, чтобы всецело сосредоточиться на „остальном“, – на том, что останется, если мы, говоря языком современной нам философии, „отмыслим прочь“ себя самих, со всем своим внутренним содержанием, все существа, мир и все возможные миры, жертву во всех её видах и формах, и богов. Наоборот, skambha есть понятие всецело и насквозь положительное: это – „последнее основание“ вещей, их „опора“ или подставка под ними, то, что истинно есть в них, являющееся, хотя и не исчерпывающееся в своих явлениях. Skambha содержит в себе, как свои члены, все пространства и времена, все миры и мировые существа, „всех богов, Веды и все нравственные силы“. Это, таким образом, есть, в собственном и строгом смысле, высший принцип, первопринцип (образно называемый в текстах „первородным“), носитель и вседержитель вещей, к которому все они стремятся, возвышенный над тьмой и злом. В нём всё „самостно“ (selbsthaft) и потому в вещах, существах и человеке, он есть сама самость. Это – первосущность, за которой и над которой нет ничего. Словом, это – сам верховный Атман.
Теперь мы достигли того пункта, на котором можем дать определённый ответ на поставленный нами выше вопрос: что же такое собственно есть Атман, как специально-религиозное или, точнее, специально-богословское понятие? Атман, – так можем мы выразить в краткой формуле этот ответ, – есть духовный, объективно-космический принцип, аналогичный началу нашей субъективной, чувственно-духовной жизни или нашему субъективному атману. В этом своём значении он является завершением и успокоением тех поисков, которые доселе заставляли индийскую религиозную мысль восходить со ступени на ступень. Давно уже, ещё на ступени всецело мифологического миросозерцания, была проводима аналогия между человеком и миром, между микрокосмом и макрокосмом. Солнце (Сурья), по этой аналогии, есть око мира. Ветер (Вайу) – его дыхание. Страны света – его уши. Воды – семя жизни. Деревья, растения и травы – волосы и т. д. и т. д. Словом, мир есть
—470—
великий человек. Но как относительно малого человека, пока, в нём не открыт был его атман (пуруша, прана), возникал безответный вопрос: когда отпадает от него член за членом и, наконец, разрушается весь телесный состав, то где собственно человек, остаётся ли он вообще? – так и относительно макрокосма, mutatis mitandis, возникал совершенно аналогичный вопрос: что останется от мира, если мы „отмыслим“ от него прочь все его исполинские органы и члены? И вот как субъективный атман был ответом на первый вопрос, так Атман объективно-космический был ответом на второй вопрос, вполне успокаивавшим скептическую мысль: есть, истинно есть под формами и именами Сущий, как источник и дух жизни или как душа мира, проникающая и одушевляющая людей и богов. Сознав себя лишь частью объективного Атмана, субъективный атман (дух человеческий) вполне успокоился, ибо теперь в его сердце вселилась радость, – радость уверенности в истине.
V. Второй действительный подъём Индийского религиозного сознания над мифологическим миросозерцанием: концепция Брамы, как субъективного откровения Атмана
Концепция Атмана, анализ, который мы только что закончили, есть чисто философская концепция, имевшая значение для мысли индийцев, но не для их живого религиозного чувства, ибо этому последнему не на чем было бы в ней остановиться. В самом деле, в религиозно-мифологическом сознании, боги, хотя и были внешне человеку, но за то предстояли ему в наглядно-чувственной форме, – по крайней мере в своей натуральной или мистико-литургической основе. Но когда философская мысль сказала, что именно не-боги, не-божественное (в смысле сознания мифологического) есть истинно Божественное, тогда у верующего человека, так сказать, ускользнула почва из-под ног и ему стало, как говорят, жить нечем. Требовалась, таким образом, переработка концепции Атмана, чтобы она была способна служить источником живых религиозных
—471—
вдохновений. И такая переработка действительно была совершена. Импульс и направление для неё исходили из того же источника, из которого в эту эпоху исходило всё значительное и жизнеспособное, то есть – из культа. Именно, чисто философская концепция Атмана была переработана в литургическом смысле, под влиянием другой, не менее существенной и важной для всей дальнейшей жизни индийского религиозного сознания, – под влиянием понятия и учения о Браме (или Бра́мане).
Понятие бра́мана (из которого позднее образовался Браман или Брама), по своему происхождению и основному значению, есть понятие существенно литургическое 1116. Первоначальное значение этого слова есть молитва, но не в том бледном и обесцвеченном смысле в каком это слово употреблялось у народов классических и употребляется у новых европейских (εὕχεσθαι – желать просить, orare, precari – говорить или „делать“ слова, beten, faire la prière – с основным понятием прошения, требования и т. д.), но в специально-восточном и, в частности, специально-индийском значении напряжения, вздымания, горения, пламенения, расширения и подъёма духа в направлении к божественному, – словом в значении состояния экстатического, охватывающего всё существо человека и как бы исторгающего его из привычной обстановки, удаляющего от будничных и „мирских“ мыслей и чувствований и повергающего в состояние необычное. При ближайшем анализе понятия бра́мана, в нем можно различать два оттенка или две стороны: во-первых, сторону сверхиндивидуальную и, во-вторых, индивидуально-человеческую. Молитва есть, прежде всего, именно состояние расширения души, восторженного подъёма человека над собой через общение или единение с Боже-
—472—
ством: слова молитвы не слова человека, но слова самого Божества в человеке (так что, по характерному выражению одного Риг-Ведийского гимна1117, лишь одной четвертью своей молитва в человеке, тремя же остальными четвертями в божестве, которому она приносится) и, так как отказ от себя, подъём над собой есть источник всего истинно нравственного, то молитва, в этом первом и лучшем смысле, есть вместе, по индийскому пониманию, и основа всякой нравственности, ровно как и всего вообще чистого и высокого в жизни человека. С другой стороны, молитва может быть рассматриваема и как дело чисто человеческое: это так сказать, словесный аккомпанемент или комментарий жертвы, которой человек выпрашивает или иногда даже как бы выторговывает себе у божества какое-либо благо, о котором именно и говорит молитва, – род коммерческой сделки („дай и дам“). И так как молитва, постоянно сопровождая жертвы, сама, по индийскому воззрению, как бы насыщается её благоуханием, приятным божествам, то можно иногда достигнуть просимого и одной молитвой без жертвы, получающей в таком случае значение магической формулы, безусловно властной над богами. В дальнейшем своём развитии, понятие молитвы, как религиозного восторга и вдохновения, дало понятие открывающегося в ней и через неё Слова Божия (Веды – corpus canonicum), и браминов, как его сказателей, вещателей или пророков (canonici). Напротив, второе понятие молитвы, понятие молитвы как магической формулы, дало, в своём дальнейшем развитии, понятие брамина, как мага и заклинателя, все могущего, если он хорошо знает и применяет собрание своих заклинательных формул (собранных главным образом в позднейшей Веде, – Атарва Веде). Таким образом, одним и тем же словом (только с переменой ударения) были выражены самые различные понятия, а именно: 1) молитва – и как слово Божие, и как заклинательная формула, 2) Веды, – как corpus canonicum, то есть как собрание „священного писания“ в его целом составе, (включая и собрание заклятий, сопровождаемых руководственными указа-
—473—
ниями к познанию всякой магики) 3) жреческая каста, брамины (canonici), как совершители, носители и живое воплощение молитвы – и в смысле божественного откровения, и в смысле человеческих заклятий и, наконец, 4, Браман=Брама.
В бра́мане, по понятию индийцев, снята была преграда между человеком и божеством: в нём человек как бы входит в божество и, с другой стороны, само божество, одной частью, как бы входит в человека. Отсюда недалеко уже было признать именно в нём, в этом дивном и таинственном бра́мане самое полное и совершенное выражение неустанно искомой природы истинного Божества, – отожествить бра́ман с самим божеством признав его сначала одним из божеств, потом Божеством единым и единственным, в собственном смысле абсолютном. Религиозное сознание изучаемой нами эпохи действительно вступило на этот путь и сделало это тем скорее и легче, что уже в Ведийскую эпоху (позднейшего периода) оно знало аналогичные божества: Бригаспати и Браманаспати. Эти последние божества суть также божества преимущественно культового или литургического происхождения и религиозному сознанию эпохи возникновения браманизма оставалось лишь критически переработать их концепции, соответственно новым запросам, чтобы найти божество „истинное“.
И оно это сделало.
И прежде всего необходимо было точнее определить место этого нового божества, – Брамы, как стали теперь называть его, – в иерархии других божеств. Доселе оно имело зависимое, как бы служебное положение в отношении к ним, как и сам бра́ман (молитва), в конце концов, всё же служил богам. Но так ли это? Если бра́ман (в смысле заклинательной формулы) имеет, как мы видели, над самими богами магическую власть, может заставлять их делать угодное человеку, даёт им силу и т. д., то ясно, что он, это новое божество, должен быть, по меньшей мере, равен другим богам, если не выше их. И новое божество действительно быстро переживает эту эволюцию. Не только в отношении к прежним, теперь уже архаическим божествам (каковы Индра, Вайю и т. д.),
—474—
но и к сравнительна» новому и ещё весьма чтимому божеству Праджапате, Брама̀н или Брама быстро переходит из положения, подчинённого к господствующему1118. С другой стороны, высокое идейное и этическое значение нового божества, вытекающее из сверхиндивидуальной стороны бра́мана, делало весьма естественным, понятным и лёгким безотносительное возвышение его до степени абсолютного. Пользуясь аналогией, столь обычной у индийцев, – аналогией с солнцем, – они пришли к понятию о Браме, как духовном солнце мира: как солнце, восходя над землёй, ведёт за собой день, так Брама, как перворождённый твари, ведёт за собой великий день мира, открываясь же в бра́мане (молитве) и Ведах, как его непосредственном эдукте, непререкаемо свидетельствует о себе молящемуся, как о верховном Зрителе истины и Носителе откровения, как живом Источнике Вед, – словом, как о великом и непостижимом Ом, ибо, как говорит один текст, „этот слог Ом есть Брама“1119.
Весьма характерно для понимания особенностей духовной жизни Индии в изучаемую нами эпоху представление памятников о том, как именно Брама поднялся из своего былого подчинённого положения до вершин абсолютности: он принёс себя в жертву, чтобы затем всё принести в жертву себе и через то получить над всем господство.
„Брама, через себя самого Сущий“, – говорит один памятник, – „упражнялся в tapas. И подумал он: воистину, tapas – не всё (=нет в tapas бесконечности); принесу же я в существах себя самого в жертву и существа принесу в жертву себе (=в моей самости)! И принёс он в жертву во всех существах себя самого и в себе самом все существа. Через это стяжал он преимущество, единовластительство и верховное господство над всеми существами“1120.
Брама приносит себя существам в жертву: это значит, что он „создаёт“ их, но не из чего-либо другого, а из себя самого, сам превращаясь, входя в них
—475—
и как бы в них теряясь. С другой стороны, он приносит все существа в жертву себе: это значит, что, по смерти, они снова возвращаются в Браму, из которого вышли, чтобы слиться и быть в неотторжимом с ним единстве1121.
Таким, образом, Брама понимается, прежде всего, как начало и конец вещей, как верховный Принцип их бытия, в отношении к которому вещи суть лишь явления или „откровения“.
„Брамой“, – говорит другой текст, – „был этот мир в начале. Брама создал богов. Создав богов, он поставил их над мирами: Агни – над этим миром (землёй), Вайю – над воздушным пространством, Сурью – над небом... Сам же он вошёл в потустороннюю половину (то есть возвысился над чувственным миром) и, когда вступил туда, подумал: „как же я могу теперь проникнуть в эти миры“? И проник он в них через два: через образ и через имя... Эти два суть два великих и страшных аспекта Брамы (abhva, страшилища, Ungetüme, по переводу Дейсена), два великих его явления (нечто подобное двум атрибутам Бога Спинозы, протяжению и мышлению, по толкованию Дейсена)“1122.
Отсюда, из этих двух атрибутов Брамы, произошли все вещи мира и все миры, которые, таким образом, не только в нём имеют утверждение своего бытия, но в сущности суть не что иное, как он сам, его явление: все силы природы или, говоря языком индийского религиозного сознания, все боги, прежние и новые (новомифологические) имеют своё утверждение („покоятся“) в соответствующих человеческих силах (в слове, дыхании, зрении и т. п.), как сами эти силы – в сердце, в я, а я – в Браме и, следовательно, всё существующее существует лишь в Браме, который есть начало, средина и конец вещей, как бы их другая, внутренняя сторона, их разумный (телеологический) принцип1123. Он есть, таким образом, единая и единственная реальность, из которой и к
—476—
которой все, которая есть, говоря языком позднейшей философии, вместе π материальная, и формальная и конечная причина мира, без неё и вне её совсем не существующего1124.
И этот божественный Первопринцип бытия, этот Брама, по воззрению Индийцев изучаемой нами эпохи, не далёк от человека. Он не только внутренне открывается ему (в восторгах молитвы, – в бра́мане), но и внешним образом предстоит ему, поскольку воплощён в своих истолкователях и служителях, браминах, и поскольку через них переходит в других. Каста браминов, – вот, таким образом, живое воплощение и чувственное явление, вот зримый образ незримого Брамы.
„Каждый движда (дважды-рождённый, то есть брамин, кшатрий и вайсья) должен в своей юности, в продолжение известного ряда лет, быть учеником браминов (brahmacarin), чтобы, с одной стороны, воспринять в себя бра́ман, в форме Вед, а с другой на практике (через упражнение) узнать tapas, – приучить себя к самоотречению, к чему сводятся все предписания для брамакарина (воспитать целомудрие, послушание учителю, готовность служить ему в его доме посредством заботы о поддержании священного огня и вне дома посредством собирания для него милостыни и т. д.). Таким образом, как показывает уже само слово брамакарин (то есть „„ходящий в брамане““), каста браминов посвящена именно бра́ману, его осуществлению в знании и деятельности: в обоих этих отношениях каждый ученик браминов должен быть именно брамин и не что иное, как именно брамин. Но поскольку он есть брамин, он уже не индивидуум, но сам принцип вещей, творец и источник жизни для всего в небе и на земле... Таким образом, принципа вещей, Браму, должно искать не где-либо в заоблачных сферах, но в себе самих, в своём внутреннем существе, и именно не в индивидуальной стороне его, но в той, которая лишь постольку и жива в нас, поскольку, в звании брамакарина, через tapas мы возвышаемся над сферой индивидуального, отвергаясь его“1125.
—477—
Таково воззрение индийцев эпохи возникновения браманизма.
* * *
Здесь мы достигаем в религиозной истории Индии того пункта, который можно назвать поворотным: религиозное сознание уже оставляет путь беспокойных исканий и колеблющихся утверждений и останавливается на исповедании, в качестве основного члена своей веры, такого положения, от которого оно уже не отказывается затем до конца. Этот член веры, который, как основной догмат браманизма, заложен в Упанишадах и позднейшей Веданте, явился, как мы видим, логически необходимым результатом двух параллельных, только что изученных нами, процессов Индийской религиозно-спекулятивной мысли: развития учения об Аммане, как объективном принципе мира, и Браме, как его субъективном откровении. Амман есть Брама и, наоборот, Брама есть Амман: вот этот тезис.
Татарский И.А. Религиозно-романтическая поэма Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим»: (Литературная характеристика) // Богословский вестник 1901. Т. 2. № 7/8. С. 478–495 (3-я пагин.). (Окончание.) 1126
—478—
III.
При суждении о литературных достоинствах „Освобождённого Иерусалима“, необходимо обратить внимание на те источники и образцы, которыми руководился Торквато Тассо в своём творчестве. – Из рассмотрения основного сюжета этой поэмы, а ещё более из сделанного нами изложения её общего содержания является очевидным, что при создании своей и религиозно-романтической эпопеи Торквато Тассо поставлял для себя образцом, прежде всего и главным образом, бессмертную Илиаду Гомера. И на самом деле, между событиями, временами и лицами было здесь так много общего, что, если бы Тассо и не был прямым подражателем Гомера, он неизбежно должен был бы во многом сблизиться с древним греческим эпиком. Поэтому „Освобождённый Иерусалим“ его некоторые критики не без основания называют романтической Илиадой средних веков. И это имеет значение по отношению к произведению Тассо как в его целом, так и в отдельных его частях. – Прежде всего влияние Гомера отражается здесь в общем художественном построении поэмы, основанном на последовательном развитии её основного действия.
Известно, что всякое истинно эпическое действие непременно должно состоять в разрешении какой-нибудь коллизии, и эта коллизия имеет здесь тем большее поэтическое
—479—
значение, чем решительнее она образуется не из привходящих каких-либо и совершенно внешних случайностей, но из внутренних и необходимых потребностей человеческого духа. Если мы обратим внимание на главнейшие обстоятельства „Освобождённого Иерусалима“, то самим существенным и важным из них, без сомнения, представляется убийство Гернанда Ринальдом, поведшее этого последнего к разрыву с предводителем крестоносцев, Готфредом. Без этой ссоры священный город был бы взят немедленно, а, следовательно, и все последние десять песней поэмы были бы совершенно излишни. – Подобная же коллизия, как известно, находится и в Илиаде Гомера; именно, во вражде двух главных предводителей греческого войска – Агамемнона и Ахиллеса. Но сравнение этих коллизий, как по их внутренней сущности, так и в особенности по их поэтическому разрешению в поэме, представляется далеко не в пользу Тассо.
Ссора Готфреда с Ринальдом, как она представлена в „Освобождённом Иерусалиме“, является совершенно прозаическим случаем и, можно сказать, что она так же похожа на вражду Агамемнона с Ахиллесом, как вражда частная и семейная на раздор народный. Вражда двух знаменитейших греческих героев имеет глубокий национальный и нравственный смысл; ссора же Ринальдо с Готфредом, напротив того, как чисто прозаическое явление, лишена всякого серьёзного значения. Ринальдо, по общему признанию, избран был вождём одного отряда в войске крестоносцев; норвежский принц, Гернанд, сам хотевший начальствовать и оскорблённый таким избранием, открыто порицает своего противника и, таким образом, первый подаёт повод к ссоре. Когда Готфред, узнав о последствиях этой ссоры, хочет наказать Ринальда, он руководится не свободным расположением духа, но мёртвой буквой закона. Готфред чувствует, что для успеха военного предприятия необходимо содействие Ринальда, но в то же время сознаёт, что по требованию закона Ринальд необходимо должен быть наказан смертью. Избегающий наказания Ринальд тоскует о невозможности принимать участие в общем героическом подвиге. Таким образом, противоречие между нуждой и долгом у Готф-
—480—
реда, между страхом наказания и героическим желанием у Ринальда составляет основную коллизию „Освобождённого Иерусалима“ Торквато Тассо.
Но, кроме других невыгод, коллизия эта поэтична, по сравнению с гомерической, уже и потому, что представляется совершенно неразрешимой. Закон, требующий смерти Ринальда, препятствует здесь всякой мировой сделке между ним и Готфредом. Несмотря на это поэт всё-таки их примиряет. Необходимость в содействии Ринальда для успеха воинственного предприятия крестоносцев заставляет их общего предводителя произвольно ослабить в данном случае силу закона, – и это тем более странно, что Ринальд не искупил своей вины никакой жертвой, никаким страданием или подвигом, что, напротив того, во время своего удаления, он наслаждался любовными негами в очарованных садах Армиды. – Правда, от участия этого героя в битвах зависит окончательная победа христиан над Сарацинами и в этой черте он напоминает собой Ахиллеса. Мы видели уже, что удаление Ринальда из стана, подобно удалению Ахиллеса, поставило всё дело крестоносцев в нерешительное положение. Они дают битву за битвой, но совершенно без всякого успеха. Но у Гомера возвращение главного героя мотивировано совершенно иначе, – гораздо естественнее и человечнее, а потому и несравненно художественнее. Упорство Ахиллеса во вражде к Агамемнону сломила у него скорбь об убитом друге, Патрокле, и желание отмстить смертью его убийце. Мотивом примирения враждующих героев Гомер выставляет, таким образом, трагический момент и побуждение к мести, при данных условиях, естественно волнующее человеческую грудь; оттого и примирение у него совершается полное, поэтически обусловленное и всякому понятное. Торквато Тассо же, если и примиряет на самом деле своих героев, то совершенно произвольно и идея их вражды в сущности остаётся для нашего сознания совершенно не примирённой.
Но подражая Гомеру в основной коллизии своей поэмы и желая, таким образом, придать ей правильную форму Илиады, Торквато Тассо, естественно, должен был подчиниться влиянию знаменитого античного образца и в частнейшем развитии характеров главных действующих
—481—
лиц „Освобождённого Иерусалима“. Предводитель крестоносного воинства Готфред Бульонский живо напоминает собой Агамемнона. Ещё более близости к Ахиллесу замечается, как мы уже видели, в доблестном рыцаре Ринальде. Храброго и благородного рыцаря Танкреда можно сравнивать с Диомедом. На место многоопытного старца Нестора здесь является Пётр Пустынник; вместо хитроумного и преданного своему долгу Одиссея – граф Тулузский Раймонд. – Но, следует отдать справедливость, – напоминая нам гомерических героев, Торквато Тассо тем не менее, во всем остаётся верным существенным чертам рыцарского духа; так что, при всём сходстве лиц, его всё-таки нельзя признать здесь рабским подражателем Гомера. Ринальдо, например, хотя и представляется у него героическим юношей, но это – Ахиллес средних веков, во всём верный духу своего времени. Что касается Готфреда, то при одинаковости его положения в войне с положением Агамемнона, он по характеру своему несравненно выше и выразительнее, чем этот последний. Бутервек полагает даже, как это ни странно, что Тассо сделал бы гораздо лучше, если бы в некоторых моментах своей поэмы держался ещё ближе эллинского поэта. Его усилие, например, сделать, вопреки Гомеру, вождя крестоносцев главным героем эпопеи решительно не увенчалось успехом1127. Благочестивый Готфред, как и благочестивый Эней Виргиния, по образцу которого он создан, не представляет собой ни живого идеального характера, ни резко очерченной оригинальной личности, вполне типичной для своего века.
Но напоминая нам Гомера в основной коллизии своей поэмы и в характеристике главных действующих героев, Торквато Тассо заимствует иногда для своих поэтических целей и некоторые частные черты Илиады. Так, мы упоминали уже, что Эрминия даёт у него объяснения осаждённому в Иерусалиме Аладину относительно воинства крестоносцев, наподобие того, как это делает Елена старому Приаму касательно войск ахейских. Точно также, поединок Арганта с Танкредом, прерванный через вмешательство герольда, состав-
—482—
ляет явное подражание поединку Аякса с Гектором. Равным образом и многие сравнения Тассо, в особенности его описания сражений, хотя и составлены ближайшим образом по образцу Виргилия, но их первоисточником и оригинальным творцом является всё-таки Гомер. – Относительно этих сражений следует заметить, между прочим, что изображение их у Тассо стоит гораздо ниже гомерического. Битв в „Освобождённом Иерусалиме“ сравнительно менее, чем в Илиаде Гомера; но несмотря на это, их описание здесь довольно однообразно и проявляющийся в них героизм христианских рыцарей чрезвычайно монотонен. У Гомера затруднения Греков возрастают с стройной постепенностью, у Тассо же, напротив, битвы повторяются совершенно без всякой градации и чем далее, тем слабее.
После Гомера, важнейшим эпическим поэтом древности, имевшим огромное влияние на Тассо при создании им своей поэмы, является Виргилий. Каким высоким почтением к Виргилию был проникнут Торквато Тассо, яснее всего обнаруживают его „Рассуждения о героической поэме“, где нет почти ни одного пункта, в котором бы он не указывал на римского поэта, как на образец. В своей поэме он, если и не выражает этого открыто, то само содержание её показывает, что он был полон воспоминаниями из Виргилия. – Уже главный герой его поэмы, Готфред Бульонский, создан, как мы уже заметили, по образцу Энея, в котором, по словам Тассо, совмещается „благочестие, религия, воздержание, крепость, великодушие, справедливость и все другие рыцарские добродетели“1128. Но Готфред Бульонский превосходит Троянца ещё тем, что он не доступен и обольщению любви. Подражание Энею в характеристике этого главного вождя крестоносцев простирается в поэме Тассо, можно сказать, до мелочей. Словами Энея Готфред утешает здесь павших духом своих сподвижников; подобно ему он троекратно простирает свои руки к явившемуся ему во сне другу; тяжело раненый, он исцеляется лишь при помощи своего Ангела
—483—
хранителя, – услуга, которую и у Виргилия оказывает Венера Энею, срывая для исцеления его Dictamnum на горе Иде.
На ряду с такой характеристикой главного героя, в „Освобождённом Иерусалиме“ Тассо находится и множество других второстепенных вымыслов, имеющих свой прямой источник в Энеиде Виргилия. Фабула о Низе и Евриале, например, воспроизводится у него почти целиком в ночном выезде Клоринды; равным образом и прежняя история этой героини во многом напоминает собой историю Виргилиевой Камиллы. Из Виргилия взяты у него два брата, сходные между собой до такой степени, что их часто смешивают родители; но образ поранения их в битве делает между ними ужасное различие. Жалобы и угрозы Армиды по удалении от неё Ринальда сходны в поэме Тассо с жалобами и угрозами Дидоны в четвёртой песни Энеиды. Нептун и Юнона, являющиеся видимо для человеческого глаза при падении Трои, живо напоминают собой убитых героев, принимавших участие в окончательном штурме Иерусалима. – Равным образом, Торквато Тассо пользуется Виргилием и при различных сравнениях и описаниях в своей поэме. Блестящее изображение гавани Карфагенской в Энеиде он воспроизводит при описании волшебного острова Армиды. Заимствует оттуда описание битв при Акциуме и кораблей, подобных свободным цикладам; а на пролив Гибралтарский переносит то, что Виргилий говорит о проливе сицилийском и т. под.
Одним словом, если в общем плане своей поэмы, в завязке и развязке её основного действия, Торквато Тассо является решительным подражателем Гомера, то при выполнении этого плана, в разнообразных его подробностях и аксессуарах, он основывается, главным образом, на Виргинии, как на блестящем римском поэте, пользовавшемся особенной славой в учено-литературных кругах того времени. Здесь он доходит иногда до мелочности, до воспроизведения особенно удачных фраз и оборотов1129. Дело в том, что Тассо отличался необыкновенно счастливой памятью, так что мог без всякого затруднения воспроизводить места из разных авторов от трёх
—484—
до четырёх сот стихов: очевидно, что при обработке „Освобождённого Иерусалима“, его замечательная память была слишком уже занята различными учено-классическими воспоминаниями. – Этим объясняется и то обстоятельство, что кроме высоко почитаемых им Гомера и Виргилия, в поэме его встречаются заимствования и из некоторых других латинских поэтов, которыми он пользуется в подходящих случаях для своих поэтических целей. Например, описание Эгейского моря, которое ещё находится в движении, после того, как прекратилась буря, взято им из Овидия; равным образом, как и сопоставление, которое норвежский принц Гернанд делает у него между своими притязаниями на замещение Дудона и притязаниями Ринальда, есть ничто иное, как подражание знаменитой речи Аякса против Улисса в „Метаморфозах“ того же поэта. Из „Фарсалии“ Лукана он переносит в свою поэму полный ужасов лес, стоящий вблизи Иерусалима; а речь Готфреда перед последним решительным сражением есть почти буквальное воспроизведение речи Цезаря перед Фарсальской битвой.
Все эти классические воспоминания свои, добытые путём ревностного изучения, Торквато Тассо искусно связывает в своей поэме как с её общей исторической основой, так и с различными вымыслами собственной фантазии во вкусе новой романтической поэзии. Мало того: следуя при обработке исторической материи „Освобождённого Иерусалима“ ближайшим образом Вильгельму Тирскому, он и в своих романтических вымыслах допускает многие заимствования из предшествующих ему поэтов романтиков. Вообще Тассо проникнут был правилом, что в поэзии всегда должно быть представляемо лишь самое превосходнейшее, откуда бы оно ни происходило. „Между прекрасными вещами“, говорит он в своих „Рассуждениях о героической поэме“, „поэт избирает прекраснейшую, между великими – величайшую, между удивительными – удивительнейшую и этой удивительнейшей он ищет прибавить ещё новость и величие“ 1130. – Таким образом, намереваясь первоначально расположить только историко-роман-
—485—
тическую материю своего произведения по правилам древне-классической эпопеи, Торквато Тассо в результате достигнул того, что в сущности объединил один с другим поэтические элементы двух различных миров: мира древне-классического и ново-романтического. Поэтому, в конце концов, он вовсе не такой поэт, который восхищает нашу фантазию путём свободного изобретения и непосредственного личного вдохновения. Не лишённый высокого поэтического дарования, он является здесь вместе с тем и учёным, который, сопоставив очень разнообразный поэтический материал, глубоко усвоил его себе и затем постарался искусно и приятно его изложить.
Само собой разумеется, что все эти разнообразные элементы „Освобождённого Иерусалима“, относящиеся к столь различным временам и отражающие в себе совершенно противоположные культурные состояния, отталкиваясь взаимно, слишком уже резко и дисгармонично выступали бы в этом произведении Тассо, если бы их не проникал всецело третий высший элемент, в котором они до некоторой степени примиряются и объединяются. Этим элементом является здесь христианская религия, представления которой поэт вводит в содержание своей эпопеи, сообщая ей возвышенное общее настроение. Здесь открывается важная характеристическая особенность Торквато Тассо.
Предшествующие ему поэты – романтики, Пульчи, Боярдо и в особенности Ариосто, при обработке своих произведений, стояли совершенно в стороне от религиозных представлений христианства и находились даже в противоречии с духом современного им католичества. Но времена, когда подобные тенденции были не только терпимы, но и находили себе сочувствие и одобрение у большей части публики, прошли, и ко времени Тассо, поэзия в Италии не только примирилась с Церковью, но и находилась в значительной степени под её влиянием. Поэт наш с самого начала и понял свою задачу, именно, с этой стороны. Он не даром придал своему главному герою, кроме всех добродетелей Энея, достоинства и свойства чисто духовного характера. Готфред представляется у него как бы святым мужем, пресытившимся миром и всеми его преходящими благами: когда он выступает на сцену, он как бы свя-
—486—
щеннодействует, а когда начинает говорить, как бы проповедует. Но самым важным проявлением этой тенденции Торквато Тассо служит то, что он на верху всего развивающегося действия своей эпопеи ставит, наподобие разных божеств у Гомера, высшие мироправящие силы христианского вероучения. – Главное действие „Освобождённого Иерусалима“, как и в Илиаде, совершается под влиянием и при непосредственной помощи высших сверхъестественных сил. На место верховного Зевса греческой религии, является здесь Бог-Отец; место различных благодетельных и враждебных богов и богинь Олимпа заступают здесь, с одной стороны, светлые ангелы, с другой – князь тьмы и вооружённые магическими чарами волшебники.
Следует отдать справедливость, что при изображении сверхъестественных существ, введённых в развивающееся действие эпопеи, Торквато Тассо действует благоразумнее всех христианских религиозно-эпических поэтов. Бог-Отец окружён у него почти тем же непроницаемым таинственным мраком, которым окружали Его древние еврейские пророки; даже сам сатана является здесь не в виде безобразного и страшного чудовища, как у Данта, но как исполненный коварства и злобы, чистый дух. Но если рассматривать предмет с поэтической точки зрения, то нельзя не заметить здесь громадной разницы между нашим поэтом и Гомером. – Дело в том, что под влиянием сильного религиозного воодушевления, Тассо переходит в крайность и представляет всю борьбу за Иерусалим под видом общей борьбы доброго начала со злым. Отсюда, в его поэме все важнейшие моменты поэтического действия переносятся в высшую премирную область и поставляются вне круга естественных человеческих сил. Само собой разумеется, что при этом все герои его на земле, в особенности христианского лагеря, совершенно отодвигаются на задний план, как чисто пассивные орудия. Они принуждены здесь сражаться за ту землю, которая и без того всегда принадлежала Богу, хотя по Его попущению, ею временно и завладел дьявол. В результате получается, что в „Освобождённом Иерусалиме“ Тассо борются только добро со злом, а все люди
—487—
только как бы присутствуют при этом; тогда как у Гомера, совершенно наоборот, боги присутствовали лишь при Троянской войне, потому что там сражались люди.
При суждении о высших мироправящих силах „Освобождённого Иерусалима“ нельзя обойти совершенным молчанием различные магические чудеса, также играющие немаловажную роль в общем эпическом механизме этой поэмы. Крестоносцы менее вооружены у Тассо этими чудесами, чем их враги, и чудеса, которыми защищаются эти последние, все суть произведения чар и волшебства. Под этим разумеется вообще таинственная власть, которая освобождает человека от влияния естественных условий и даёт ему возможность изменять по произволу формы естественных явлений, не изменяя их сущности. Рассуждать здесь о бытии или небытии такой власти не лежит в пределах нашей задачи: нам следует указать только на её общее значение. – Чудеса преобладают в поэзии восточных народов, потому что жители востока внутренней самостоятельности духа ищут в отрешении его от всего внешнего. Несчастие человека восточные народы усматривают в его зависимости от окружающей природы и свободу от этой зависимости представляют, как идеальное состояние человечества.
При таком воззрении на природу, поэтическое легко смешивается там с магическим, и идеальный человек рисуется не иначе, как чудотворцем. То обстоятельство, что он управляет силами природы, именно, и служит свидетельством его идеального значения. Вот почему в восточной поэзии, как например, в арабской, мы видим непрерывную погоню за чудесами, без всякого определённого смысла. Напрасно старались бы мы открыть в них какую-нибудь глубокую, затаённую мысль: её здесь вовсе нет; потому что вся поэзия этих магических действий, именно, и заключается в их чудесности. – Рыцарская поэзия средних веков заимствовала этот элемент от арабов. Нечего уже и говорить, что это совершенно не совместно ни с идей христианства вообще, ни с задачами христианского искусства в частности, и Торквато Тассо, конечно, сделал бы гораздо лучше, если бы вовсе не употреблял их в своей поэме. Правда, изображение магиче-
—488—
ских чудес приводит его ко множеству роскошнейших картин, но в них выражается, всё-таки, одна лишь пустая игра воображения. Сильнее всяких магических чар действует на нас естественное развитие поэтического действия и для всякого истинного поэта этого должно быть совершенно достаточно, чтобы приводить своих героев в разнообразные эпические положения. – Но и то следует заметить, что серьёзный романтический замысел, это исключительное достояние новейшего времени, не был ещё развит в Италии в эпоху Тассо и потому нам не следует слишком строго осуждать поэта, если он заимствует у своих предшественников мотивы, ещё не потерявшие своего значения в его время.
Но как бы то ни было, Торквато Тассо, посредством введения в эпическое действие высших сверхъестественных сил, всё-таки, вносит некоторое единство в то богатое разнообразие элементов, из которых слагается его поэма, хотя единство это и слабо до такой степени, что его следует принять только за отсутствием в ней другого, более глубокого. Мало того: даже в этом сверхчувственном элементе поэмы у него обнаруживается примесь к ортодоксальным представлениям христианского вероучения фантастических чудес романтической поэзии. Поэтому, поэму Торквато Тассо следует рассматривать не столько с точки зрения её общего плана, как связное и архитектонически стройное целое, а скорее – как ряд занимательных эпизодов, довольно слабо связанных между собой. В красоте этих эпизодов и заключается главным образом поэтическое достоинство „Освобождённого Иерусалима“.
Здесь обнаруживается не столько миросозерцание нашего поэта, не отличавшееся особенной глубиной, сколько его необыкновенно чувствительное и нежное сердце. Великие поэты, как например, Дант, Шекспир и другие, разрешают в своих произведениях какие-либо существенные и важные вопросы человеческой жизни; о Тассо нельзя сказать того же самого. Воззрения его на жизнь не отличаются ни особенной широтой, ни глубиной. В этом отношении его можно сравнивать с теми мыслителями, которые прекрасно могут рассуждать лишь о частных предметах, не будучи в состоянии обнять их в целой сово-
—489—
купности. Но зато там, где у Торквато Тассо затрагивается чувство, искусство его производит чудеса. Он обладал удивительным талантом изображать трогательные картины, интересные положения, чувствительные сцены, – и потому такого рода эпизодами, можно сказать, переполнено его произведение. В этой черте своего гения Тассо живо напоминает собой Виргилия. Трогать сердце было, как известно, высшей и отличительной чертой римского поэта. Изображение разрушения Трои и разлука Дидоны с Энеем суть бессмертные эпизоды в Энеиде. Но трогательность Виргилия много теряет от многословия и явного желания произвести эффект; Тассо же, напротив, нигде так не прост, не натурален, как, именно, в выведении трогательных положений своей поэмы. В этом отношении особенно замечательны у него сцена с Олиндом и Софронией, смерть датского принца, смерть переодетой Клоринды, убитой неузнанной влюблённым в неё Танкредом, гибель Одоардо и Гильдиппы разлука Армиды с Ринальдом и многие другие. Может быть, собственная исполненная треволнений судьба Торквато Тассо, особенно во время жизни его при феррарском дворе, научила здесь поэта представлять с такой рельефностью печальные положения человеческой жизни.
В связи с этой сердечной чувствительностью находится у Тассо необыкновенная восприимчивость его к красотам природы, картины которой он живописует в своём произведении. На пространстве всей его эпопеи обстановка изображаемых событий изменяется много раз и потому значительную часть её составляют описания местностей. Красота этих описаний значительно поддерживает интерес всего произведения и некоторые из них, как например, очарованный лес, стоящий близь осаждённого города, волшебные сады Армиды, справедливо считаются одними из лучших мест „Освобождённого Иерусалима“. Картины богатой восточной природы поэт оживляет здесь выражением того впечатления, которое они производят на душу, и так тесно связывает действие с описанием сцены, что последняя является существенной частью целого.
К немаловажному достоинству „Освобождённого Иеруса-
—490—
лима“ следует отнести проникающее его глубокое религиозное и нравственное чувство поэта. В судьбах и действиях крестоносцев он усматривает совершение воли божественной и в иных случаях самому легкомыслию христианских рыцарей старается придать серьёзное и важное значение. К сожалению, такое пристрастие к воинам Христа, совершенно естественное в христианском поэте, переходит у Тассо в исключительность, выражающуюся в полной его нетерпимости к их врагам. – Конечно, от поэта, не отличавшегося особенной глубиной мысли, невозможно было и ожидать совершенно беспристрастного взгляда на двух враждующих народов, как это наблюдается, например, у Гомера. Но понятно, что такое отношение к предмету лишает поэму Тассо характера строгой объективности, свойственного истинному эпосу. Благоговейно взирая на предприятие христианских рыцарей, поэт в противниках их видит только орудия дьявола, одушевлённые слепой ненавистью к христианству. В войске мусульман, кроме женских характеров Клоринды, Эрминии и Армиды, все остальные герои совершенно лишены всякого поэтического интереса. Их усилия защищать свою страну, свою религию и свободу поэт рассматривает, как преступление; их мужество он представляет, как одно лишь жалкое ожесточение, а в благородных жертвах их отечеству видит богопротивное дело. От этого борьба христианского воинства с мусульманами не заключает в себе здесь никакой самобытной нравственной занимательности. Между борющимися лицами мы не встречаем в поэме Тассо действительного равенства, столь необходимого для развития истинно эпического действия. Борьба духовная уже давно здесь решена полной победой христианства; на стороне мусульман осталось одно лишь материальное владычество и окончательное ниспровержение его не представляет уже для нас никакого особенного нравственного интереса.
Но если живая и глубокая религиозность поэта переходит в исключительность, то, с другой стороны, она делает его, как нельзя более, способным изобразить в своей поэме прекрасное состояние религиозно-настроенного рыцарского духа. Это было, как мы видели, одной из целей его произведения, которой он и достигает в нём
—491—
с наибольшим успехом. Смотря на своё предприятие, как на дело Божие, герои христианского воинства, во всех важнейших случаях, обращаются у него с пламенной молитвой о небесной помощи и многие из этих обращений способны переполнить душу читателя чувством самого возвышенного умиления. Из множества примеров этого рода в „Освобождённом Иерусалиме“, мы приведём здесь следующую умилительную картину крестного хода, устроенного Готфредом перед одним из штурмов священного города:
„На утро рано в стане битв
Два пастыря верховных
Стеклись в обычный храм молитв
И с ними – Клир Духовных;
Жрецы в одежде изо льна
С отливом серебристым;
На первых пастырях она
Из шёлка с златом чистым;
На персях их в двух полосах
Заветные скрижали,
И митры на седых власах
Убранство довершали.
Идут; Пётр впереди, в руках
С хоругвией святою;
Поодаль в длинных двух рядах
Хор медленной стопою.
Совлекшийся земных забот,
Весь в небе, сокрушённой –
Он гимн преемственно поёт
С мольбою умилённой.
За ним, оканчивая строй
Торжественного хода,
Вильгельм и Адемар четой –
Святители народа.
По их стопам Готфред один;
За ним, как за главою,
Все подвое – вожди дружин
Торжественной стезёю;
—492—
Вождей сопровождает строй
С оружьем для защиты.
Идёт за вал сторожевой
Весь стан, в цепь длину свитый.
Молчит труба – глашатай битв,
Нет буйных песней ратных,
И слышен только глас молитв
И гимнов благодатных.
И нёсся глас сей от дружин
К Тебе, Отец Небесный,
К Тебе, Единородный Сын,
К Тебе, о Дух всеместный;
К Тебе, чистейшая духов –
Мать БогоЧеловека;
К Вам, девять ангельских чинов,
Устроенных от века;
К Тебе, пришедшему на брег
Ко Иордану водный
Крестить безгрешного и грех
Очистить первородный;
К Тебе, Который камнем стал
Несокрушимым веры,
Который в наше время дал
Преемнику примеры,
Как в небо двери отверзать
И веять благодатью;
И к Вам, Апостольская рать,
Кровавою печатью
Запечатлевшим на земли
О смерти Бога вести,
И в радостной небес дали
Сподобившимся чести;
И к Вам, писанием своим
И проповедью чудной
Открывшим путь сынам земным
На небо многотрудной;
К Тебе, о Божия раба,
—493—
Избравшей часть благую;
И к Вам, Затворницы, мольба
Неслась в страну святую,
Где Бог в невесты вас избрал;
И к Вам, Святые Жёны,
Царей презревшим и кинжал,
Тиранством изощрённый.
Так Небо набожный народ
На милость преклоняет,
И тихо к Элеону ход
Священный направляет, –
К горе, которая давно
Знакома нам названьем:
Оно для нас освящено
Апостольским писаньем.
К востоку пред горой стоит
Солим, глядясь со ската;
Меж ею и меж им лежит
Юдоль Иосафата.
Дружины, шествуя, поют, –
И долы углубленны,
И грота тёмного приют,
И холмы возвышенны,
И вся окрестная страна
Внимая песням мирным,
Оглашена, изумлена;
И эхо, по эфирным
Зыбям виясь, во все места
Несёт, твердит стократно
Святые имена Христа
И Девы Благодатной.1131
С таким духом живой религиозности совершенно согласуется у Торквато Тассо то, что он от начала и до конца сохраняет в своей поэме известное величие и достоинство, подражая здесь возвышенному тону древней эпо-
—494—
пей. Это обнаруживается в том, что он старается возвысить значение своих героев различными эпитетами; проявляется и в самом построении его станцев1132, где он тщательно избегает уменьшительных слов и охотно допускает длинные, поразительные для слуха выражения. Но всего очевиднее это открывается в его стремлении избегать слишком мелочных подробностей при различных описаниях, к чему в особенности был склонен Ариосто. Даже там, где Тассо заимствует своё повествование из историка, Вильгельма Тирского, он заботливо совокупляет частности, чтобы тем успешнее соблюсти тон общего возвышенного представления. – При этом Торквато Тассо всему заимствованному им у древних, или у новых поэтов придаёт оригинальный отпечаток своего личного индивидуального гения, стараясь всё это умерить, смягчить и облагородить. Так, например, он не допускает в своей поэме ни слишком преувеличенного любовного пафоса, ни чрезмерной, безалаберной погони за чудесами, господствующих у предшествующих ему поэтов-романтиков, – и даже смягчает некоторые черты Виргилиевой Камиллы, перенося их на свою Клоринду. Всего яснее это обнаруживается из тех изменений и сокращений, какие он произвёл впоследствии в первоначальном юношеском плане своей поэмы, сделанном им в Урбино1133.
Конечно, Торквато Тассо не совершенно свободен здесь от недостатков, частью имеющих своё основание в его индивидуальных особенностях, частью же отражающих в себе общее настроение его времени. Его стремление, например, подражать древне-классическим образцам иногда отзывается педантизмом. Искренняя религиозность не всегда бывает у него свободна от ложной аффектации и искусственной торжественности. Он нередко допускает слишком изысканные обороты, натянутые сравнения, что придаёт стилю его некоторую манерность. Наконец, нежная чувствительность сердца производит то, что в поэму его проникает не свойственное эпосу личное настроение, состоящее из смешения чего-то мечтательного, меланхолического и сентиментального, совершенно в духе его эпохи.
—495—
Но всё это нисколько не мешает нам признать великие заслуги Торквато Тассо и согласиться с тем, что в общем он всё-таки разрешает ту задачу, которую себе поставлял. Он намеревался, как мы уже знаем, объединить в своей поэме разнообразие романтических вымыслов, которое нравилось современной публике, с единством древне-классического эпоса, которого требовали учёные. И, сверх всякого ожидания, это ему до некоторой степени удалось. Он в первый раз подчинил романтический материал классическим законам, нисколько не нарушая при этом его существенных отличительных свойств. И так как Торквато Тассо имел на столько здравое понимание своей задачи, что назначал свою поэму не только для учёных, но и для всего образованного общества, то и не удивительно, что он с самого же начала получил громкую известность и сделался популярнейшим поэтом в Италии.
Но заслуга Тассо в разрешении важнейшего литературного вопроса того времени не ограничивается лишь пределами его собственного отечества, а имеет и важное общеевропейское значение. Дело в том, что у всех европейских народов, где только путём изучения древних пробудились к жизни античные идеалы искусства, они стали в совершенное противоречие с новейшими формами романтической поэзии и представлялись как бы враждебными им и взаимно исключающими. Торквато Тассо нашёл форму, которая, будучи аналогична и подражательна античной, делала, всё-таки, возможным выражение новейших представлений. Вот почему его произведение имело огромное влияние у всех образованных народов Европы, в особенности у романских наций, к которым, в силу племенного родства, поэтическая древность стояла ближе, чем к другим. Тассо представил здесь для них первый, великий и блестящий образец так называемого, ново-классического рода поэзии и все последующие поэты пошли уже в этом направлении по его стопам.
И. Татарский
Левитский С.Д. Сверхчеловек (Übermensch) Ницше и человек Христа1134: Публичное богословское чтение // Богословский вестник 1 901. Т. 2. № 7/8. С. 496–517 (3-я пагин.). (Начало.)
—496—
С некоторого рода смущением приступаем мы к предмету настоящего чтения1135. Говорить в публичном собрании о Ницше, – философе, которого нередко называют сумасшедшим и который, действительно, самые важные сочинения создал в период своей начавшейся психической болезни, – говорить о таком философе – не будет ли дерзостью со стороны лектора? Но не одна печальная, личная судьба его смущает нас, – смущает ещё сам способ философствования Ницше и крайне парадоксальный характер его учения. Ницше не оставил нам какой-либо стройной, систематически законченной философии и даже заявлял о себе, что он есть враг всякой систематизации. Затрагивая все вопросы, принадлежащие к области философии, он излагал свои суждения в форме кратких, бле-
—497—
щущих остроумием, изяществом и совершенством стиля афоризмов. Оттого в его сочинениях, кроме отсутствия системы, читатель постоянно наталкивается на противоречия, часто непримиримые. Эта манера философствования может подать повод к заключению, что в существе самого мышления Ницше скрывается уже смертный грех, какой-то органический порок, имеющий своим следствием характеризующую Ницше распущенность и своеволие мысли.
Тем не менее о Ницше говорить необходимо, – и теперь более, чем когда-нибудь. Ницше создал ницшеанство; его последователями кишит современная общественная атмосфера; идеи Ницше фигурируют и в устных разговорах, и типах беллетристики, и в живых образах действительной жизни. В своём отечестве Ницше создал о себе уже целую литературу; он имеет немалое число приверженцев, из которых некоторые доходят в своём поклонении, как говорится, до геркулесовых столбов. Так один из приверженцев не постеснился заявить о себе в таком роде: „Я томился в поисках за новым божеством... и нашёл его в лице Фридриха Ницше“ (М. Б. 1898 г. № 11 стр. 78). И в нашем отечестве, в особенности за последнее время по поводу своей смерти, Ницше заставил говорить о себе много. Наконец вопросы, поставленные им, столь важны для человеческого общежития, и решения, на них предложенные, столь радикальны, смелы и своеобразны, что невольно дразнят наше любопытство и заставляют глубже всмотреться в них и дать такой или иной отчёт.
I.
Нет предмета ни в сфере теоретической, ни в области практической, какого бы не касалась философия Ницше. Вопросы религии, философии, морали, искусства, науки, политики, всякого рода явления общественной и частной жизни – всё это проходит перед мысленным взором читателя сочинений Ницше, принимая самые разнообразные, причудливые формы: читатель как будто смотрит в калейдоскоп и невольно заинтересовывается бесконечной игрой и ком-
—498—
бинацией развёртывающихся перед ним самых разнообразных, световых явлений.
Из всего этого великого разнообразия предметов мы намерены сосредоточить своё внимание только на вопросах морали; но и в этой последней мы подвергнем разбору главным образом его учение о „сверхчеловеке“, составляющее центральный пункт всей его морали. Однако прежде чем приступить к этой цели, считаем полезным хотя кратко ознакомить с личностью его самого и отметить характеристические особенности его духовного облика, чтобы знать, с кем мы имеем дело.
Перед нами человек среднего роста, никогда не дозволявший себе небрежности в своей одежде, с спокойными чертами лица и выразительными тонкими линиями рта, с глазами, хотя и страдавшими крайней близорукостью, но устремлёнными куда-то в бесконечную даль и как будто углублёнными внутрь. Ницше отличался осторожной, задумчивой походкой, тихим смехом, скромной, ровной беседой и изящными манерами. Но этот спокойный, тихий, выдержанный человек тотчас же преображался, как только подходил к своему письменному столу, обращаясь в какого-то разбойника мысли и пера. Тут он в своих отношениях к самым признанным авторитетам является крайне нецеремонным: Сократа он называет „шутом гороховым“, Спинозу упрекает в составлении „душевных ядов“ и „лжемудровании“, Кант – „самый дикий психопат“, „тартюф“, или „китайский мудрец из Кенигсберга“, старые и новые верования Штрауса именует „кабацким евангелием“, Дарвина низводит „в посредственные умы“. Крайне грубы его нападки на религию и христианство, которое он называет „метафизикой палача“, являющейся для человечества „величайшим несчастьем“.
Внешняя жизнь Ницше не изобилует разнообразием фактов и какими-либо знаменательными событиями. Родившись 15 октября 1844 года, он уже 24 лет, не имея ещё докторской степени, был приглашён профессором в Базель, где он занимал эту должность до 1878 года, когда расстроенное здоровье (ужасные головные боли) заставили его покинуть педагогическое поприще. С этого времени он занялся исключительно литературной деятельностью, в
—499—
которой чувствуется какая-то лихорадочная поспешность. Не смотря на частые, сильные пароксизмы головной боли, он издаёт сочинения одно за другим, и этому периоду своей деятельности он обязан главным образом своей известностью. В начале 1889 г. Ницше постигает катастрофа, наступление которой его друзья уже предчувствовали давно: свет сознания погас в Ницше, и он стал потерянным для мира.
Напрасно враги Ницше, по крайней мере некоторые из них, стараются эксплуатировать этот факт в свою пользу, доказывая, что сочинения его носят все следы патологического характера, как произведения человека, уже давно утратившего целостность здоровой психической жизни. Люди, более беспристрастные, не относящиеся притом и к поклонникам Ницше, судят об этом факте иначе: „Мне, говорит один из них, противно пользоваться этим печальным удручающим явлением, как примером в пользу вопроса о „Гении и помешательстве“, который рассматривается на разные лады ещё со времён Аристотеля до Вильгельма Дильтея и Ломброзо. Мной всегда овладевает отвращение, когда приходится читать и слышать грубые толки о „падении“ Ницше, когда люди, не подверженные опасности лишиться того, чего лишился Ницше, уже потому хотя бы, что им нечего лишаться, пытаются по косточкам разбирать сочинения Ницше и бредят об их патологическом характере. Истинным знатокам Ницше я должен указать на то, что даже последние труды его – предисловие к „Götzendämmerung“, отмеченное числом 30-го сентября 1888 года, „Dionysos Dithyrambe“, появившееся осенью 1888 г., и присоединённое к последней части „Also sprach Zarathustra“, также мало заключают в себе признаков предстоящей уже в скором времени катастрофы, как и любое произведение 80-х годов. Как раз в своём последнем сочинении: „Götzendämmerung“ он стоит на самой высоте своего литературного творчества“. (М. Б. 1898 г. № 9 стр. 78).
По изображению биографов, Ницше обладал самыми разнообразными талантами. „В Ницше, говорит один из них, жили рядом, тираня друг друга, музыкант с высоким дарованием, свободный мыслитель, религиозный гений и по-
—500—
эт по природе“ (Помрач. Кум. стр. 302). Но прежде всего, он, разумеется, свободный мыслитель и в частности моралист, хотя сам он ни в каком случае не желает причислять себя к этому разряду философов, так как, по его убеждению, „ничто не встречается так редко среди моралистов и аскетов, как справедливость“ (Помрач. Кум. стр. 113); между тем как „философ должен быть совестью своего времени“ (ibid стр. 5). Но так как Ницше главным образом расположен заниматься вопросами морали и даже начертал нам образ, по его мнению, будущего совершеннейшего человека, то он помимо своей воли становится в ряд философов моралистов, хотя его мораль и идеал совершеннейшего человека носят на себе совершенно, так сказать, экстраординарный характер и резко отличаются от всего, что мы привыкли соединять с этим именем в своём представлении.
Как философ, Ницше, по своему направлению, принадлежит к разряду тех мыслителей, которые ограничивают свой взор одной землёй и резко восстают против всего метафизического, сверхопытного, отвлечённого и мистического. „Однажды, говорит Ницше устами своего Заратустры, направил я свои мысли по ту сторону человека, подобно всем мыслящим о другом мире. В действительности ли по ту сторону человека? Ах, братья, это божество, созданное мной, было делом человека и безумия, подобно всем богам! Он был человеком, и лишь бедной частицей человека и „я“: из собственного пепла и пламени явился мне этот призрак, и во истину не явился он мне из иного мира!“... „Моё Я научило меня новой гордости, которой я учу людей: не зарывать более голову в песок небесных дел, а носить её свободно, как принадлежащую земле и создающую смысл земли!“ (Так гов. Зар. стр. 28–29). „По-моему, братья мои, слушайтесь лучше голоса выздоровевшего тела: это более честный и чистый голос“. (ibid стр. 30) „Я молю вас, братья мои, будьте верными земле и не доверяйте говорящим вам о надземных надеждах. Они – отравители, безразлично, – сознают они это, или нет“. (Так говор. Зар. изд. Ефимова 1899 г. стр. 9).
Но обращая свой взор исключительно на землю, Ницше
—501—
не видит здесь ничего, кроме царства одного неизменного закона. По его космическим представлениям существует определённый цикл, вечно приводящий всё живущее и существующее в то положение, в каком оно было когда-то и в каком оно будет при следующем обороте колеса бесконечности. Сама жизнь мира заключается ни в чём ином, как постоянном вечном возвращении всех вещей к тому состоянию, в котором они находились ранее. „О, Заратустра, говорят ему звери: ... ты учитель вечного возвращения... Мы знаем, чему ты учишь: именно, что вещи вечно возвращаются и мы сами с ними, и что мы уже вечно были и все вещи вместе с нами... Я снова возвращусь, с этим солнцем, с этой землёй, с этим орлом, с этой змеёй – не к новой, не к лучшей и не к подобной жизни: я вечно буду возвращаться к этой же самой жизни, как в величайшем, так и в самом малом, чтобы снова учить о вечном возвращении всех вещей“... (Так говор. Зарат. стр. 244). В частности, человек есть индивидуум, но только особого рода. Это – не существо, содержащее в себе цель в самом себе и потому направляющее свою деятельность к концу. Нет, по представлению Ницше, „индивидуум – это род fatum’a, спереди и сзади, новый закон и новая необходимость для всего, что наступит и что будет. Сказать ему: „переменись“ – это значит требовать, чтобы всё переменилось, даже пошло назад“... (Помрач. Кум. стр. 254). Поэтому, и о свободе воли Ницше рассуждает так: „понятие о свободной воле – это самая хитрая выдумка для того, чтобы сделать человека ответственным за свои поступки“… (ibid. стр. 270). „Учение о воле придумано главным образом с целью наказания, т. е. из желания найти виновного... мы, продолжает он, неморалисты, изо всех сил стараемся снова уничтожить в мире понятие о виновности и понятие о наказании и очистить от них психологию, историю, природу, общественные учреждения и постановления“... (ibid. стр. 271). „В чём же однако наше учение?“ спрашивает Ницше самого себя. „В том, отвечает он, что никто не даёт человеку его свойств, – ни общество, ни его родители и предки, ни он сам себе. Никто не ответственен за то, что он вообще живёт на свете, что создан так или иначе, что
—502—
находится в известных обстоятельствах и в известной обстановке. Роковую судьбу его существа нельзя отделить от роковой судьбы всего того, что было и что будет. Он не есть следствие какого-нибудь замысла, какой-нибудь воли и цели; в нём мы не видим попытки достичь „идеального человека“, или „идеального счастья“, или же „идеальной нравственности“, – было бы нелепо приурочить его существо к какой-нибудь цели. Мы сами выдумали понятие о „цели“; в действительности нет никакой цели... Мы необходимы, мы представляем собой что-то роковое, принадлежим к целому, живём в этом целом – нет ничего, что могло бы направлять наше бытие, измерить его, сравнить, осудить... Вне целого не существует ничего! – Что никто уже более не ответствен, что этот род бытия не может быть отнесён к causa prima, что мир составляет одно целое, но ни как чувственное и ни как духовное представление, – вот в чём именно и заключается великое освобождение, – этим и восстановляется вновь невинность бытия“ (ibid. 272–273).
Итак, отрицается смысл всякого существования, всякой деятельности, всякой борьбы. К чему тогда трудиться, задаваться разными целями? Зачем тогда и самому Ницше писать целые тома сочинений? Разражаться громом негодования против современного общественного нравственного строя, если попытка изменить что-нибудь может вызвать только горькую усмешку? Но в силу какого-то невероятного противоречия самому себе Ницше, не смотря на свои телесные недуги, которые повергали его в самое безнадёжное состояние, посвящает свою жизнь критике всего существующего, пересматривает все вопросы религии, философии, науки и жизни, создаёт новые идеалы, ставит человечеству новые цели. Вопреки высказанному им воззрению о фатальной необходимости мирового порядка, Ницше питается надеждой на иное течение вещей и явлений в мире: „Ах, восклицает он в одном месте, если бы вы только знали, как близко то время, когда в мире всё пойдёт по иному“ (По ту стор. добра и зла, стр. 174). Вопреки только что высказанному утверждению, что в мире царит железная необходимость и отсутствие всяких целей, Ницше, подобно Шопенгауеровской „Воле“, полагает в основу
—503—
всего сущего жажду власти и могущества. „Мир, рассматриваемый с внутренней стороны, говорит Ницше, мир, определённый и обозначенный ясными чертами, был бы ничем иным, как только „волей, стремящейся к власти“ (По ту стор. д. и з. стр. 63).
С этой новой точки зрения Ницше производит крушение всех существующих понятий, переоценку всяких ценностей, а в области морали ставит требование, обращённое к философу, – усвоить себе совершенно особую точку зрения, именно, стать по ту сторону добра и зла. „Вы говорите, замечает он в одном месте, что мораль сострадания выше морали стоицизма. Докажите это! Но заметьте, что „выше“ и „ниже“ в морали нельзя мерить нравственными же аршинами, ибо абсолютной морали не существует. Следоват., – берите ваши мерила где-нибудь в другом месте“. (Преображ. Вопросы философии и психологии, кн. 15. 1892 г. стр. 128).
II.
Но что же заставило Ницше сообщить своей философской деятельности такой разрушительный характер? Что дало ему нравственное право и основание брызгать ядом своего пера на современное течение всех явлений человеческой жизни? Основание и право на такое отношение Ницше видит в современном состоянии человечества, которое (состояние) воображению его рисуется в самых мрачных красках: „Где найдём мы теперь, говорит он, что-нибудь совершенное, действительно законченное, счастливое, мощное, торжествующее, – человека, который был бы оправданием человека? Где найдём мы искупляющий счастливый пример человека, ради которого можно было бы сохранить веру в человека? Человеческая раса ухудшается... В этом измельчании и уравнении человечества заключается величайшая наша опасность, ибо вид такого человечества утомляет. Мы не видим никого, кто стремился бы стать выше и величественнее; мы чувствуем, что всё идёт к низу, – к чему-то всё более тощему, более добродушному, благоразумному, покойному и довольному, посредственному, равнодушному, китайскому; человек, разумеется, делается,
—504—
„лучше“. Но именно в этом-то и состоит то величайшее несчастье, тот рок, который тяготеет над человечеством. Со страхом перед человеком мы потеряли и любовь к нему, и благоговение перед ним, и надежду на него. Вид человека утомляет теперь; в чём же ныне и состоит нигилизм, как не в этом? Мы устали от человека“... (Geneal. der Moral, 1, 11–12 по ст. Преображенского).
„Нет скорби, по словам Ницше, которая была бы так чувствительна, как увидеть хоть раз, угадать и почувствовать, как необыкновенный человек сходит с своего пути и вырождается. Но у кого взор достаточно чуток, чтобы увидать ту общую опасность вырождения человека вообще, кто познает ту чудовищную случайность, которая до сих пор играла будущностью человека, кто угадает ту роковую опасность, которая кроется в глупом простосердечии и безобидности „идей современной цивилизации“, – да и вообще во всей христианско-европейской морали, – тот будет страдать одной заботой и опасением, с которыми нельзя сравнить никаких других“... „Общее вырождение человека, его измельчание до совершенного стадного животного, его превращение в животное – карлика, с одинаковыми правами и притязаниями, – всё это конечно возможно... Но кто хоть раз продумает до конца эту возможность, тот испытает одним отвращением больше, чем прочие люди, – и быть может, увидит здесь новую задачу (Вопр. фил. и пс. стр. 143; По ту стор. д. и зла. стр. 203)“. Причину такого измельчания человеческой природы Ницше видит в господствующих современных нравственных и метафизических понятиях. „Благодаря, говорит он, современному направлению и современной добродетели, воля слабеет и расшатывается... В настоящее время в Европе в чести одно только стадное животное чувство, и „равенство прав“ очень легко может перейти в „равенство несправедливости“, или яснее – во всеобщее враждебное настроение против всего оригинального, чужого, обладающего преимуществами высшего человека, высшей души, высшей обязанности, высшей ответственности, творческой силы и превосходства“ (По ту стор. д. и зла стр. 168–169)... В долгой, тяжёлой, исторической культурной работе, бессознательной и сухой,
—505—
человек воспитал себя из животного; много цепей было наложено на него, чтобы он отучился вести себя как зверь; и действительно, он стал мягче, духовнее, радостнее, разумнее, чем все животные. Но он страдает ещё тем, что он так долго носил свои цепи, что ему так долго не доставало чистого воздуха и свободного движения. Эти цепи – тяжёлые и многозначительные заблуждения нравственных, религиозных и метафизических представлений. Лишь тогда, когда преодолена будет эта болезнь цепей, будет достигнута первая великая цель: отделение человека от животных“ (Преображ. Вопр. фил. и п-гии стр. 143).
В целях разъяснения нашего вопроса о „сверхчеловеке“ интересно знать, как Ницше объясняет само измельчание человека, приведшее последнего к такому безотрадному состоянию. Ведь, если человек в настоящее время стал мелок и ничтожен, то, значит, существовало время, когда он был велик и могуч. И действительно, воображению Ницше рисуются давнопрошедшие времена, привлекающие к себе все его симпатии. „Мы теперь, говорит он, можем сказать категорически, как возникла высшая культура на земле. Люди, ещё близкие к природному состоянию, варвары в самом страшном значении этого слова, дикари, ещё обладавшие сильной жаждой могущества, нападали на более слабые, цивилизованные и спокойные расы, или на старые, дряхлые, культурные племена, в которых остатки жизненной силы вспыхивали блестящими проблесками таланта и разврата. Самой знатной кастой была в начале эта каста варваров.
„Оставаясь знатной расой, они не переставали быть дикарями, этими великолепными, жаждущими добычи и победы белокурыми бестиями; от времени до времени должны были происходить проявления этой скрытой энергии, зверь в них рвался наружу, дикаря тянуло опять в лес, – так было со знатью римлян, арабов, германцев, японцев, с гомеровскими героями, скандинавскими викингами“. Эта-то лучшая раса, по мнению Ницше, и была в своё время законодательницей, выработавшей первоначальные понятия „доброго“ и „злого“, которые однако же совершенно отличны от наших. Понятие „хорошего“ установлено было вовсе не теми, которые испытывали что-нибудь хорошее, как
—506—
это принимается английскими психологами. Скорее эти сами „хорошие“, т. е. знатные, могущественные, высокопоставленные и благородные, считали и заставили других считать себя и свои действия хорошим, перворазрядным, в противоположность к низким, неблагородным, пошлым, к черни. Этот дистанционный пафос (Pathos der Distanz) дал им впервые в руки право определять ценности и создавать их... Продолжительное преобладающее общее основное сознание чего-то высшего, господствующего по отношению к низшему, к „низу“ – вот где начало противоположности между понятиями „добра“ и „зла“. (Л. Штейн. М. Б. № 10. 98 г. стр. 61).
Но царство этой белокурой бестии, этих представителей могущества, знатности и благородства человеческой природы, было не вечно. Платон в области философии, евреи в истории были главными революционерами нравственных понятий, произведшими здесь положительный погром и разрушение прежних идеалов. „Ничто из того, говорит Ницше, что на земле было предпринято против „знатных“, „могущественных“, „господ“, „властелинов“, не достойно упоминание сравнительно с тем, что сделали против них евреи, тот жреческий народ, который сумел найти удовлетворение своей мести над врагами и победителями лишь в радикальной переоценке всех его ценностей, т. е. в самой умной мести. Ведь это евреи решились на извращение с ужасной последовательностью аристократического уравнения ценностей (хороший=знатный=могущественный=прекрасный=счастливый=богоугодный) и с беспредельной ненавистью (ненавистью слабых) держались этого решения. В самом деле, несчастные – лишь хорошие люди, того же имени достойны лишь бедные, слабые, низкие, страдающие, терпящие нужды; больные, безобразные также единственно благочестивы, их только ожидает блаженство... Это извращение ценностей было началом рабского восстания в этике, того восстания, которое в настоящее время имеет за собой историю двух тысяч лет и которое потому у нас исчезло из внимания, что было победоносно“ (М. Б. 1898 г. № 11 стр. 63). Господская мораль пела свою лебединую песнь в дионисиевском культе жизнерадостной, страстной к наслаждениям Эллады и должна была уступить ме-
—507—
сто рабской морали, идеал которой мог быть формулирован одним словом: аскетизм. „В то время как всякая высшая мораль вырастает на почве торжествующего утверждения „да“, рабская мораль всегда говорит только „нет“. Оптимизм и пессимизм, наклонность к наслаждениям и аскетизм, Рим и Иудея вели друг с другом в течение целых тысячелетий отчаянную борьбу, пока наконец Иудея не вышла из этой борьбы победительницей“1136 (ibid. стр. 69).
—508—
То, что сделали евреи в истории, Платон произвёл в философии. По мнению Ницше, Платоновская выдумка „чистого разума“ и „абсолютного блага“ обезобразила весёлую, вакхическую (Dionysos – Natur) жизнь греков, ослабила нормальную жажду могущества и тем самым свела стоимость жизни к нулю“... Ведь обязанность побеждать инстинкты – это формула упадка; как долго жизнь прогрессирует, счастье всегда находится в соответствии с инстинктами“ (М. Б. № 10, стр. 54). „Из всех заблуждений, говорит он в другом месте, самое худшее, самое продолжительное и самое опасное было заблуждение догматиков, а именно введённое Платоном учение о чистом духе и добре самих в себе“…, так как рассуждать о духе и добре – значит совершенно исказить истину и отказаться от надежды на будущее и от основного условия жизни“. (Предисл. к По ту стор. д. и з. стр. V). Результатом этих двух фактов – евреев в истории и Платона в философии – и явилась иудейско-христианская мораль, которая и состав-
—509—
ляет главную причину современного вырождения человечества. Не мудрено, что против неё Ницше направляет весь яд своих стрел и сам себя откровенно называет „имморалистом и антихристом“, как бы кичась этими наименованиями.
Но в чём же именно Ницше видит смертный грех христианской морали, – грех, приведший человечество к современному нравственному и физическому упадку и даже совершенному вырождению? Единственно в том, что именно христианская мораль, по его мнению, первее всего обезличивает человека и обращает его яко бы в простое стадное животное. „Что прежде всего полезно общине, стаду, то и бывает высшей меркой ценности всех отдельных людей. В морали заключается для индивидуума руководство к тому, чтобы быть функцией стада и придавать себе цену только как такой функции... По общему признанию, личность, я, должна отречься от себя, пока она в форме приспособления к целому, не найдёт снова своего прочного круга прав и обязанностей, пока она не станет чем-то новым и иным. Люди стремятся, – сознают ли они это или нет, – не к чему иному, как к коренному преобразованию, даже ослаблению и устранению индивидуума. Отсюда боязнь перед индивидуальностью и перед той опасностью, которую представляет индивидуальность для спокойного течения жизни. Возвышенный и независимый склад ума и духа, стремление быть и стоять одиноким, даже большой ум – начинает считаться чем-то опасным; всё, что возвышает индивидуума над стадом и внушает страх ближнему, начинает называться злым; умеренное, скромное, подчиняющееся, уравнивающее себя настроение, посредственность страстей – приобретает нравственную честь и славу (Преобр. Вопросы ф-ии и п-гии стр. 138–139)“. Такая-то мораль и заключает в себе великую опасность для человечества, так как ведёт к измельчанию человеческой природы, и картина этого измельчания, как мы видели, производит в Ницше великое сокрушение духа и даже положительный вопль. „Нет скорби, повторим мы его слова, которая была бы так чувствительна, как видеть хоть раз, угадать и почувствовать, как необыкновенный человек сходить с своего пути, вырождается“. (ibid. стр. 143).
—510—
III.
Уже из этого краткого изложения философских воззрений Ницше мы можем видеть, куда клонятся его симпатии и антипатии, на чём он может построить и действительно построяет собственные свои идеалы, которые, по его мнению, могли бы избавить человечество от его настоящего жалкого состояния и сообщить человеческой природе настоящую красоту и действительное её величие. Если рабская мораль сострадания и любви к ближнему содействовала понижению жизнеспособности природы человека, обратила его в стадное животное и лишила его возможности раскрыть и проявить свою индивидуальную красоту и величие, опутавши его всевозможными цепями, то само собой понятно, – где человек, по мнению Ницше, должен искать своего избавления и спасения. Человеческая природа унижена, обезличена, сведена к роли стадного животного, – нужно сообщить ей принадлежащее ей могущество и великолепие. Этому понижению способствовала альтруистическая мораль, – её нужно отвергнуть. Человек опутан всевозможными моральными предрассудками, – нужно разорвать эти цепи и возвратить ему абсолютную свободу. Тогда-то и наступит настоящее действительное освобождение человека. Эти заключения и выводы вводят нас в ту область, где скрывается заветная мечта Ницше, где он рисует нам свои идеалы будущего. Что же это за мечты, что за идеалы?
Мы знаем уже, какие неистовые восторги вызывает у него так называемая им „белокурая бестия“, великолепная, жаждущая добычи и победы, сильная, храбрая, жестокая раса, не уступающая по своим инстинктам хищным зверям, – кровожадная, чувственная, властолюбивая, ищущая опасностей и наслаждений, как случая, где она могла бы употребить свою бьющую ключом жизненную силу. Как раса победоносная, она была законодательницей и создала господскую мораль. Но к великому прискорбию Ницше, она должна была уступить место рабской морали, господствующей и до сего времени. И только по временам на фоне истории вспыхивали, как блуждающие огоньки, исторические эпохи и отдельные типы. „Последним великим време-
—511—
нем“ Ницше считает эпоху возрождения и с благоговением останавливается перед личностью Цезаря Борджиа, не щадя никаких красот для возвеличения этого злодея, насильника, предателя и развратника. Не скрывает Ницше своих симпатий к непобедимому ордену ассасинов, „ордену свободных мыслителей par excellence, низшая степень которого жила в повиновении невиданном ни в каком ордене, высшая же держалась лозунга: нет истины, всё позволительно“ (М. Б. № 11 стр. 70). Из новейших героев воплощение сверхчеловечности Ницше видит в Наполеоне, – Этом синтезе бесчеловечности. Итак, особенный восторг вызывается у Ницше необузданностью инстинктов человеческой природы, для удовлетворения которых дозволительно идти даже путём крови и крайнего разврата. В современном обществе Ницше, конечно, не находит представителей подобного типа, – их, по его мнению, можно встретить разве на войне и – между преступниками. Ницше не дожил до наших печальных дней, которые несомненно наполнили бы его чувством удовлетворения при виде образа действий „просвещённых мореплавателей“, попирающих в отношении к своим противникам всякие – и божеские и человеческие – права и потому могущих быть яркими представителями „великолепной белокурой бестии“.
Но войдём в более подробное разъяснение того, – каким образом Ницше пришёл к мысли, что в указанных выше типах человечества следует видеть истинных представителей человеческой природы и, так сказать, теоретически обосновал свои симпатии к „белокурой бестии“, и какие задачи он ставит человеку по отношению к позднейшей судьбе его.
Обязанности, – какие бы ни были они, – могут вытекать для человека только из единой, свободно и добровольно признанной цели; иначе эти обязанности будут состоять в рабском поклонении перед чуждым положительным законом. Но пока такой цели, по мнению Ницше, нет. „Ранее, говорит Заратустра, существовала тысяча целей, ибо существовали тысячи народов. Не достаёт только тысячи оков для тысячи голов, не достаёт единой цели. Человечество не имеет ещё никакой цели“ (так говор. Зарат. стр. 62). Поэтому-то „многое, что, по мнению одного
—512—
народа, хорошо, у другого называется насмешкой и позором: так нашёл я. Многое нашёл я, что здесь называют дурным, а там наряжают в пурпур. Никогда не понимал один сосед другого: постоянно душа его изумлялась заблуждению и злобе соседа“ (ibid стр. 60). Но если у человечества нет ещё единой цели, которая давала бы смысл его существованию, то могут ли возникать для индивидуума какие-либо обязанности, стесняющие его свободу? Можно ли требовать от него подчинения какому-либо вне его существующему закону и авторитету? Ведь личность есть начало и конец человечества, а „ослабленная, тощая, угасшая, сама себя отрицающая и отказывающаяся от себя личность больше ни на что хорошее не годится“. Поэтому „мы лучше всего сделаем, говорит Ницше, если до построения новых идеалов жизни и деятельности, в это междуцарствие станем своими собственными царями“ (Преобр. Вопр. ф-ии и п-гии стр. 145). „Мы сами перед собой отвечаем за свою жизнь, – будем же настоящими кормчими этой жизни и не дадим ей уподобиться бессмысленной случайности (ibid) ...Будем своими собственными экспериментами и своими собственными творцами. Высокая задача– выработать из себя цельную законченную индивидуальность, дать стиль своему характеру, дать художественное проявление своей личности – в познании и любви, и в созерцании и действовании. Великое дело – стать самим собой и в себе самом найти себе удовлетворение: кто в себе не находит довольства, тот всегда готов отмстить за это другим; другие станут его жертвами, хотя бы потому только, что им придётся выносить его отвратительный вид; ибо вид отвратительного человека делать нас дурными и мрачными“ (ibid). Таким образом личность у Ницше (в противоречие его детерминизму) есть нечто самодовлеющее, она есть центр тяжести в себе самой; она ни перед кем не ответственна; она есть безусловный владыка самой себя, и только то, что она сделала во имя своё, имеет настоящую ценность. При этом нечего смущаться, какого рода будет эта деятельность – добра или зла, нравственна или безнравственна; – её ценность определяется только тем, – на сколько она заключает в себе честности и искренности, подлинности и неподдельности в добром и злом. „Есть
—513—
много людей, которые могли бы беззаботно отдаться своим впечатлениям, но не делают этого из страха перед воображаемым злым характером этих влечений. Поэтому-то между людьми так редко можно встретить душевной аристократизм, признаком которого всегда будет – не бояться себя, не ожидать от себя ничего позорного, без колебаний лететь туда, куда нас тянет, – нас, свободно рождённых птиц, – веря, что куда бы мы не прилетели, кругом нас будет свобода и солнечный свет“ (ibid стр. 146). Поэтому каждый индивидуум, в силу означенной автономии своей воли, может сообщить смысл своей деятельности, поставивши ей высокую благородную цель. Человек „неисчерпаем для величайших возможностей“, и кто знает, что только можно было бы вырастить из человека при благоприятном сосредоточении и напряжении сил. Но главной целью человеческой деятельности должно быть возвышение, усиление и облагорожение человеческой личности, возможно высокое могущество и великолепие человеческого типа и человеческой культуры. И нет лучшей цели жизни, как погибнуть по великом и невозможном.“ Не золотой век и не безоблачное небо будет уделом грядущего поколения; и не будет сверхчеловеческая доброта, и справедливость, словно неподвижная радуга, простираться над полем этого будущего. Быть может, то поколение в общем будет казаться даже злее чем нынешнее, ибо оно будет откровеннее и в дурном, и в хорошем; быть может даже, если бы душа его высказалась когда-нибудь полным, нестеснённым звуком, она потрясла и испугала бы наши души, подобно тому, как если бы вдруг раздался голос какого-нибудь скрытого доселе злого духа природы. И всё-таки, говорит Ницше, нужно сознаться, что страсть лучше, чем стоицизм и ханжество, что быть честным, искренним даже в злом лучше, чем преклоняться перед традиционной нравственностью; что свободный человек может быть и добрым и злым, а несвободный человек есть позор природы и не имеет части ни в каком – ни небесном, ни земном – утешении, и что всякий, кто желает быть свободным, должен сделаться таким собственными усилиями, ибо ни к кому свобода не может упасть с неба, словно чудный дар, (ibid. стр. 147–148).
—514—
Равным образом не страданием и удовольствием определяются для человека конечные перспективы жизни. Человек – самое мужественное, самое привычное к страданиям животное, – отрицает не страдание само по себе: он хочет его, он сам ищет его, если только ему укажут смысл его и цель. Не страдание само по себе возмутительно, а его бессмысленность... И не к счастью направлены самые глубокие стремления человека; если у него есть цель жизни, то он мирится с каким угодно образом жизни“ (ibid. стр. 154). Поэтому перед высшей задачей развития человеческого типа и сообщения ему наибольшей мощи и великолепия, возвышения и облагорожения человеческой природы, как телесной, так и духовной бледнеют проблемы счастья и покоя жизни своей и чужой; такому идеалу стоит принести в жертву себя и другого, и стремление к нему обосновывает и освящает право человека на другого человека: „Узкая, низменная, мещанская мораль, – говорит Ницше, – смотреть прежде всего на ближайшие и самые непосредственные последствия наших бедствий для других, и с ними сообразовать наши решения. Выше и свободнее – смотреть мимо этих ближайших последствий для других и способствовать осуществлению более отдалённых целей, в случае нужды – даже путём страдания других. Разве мы не можем обращаться с ближним по крайней мере так, как мы обращаемся сами с собой? И если мы не думаем так узко и низменно, когда дело идёт о нас, почему мы должны думать так, когда дело идёт о другом? Допустим, что мы стремимся пожертвовать собой; что может нам запретить пожертвовать вместе с тем и ближним – так как делало доселе государство, принося одного гражданина в жертву другого „ради общих интересов“. И у нас есть общие и, может быть, более общие интересы: почему же не могут быть принесены в жертву будущим поколениям отдельные индивидуумы из нынешних поколений, так что их горе, их беспокойство, их отчаяние, их неудачи и крики страха оказались бы необходимыми, потому что новый плуг должен взрыть почву и сделать её плодородной для всех“ (ibid. стр. 153).
Но не все люди могут способствовать осуществлению этой великой цели: „человек не равен человеку... „Все-
—515—
общее равенство“ есть конец справедливости: истинный голос её требует отдавать равному равное, неравному неравное, и неравного никогда не делать равным“ (ibid. стр. 150); поэтому то, что справедливо для одного, то не может быть справедливо для другого, и требование одной морали для всех будет нарушением справедливости именно по отношению к людям высшим по ценности. Высшей несправедливостью будет, если жизнь развитая менее всего, уже, беднее, зачаточнее, – тем не менее станет ставить себя как цель и меру вещей и в интересах своего сохранения подкапывать и колебать более высокое, великое и богатое... Высшее не должно унижать себя до орудия низшего; чувство расстояния (Pathos Distanz) должно на все века разграничивать и отделять задачи людей. Высшие люди имеют в тысячу раз более прав на существование; это право – преимущество колокола с полным звуком перед колоколом надтреснутым и расстроенным; в них одних – залог будущего; что они одни должны делать, того не могут, не должны делать люди низшие; а, чтобы они могли свершить то, что они должны, – они не могут становиться слугами и орудиями людей низших... Безумной расточительностью было бы делать здорового орудием больного, или гения – орудием массы“ (ibid. стр. 150). Поэтому Ницше относится в высшей степени презрительно к большинству, к подавляющей массе человечества, к толпе, где господствуют субъекты без собственной воли и мысли, прячущиеся за чужие мнения, неспособные ни к широким интересам, ни к возвышенным настроениям, ни к высоким подвигам, равнодушные к добру и злу... не в них надежда, гордость и счастье человечества! Напротив, преобладание таких людей и господство массы неизбежно клонится именно к вытеснению наиболее оригинальных, выдающихся, редких и ценных людей, т. е. таких людей, на которых основывается вся надежда на возвышение и облагорожение человечества (ibid. стр. 150); поэтому своим ученикам Заратустра рекомендует уходить в уединение от этих базарных мух, т. е. людей толпы. „Всё великое, говорит он, удаляется в сторону от рынка и славы... ты жил слишком близко от маленьких и несчастных! Беги от их невидимой мести! против тебя они суть ни
—516—
что иное, как месть. Не поднимай больше руки против них! Они бесчисленны, и не твоя задача служить метёлкой для мух. Бесчисленны эти маленькие и несчастные; и не для одного гордого здания дождевые капли и плевелы послужили причиной к погибели... ты слишком горд для того, чтобы убивать этих лакомок. Будучи кротким и справедливым, ты говоришь: „невинны они в своём маленьком существовании“. Но их узкая душа думает: „Виновно всякое великое существование“. – Да, мой друг, нечистой совестью являешься ты для ближних своих: ибо они недостойны тебя. Так ненавидят они тебя, и охотно насосались бы твоей крови“ (так говор. Зарот. стр. 53–55).
Но если люди не равны между собой и только незначительное меньшинство способно содействовать достижению великой цели человечества стать по ту сторону добра и зла и с мужественным самоотвержением бороться со всеми препятствиями и случайностями; то общество может существовать не ради общества, но лишь в качестве фундамента и подмостков, на которых мог бы подняться более сильный и изысканный ряд существ к своей высшей задаче и вообще к высшему существованию, подобно тем жадным до солнца и стремящимся к нему вьющимся растениям на о-ве Ява (они называются Lipo Matodor), которые своими ветвями обнимают и обвивают дуб до тех пор, пока наконец, высоко поднявшись над ним, но опираясь на него, они в свободном свете не распустят своего венца, гордые своей красотой и счастьем... Назначение этих избранников быть не функцией общества, но его смыслом и высшим оправданием; в этом сознании они с чистой совестью могут принять жертву бесчисленного множества людей, которые ради них должны быть обречены на неполное существование и низведены на степень рабов и орудий“ (преобр. Вопр. ф. и п. стр. 151–152).
Итак, судьбы человечества покоятся, по воззрениям Ницше, в руках немногих избранников, которые способны к достижению высшей цели – созданию наивысшего типа человеческой природы, – только одни способны содействовать воплощению великой идеи – произвести и воспитать
—517—
сверхчеловека. Громадное же большинство представляет собой подставки, арену для этих избранников, которые развивают на ней свою творческую деятельность по тем законам и целям, какие найдёт возможными и наилучшими их собственная воля.
(Окончание следует)h6C .
С. Левитский
1901 года
30 марта.
Сергий (Ляпидевский), митр. Московский. Из лекций по пастырскому богословию: О призвании к пастырскому служению1137 // Богословский вестник 1901. Т. 2. № 7/8. С. 518–541 (3-я пагин.). (Продолжение.)
—518—
Дабы законно принять на себя священный сан, необходимо призвание свыше и когда есть призвание свыше, тогда отказываться от звания, к которому влечёт это призвание, будет делом не богоугодным. В настоящее время, призвание свыше к священному сану так таинственно и так много-различно, что некоторые сомневаться себе позволяют, существует ли оно действительно. Существо дела требует доказать, что оно не только существует, но необходимо должно существовать, что без призвания свыше не может быть истинного и законного священства. Но прежде чем приступить к этому, скажем несколько слов о том, что мы разумеем под призванием вообще. Слово это некоторым образом само себя объясняет. В жизни обыкновенной призывает один другого с одного места на другое и для известной цели, хотя бы самой маловажной. Подобным образом говорится о Боге, что Он мир этот призвал из небытия к бытию, – и призвал для известной цели. То призвание существ, которое обнаружил Бог в действиях творения, ещё яснее открывает Он в действиях Своего промышления о мире. Не трудно приметить, что каждая вещь в мире получает своё место по мановению Промысла. То самое действие Промысла, которое даёт каждой вещи в мире и каждому живому существу своё место и своё назначение, и есть призвание свыше, в обширном смысле этого слова. По различию приемлемости
—519—
великих и малых, разумных и неразумным существ, наполняющих мир, призвание это открывается двояким образом. На вещи неодушевлённые оно действует орудием физической необходимости, силой постоянных и общих законов, в следствие чего никакая вещь в мире уже не может выйти из тех границ, в которые заключил её творческий Промысл, призвавший её в известный вид бытия, и нужно новое призвание со стороны Промысла, согласное с уставленными Им же законами, чтобы бытие вещи видоизменилось. Не то в царстве свободы. Здесь образ бытия гораздо многосложнее, чем в царстве необходимости, круг деятельности существ обширнее и их удоприемлемость острее, а потому и призвание свыше не скрывается более под покровом необходимости, но действует силой совсем других убеждений. Главная цель бытия указана ясно всем разумным существам в мире и призвание к этой цели вложено в самой их природе. Но так как пути, ведущие к главной цели бытия, многоразличны по различию самих существ разумных; то чтобы каждый избирал себе более свойственный себе путь, для этого нужно особенное указание со стороны Промысла, бдящего и пекущегося о судьбе всех и каждого. К тому же конечно направлено и то многоразличие, и неравенство способностей и талантов, которыми люди разнятся между собой от природы. Так, в области изящных искусств призванием называется именно присутствие в душе особенного таланта, который внутренне и непреодолимо влечёт её к творчеству в том или другом роде. Тоже и в царстве благодати. Это многообразное раздаяние даров духовных, столь обыкновенное в первенствующей церкви, было ничто иное, как ясное призвание к тому или другому служению в Церкви. Но так как многие, хотя и чувствовали в себе внутреннее призвание, но приводимые в страх высотой и трудностью долга, к которому призываемы были, хотели уклониться от него; то нередко Бог употреблял и непосредственное внешнее призвание к служению Себе. Хотя ныне тот и другой род призвания прекратился, тем не менее само призвание к законному служению в Церкви остаётся необходимым. На эту необходимость, как мы уже видели, указывает поря-
—520—
док целого мира, где всё призывается Промыслом к своему месту и к своей частной цели бытия. Но кроме того в необходимости такого постоянного призывания убеждают нас и другие причины. Укажем здесь на важнейшие из них.
Так как служение священства есть служение, основанное единственно на Откровенном учении, то и закон, на основании которого желающий мог бы принять на себя св. служение, должен быть совершенно согласен с Откровенным учением. Что же в отношении к преемству св. звания узаконил Бог в Св. Писании? Здесь ясными словами начертан в этом отношении один непреложный закон, именно, что „никтоже сам о себе приемлет честь священства, но токмо званный от Бога, якоже и Аарон“. Когда сказано – „токмо званный от Бога“, этим ясно показывается необходимость на все времена призвания свыше, под условием которого только и можно получить священный сан; а когда присовокуплено – „якоже и Аарон“, этим определительно внушается, что призвание к священному сану должно быть не мечтательное и только мнимое, а законное, основанное на ясных признаках особенного произволения Божественного. История священства, сохранённая Св. Писанием, хорошо показывает, как строго соблюдаем был закон призвания к священству. Сословие Левитское было вековым свидетельством важности этого закона, а действия и установления Пастыреначальника Иисуса показали, что важность его непреложна. Много было у Него учеников и последователей, но из среды их Он Сам избрал не более 70-ти, облёкши их званием апостольства. А чтобы в самом начале христианского священства отклонить всякое вмешательство самомнения и самочиния, Он прямо сказал новоизбранным апостолам, что не они Его избрали, но Он их избрал. Первые пастыри Церкви, в пример последующим, всегда сознавали и открыто исповедовали своё призвание свыше, подобно Ап. Павлу, который в многих местах своих посланий свидетельствует, что он по воле и по призванию Божию получил честь апостольства. Желая оградить и предохранить от нарушения этот порядок, Спаситель угрожает именем и бесчестием татя и разбойника тому, кто самозванно, а не за-
—521—
конной дверью, входит во двор овчий с значением пастыря, и в себе самом устроил эту твёрдую и несокрушимую дверь, которой „аще кто внидет“, тот только „спасется, и внидет и изыдет и пажить обрящет“. – Далее призвания свыше требует самая важность служения пастырского. Если Промыслительное попечение, всё устрояющее в видимом мире, и осязательно действующее перед нашими очами, не позволяет сомневаться, что самая малая вещь в составе вселенной призывается свыше к своему месту и значению; то странно было бы думать, чтобы Бог хотя на минуту отдалил свою десницу от тех замечательных случаев, которые преимущественно важны для славы Его и спасения людей. Когда дело идёт о том, образовать ли сосуды чести или оставить сосуды бесчестия; даровать ли слепым вождей или подчинить их водительству слепоты; утвердить ли для слабых подпоры или лишить их лучшего подкрепления; дать ли невеждам наставников истины или учителей лжи; послать ли грешникам истинных отцов или осудить их на душепагубное сиротство; постановить ли вообще для всех христиан добрых пастырей или покорить их властительству жестоких приставников, – когда представим мы всё это, невольно мысль наша обращается к Промыслу, который один всё может к общему благу устроить, „да изберёт Сам Господь, как древле для народа своего, человека над сонмом рабов своих, иже изыдет пред лицом их, и да не будет сонм Господень, якоже овцы не имуще пастыря“. Пастырь должен беседовать с паствой от лица Божия: но кто кроме посланного Богом, имеет право глаголать Божие глаголы? Пастырь должен умолять Отца щедрот о помиловании его народа, „должен, по апостолу, якоже о людех, такожде и о себе приносити за грехи“. Но будут ли его молитвы и ходатайство за других действительны, если они неприятны Тому, Кому возносятся? А может ли Бог с благоволением приять приносимое от того, на кого Сам Он не возлагал права приближаться к престолу благодати и обязанности ходатайствовать за других? Но кроме того, что обязанности священные весьма важны и требуют посему особенного посольства от своих исполнителей, они чрезвычайно трудны, – и с этой стороны также предполагают особенную посто-
—522—
роннюю помощь. Как же может ласкать себя надеждой на получение даров священства тот, кто приступает к священству, не получив на то призвания от Бога, который соразмеряет дарования с тем состоянием, какое каждому указывает избирать? Бог оказывает свою помощь только тому, кого Сам призывает на многотрудное поприще служения Пастырского: Его выбор некоторым образом уже ручается за Его помощь. Но какое право на такую помощь могут иметь те, которых Он не призывал, которые не дверью входят во двор Его, но вторгаются туда против Его воли. Ужели можно и не богохульно желать, чтобы милость Божия была наградой за своеволие и самозванство? – Наконец, в необходимости Божественного призывания к свящ. сану уверяет нас и злосчастная судьба тех, которые святотатственно присваивают себе право священного служения. „Не сих избра Бог, говорит пророк, ни пути хитростнаго даде им, и погибоша, занеже не имеша мудрости, погибоша за безсоветие“. Несчастны те люди, которые присваивают себе церковные должности, не приявши на то никакого права, которые „рекли сами себе: да наследим себе святилище Божие“. Они забывают, что Сам Бог сказал: „от святых моих убойтеся; Аз есмь Господь“. Слова сии относились к святилищу, которое имело только прообразовательное значение, – и однако же они сопровождались страшными наказаниями за своевольное прикосновение к святыне. Гибель Надава и Авиуда, смерть Озы, проказа Озии суть печальные памятники гнева Божия за самозванное служение В.-Заветному святилищу. А что значат все эти вины в сравнении с виной похитителей священной власти в Церкви Христовой? Какой же казни должны ожидать себе самозванные похитители даров Н.-Заветного священства? Не к ним ли преимущественно относятся страшные слова Спасителя: „Всяк сад, его же не насади Отец Мой Небесный, искоренится“.
Но если столько необходимо избрание свыше к свящ. сану, то для чего Бог прекратил своё непосредственное призвание к нему, столь обыкновенное в древние времена, для чего уничтожил и скрыл ясные и чудодейственные дары благодати, бывшие для первых христианских пастырей ясными знамениями небесного призвания? Непосредственное
—523—
призвание много возвышает достоинство пастыря; а особенные дары благодати много бы облегчили многотрудное его служение. Чтобы разъяснить это недоумение, мы должны обратиться к тем временам, когда нередко повторялось непосредственное избрание в свящ. сан, и когда не в меру изливались дарования духовные. Бог тогда избирал непосредственно и посылал особенных чрезвычайных проповедников воли своей, когда производил в Церкви или некоторое преобразование, или хотел сообщить истины, которые дотоле были не известны, но соделались нужны по изменившемуся состоянию членов Церкви. После нарушения человеком завета дел, Сам Бог был для него проповедником завета благодати. При затмении естественного закона и веры после потопа, Бог непосредственно избирает Авраама, назначив его необычайным проповедником воли своей и отцом верующих. Затем, когда церкви нужно было дать новый образ бытия, Бог воздвиг Моисея, „прославив его пред лицом царей, показав ему славу Свою, и давши ему заповеди, еже научити Иакова завету и судьбам Его Израиля“. Далее, соответственно нуждам церкви являлись пророки, как непосредственные посланники Божии, а когда нужды эти прекратились, когда слово пророков пришло в надлежащую полноту и ясность, они более не появлялись. Подобным образом И. Христос избрал новых чрезвычайных посланников, чтобы они возвестили роду человеческому тайну, сокровенную от век и родов. Когда же глас их разнёсся по земле и вера христианская глубоко утвердилась; тогда вместе с званием апостольским прекратилось и непосредственное призывание служителей Слова. Никакого нового обстоятельства, которое бы требовало в Церкви нового чрезвычайного посланничества, мы не можем указать в настоящее время. Ныне Церковь получила совершенное благоустройство. Вера непоколебимо утверждена в главных основаниях и раскрыта в существенных принадлежностях; потому и посланники Божии ныне нужны не для новых чрезвычайных открытий, а для руководства неопытных членов Церкви по пути уже проложенному и определённому. А отсюда как в средствах спасения до ныне господствует дух древнего тожества и единства: так и образ послания руководителей душ ко
—524—
спасению нынешнему времени приличествует не чрезвычайный, а подчинённый условиям естественного и постоянного течения дел в Церкви Христовой. – Что касается до чрезвычайных даров благодатных, то Бог не расточает их без особенных и важных причин. Древняя Церковь изобиловала чудесными явлениями Духа; но на то были свои причины. Все духовные дарования нужны были тогда для засвидетельствования Божественности новой христианской религии. Дар исцелений способствовал к тому, чтобы расположить сердца к принятию кротких влияний благодати; способность говорить на многих языках открывала путь вере христианской во все концы земли; дар истолкования Писаний служил к изъяснению Ветхозаветных предсказаний о И. Христе, и к убеждению не только Иудеев, но и мудрейших язычников. В настоящее время все такие дарования, как внешние средства к расширению благодатного Царства, не имели бы полного приложения. Ныне вера глубоко укоренилась, – и всё должно войти в обыкновенные пределы и естественные. Как существо веры составляет истинное учение и истинно-нравственная деятельность, а не чудеса и знамения; так и в пастырях Церкви ныне требуются не чрезвычайные дарования, а сила ума и чистота сердца. Кроме того, нужно заметить, что и во время чудесных излияний благодати были лжепастыри, от которых предостерегали И. Христос и Апостолы; следовательно, и самые чудесные дарования требуют тонкого различения и не всегда могут быть признаком чистого призвания благодатного. Наоборот, прекращение дарований чудодейственных отнюдь не может служить знамением того, что будто теперь уже уничтожилось призвание свыше к священному сану.
Итак – с одной стороны мы видим, что призвание к священному сану непрерывно продолжается и до наших времён, но с другой уверяемся, что ныне нельзя ожидать тех чудесных призваний, какие часто слышимы были в древней Церкви. Между тем для вступающего в священный сан есть первая и существенная обязанность испытать: законно ли он призывается к нему. „Не бывайте несмысленни, говорит апостол, но разумевайте, что есть воля Божия“. Это главное правило, которое должно иметь в
—525—
виду при всех действиях, преимущественно надлежит памятовать, когда приступаем к важнейшему делу, от которого зависят все другие дела и состояния наши, служению вере и Церкви.
Как легко впасть в погрешность касательно призвания или непризвания к священному сану, это показывают печальные опыты людей, которые или приступают к священству без всяких определённых признаков призывания к нему, или удаляются от него, искусительно ожидая от Господа, чтобы Он явил необычайные признаки призывания. Мы не говорим здесь о тех, которые злонамеренно и святотатственно восхищают честь пастырского служения: их „„кончина – погибель, их слава в студе“. Сколько встречается в православной Церкви таких пастырей, которые, необдуманно приняв на себя служение Церкви, оказываются неверными своему назначению. Такие люди сами иногда сознаются, что они ошиблись в выборе звания, легкомысленно приняв за голос призывания то, что в их жизни имело совсем другое значение или совсем не употребив никакого предварительного испытания и размышления. Следствием такой неосмотрительности бывает не редко и то, что без призвания принимающие на себя сан священный предаются сожалению о прежнем состоянии и решаются на снятие с себя сана. Совсем другого рода люди, которые противятся призванию свыше и, скажем выражением Писания, дерзают возбраняти Богу в раздаянии даров священства. Одни из них оказывают непослушание обыкновенным видам призывания, или малодушно боясь трудностей священного сана, или предпочитают выгоды мирские достоинству его, а другие дерзают даже презирать обыкновенные средства призывания, не доверяя их Богоутверждённой законности. Первые могут встретиться везде; последние составляют из себя отдельные христианские общества, напр. Квакеры. Впрочем, печальные опыты того, как люди, и даже целые общества могут заблуждаться касательно призывания свыше к свящ. сану отнюдь не служат доказательством, что будто уже совсем невозможно предохранить себя от подобных ошибок, а напротив служат побуждением к признанию средств против опасности подобного рода заблуждений. Повелевая
—526—
повиноваться своей воле, Бог дал нам верные средства познавать её. Есть признаки, по которым можно отличить голос истины от голоса лжеучителей; есть также признаки, по которым можно узнать, кого Бог призывает к священному сану или кого отклоняет от него. Все знаки, которыми Бог возвещает избранным к священному сану, исчислить невозможно, потому что они бесконечно разнообразятся по различию внутреннему или внешнему лиц, предназначаемых к этому сану, отчего иногда то самое, в чём для одних слышался голос, призывающий на новое поприще, для других открывает волю Божию, удаляющую их от св. служения. Мы принимаем на себя обязанность указать только главные и более общие признаки избрания свыше в свящ. сан, и разделяем их на внутренние и внешние: первые может извлечь каждый сам из рассмотрения своей жизни и внутреннего состояния; последние открываются из распоряжений церковной власти.
Первым внутренним признаком призвания свыше к свящ. сану можно поставить врождённую наклонность к нему. Не трудно приметить, что во многих достойных пастырях это расположение получено было вместе с рождением и укреплено было обстоятельствами воспитания и внешней жизни. Кому Промысл судил родиться от родителей духовных, кто с млеком матери всосал в себя любовь к духовному сану, для того судьба его рождения и возникшие вследствие этого склонности не служат ли голосом, зовущим его на служение Церкви? или кто был воспитан под сенью алтарей, кто научен был преимущественно тому, что прежде и более, чем всякому другому, нужно пастырю Церкви, кто через это самое, быть может без своего особенного намерения, укрепил в себе расположение к духовному сану; тот не должен ли читать в судьбе своей духовной жизни определение Промысла, указующего ему иго священства? Кто при всём опасении принять на себя этот сан не может заглушить в себе бескорыстного желания понести его; тот должен наконец рассудить, что жажда служить Богу Крепкому и Живому, поскольку она, укрепляясь, пребывает чистой и бескорыстной, никем другим не могла быть вложена и укреплена, как только духом благодати, пророчествующей из-
—527—
бранных. Напротив кто хотя хранит уважение к священному сану, но не чувствует в себе особенного влечения и остаётся холодным к нему; кто хотя почитает необходимым прибегать для своей духовной пользы к исполнителям священных обязанностей, но чтобы понести их самому не находит в себе довольно усердия; кто во внешних обстоятельствах священного звания видит множество неприятных для себя затруднений, а в лишениях, с ним сопряжённых, множество опасных для себя искушений; кто с течением времени чувствует возрастающее охлаждение к священному сану, близкое даже к отвращению от него, тот в этих своих чувствованиях должен усматривать несомненные признаки не призывания Божия к этому сану, а отклонения от него. Дело делается хорошо тогда только, когда мы имеем к нему усердие и любовь. Страшно подумать, чтобы избирающая благодать призвала к св. служению такого человека, который не чувствует никакого расположения к нему, который бы, хотя бы и имел нужные способности, но не имея усердия и искренней привязанности к долгу, не восхотел бы обратить их к исполнению возложенного служения и соделался неверным своему призванию. Если вообще, в нравственной жизни, мы не можем что-нибудь „доброе помышляти от себе, яко от себе, но довольство наше от Бога“; тем более доброе желание священства должно признать внушением Промысла, напротив врождённое нежелание посвятить себя на это служение надобно принимать как повод к удалению от него. А так как нас не редко обманывает наше собственное чувство, и мы сами иногда не можем дать себе отчёта, к чему мы сердечно и твёрдо расположены; то и склонность к свящ. сану тогда только можем принимать за признак призвания свыше, когда твёрдость и чистота этой склонности утверждается строгостью жизни и чистотой намерений, и когда желающий священства сознаёт в себе необходимые для того способности и расположения.
Пастыри Церкви призываются быть блюстителями и служителями храма Божия. Но кто может обитать в жилище Божием и кто вселится во святую гору Божию? Только „неповинен рукама, и чист сердцем“. Так было в храме Иудейском; тоже требование сохранилось и в Церкви хри-
—528—
стианской. В древние времена Церковь отверзала врата святилища своего только для тех, которые приступали к свящ. сану в одежде невинности, приобретённой в купели крещения и ещё незапятнанной новыми важными грехами. Её правила не допускали к свящ. сану людей, имевших нужду в очищении. Первенствующие христиане изумились бы, если б увидели возведённым на высоту пастырского служения такого грешника, который перед тем только проходил степени церковного покаяния. Хотя древняя строгость избирательных правил как бы невольно смягчилась под тяжестью чрезмерного бремени грехов, постепенно умножающихся на земле; но Церковь не изменилась, её дух один и тот же: она и ныне хочет, чтобы к её святилищу приступала только невинность. К этой цели направлено постановление, чтобы приступающие к свящ. сану очистили предварительно грехи свои искренним и полным покаянием и тогда только сподоблялись благодати рукоположения. Если же таково намерение Церкви и Духа благодати, в ней господствующего, что только чистый сердцем может быть избранным сосудом благодати священства, то может ли относить к себе благодатное звание и избрание тот, кто до того поработился страстям, что даже не употребляет и усилий освободиться от их ига. Кто ощущает в себе желание служить Богу, тот должен испытать сердце своё, далеко ли оно от пристрастий земных, любит ли оно приметатися паче в дому Бога своего, неже жити в селениих грешничих. Священник не только должен сам внити, но и других ввести в небесное Царствие. Но раб плоти и её похотей может ли работать другому господину и быть руководителем ко Христу чад благодатной свободы? Искушения неизбежны для всех: но можно ли думать, чтобы благодать избрала того, кто падает и не восстаёт? Далее, приступающий к священству должен испытать, нет ли к исполнению этого желания его преград со стороны мира, свободен ли он от пристрастий к нему? Здесь мы разумеем не только греховные удовольствия, но и все мирские занятия, несовместимые с священством. Чьей душой возобладала наклонность к исключительному занятию какой-либо наукой, искусством или промыслом, хотя и безвредными, но тре-
—529—
бующими постоянного труда; тот лучше сделает, если отклонит от себя служение алтарю. Иначе может произойти, что свет лишится полезного деятеля по части наук, искусств или промысла; а дерзновенный, мечтающий совместить занятия разнородные, по наклонности к прежним своим занятиям, неосторожно может принести им в жертву обязанности новые и важнейшие, добровольно на себя принятые. Но причиной такого нестроения может ли быть Бог порядка, призывающий к свящ. служению? Очевидно, что здесь нет призывания свыше, а обнаруживает себя непостоянство и своеволие. „Никтоже, воин бывая, обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет“: может ли поэтому быть угодным сосудом благодати тот, кто, желая быть не только воином И. Христа, но и вождём воинствующих под Его знаменем, не хочет однако же отрешиться от пристрастий и сует мирских? Может ли относить к себе благодатное призвание тот, кто ещё не научился ратоборствовать за самого себя против врагов истины и спасения, кто ещё не начинал борьбы с самим собой, с своей греховной плотью, с помыслами гордости и самолюбия? Правда, благодать нередко и сосуды греха соделывала орудиями правды; но это только с. теми могло случиться, которые сами были внимательны к первым действиям предваряющей благодати, сами приложили всё старание о своём нравственном изменении. Но услышит ли благодатное призвание тот, кто мало или совсем не обращает внимания на глубину своего нравственного повреждения? И если такой человек приступает к священству, что здесь можно видеть, кроме дерзости и самозванства? „Мне стыдно, говорит св. Григорий Богослов, за тех людей, которые, хотя ничем не лучше прочих (если не хуже), с неумытыми, как говорится, руками, с нечистыми душами берутся за святейшее дело и прежде нежели сделались достойными приступить к священству, врываются в святилище, теснятся и толкаются вокруг святой трапезы, как бы почитая сей сан не образцом добродетели, а средством к пропитанию, не служением, подлежащим ответственности, но начальством, не дающим отчёта. И такие люди, скудные благочестием, едва ли не многочисленнее тех, над кем они на-
—530—
чальствуют“. Из этих слов святителя открывается, как неправы те люди, которые не от чистого сердца приступают к священству, но вместе и то, что нечистые сердцем не могут иметь чистых намерений относительно св. служения, которое так дерзко хотят себе присвоить. Между тем чистота намерений и побуждений есть также один из признаков призвания к священному сану.
Чистое намерение есть необходимое условие для вступления в свящ. сан, но вместе и достоверное знамение, по которому можно узнать, законно ли кто призывается, или незаконно почитает себя призываемым к нему. Но что это за намерение чистое, которое служит ключом, отверзающим врата святилища? Ищущий священства должен искать и желать того же, что имел в виду Сам Пастыреначальник Иисус: тот только есть законный Его служитель, в ком мудрствуется тоже „еже и во Христе Иисусе“. Что же было целью пастырского служения Христова? Слава Божия и спасение душ – вот единственные предметы, которые были целью Его Божественного посланничества и которыми должны воодушевить себя все те, кои хотят преемствовать Ему в части пастырского служения. Всякое другое побуждение здесь есть уже побуждение преступное. Оно будет не только огнём чуждым, но и богопротивным, принесённым к алтарю. Желающему священства тщательнее всего должно исследовать, не таится ли в его сердце жажда чести или корысти. Тот никогда не будет Богоизбранным священнослужителем, кого влечёт к сану не высокая цель служения, а честь, с ним сопряжённая. Честолюбивый искатель священного сана отображает на себе свойство тех отверженных Богом приставников, которые, паче трудов своего служения, возлюбили председания на сонмищах и преждевозлежания на вечерях. Посему желающий священства, по совету Златоуста, прежде всего должен обратить внимание на то, свободна ли его душа от всякой привязанности к подобным почестям. „Должно отовсюду осмотреть, говорит он, сердце своё, не тлеет ли в нём искра честолюбия. Если кто прежде достижения свящ. сана питает в себе это ужасное и лютое чудовище, то и невозможно и выразить, в какую он ввергает себя пещь по достижении. Получив желаемое, често-
—531—
любец возгорается сильнейшим пламенем, и дабы утвердить его за собой, движимый овладевшей им страстью, решается на тысячу зол, хотя бы надлежало ласкательствовать или прибегнуть к другому какому-нибудь унизительному поступку. Что некоторые честолюбцы, сражаясь за сие достоинство, наполнили церковь убийствами и испровергли города, – о чём я умолчу, дабы кто не подумал, что говорю невероятное. Скажу только, что как сребролюбивые дети тяготятся продолжительной страстью своих отцов, так и некоторые из таких честолюбцев, если видят, что священство ещё надолго должно принадлежать другому, поскольку лишать его жизни ещё страшатся, то поспешают лишить сана; все нетерпеливо желают занять его место; каждый ожидает, не падёт ли на него жребий начальства“. В этих словах ясно изображено самозванное и буйное домогательство тех, которые из видов честолюбивых ищут свящ. сана. С другой стороны, есть к несчастью и такие искатели свящ. сана, которые только смотрят на выгоды его, а не на обязанности, желают в нём не блага духовного, которое должны преподавать другим, а благ временных, которые могут на св. поприще стяжать для себя. Но если, по суду здравого разума, много унижает своё призвание учёный или художник, как скоро целью своих занятий поставляет не науку или искусство, а только прибыль, какую можно извлечь из них; то, по суду правды Божественной, будет ли свышезванным пастырем тот, кто хотя и удержался от святокупства, но приступил к священству единственно только алкая богатства. Пусть Промысл допустит недостойного к свящ. сану: но все действия его настолько унижены корыстолюбием, что будут уже не законным служением, а скорее идолослужением; потому что, по апостолу, само корыстолюбие есть идолослужение. Кроме того, Бог нередко наказывает людей через удовлетворение незаконных их желаний. Потому, если Он допускает к священству тех, кои видят в нём предмет корысти, то допускает на пагубу их самих.
Впрочем, только чистоты намерений ещё недостаточно для того, чтобы удостоиться призвания свыше к свящ. сану, и самое благочестие не всех ведёт к нему, ибо
—532—
много было благочестивых и святых, но не все они были призваны к священству. Нужна особенная способность к понесению пастырского ига, чтобы быть избранным к подъятию его. Таланты от Бога: а Бог раздаёт их в различной мере, по предначертанию своей мудрости: „кийждо своё дарование имать от Бога, ов убо сице, ов же сице“. Отсюда, по различию способностей, различны и служения, – и Верховная Премудрость расположила их так, чтобы привести всё во взаимное согласие и единство. Она украшает силой красноречия тех, кого хочет поставить на свещнице, чтобы возвещали истины спасения сильным земли. Она подаёт меньшую силу увлекательности в слове тем, кого назначает к безыскусственному научению людей простых и младенцев по вере. Она укрепляет благоразумием и проницательностью тех, кому особенно поручает суд, чтобы вязать и решить совести. Она озаряет обширным просвещением ум тех, которых воздвигает на защиту догматов и правил веры. Она сообщает дух мудрости и предусмотрительности тем, кому поручает управление обширными и многолюдными частями паствы Христовой. Но кроме этих частных талантов, свойственных различным видам служения пастырского, есть другие более общие признаки, по которым каждый может заключать о своей способности или неспособности к прохождению св. служения. Пастыреначальник наш, когда положил призвать Ап. Петра к служению пастырскому, прежде всего хотел открыть, горит ли сердце Апостола нелицемерной и твёрдой любовью к Нему: „Симоне Ионин, любиши ли Мя“? И когда Пётр откровенно и непреложно засвидетельствовал свою любовь к Нему, тогда только посвящён был на служение пастырское этим торжественным воззванием – „паси агнцы Моя“. Посему чьё сердце сухо, кто не возрастил в себе любви к Спасителю, крепкой „яко смерть“, тот должен остерегаться, как бы желанием и исканием священства не оскорбить Пастыреначальника. Напротив, кто, прилежно упражняясь в слове Божием, умел возлюбить ипостасное Божественное Слово; в чью душу проникало Оно, как меч, поедающий нечистоту, и как луч радости и умиления, освещающий и услаждающий в мрачные часы скорби; кто неоднократно восклицал с возлю-
—533—
бившим Господа Петром: „Господи, к кому идем? Глаголы живота вечнаго имаши“; кто читал сказания о подвигах достойных служителей В. и Н. Завета, восторгался желанием идти, для славы Божией, по следам их: тот не погрешит, если эти смиренные и чистые чувствования примет, как таинственные залоги и начатки предваряющей и избирающей благодати, как предвестия своего будущего призвания и назначения. С другой стороны, мера любви к ближним может свидетельствовать о способности или неспособности желающего приступить к священству. „Пастырь добрый душу свою полагает за овцы“. Чем кто дальше от этой решимости, тем дальше от него призывание Божие. Все великие мужи, непосредственно призванные к пастырскому служению, были полны самоотвержения для спасения ближних. „Молил бых ея аз отлучен быти от Христа по братии моей, сродницех моих по плоти“. На эти слова ревнителя о благе ближних Св. Златоуст замечает: „кто может произнести эти слова, если чья душа возвысилась до такого желания, тот достоин обвинений, когда убегает священства. Но кто далёк от сего совершенства, тот заслуживает упрёки, если не убегает, но вступает на поприще“. Правда пример апостольского самоотвержения выходит из круга для всех доступного подражания; тем не менее всякий, желающий священства, должен быть исполнен терпения и готовности перенести для славы Божией и пользы ближних всякую неприятность и тесноту. Св. Златоуст способность к священству измеряет готовностью „перенести оскорбление, наглую обиду, язвительное слово, насмешки от низших намеренные и ненамеренные, напрасные укоризны от начальников и подначальных. Как на поле брани, присовокупляет он, храбрые воины и сражаются неустрашимо, и падают мужественно: так и вступившие на поприще сего служения должны и священствовать, и в случае низвержения нисходить со степени священства с таким расположением духа, какое прилично христианам, зная, что безвинное низвержение не меньший заслуживает венец, как и исправление должности“. Таким образом тот, кто, желая священства, удаляет от себя мысль о трудах и опасностях с ним сопряжённых, тот мало способен к понесению его, и след.
—534—
мало или вовсе недостоин избрания в этот сан. Напротив, кто смотрит на священство, как на опыт служения славе Божией и благу ближних, кто решается на лишения, чтобы пребыть верным служителем Бога Вышнего; тот в этой самой решимости и ревности может открыть себе путь Промысла касательно судьбы своей.
Таковы внутренние признаки призывания свыше к свящ. сану. По ним каждый может узнавать, может ли он быть угодным Богу сосудом, или должен уклоняться от даров священства. Но надобно признаться, что указанные признаки, при всей своей определённости, не всеми и не всегда верно могут быть распознаваемы. Чтобы предохранить себя от гибельного в подобном случае самообольщения, нужно принять три средства: самоиспытание, совет и молитву. Говоря о самоиспытании, мы разумеем здесь не то первоначальное самовнимание, без которого нельзя привести в сознание того, что скользит даже на поверхности нашей души. Когда дело касается призвания к свящ. сану, это минутное и поверхностное обращение на себя ни к чему не приведёт. Здесь нужно самоиспытание полное и не кратковременное. Недостаточно будет спросить себя, склонно ли сердце наше к свящ. сану, нужно с полным и очищенным от пристрастий вниманием исследовать, обладаем ли мы тем, что должно влещи нас на служение алтаря, или против желания нашего, нет ли во внутренней жизни нашей чего такого, что скорее должно удалить нас от него. В особенности должно здесь разоблачить тайную жизнь сердца, чтобы, отклонив все посторонние или второстепенные желания, исследовать качество коренных его влечений, открыть, чем особенно услаждается оно в обстоятельствах пастырского служения. А так как самые застарелые склонности сердца, при новых обстоятельствах жизни, или вовсе иногда изменяются, или ослабевают в своей энергии; то глубокое испытание себя нужно повторить многократно, прежде чем будет сделан первый шаг к служению пастырскому. Испытание единовременное и короткое не может избавлять от опасности смешать наклонность минутную с намерением крепким и прихоть сердца с твёрдой решимостью. Поэтому необходимо снова испытывать себя при всякой внутренней и даже
—535—
внешней более важной перемене в жизни и не скорбеть о том, что такое самоиспытание отдалит на несколько времени решение участи. Лучше поздно прийти к непреложной цели, нежели скорой решительностью подвергнуть себя позднему раскаянию. „В таком деле, как священство, и глубокая старость – не долговременная отсрочка, – говорит св. Григорий Богослов. Ибо седина с благоразумием лучше неопытной юности, рассудительная медлительность – неосмотрительной поспешности, кратковременное царствование – продолжительного мучительства, подобно тому, как малая доля драгоценности предпочтительнее обладания многим, не имеющим цены и прочности, небольшое количество золота многих талантов свинцу, малый свет – великой тьмы. Что касается до поспешности, поползновенности и излишней ревности, опасно чтобы они не уподобились основанию, положенному на песке“. Далее, так как чем продолжительнее будет испытывать себя желающий священства, тем труднее будет для него избежать недоумений и сомнений касательно своего внутреннего состояния, которое по своему непостоянству и разнообразию всегда представляет новые вопросы к решению: то, чтобы избежать односторонности или не впасть в противоречия во взгляде на себя, ищущий священства, не без пользы для себя, может открыть душу свою другому опытному человеку и просить совета касательно своего состояния. Здесь в особенности нужна осторожность в выборе советника. Легко понять, что в столь важном деле, как призвание, не должно советоваться с лицами, которые заражены духом мира. Не следует также доверять советам тех, которые от своего совета ожидают какой-либо выгоды. Это последнее замечание нужно помнить даже и в отношении к родителям, несмотря на то, что они по близости и доброжелательству лучшие советники. Как скоро будет заметно, что в их внушения вкрались виды человеческие, будет неразумно покоряться их советам. Как вообще, по совету Сираха, во всяком деле, так особенно в отношении к священству, лучше всего просить совета у человека, который исполнен страха Господня, облечён духом благодати, и „егоже познаем соблюдающа заповеди Господня“, у человека, у которого благочестие было бы чуждо лицемерия,
—536—
ревность умеряема благоразумием, знание подкрепляемо опытностью. Избрав советника, искатель священства должен поставить себя в такое состояние, чтобы тот мог дать приличный совет. Для этого надобно открыть перед ним всю душу, все наклонности и способности, всё течение жизни, все грехи и пороки, которые допущены по слабости или злонамеренности, даже и добрые дела, которые благодать воспомоществовала совершить, особенные милости, полученные от Бога, искушения и страсти, возмущающие душу. Затем, с уважением и доверенностью надобно слушать советы, какие опытный советник найдёт приличным преподать. – Но как все советы человеческие, даже самые мудрые, всегда ограничены и потому не имеют полной важности, то надобно просить решения всем недоумениям от мудрости Божественной. Как то состояние, для которого каждый рождён, известно только Единому Богу, то, ожидающий решения своей участи, должен прибегнуть к молитве, чтобы Сам Он решил её каким-нибудь из бесчисленных средств, которыми Провидение возвещает суды свои. Искатель священства должен взывать к Нему или с Давидом – „скажи мне Господи путь, в оньже пойду“, или с св. Павлом – „Господи, что мя хощеши творити“. Спаситель, намереваясь избрать апостолов, провёл всю ночь в молитве. Всеведущий, Он не имел нужды в молитвенном озарении, но молитвой своей преподал Он нам урок, чтобы мы посредством молитвы вопрошали Господа о нашем призвании. Ответ на подобную молитву, как и на всякую другую, конечно, зависит от силы самой молитвы и от свойств молитвенника. Бывали примеры, что Бог непосредственно и чудесно изрекал избранным волю свою, но большей частью Он изрекает волю свою естественным и однажды установленным порядком, именно действиями власти церковной. Здесь открываются признаки более ясные и достоверные призвания свыше к свящ. сану.
Промысл Божий, как управляет всей вселенной посредством второстепенных причин, изредка только употребляя чудеса, так действует в Церкви своей посредством особенных начальников, коих ряд начался вместе с началом, и обнаруживает своё непосредственное и чудо-
—537—
действенное влияние, только по поводу особенных нужд Церкви. Через посредство главных пастырей Бог выражает свой голос, призывающий того или другого на служение Церкви. Средство это употреблял Пастыреначальник даже и тогда, когда непосредственно изъявлял избирательную волю свою. Так Павел и Варнава были непосредственно избраны Самим Богом; однако же Дух Святой сказал прочим апостолам, чтобы они отделили избранных на дело, к которому они призваны Богом. Под этим отделением мы можем разуметь особенное действие со стороны апостолов, которое должно было служить свидетельством Божественного призвания. Точно также и Тимофей был призван по пророчествам на нём сбывшимся; но рукоположен был Ап. Павлом. Очевидно, Господь хочет, чтобы воля Его для людей, обложенных плотью, открывалась при посредстве видимых орудий. Поставляя епископа видимым правителем Церкви, Господин винограда возлагает на него обязанность призывать делателей для обрабатывания его, – и выбор епископа становится выбором Божиим. Мы в этом можем увериться, когда обратим внимание на законность и святость средств, употребляемых церковной властью, дабы избрать достойных делателей и извести их на жатву Божию. Одним из главных средств к узнанию воли Божественной о том или другом лице издревле был жребий. Древность избирать по жребию восходит к ранним временам церкви В.-Заветной, где многие великие мужи избраны были таким способом на поприще своего великого служения. Оттуда этот обычай перешёл и в Церковь христианскую, в самом начале которой апостолы, на место Иуды предателя, избрали по жребию Матфия, но так, что это избрание было чисто Божественное действие. Пример этот повторялся и в последующие времена. Избрание по жребию совершалось таким образом. Писали несколько имён на билетах, по числу лиц, имеющихся в виду; лоскутки эти полагали под престол на всё продолжение литургии, по окончании которой брали их оттуда, полагали в сосуд, и рука мальчика вынимала одно имя: это имя указывало на того, кого после всего признавали все угодным Богу и достойным призвания. Святость такого способа избрания не подлежит
—538—
сомнению: ибо нередко он указуем был самим Богом для решения недоумений. Так Бог повелел по жребию избрать Саула на царство, между тем как ещё прежде указал его Самуилу: очевидно, жребием Бог хотел показать, что избрание Саула было делом Промысла, а не произвола человеческого. Как в руце Господней жребий всякого человека, то и избрание по жребию всегда признавалось делом особенного промышления Божественного. Спросят: почему жребий ныне мало употребителен? Причина в том, что, если он без разбору будет употребляем, мог бы открыть путь суеверию и ошибкам. Если бы священство всегда доставалось по жребию, тогда бы все желающие священства более бы стали надеяться на удачу и мало бы заботились о надлежащем приготовлении к сану. С другой стороны, если бы все желающие были допускаемы к жребию, то очень могло бы случиться, что вмешались бы в это дело многие, совсем недостойные участия. Но как необдуманность в действиях часто сама себя наказывает, то и беспорядочное допущение к жребию, легко бы могло оканчиваться тем, что жребий падал бы на недостойных. Таким образом чистое и богоугодное средство могло бы соделаться, при неосторожности и неблагоразумии, ошибочным и богопротивным. Апостолы, избравшие Матфия по жребию, поставили первых диаконов на другом основании. Жребий признаётся необходимым и богоугодным только там, где нет других способов узнать, на ком почило избрание свыше. Какие же здесь могут быть другие способы? Общим, вполне сохранившимся средством к тому, служит испытание избираемых к свящ. должностям в вере и православии. Издревле ищущие священства частью подавали о своей вере открытые свидетельства, частью должны были отвечать на предлагаемые им вопросы. Карфагенский IV собор даже предписал правила для испытания, избираемого к епископству: оно должно было производиться по вопросам, касающимся до символа веры, или служащим к опровержению более известных ересей, или вновь возникающих, или уже распространившихся в Церкви. Испытывали также готовящегося к священству, хорошо ли знает он Закон Божий, способен ли толковать Св. Писание и сведущ ли в церковном законоположении. Нечего
—539—
распространяться, что те же самые виды испытания ищущих священства продолжаются и до ныне. Нравственность избираемых также издревле была предметом тщательных изысканий. Строгость, с какой старались узнавать нравственность их, видна из того, что как скоро пастыри сами не имели средств узнать жизнь ищущих священства, обращались к совету и отзыву мирян. И вот причина, почему издревле все члены Церкви допускаются к выбору новых священнослужителей. Глас народа – глас Божий: посему тот, кто избирается целой паствой, утверждается призванием свыше. Ибо в самом деле трудно усомниться, чтобы тот не был достоин по жизни священного сана, кто одобряется всеми, знающими его жизнь. Способ избрания по голосам столько важен и надёжен, что даже римский император Александр Север, не смотря на то что был язычник, похвалял его и принял для себя в руководство при избрании гражданских чиновников к государственным должностям. Впрочем, хотя одобрение от паствы может служить признаком призвания свыше, но только в совокупности с другими более уважительными признаками. Об этом св. Златоуст рассуждает так: „тот, кто намеревается представить человека, достойного священства, не должен полагаться на одни только отзывы народа, но прежде всего должен удостовериться в способностях. Хотя блаж. Павел и говорит: „подобает ему (епископу или священнику) и свидетельство добро имети от внешних“, но этим он не отвергает нужды в строгом и верном испытании, и не поставляет это свидетельство главнейшим признаком достоинства избираемого. Предварительно сказав о многих других признаках, напоследок присовокупляет и сей, показывая тем, что в избирании не должно ограничиваться сим одним признаком, но руководствоваться им в совокупности с другими. Поскольку мнение толпы часто обманчиво, то нужно прибегнуть к беспристрастному испытанию, чтобы отклонить обман. Посему после всего другого упоминает и о свидетельстве от внешних. Не просто сказал: „подобает ему свидетельство добро имети“; но прибавляет – „и“ – (и свидетельство); с той целью, чтобы показать, что свидетельству внешних должно предшествовать строгое испытание“.
—540—
Вот внутренние и внешние основания, по которым каждый может заключать о своём призвании к свящ. сану. Кто с одной стороны в свидетельстве собственной совести, в размышлении о своей жизни, в советах опытного руководителя; с другой в выборе власти церковной, действующей на основании древнего богоутверждённого законоположения, слышит голос призывающей благодати; тот с смирением, готовностью и доверенностью должен ответствовать на голос призывания словами Исаии: „Се аз, Господи, посла мя“. Но кто воспротивится этому гласу, тот прямо обнаружит дерзость возбранять Богу в раздаянии дара пастырского служения и подвергается опасности навлечь на себя праведный гнев Его. В таком случае и страх трудностей не послужит к оправданию: ибо благодать не одно возлагает бремя, но и подаёт силы к понесению его. Она требует доверенности к себе, и потом всё устроится ко благу. Заключим исследование наше прекрасным рассказом св. Григория Богослова о том, что он чувствовал и как поступил, когда свыше был призываем к пастырскому служению. Он говорит: „Долго боролся я с мыслями, придумывая как поступить и находясь между двумя страхами, из которых один принуждал меня оставаться внизу, а другой – идти вверх. После многих недоумений, перевешиваясь на ту и другую стороны, или подобно струе, гонимой противными ветрами, склоняясь туда и сюда, наконец уступил я сильнейшему: меня победил и увлёк страх сказаться непокорным. И посмотрите, как прямо и верно держусь я сих страхов, не домогаясь начальства не данного и не отвергая данного. Ибо первое означало бы дерзость, последнее непокорность, а то и другое вместе невежество. Я соблюдаю средину между слишком дерзновенными и между слишком боязливыми; я боязливее тех, которые хватаются за всякое начальство, и дерзновеннее тех, которые всякого убегают. Так я разумею дело сие и выражусь ещё яснее: против страха быть начальником подаёт помощь закон благопокорности; потому что Бог вознаграждает веру и делает совершенным начальником того, кто на Него уповает и в Нём полагает все надежды. Но не знаю, какое слово внушит упование в случае непокорности. Ибо опасно, чтобы нам
—541—
о вверяемых нашему попечению не услышать следующее: „Души их от рук ваших взыщу“. Как все отверглись Меня и не захотели быть вождями и начальниками народа моего: так и Я отвергнусь вас и не буду вашим Царём. Как вы не послушали гласа моего, но презрительно обратили ко Мне хребет и не повиновались, так будет и вам: когда призовёте Меня, не презрю на вашу молитву и не услышу её. Да не придёт на вас такой приговор Праведного Судии, которому воспеваем милость, но воспеваем конечно и суд. От таковых размышлений душа моя понемногу уступает и смягчается как железо; в помощники сим размышлениям я беру время и в советники – Божии оправдания. Посему не противлю, не противоглаголю (слова моего Владыки, не к начальствованию призываемого, но яко овча на заколение ведомого) подклоняюсь и смиряюсь под крепкую руку Божию. Я умолкал, но не всегда буду молчать; удалился не на долго, сколько было нужно, чтобы рассмотреть себя и доставить себе утешение в скорби, но теперь готов возносить его в церкви людстей и восхвалять на седалищи старец. Если за первое должно осуждать, то за другое можно извинить“.
Сергий, Митрополит Московский
Арсений, архиеп. Волоколамский. В стране священных воспоминаний1138. (Описание путешествия в Св. Землю, совершенного летом 1900 года Арсением, еп. Волоколамским, Ректором Московской Духовной Академии, в сопровождении некоторых профессоров и студентов) // Богословский вестник 1901. Т. 2. № 7/8. С. 542–592 (3-я пагин.). (Продолжение.)
—542—
18-е июня. Воскресенье. В Архипелаге
Проснулись рано, и снова в Дарданеллах. Солнце хотя и встало, но было окутано тучами, и кругом лежала сероватая мгла. Среди нескольких пароходов, стоявших в Дарданеллах, мы скоро узнали и тот, на котором должны были ехать в Яффу. Это был „Цесаревич“ – пароход довольно большой. Простившись с любезным капитаном парохода и нашим радетелем Н. А. Ивановым, главным агентом Общества пароходства и торговли, которому мы были обязаны многими удобствами во время морского пути, мы на шлюпках переправились на „Цесаревич“ и через некоторое время снова выехали в Архипелаг. На „Цесаревиче“, благодаря тому же Н. А-чу, нам отделили заднюю часть трюма, позволив располагаться на палубе и в рубке 2-го класса. Поэтому пять дней на „Цесаревиче“ мы провели довольно удобно, тем более, что и море всё время было спокойно, небольшая качка служила только развлечением, и чего особенно боялись – „морского томления“, – почти совсем не испытывали.
Наше пребывание на „Цесаревиче“ началось богослужением. По случаю воскресного дня о. Анастасий на верхней палубе
—543—
парохода в присутствии всех пассажиров отслужил молебен.
Несмотря на то, что на пароходе пришлось провести пять полных дней, плавание нимало не наскучило. Чудные красоты Архипелага и Средиземного морей таковы, что ими трудно налюбоваться. Любуясь то тёмно-синим, то бирюзовым, то спокойным, то слегка волнующимся, но всегда величаво-прекрасным морем, постоянно сменяющеюся панорамой островов, обращающих на себя внимание своими причудливыми очертаниями, уходящими в синюю высь своими белоснежными заоблачными вершинами, мы и не замечали, как бежало время, хотя оно и было распределено у нас довольно однообразно. Вставали рано, так как спали большей частью на верхней палубе, а её в 5–6 часов уже начинали мыть матросы по описанному выше способу. Разумеется, спать при таком мытье было невозможно и поневоле поднимались рано. Но раннее вставание вознаграждалось тем, что мы любовались восходом солнца, дающего на море неописуемо-чудную картину, вследствие необыкновенно эффектного сочетания красок и цветов. После чая обыкновенно рассыпались все с путеводителями в руках по громадному пароходу, восхищаясь открывающимися с палубы всё новыми и новыми видами островов, мимо которых мы проезжали. К вечернему чаю приходили к нам наши классные пассажиры: преосвященный Ректор и профессора, и все вместе делились впечатлениями дня.
Сегодня с самого утра долго не сходили с верхней палубы парохода: мы были в водах Греции, там, где совершалась интересная история этого замечательного народа, создавшего чудное поэтическое и беззаботное миросозерцание, напоминающее вечно ясное небо, под которым жил этот великий в древности народ. Налево от нас виднеются места, где стояла древняя Троя, откуда происходил Парис – виновник знаменитой Троянской войны, знаменитой, главным образом, потому, что её воспел слепец Гомер, творением которого наслаждаются люди всех времён и наций. Здесь быстроногий Ахилл, которому помогала богиня Паллада, поразил защитника Трои, шлемо-блещущего Гектора; здесь подвизался хитроумный Одиссей
—544—
и много других героев, друживших с самими богами Олимпа.
От языческих времён наша мысль перенеслась ко временам начала христианства, ко времени двукратного посещения Трои св. Ап. Павлом. В первое своё посещение, как известно, он имел здесь видение, призывавшее его к проповеди в Македонии; во второй раз св. Павел посетил Троаду по возвращении из Македонии и воскресил здесь юношу Евтиха (Деян.20:9).
Направо кругом виднеются гористые и скалистые острова, купающиеся в светло-синих водах Архипелага.
Пассажиры почти все на палубе и любуются морем. Состав их довольно разнообразный. В первом и во втором классах народу немного. Здесь едут: священник Вишняков с сыном, преподавателем Петербургской дух. семинарии, присоединившиеся потом к нашей компании, ещё два священника, несколько учащихся арабов, возвращающихся на каникулы из России на родину, и одна учительница из Трипольской русской школы. В 3-м классе пассажиров больше и состав их гораздо разнообразнее. Лучшие места на носу и на палубе занимают турки, расположившиеся с своими многочисленными сундуками на перинах. Турки обыкновенно не берут билетов первого и второго классов, но за то в третьем классе любят располагаться с комфортом; на массе перин и подушек, занавесившись кругом, с запасом своей провизии, турки и турчанки по целым дням лежат, глубокомысленно созерцая небо, или покуривая кальян. Их хорошенькие ребятишки резвятся тут же. Старшие придерживаются самых примитивных педагогических правил в обращении с детьми и время от времени награждают наиболее расшалившихся шлепками. К русским турки относятся просто и добродушно. Иногда, во время чая, турок бесцеремонно подставляет свой стакан и при этом очень любезно улыбается. Он и сам не прочь иногда оказать какую-нибудь услугу. Раз мы играли на палубе с маленькою девочкой-турчанкой. Матери очевидно понравилось это. Она опустила руку в чашку, из которой ела (ложек, как известно, турки не употребляют), выудила оттуда большую мокрую маслину и с любез-
—545—
ной улыбкой подала, прося мимикой открыть рот. Нечего было делать, – пришлось взять эту несчастную маслину. Кроме турок, отправляющихся в Малоазийские города по торговым делам или в Мекку на поклонение священному камню, на пароходе много арабов в синих, длинных рубахах с расстёгнутой, загорелой грудью, греков, в невозможно широких шароварах, и других восточных людей: болгар, сербов, и т. п. Русских богомольцев не особенно много, так как паломнический сезон, обнимающий время от Рождества до Пасхи, уже кончился. Среди них преобладают женщины, преимущественно монашки, или вернее, т. н. чернички. Места они занимают на пароходе худшие, на грязных нарах в открытых проходах около машины, или в глубине трюма, куда никогда не проникает Божий свет. Часто отравляет существование щельная фауна; даже от нападения крыс не гарантирован простой паломник, путешествующий в 3-м классе пароходов Русского Общества. Трудно себе представить, как проводят десять дней на пароходе паломники в паломнический период, когда с одним рейсом отправляется около тысячи человек, когда беспрерывно идут дожди и приходится испытывать морскую качку, при скудном притом питании сухарями, вывезенными из какой-нибудь Иркутской или Красноярской губернии. Но русские паломники, для которых путешествие во Св. Землю часто является осуществлением мечты всей жизни, спокойно переносят неприятности морского пути и делят время на пароходе между чаепитием и чтением Библии или каких-нибудь назидательных сочинений.
Часов около 4-х наш пароход остановился у острова Митилен (древнего Лесбоса). Остров – большой, гористый, лесистый и весьма красивый; у подошвы его амфитеатром раскинулся небольшой городок того же имени. Едва лишь пароход остановился, как заработала лебёдка: стали выгружать и нагружать груз; пароход осадили приехавшие из города греки с провизией.
Через час снова тронулись в путь. Обыкновенно пароходы кругового рейса от Митилен идут параллельно азиатскому берегу и заходят в один из очень древних и богатых Малоазийских городов – в Смирну. Но теперь
—546—
в Смирне была официально признанная чума и заходящие туда пароходы должны выдерживать карантин; поэтому наш пароход от Митилен повернул направо и прямо отправился к острову Хиосу.
В 8 часов вечера солнце, окрасив пурпуровым цветом небо и море, быстро скрылось за горизонтом, и тёмная ночь повисла над морем. Небо загорелось мириадами необыкновенно ярких звёзд и подул тихий, ласкающий лицо, тёплый ветерок, слегка волновавший потемневшее, бархатное море. Кругом всё словно уснуло: ни звука, ни движения; только монотонный звук пароходного винта, оставлявшего за собой длинный серебристый след, нарушал эту торжественную немую тишину ночи среди моря.
Часов около 11-ти наш пароход остановился для выгрузки товара у острова Хиоса1139. Город того же имени широко раскинулся у подножия горы и смотрел теперь на нас тысячами огней. Не смотря на поздний час, у парохода, едва лишь он остановился, поднялась суета, появились арабы, греки с провизией и разными местными произведениями, особенно навязывая хиосское варенье в длинных узких баночках. Часам к двенадцати пароход вышел из Хиосской бухты, и снова всё успокоилось.
19-е июня. Понедельник. В Средиземном море
После острова Хиоса наш пароход нигде не останавливался до Триполи, куда мы приехали в среду в 12 часов дня. Два дня без остановок мы плыли по морю. Сегодня целый день лавировали между многочисленными островами Архипелага: большими и маленькими, отличающимися друг от друга только величиной, устройством же поверхности они очень напоминают друг друга. Все они гористы, почти совершенно обнажены и мало населены. Только
—547—
около моря приютились по местам небольшие города. В древности, во времена Греции, здесь ключом кипела жизнь; острова эти были населены греческими колонистами; их богатые города вели крупную торговлю; внутри шла борьба партий, борьба за самоуправление с евпатридами и тиранами, граждане вели весёлую, кипучую жизнь, служа музам; искусства процветали. Теперь, жизнь на островах замерла; на них ютятся небольшие малонаселённые городки, живут большей частью греки или европейцы, которых привлекает сюда чудный благорастворённый климат островов.
Однообразие островов наскучивает, и единственным развлечением пассажиров парохода являются дельфины – морские свинки, стадами бегущие впереди парохода, или около него. Смешное ныряние этих животных, тягающихся в быстроте бега с пароходом, обращает на себя внимание пассажиров и немало забавляет их. Часов около 3-х наш пароход проходил мимо о. Родоса, лежащего на Средиземном море, в конце Архипелага, и мы таким образом въезжали в великий водный бассейн, омывающий берега трёх частей света. Остров очень большой: он виден с парохода в продолжение почти трёх часов. В одно время пароход подходит довольно близко к острову, так что можно рассмотреть на нём церкви, мечети, развалины старинных зданий, множество ветряных мельниц, похожих, благодаря своим крыльям, на громадных птиц. За Родосом1140 открылось безбрежное водное пространство, когда мы въехали в Средиземное море. Море по-прежнему оставалось спокойным, и наше плавание не только не было утомительным, но походило на чудную прогулку. Особенно хорошо было на палубе парохода по вечерам, когда ночь бросала кругом свой таинственный покров, небо загоралось мириадами звёзд, а с моря поднимался тёплый ласкающий ветерок. Долго по вечерам пассажиры, как тени, бродили по палубе, прислушиваясь к ночной тишине. К ночи море стало слегка пошаливать. Ожидаем морского
—548—
„томления“, пароход начинает правильно, хотя и не сильно, покачиваться. Большинство переходит спать с палубы в тёмный, сырой, похожий на подвал, трюм, где располагается прямо на полу, на разостланных брезентах, совсем по-паломнически.
20-е июня. Вторник. По Средиземному морю
С самого утра кругом нашего парохода бесконечное водное пространство. Светло-синие воды Средиземного моря по-прежнему подёрнуты лёгкой зыбью; пароход качает довольно сильно. На палубе царит уныние. Пассажиры ходят с угрюмыми вытянутыми лицами. Уныние – верный признак приближающейся морской болезни, морского томления. И действительно, некоторые из пассажиров пострадали. Пострадал один и из наших. Зная, что наиболее надёжное средство от головокружения – результата морской качки, со всеми его неприятными последствиями – горизонтальное положение, многие целый день лежали. Общая столовая опустела. Обедать решались только те, кто ранее не испытывал всех невыразимых прелестей морской болезни и думал, что для полного представления о морском путешествии необходимо пережить и „морское томление“.
К вечеру море успокоилось и качка прекратилась. Пассажиры стали выползать из своих нор и палуба снова оживилась. Налево от парохода показался вдали остров Кипр, с которым соединяется христианское предание о пребывании там в течение некоторого времени Божией Матери у св. Лазаря четверодневного, там епископствовавшего. По языческой же мифологии, у берегов Кипра, из светлой морской пены, по воззрениям древних греков, вышла богиня Киприда. Успокоившееся море было необыкновенно красиво сегодня. Солнце как-то особенно ласково смотрело с высоты неба и ветерок ласкался нежнее. В такой вечер легко было понять, почему греки населяли все берега Средиземного моря чудными, поэтическими призраками своего горячего воображения...
Турки принялись за свою вечернюю трапезу. Намешав в большую деревянную миску маслин, баклажан и ещё
—549—
каких-то плодов, они пьют из неё по очереди, ловят руками плоды, обсасывая пальцы после каждой такой операции. Затем заварили кофе и задымили кальян. Вечеряют и русские крестьяне. Вот старичок, отправившийся в путешествие три месяца тому назад, по обещанию, после болезни, из Иркутской губернии, достал из своей сумы „домашних“ сухарей; зачерпнув воды в ковшик, положил туда сухарей, помолился Богу и, подождав некоторое время, чтобы сухари размякли, принялся их грызть. Окончив свою неприхотливую трапезу, он выплеснул в море остаток воды, снова помолился Богу, тщательно вытер тряпкой свой ковшик и убрал свою суму. Недалеко от него богомолки расположились за чаем, который они пьют, по крайней мере, шестой раз. Они предлагают „дедушке“ чашечку, но он машет рукой: „пейте сами, я и так, слава Богу, сыт. Вам молодым-то и чайком можно побаловаться, а нам старикам куды, грешно“.
Арабы между тем на палубе организовали хор, если так позволительно выразиться. Странные звуки их песни с бесконечными переливами далеко разносятся по спокойному морю. Она так же жива и подвижна, как и сами арабы, и в ней так же часто настроения сменяются одно другим, как и у этих сынов пустынь. Заунывная сначала песня перешла под конец в пляску. Поставив на голову графин с кальяном, чёрный, словно негр, араб, начал плясать, выделывая ногами разные фигуры под размеренное хлопанье в ладоши соседей-арабов. А кругом, – тишина необъятного потемневшего моря, словно сосредоточенно думающего свою вековечную думу, рассекаемого могучей грудью гиганта – парохода и рассыпающегося чудным фосфорическим блеском волн. Долго любовались мы в этот вечер такой волшебной картиной.
21-ое июня. Среда. В Триполи
Первое, что увидели мы, проснувшись сегодня утром, это – Сирийский берег и окаймляющие его Ливанские горы с их сияющими белоснежными вершинами. Он обрисовывался издалека волнистой линией и манил к себе. Наш пароход направлялся прямо к нему, где у Триполи,
—550—
по расписанию, должен простоять 5–6 часов. В виду Триполи мы остановились около полудня. Солнце палило, и утопающий в зелени садов город, далеко раскинувшийся по набережной, казался подёрнутым золотистой дымкой. Едва лишь остановился наш пароход, как на него напали лодочники арабы: одни – с провизией и всевозможными предметами, другие – с предложением свезти на берег. И те и другие, как всегда, необыкновенно назойливы, особенно первые. Сидишь и пишешь, например, на палубе. Вдруг кто-то схватывает тебя за ногу; оглядываешься – пред тобой стоит улыбающийся араб, на ноге уже нет штиблета, а надета жёлтая туфля: так мимически рекомендует он свой товар. Впрочем и вторые бывают иногда хороши. Порядившись с русскими паломниками свезти их на берег и обратно за два-три пиастра (16–24 коп.), они, если до отхода парохода остаётся недолго, или поднимается буря, запрашивают за обратную доставку на пароход с берега, вместо условленного 1–1½ пиастра, один–два меджида (66½–133 коп.), и везут только тогда, когда отдашь вперёд плату, требуемую ими. В таких случаях арабы-лодочники действуют наверняка. Жаловаться консулу – значит пропустить пароход и жить в чужом городе, тратя ежедневно 1–2 меджида, рискуя при этом лишиться вещей, оставшихся на уходящем пароходе. Лучше уж заплатить 1–2 меджида арабам за лодку. Так в подобных случаях большей частью и делают. Некоторые и из наших на обратном пути, заехав в Мерсину, подверглись подобной же участи, вынужденные заплатить по чиреку (40 к.) вместо пиастра (8 к.) в виду парохода, к которому не хотели подъезжать арабы, не получив требуемого, в то время как море волновалось, ежеминутно угрожая опрокинуть нашу утлую лодку. Сегодня наша переправа, впрочем, совершилась без всяких приключений, благодаря ехавшему с нами семинаристу – арабу, сыну местного священника, и брату его, студенту Петербургского университета, выехавшему для встречи своего брата. Эти молодые люди, весьма симпатичные, и организовали переезд наш на берег, отстоящий почти на версту от парохода, который останавливается так далеко в виду подводных прибрежных камней. Высадились мы на набережной предместья
—551—
Триполи – Ел-Мина. Здесь встретил Преосвященного Митрополит Трипольский Григорий с двумя священниками. Встреча была самая сердечная. Благословив и облобызав нас, Владыка пригласил к себе в летнее помещение, находящееся здесь же – в предместье, куда мы и отправились в сопровождении Митрополита. Мы очутились в городе, в настоящем, типичном восточном городе. Правда, архитектура домов, суетня на улицах сильно напоминали Константинополь; но здесь мы впервые увидели кораблей пустыни – верблюдов и чисто тропическую флору. Громадные верблюды с серьёзными, умными мордами расположились поперёк улицы, так что заняли всю дорогу и нам приходилось обходить их. Здесь же, вместе с верблюдами, масса ослов и мулов, на которых обыватели перевозят тяжести, так как на экипажах возить что-нибудь по улицам Малоазийских городов весьма затруднительно. Из флоры обращают здесь особенное внимание кактусы. Их на Востоке так же много, как у нас в России в пустынных местах крапивы. Подобно последней они неприхотливы; растут везде, и часто образуют живую изгородь, словно гигантскими лапами защищая сады обывателей от посягательства на них со стороны соседей. Эти кактусы охраняют, большей частью, лимонные и апельсинные сады, которых здесь множество. Вообще Триполи – город садов, придающих ему красивый вид со стороны моря.
Через четверть часа, при настоящей тропической жаре, мы пришли на дачу Митрополита. Но с понятием об этой даче нужно соединять совершенно иное представление, чем какое обыкновенно у нас существует о дачах вообще, и об архиерейских в частности. Дача Сирийского Митрополита – небольшой каменный домик, с маленьким двором, без сада, с крошечной квадратной гостиной. Вдоль стен расположены самые простые диваны, несколько деревянных стульев, без стола, стены без обоев, потолок с трещинами, – вот и вся обстановка гостиной Трипольского Владыки. Мы, в количестве 15-ти человек, с трудом поместились в этой гостиной, притом некоторым пришлось стоять. Оказалось затем, что до прошлого года тут было постоянное местожительство Митро-
—552—
полита, но он, ревнуя о просвещении детей, пожертвовал это здание для школы, сам же поселился в доме одного своего хорошего знакомого, в самом городе. Теперь же, в виду окончания занятий в помещавшейся здесь школе, она служит летом дачей Митрополита. Но простота обстановки искупалась тем радушием, той любовью, с какой он отнёсся к нам. С каким интересом расспрашивал он нас о путешествии, о России, о Москве, Сергиевой Лавре!.. Владыка очень сочувственно отнёсся к цели нашего путешествия, рассказывал о положении дел в своей епархии, которая оказывается не более некоторых Московских приходов, и выразил желание сопровождать нас при осмотре города. В маршрут осмотра города входило посещение двух православных арабских храмов: св. Георгия и св. Николая, русских школ Палестинского общества для арабских детей и развалин старинной крепости. Но посетить школы, о которых мы много слышали, и организация которых нас очень интересовала, нам не удалось, так как заведующий школами отказался руководить нами под тем предлогом, что ему некогда, – у него – гости (?!)1141.
От Эл-Миины – предместья Триполи, где находится пристань и жилище Митрополита Григория, до самого города несколько вёрст. Преосвященный вместе с профессорами в сопровождении митрополита отправился туда в колясках; мы – на конке, запряжённой чрезвычайно крупными ослами, бегающими со скоростью трамвая. У станции конки, по обычаю, толпа глазеющих, среди которых шмыгают разносчики разных товаров и преимущественно продавцы воды, лимонада и местного кваса, настоянного на каком-то корне и имеющего весьма острый вкус. Все эти напитки хранятся у них в оригинальных восточных сосудах, заткнутых пальцами. Отнимет разносчик палец, и квас фонтаном брызжет в стакан, находящийся у него же за поясом. Дорога от Эл-Мины до Триполи тянется по-
—553—
среди бесконечной цепи садов, апельсинных и лимонных рощ, выглядывающих из-за высоких каменных заборов, или защищённых широкими лапами кактусов.
Едва лишь мы приехали в Триполи, как на нас сделали настоящее нападение... уличные мальчишки. Они целой толпой сопровождали нас всё время, пока мы ходили по городу. Это, большей частью, ученики русского Православного Палестинского Общества; все они говорят по-русски, некоторые даже очень хорошо, и теперь были рады поупражняться в русском разговоре и применить к делу свои познания, которые они старались наперерыв друг перед другом обнаружить перед нами. „Я знаю все большие реки в России, а я – все города“, перебивали они друг друга. В городе мы посетили преосвященного Митрополита в его наёмном помещении. Странным с нашей русской точки зрения показалась семейственность обстановки квартиры и общедоступность Владыки, благодаря чему все без различия пола и возраста скоро наполнили всё довольно обширное помещение его, совершенно не стесняясь и бесцеремонно разглядывая нас. Дети свободно подходили к Преосвященному, дёргали за полы рясы, лепетали по-русски с характерным горловым арабским акцентом, вдруг запевали „Спаси, Господи“, „Боже, Царя Храни“ Такая простота отношений несомненно весьма привлекательна. После обычного восточного угощения, мы во главе с Преосвященными, сопровождаемые массой народа, преимущественно же детей, отправились в кафедральный собор. Это – большой, трёх-престольный храм, светлый и чистый. Престолы и пол мраморные; в одном приделе нет царских врат, а только завеса. Отсутствие росписи в храме, а также очень малое количество икон придают обширному храму характер пустоты. Храм быстро наполнился народом, учащими – преимущественно учительницами – и учащимися из школ Палестинского Общества. Обычная суетливость и подвижность восточных народов не нашла себе ограничения даже в святости места. Вот несколько мальчиков бегут в алтарь, и даже через царские врата, хватают оттуда иконы, кресты, хоругви и выносят их во сретение Преосвященному; другие в разных местах свечи зажигают; там раздаются какие-то восторженные звуки; одна из учитель-
—554—
ниц арабок, типичной красоты, организует из этих восторженных детей хор, который под её управлением спел несколько молитв на славянском языке и гимн „Боже, Царя храни“. В это время Преосвященный с Митрополитом осматривали храм. В алтаре показали Преосвященному роскошное евангелие на славянском языке, и некоторые из присутствовавших здесь арабских священников показывали своё умение читать по-славянски, что видимо доставляло им великое удовольствие. Оставив здесь лепту на нужды храма и благословив всех предстоящих при общем пении „εἰς πολλά...“, Преосвященный Арсений оставил храм. До экипажей сопровождала нас многочисленная толпа народа с возгласами „москов, москов“, с пением детей. Это была картина – библейская, священная! Глядя на неё, поймёшь многие священные события, сопровождавшиеся энтузиазмом народным… Отсюда все направились обратно в Ел-Мина, куда мы приглашены были любезными молодыми Хащабами посетить дом их родителей – священника и матушки.
Это предложение нам сильно улыбалось. Во-первых, после долгого шатания по узким и грязным улицам города под тропической жарой приятно было отдохнуть; во-вторых, – это самое главное, – нам давно уже хотелось заглянуть за таинственное жалюзи и познакомиться с внутренней обстановкой восточного дома, ещё интереснее было познакомиться с домом местного священника; поэтому мы приняли предложение Хащабов с благодарностью и все вместе, в сопровождении митрополита Григория, отправились туда. По лабиринту Трипольских улиц нас вела 8–10 летняя дочь священника, хорошенькая Роза, которой, по-видимому, это доставляло немалое удовольствие и служило для неё даже предметом гордости. Радушие, с какими нас встретило семейство о. Chachabe превзошло наши ожидания. Казалось, что мы попали в патриархальную семью русского захолустного священника-хлебосола, где атмосфера, обычно, такова, что сразу чувствуешь себя, как дома. Чувствовать себя как дома, кроме необыкновенного радушия хозяев, немало располагало и то обстоятельство, что оба сына священника прекрасно говорят по-русски, а жена старшего из них (студента Пет. Универ-
—555—
ситета) – русская. У о. Chachabe нас совершенно запотчивали различными местными блюдами, причём митрополит запросто вместе с нами сидел у священника, по-видимому, нимало не стесняя его, принимал живое участие в общей беседе и разделил с нами трапезу. Местные арабы были чрезвычайно заинтересованы нашим посещением священника и скоро крыши соседних домов наполнились любопытными, которые бесцеремонно разглядывали посетителей батюшки. Калитка садика, где мы расположились, поминутно отворялась, и оттуда просовывались любопытствующие лица, а целая куча арабских детишек, с татуированными, по местному обычаю, ногтями, собралась во двор священника. На наши приветствия „мархаба“ (будьте здоровы) собравшиеся арабы отвечали весёлыми возгласами или подобными же приветствиями. После обеда, чая и кофе мы осмотрели дом священника, устроенный, как и большинство восточных домов. Высокие, узкие и почти пустые комнаты, пол, покрытый коврами, и мягкие длинные подушки вдоль стен для сиденья (турецкие диваны) – вот вся восточная комната, в которую к тому же скупо просачивается свет сквозь решетчатые окна. Крыша – совершенно плоская, как почти у всех восточных домов, приспособленная для собирания в период дождей воды, которая стекает отсюда в цистерны, имеющиеся почти при каждом доме на Востоке. Затем о. Д-ан произнёс многолетие митрополиту и любезным хозяевам. Наше одушевлённое пение, архидиаконский голос произвели чрезвычайный эффект на арабов, присутствовавших тут и на соседних кровлях. Особенно же был доволен сам преосвященный Митрополит, от всей души благодаривший нас за великое удовольствие, доставленное ему; а архидиаконский голос положительно поразил его, – что дало повод к добродушнейшим шуткам… После этого мы посидели несколько времени на дворе, под сенью громадной смоковницы, в приятных разговорах, в которых принимала живое участие старушка-матушка, добрейшая и благодушнейшая женщина. Сам о. Абдула (Феодул), лет за 60-ть, очень степенный старик, с постоянной улыбкой на лице, но молчаливый, ходил всё кругом нас, выражая свои чувства довольства большей или меньшей улыбкой.
—556—
Незаметно промелькнуло время под радушной кровлей гостеприимного хозяина; день уже близился к вечеру; плавно покачивавшийся вдали на морских волнах „Цесаревич“ напоминал своим видом, что нужно торопиться, если мы не хотим остаться надолго в Триполи. Поэтому, распростившись с любезным семейством священника, причём долго повторялись с обеих сторон восклицания: „мархаба“ (будьте здоровы), „пхатрак“ (прощайте), мы поторопились на пристань, где нас уже поджидали лодочники-

арабы. Провожал до пристани Владыка Митрополит, которого мы успели полюбить до глубины души за его простоту и сердечное отношение к нам. Прощание было очень трогательное, и Владыка взял слово с Преосвященного, что он на обратном пути вместе с нами опять посетит его и послужит в соборе, чем доставит великое удовольствие ему и всем православным жителям Триполи. Благополучно добрались мы до парохода, хотя лодка и немало напрыгалась под напором разыгравшихся волн. С парохода долго любовались Триполи, сверкавшим сотнями
—557—
огней, трепетавших в потемневших волнах моря, делясь впечатлениями дня. Личность митроп. Григория занимала центральное место в воспоминаниях дня.
И действительно, митроп. Григорий, насколько мы успели непосредственно узнать его, а также на основании сведений, полученных нами с разных сторон, является одним из видных деятелей православной Церкви1142. Вступивши в управление Трипольской митрополией, молодой, тридцатилетний митрополит со всей энергией посвятил себя делу служения своей пастве. Митрополит Григорий обратил прежде всего своё внимание на умиротворение паствы, среди которой существовал сильный раздор, печально отражавшийся и на управлении церквами и их имениями; многие школы вследствие этого были закрыты. Затем он обратил особенное внимание на борьбу с инославной-католической и протестантской пропагандой, которая действовала с большим успехом в Сирии посредством золота и предоставления совращённым житейских выгод. Самыми лучшими средствами против этого митр. Григорий считал оживление внутренней церковной жизни и просвещение. Поэтому, по вступлении на кафедру, он принялся за восстановление церковных порядков, возобновлял храмы, открывал школы, часто на собственные средства, относясь вместе с тем с большим сочувствием к просветительной деятельности Палестинского Общества. Заботясь о местном национальном клире, митр. Григорий открыл для этой цели бого-
—558—
словское училище при монастыре Пресвятой Богородицы в Белеменде, близ Триполи. К сожалению, недостаток средств препятствует надлежащей постановке дела в школе, из которой должны выходить достойные служители Церкви, для укрепления пасомых в православной вере и ограждения их от совращений. В последнее время она даже закрыта. Дай Бог всякого успеха ревностному Архипастырю! По его собственным словам, ему тяжко бороться против врагов православия, сильных средствами и обещаниями материальных выгод!..
Ночью, в 11-ть часов, снялся пароход с якоря, и мы направились к Бейруту. Море довольно сильно разыгралось; пароход трепало; угрожала опасность качки и её последствий, а потому все поспешили уединиться в каюты.
22-е июня. Четверг. В Бейруте
Ранним утром мы были уже в виду Бейрута. Впрочем, что было только утро, об этом можно было заключить лишь по часам. Солнце, давно уже поднявшееся из-за моря, теперь было уже в зените: палило и красиво переливалось в синевато-зеленоватых волнах спокойного моря. Раскалённый воздух словно дымкой задёргивал от нас красивый город, раскинувшийся амфитеатром, как большинство восточных городов, утопая в зелени садов. В Бейруте пароход остановился недалеко от берега; благодаря тому, что нашу переправу на берег организовал ехавший с нами товарищ, бейрутский араб, Илья Абурус, мы доехали благополучно и удобно, были избавлены от назойливости нахальных и бесцеремонных арабских лодочников.
Сам город произвёл на нас очень благоприятное впечатление. Правда, он вполне выдерживает тип всех восточных городов; в нём те же узкие улицы, те же плоские крыши, те же высокие, ящико-образные дома, те же стройные минареты, как и в других восточных городах; так же много собак, как и везде; так же пестра и шумлива уличная толпа, в которой феска смешалась с монашеским клобуком, чалма с английской шляпой
—559—
и причудливый костюм араба с изящным костюмом европейца; наконец, так же вся жизнь на улице: продают, варят, стригут, меняют, играют и отдыхают. Но Бейрут гораздо чище и Константинополя, и Триполи, что не мало располагает туриста в его пользу. С другой стороны, в Бейруте поражает приятно необыкновенно пышная, роскошная растительность. К нему вполне применимы слова Байрона: „прелестный край – где целый год весна роскошная цветёт.., где океана светлый взор играет тенью синих гор“. Бейрутские кипарисы как будто стройнее и выше других; банановые, гранатовые, апельсинные, лимонные и другие деревья роскошны, цветы олеандра, белой акации, жасмина и т. д. ярче и красивее, чем в других местах, а оригинальные кактусы бесцеремоннее: и в садах, и на морском берегу, и даже посреди улиц, одним словом, куда ни бросишь взгляд – везде видишь широкие лапы кактусов. Бейрут – город, по преимуществу, торговый. Он гораздо больше Иерусалима, Триполи. Поэтому пройтись по его базарной улице довольно интересно, хотя это и не легко сделать, так как буквально приходится проталкиваться среди бесконечного ряда ослов, навьюченных верблюдов, часто загораживающих всю дорогу, и пёстрой, разнообразной толпы, среди которой женщин-арабок с стройным станом и красивыми, тёмными глазами встречается гораздо более, чем в других городах Востока; и ходят они с открытыми лицами, так как большинство местных арабов – христиане. Здесь, в Бейруте, как и в Триполи, нас всюду сопровождала толпа мальчишек, обучающихся в русских школах Палестинского Общества.
Прежде всего мы отправились за благословением к местному митрополиту Гавриилу. Проходили мы мимо прекрасной снаружи церкви во имя Святителя Николая1143,
—560—
теперь украшенной гирляндами цветов. Перед самым же входом в архиерейский двор высились величественные триумфальные ворота. Оказалось, что это готовится Бейрутцами торжественная встреча недавно избранному патриарху-туземцу Мелетию, который прибудет сюда завтра из Дамаска, в первый раз в сане патриарха. Кто знает историю этого избрания и значение его для Сирийской Церкви, тот представит себе, какие торжества уготовлял Бейрут своему Патриарху... Нечего и говорить, как нам желательно было присутствовать на этих торжествах, но это значило бы изменить своему маршруту, которому мы покамест строго следовали; притом же пароход наш после полудня должен был сняться с якоря, а ждать другого пришлось бы несколько дней. Нам пришлось только пройти через эти ворота и мысленно представить те торжества, которые, как нам потом пришлось слышать, действительно представляли нечто из ряда выдающееся.
Войдя в дом митрополита, мы несколько минут поджидали Владыку, который совершенно не был осведомлён о точном времени прибытия Преосвященного в Бейрут. И это было сделано по желанию самого Преосвященного, который в виду намерения Трипольского Митрополита известить Бейрутского о времени нашего прибытия, просил не делать этого, чтобы не доставить беспокойства старому и болезненному Владыке. Скоро пришёл и митр. Гавриил, приветствовавший Преосвященного с чувством искренней радости и благословивший нас. Вместе с этим он попенял на Преосвященного Григория, что тот заблаговременно не уведомил его о времени прибытия таких „дорогих и редких“ гостей и тем лишил его возможности подобающим образом встретить нас. В ответ нашему Преосвященному, принявшему на себя вину этого и объяснившему мотивы своего поступка, Митрополит сказал, что для такого случая и „старость его превратилась бы в мла-
—561—
дость, и болезнь – во здравие“, и что торжественная встреча имела бы большое значение как для православных арабов, которые горячо любят Россию, так – и для инославных, которые имеют большую силу в Бейруте и пользуются всяким случаем к разного рода манифестациям...
После этого Владыка, во время обычного восточного угощения, беседовал с нами о разных предметах, и с особенной любовью переносился в воспоминаниях ко времени пребывания своего в Москве в качестве настоятеля антиохийского патриаршего подворья, в 60-х годах истекающего столетия; с глубокой признательностью вспоминал он о митрополите Московском Филарете, который, по его словам, оказывал ему своё особенное отеческое внимание, часто приглашал в сослужение с собой. „До смерти своей буду молиться о нём, как о своём благодетеле“, с чувством произнёс Митрополит, указав на висевший на стене прекрасный портрет покойного митрополита Филарета. Благодаря хорошему знанию русского языка, разговор шёл очень оживлённо и отличался интересом. По желанию Митрополита, Владыка благословил старших воспитанников „митрополичьего пансиона“, содержимого на средства Митрополита. Прекрасное впечатление произвели эти молодые люди, в духовном одеянии. Пробыв около часа у Митрополита, мы простились с ним, и он ещё раз высказал радость по поводу этой встречи, почти одновременно совпадающей со встречей другого дорогого им гостя, которого, к сожалению, нам не придётся видеть.
Преосвященный митрополит уже преклонных лет (родился в Дамаске, в 1825 году). С 1860–69 гг. он был настоятелем Антиохийского подворья в Москве, а затем избран был на Бейрутскую кафедру, на которой неизменно святительствует до сих пор. Митрополит Гавриил принадлежит к числу выдающихся святителей восточной православной Церкви. Но особенно он известен своими неусыпными заботами о народном образовании и просвещении духовенства и организацией благотворительности. Достойным памятником первого рода трудов его может служить упомянутый нами „митрополичий пансион“ или Бейрутское богословское училище, основанное им в 1883 году, на его собственные средства, с целью приготовления кли-
—562—
риков для антиохийской Церкви. Это детище его всегда было предметом особой любви Владыки, который подробно вникает во все нужды училища и непосредственно следит за ходом учебно-воспитательного дела. Лучших учеников он посылал в Халкинское богословское училище, или в русские учебные заведения. Многие ученики его занимали и занимают ныне высшие иерархические должности в антиохийской патриархии, каковы: блаженнейший Мелетий, нынешний патриарх Антиохийский, Григорий, Триполийский митрополит, известный Герасим Яред, бывший Селевкийский, и др.
В заботах же о религиозно-нравственном просвещении народа он издавал несколько духовных журналов и много назидательных книг на арабском языке.
Что касается филантропической деятельности митрополита, то она выразилась в учреждении в Сирии многих благотворительных братств с самыми разнообразными задачами…
О такой деятельности Бейрутского Владыки повествовал наш товарищ Бейрутец, Илия Абурус, по выходе от митрополита, которому мы пожелали в душе многих лет здравия, в чём он особенно нуждался1144.
От Владыки мы отправились в школу Православного Палестинского Общества, состоящую в заведывании Марии Александровны Черкасовой. Школа находится за городом и поэтому нам пришлось взять коляски, запряжённые прекрасными арабскими лошадьми. По Дамасской улице, мимо собравшихся посмотреть на нашу компанию арабов, мы быстро выехали за город и через несколько минут были около школы – громадного здания, приютившегося в прекрасном саду. Преосвященного встретила у ворот школы сама Мария Александровна с полным штатом учительниц. Дети стройно исполнили „Достойно“ входное. Затем Преосвященный, в сопровождении М. А-ны, учительниц и нас посетил все классы, начиная со старших и кончая младшими, в которых находятся дети чуть ли не с трёх лет. Это нечто в роде детских са-
—563—
дов, где дети с самого малого возраста приучаются к новой обстановке и ограждаются от опасности попасть в школы инославные. Посещение это произвело на нас самое отрадное впечатление. Классы – довольно просторные. Из ответов на вопросы, какие Преосвященным предлагались ученицам разных классов и по разным предметам, можно вывести заключение, что постановка учения в школе правильная и дело ведётся успешно. На пение, как видно, в школе обращается особенное внимание. В некоторых классах, по предложению Преосвященного, правильно спели ученицы свежими, звонкими, несколько резкими, голосами молитвы на славянском языке, арабские песни и свой национальный гимн, а в заключение наш гимн „Боже, царя храни“ при нашем дружном участии, – что вышло очень внушительно. После этого, по просьбе М. А-ны, мы зашли к ней, где нам предложены были фрукты и кофе. В это время М. А-на много поучительного порассказала нам из своей жизни и из жизни своей школы, всецело обязанной ей своим возникновением и процветанием. В Бейруте М. А-на пользуется глубоким уважением. Все называют её не иначе, как „мама“, – это мы сами слыхали. Дай Бог, чтобы эта „мама“ долго-долго жила на радость детям, на пользу и ограждение их от разных совращений. М. А-на представляет собой поучительный пример того, что может сделать на чужбине, никому неведомая, с упованием на Бога, самоотверженная русская женщина. Побольше бы таких деятелей и школ, и тогда была бы парализована деятельность инославных школ, которых, особенно католических, в Бейруте очень много, и притом устроены и обеспечены они очень хорошо1145.
Поблагодарив М. А-ну за радушие и удовольствие, полученное от посещения школы, мы простились с нею. Из школы мы отправились в дом нашего спутника и товарища – Бейрутца Абуруса, где совершенно незаметно про-
—564—
вели несколько часов до отправления на пароход, благодаря любезности и чисто русскому, гостеприимству осиротевшего семейства Абурусов, недавно лишившихся своего главы1146. Радость и горе соединились вместе, но радость, кажется, превозмогла...
Вскоре по прибытии нашем сюда, на соседних кровлях, как и в Триполи, стала собираться публика, а некоторые из почётных граждан города явились в дом, чтобы получить благословение русского Владыки и засвидетельствовать уважение к русским. Во дворе собралась целая толпа молодых арабских девушек. Во время обеда, состоявшего из многочисленнейших разнообразных блюд арабской кухни, устроились буквально арабско-русские манифестации. Собравшиеся арабы кричали: „да здравствуют русские“ и пили за наше здоровье. Благодаря несдержанной, порывисто-страстной натуре арабов, симпатии их выражались энергично и порывисто. Особенно в этом отношении был интересен один высокий сухощавый араб, который поминутно говорил: „после Бога, всего больше люблю русских“, пил за здоровье московских гостей, то и дело целуясь с нами. В конце обеда пришёл сюда преосв. митрополит Гавриил, чтобы отдать визит нашему Преосвященному. Тут мы ещё раз увидели ту простоту отношений, какая существует на Востоке между Архипастырями и пасомыми. После обеда мы тут ещё оставались несколько времени и провели его в беседе с арабской молодёжью, преимущественно женского пола. Арабские девушки нимало не застенчивы; некоторые из них говорят по-французски, другие по-русски, как результат деятельности Православного Палестинского Общества. Многие арабские девушки мечтают, попасть когда-нибудь в Россию, о культуре которой у них образовались преувеличенные и несколько превратные представления. Время так быстро и незаметно пролетело под гостеприимным небом Бейрута, что мы едва не прозевали наш пароход и отправились на него лишь
—565—
после того, как он напомнил о себе несколькими свистками. Прощание с гостеприимным семейством Абуруса было трогательно и торжественно. О. Д-ан произнёс нашим гостеприимным хозяевам и присутствовавшему здесь митрополиту Гавриилу многолетие, после которого мы громогласно пропели: многая лета и русский гимн. Затем простились с хозяевами, взявшими у нас обещание заехать на обратном пути, пожелав им всех благ. На пароход мы опоздали ровно на полчаса, но последний ещё не ушёл, – он поджидал нас, и лишь только мы приехали, капитан отдал распоряжение поднимать якорь. Теперь нам оставалось проехать 10 часов до гавани Святой Земли – Яффы. Десятичасовой переезд до Яффы мы совершили в одну ночь; море снова шалило и наш пароход с несвойственным его солидности легкомыслием прыгал на разыгравшихся волнах, как маленький ребёнок. Но от качки пассажиры на этот раз пострадали, кажется, немного.
23-е июня. Пятница. В Яффе. Приезд в Иерусалим
Засиявшее в пятницу утром солнце осветило перед нами скучившуюся на морском берегу библейскую Яффу – знаменитую тысячелетнюю гавань Св. Земли. Пассажиры толпились на верхней палубе парохода, торопясь взглянуть на ворота св. города. Царственно величаво смотрела с берега на нас патриархальная Яффа, с своими белыми нагромождёнными друг на друга домами и стройными минаретами своих мечетей, утопая в зелени роскошной, тропической флоры. У её ног весело плескалось море, высоко вздымавшее гребни своих волн, которые, шумя и пенясь, разбивались о гряду тянувшихся параллельно берегу морских камней. Эта гряда камней, о которую в сильное волнение может разбиться пароход, делает Яффскую гавань крайне неудобной, и заставляет пароходы останавливаться в почтительном расстоянии от берега, а пассажиров перетерпеть немало страхов. Дело в том, что бьющиеся постоянно о груду морских камней волны при самом слабом ветерке производят такое сильное волнение около Яффы, так заставляют танцевать около парохода лодку, что спуститься на
—566—
неё по трапу бывает довольно трудно, и матросы парохода передают пассажиров из рук в руки прямо лодочникам арабам. Это и даёт повод к циркулирующим в народе преувеличенным рассказам о Яффских „страстях“. Впрочем, эти страсти иногда бывают так велики, что пароход не останавливается в Яффской гавани и сдаёт своих пассажиров в Кайфе или в Александрии.

Г. Марков так поэтически живописует Яффский берег: „Предательские подводные камни, чёрные от сырости, обросшие как бородой лохматой зеленью, чуть-чуть спрятавшие свои плоские черепа под уровень вод, плещутся целыми сплошными рифами вдоль скалистого берега, отрезая его от простора моря, точно приточившиеся червивые зубы дряхлого подводного чудовища, что глотает уже какой век утлые посудины дерзкого человечества“1147. Нам погода теперь вполне благоприятствовала. Море было теперь спокойно, его ясно-зеркальная поверхность как то особенно жизнерадостно серебрилась под горячими лучами солнца и необыкновенно задушевно улыбалась на встречу загоравшемуся дню. Едва лишь пароход наш

—567—
остановился в виду Яффы, как его, по обыкновению, осадили лодочники. Но теперь на них мало обращали внимания пассажиры. У большинства богомольцев были билеты, дававшие им право переезда на лодке Палестинского Общества с парохода на берег и обратно. Такие билеты паломники приобрели ещё в Одессе по рублю, и теперь нужно было их предъявить только кавасу консульства, явившемуся на пароход, чтобы воспользоваться этой лодкой. Все спешили складывать свои пожитки, а многие, устремив благоговейный взор на город, набожно крестились, благодаря Бога, удостоившего осуществить заветную мечту, быть может, долгой, безрадостной жизни, проведённой под гнетом тяжёлой заботы о куске насущного хлеба, или в борьбе с неправдой людской и торжествующим злом. Вот она страна священных спасительных воспоминаний, где Господь наш Иисус Христос родился, возрос, учил вере и любви, проповедуя о спасении, страдал, воскрес и вознёсся на небо! Влечёт сюда русского человека пламенное желание взглянуть на святые места, освящённые обитанием в них нашего Спасителя, облобызать их, помолиться под тем небом, к которому Он возводил свои очи, облить слезами покаяния то страшное лобное место, где был распят за наши грехи Единородный Сын Божий, припасть грешными устами к Животворящему Гробу, где было положено тело Господа... Стремиться увидеть её, каждого верующего побуждает то же чувство, которое заставило Ап. Фому просить разрешения у Него вложить персты свои в раны Его. И это чувство настолько естественно для слабого человеческого сердца, что Христос, упрекнув Фому в маловерии, удовлетворил его просьбу, и счастливый Апостол радостно воскликнул „Господь мой и Бог мой“! Такое чувство трепетной радости наполняло сердца наши и всех богомольцев при виде берега Св. Земли, и мы в чувстве глубокой благодарности обратились с молитвой к Богу, удостоившему нас увидеть её.
Встретить Преосвященного на пароход явились с берега: начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Головин) с драгоманом миссии Я.Г. Халеби, Уполномоченный русского православного Палестинского Общества в Иерусалиме – Н.Г. Михайлов и
—568—
Иерусалимский вице-консул – Н.И. Стребулаев. Здесь же был и кавас Палестинского Общества – известный, опытный проводник, имя которого встречается почти во всех описаниях путешествий по Востоку – Марко Джурич. После взаимных приветствий, мы отправились на берег. Хотя море в этот день было совершенно спокойно, однако волнение у берега было, по указанным причинам, довольно чувствительное, и лодка то опускалась в глубину морских волн, то поднималась высоко по гребню их. Ловкие лодочники – арабы с привычным искусством лавировали между грядами камней, и лодка наша, наконец, благополучно „перескочила“ через узкий пролив с каменным виднеющимся ложем.
Наконец, мы – в Яффе, в этом типичнейшем восточном городе, с его крайне узкими кривыми улицами, с его уличной жизнью, грязью. Хотя теперешняя Яффа существует всего полтораста лет, но, судя по древним описаниям, она совершенно таже, что была во времена крестоносцев. Как и тогда, теперь всю её грязь и непорядочность скрашивает чудная флора её. Яффа тонет в зелени садов, в которых особенно обращают на себя внимание стройные пальмы, гордо поднимающие свои красивые вершины к далёкому ясно-голубому, безоблачному небу. В Яффе мы оставались недолго. От берега узкой, гористой улицей мы прошли через базар, на котором жизнь кипела ключом, к площади, где сели на нанятые экипажи, и через 20 минут прибыли в находящийся за городом русский странноприимный дом, сооружённый незабвенным начальником русской миссии о. архим. Антонином. Этот приют, к сожалению, по причине своей отдалённости от города, редко посещаемый паломниками, – великолепнейший, быть может, самый очаровательный уголок во всей Палестине. Русская церковь, дом для служащих и помещение для богомольцев приютились под сенью чудного сада, среди которого роскошный бассейн с так скудной в Палестине пресной водой. Этот сад, по соединённым с ним воспоминаниям, называется садом св. Тавифы, той сердобольной вдовы, которую воскресил ап. Пётр (Деян.9:36–43). Этот сад Тавифы с её пещерой – почти единственная достопримечательность Яффы,
—569—
которая вообще бедна достопримечательностями, но за то как и вся Палестина – эта страна священных воспоминаний – будит в душе много воспоминаний о священно-исторических событиях. Яффа – древнейший город в мире. Плиний называет её древнейшей всемирного потопа. Греки приурочивали к ней некоторые из своих мифов. Соломону с Ливана через Яффу доставляли кедры для постройки его знаменитого храма. Из Яффы пророк Иона отплыл в Фарсис, чтобы убежать от лица Господня. Ознаменована Яффа и новозаветными священно-историческими событиями. В Яффе ап. Пётр воскресил Тавифу и имел прообразовательное видение в доме Симона Кожевника, видение, указавшее Апостолу на универсальный характер христианской религии, которая не делает различия между эллином и иудеем и призывает к спасению всех, желающих спастись. Эти воспоминания толпой теснятся в голове на улицах допотопного города, немало пережившего за свою длинную историю. „История Яффы (Иоппии), по справедливому замечанию одного путешественника (Фрея1148), написана кровью. Множество раз она была в осаде, была разрушена, сожжена и каждый раз снова вырастала из пепла“. Её много раз разрушали римляне, крестоносцы, турки, а всего лишь сто лет тому назад, Яффа, взятая, после двухлетней осады, приступом Наполеоном, была разграблена и опустошена его солдатами. В настоящее время Яффа снова довольно большой торговый город, поставляющий во множестве лимоны, апельсины, гранаты, финики и другие фрукты на рынки всего света.
В приюте архимандрита Антонина мы прежде всего прошли в церковь св. Петра с боковым престолом во имя св. Тавифы. Церковь – светлая и просторная, но роспись стен её ещё не окончена. Там совершалась божественная литургия священником – паломником, возвращавшимся из Иерусалима, так как, к сожалению, здесь нет постоянного причта; народу почти никого не было, так как вследствие отдалённости приюта от станции железной дороги паломники редко заглядывают сюда. С большим душевным удовольствием выслушали мы божественную литургию впервые на почве Святой
—570—

Земли, возблагодарив Бога за благополучно совершенный путь, и даже организовали импровизированный хор, в котором приняли участие Преосвященный и профессора. По окончании литургии, по витой железной лестнице поднялись на высокую колокольню, в готическом стиле, с которой открывается бесподобный вид на город и море. Яффа вполне оправдывает своё имя (по-еврейски – красивая). Действительно, трудно себе представить город красивее Яффы, когда на неё смотришь с высоты колокольни церкви св. Петра. Скучившийся, словно для защиты от частых нападений, своими высокими домами и стройными минаретами мечетей, город опоясан с одной стороны изумрудной лентой моря, с другой – тёмно-зелёной бархатной цепью бесчисленных садов, которые придают необыкновенную красоту окрестностям города. Сады, большей частью небольшие, разделены канавами для орошения и прямыми дорожками, которые сбегаются к находящемуся в средине каждого сада бассейну или колодцу. Над низкорослыми растениями садов: виноградными, апельсинными, лимон-
—571—
ными деревьями, гордо возвышаются стройные пальмы, стремящиеся своими красивыми вершинами к далёкому небу. А с неба, ясно-синего, безоблачного в таком обилии льются горячие золотые лучи солнца, что, кажется, они пропитали своим зноем сам воздух, напоенный благоуханием садов. Затем о. Архимандрит пригласил нас в своё помещение пить чай, предоставив в наше распоряжение всё здание приюта, обставленного просто, но удобно и даже уютно. За чаем у о. Архимандрита присутствовали и встречавшие нас: Н.Г. Михайлов и вице-консул Н.И. Стребулаев с женой. Кольцом опоясывает приют о. Антонина громадный чудный сад, где растут лимонные, апельсинные, гранатовые деревья, где бананы перемешались с финиковыми пальмами, алоэ с кактусами, олеандры с магнолиями, смоковница с шелковичным деревом и маслинами. В этот сад мы и отправились теперь по приглашению любезного хозяина, наслаждаясь приятной прохладой под тенью гранатовых, персиковых и померанцевых деревьев, ограждавших нас своей богатой листвой от зноя лучей палящего солнца, а через него прошли к пещере, в которой, по преданию, ап. Пётр воскресил Тавифу. Пещера находится недалеко от церкви и представляется сводчатой каменной аркой, устроенной под землёй. Тут на полу заметны следы мозаики; очень может быть, что это – признаки бывшего когда-то здесь храма.
До отхода поезда железной дороги из Яффы в Иерусалим, отправляющегося один раз в день, именно в 4 часа, было ещё достаточно времени. Поэтому, осмотрев пещеру Тавифы, все разбрелись кто куда: кто отдыхать, кто по саду любоваться роскошной флорой. Затем, перед обедом купались в бассейне. Этот бассейн – пруд, в который смотрятся гранатовые и апельсинные деревья, едва ли не лучшее место в саду Антонина. Зеркальная поверхность его искрится под лучами солнца в тех местах, куда листья и ветки окружающих деревьев не бросают своей густой тени. Кругом густо разрослись деревья, так густо, что над широкой лестницей, ведущей из бассейна в беседку, они образовали свод, а саму беседку окружили живою изгородью.
Заведывание приготовлением обеда, которым нас хо-
—572—
тел угостить о. Архимандрит, любезно взяла на себя жена вице-консула Мария Ивановна Стребулаева, блестяще исполнившая свою миссию. Обед, приготовленный ею, мог удовлетворить и более прихотливый вкус, чем наш, неизбалованный во время морского переезда столом пароходной кухни, откуда мы брали, по соглашению с поваром, за дешёвую плату обед и ужин. Обед был сервирован Марией Ивановной в саду под тенью деревьев и сопровождался краткими тостами. Говорили о. Архимандрит и вице-консул, приветствовавшие Владыку и его спутников с благополучным прибытием во Святую Землю и указывавшие на значение этой религиозно-научной поездки для православного Востока. Преосвященный благодарил за приветствия и сердечные благопожелания.
Вскоре после обеда мы отправились на вокзал железной дороги. Снова замелькали мимо нас корабли пустынь – верблюды, навьюченные всевозможными предметами, ослы с их, большей частью, чернокожими погонщиками и множество люда разного рода, пола, возраста и национальностей. Но явно преобладающим элементом здесь являются турки и арабы. Последние, дюжие и стройные, особенно обращают на себя внимание туриста. Из-под небрежно накинутого на плечи синего плаща виднеется их тёмно-бронзовая мускулистая грудь. Толстый жгут кефии (кефия – головной убор бедуина) двойным кольцом обвивается вокруг головы его, поддерживая чёрный, покрывающий голову, платок, мало отличающийся по цвету от лица своего хозяина. А вот, изящно задрапировавшись в синий плащ, с кувшином воды на голове, плавно движется молодая арабка, удивлённо посматривая красивыми глазами на проезжающих. Встречаются и чисто библейские картины, при виде которых вспоминаются те или иные священные события... Проехали мы и мимо восточного базара, где жизнь особенно сильно шумит и бурлит. Страстный, несдержанный темперамент детей Востока заставляет их при разговоре так жестикулировать и кричать, что постороннему наблюдателю так и кажется, что разговаривающие сию минуту вцепятся друг другу в волосы, на самом же деле они мирно беседуют или даже обмениваются любезностями, которые в большой моде у жителей Востока. Благодаря
—573—
темпераменту арабов, восточная толпа на базаре невозможно шумна, тем более, что выкрикивания арабов смешиваются с визгом раздавленных собак, валяющихся всюду по улицам, ржанием коней, криком ослов, побрякиванием стаканами, или звоном колокольчика многочисленных продавцов кваса, лимонада, воды, так как на эти предметы здесь громадный спрос. Солнце, роняющее с высоты ясного безоблачного неба свои знойные лучи, палит немилосердно, усыпляя всю природу и нагоняя лень на людей. И действительно, не смотря на здешний шум и сутолоку, лень полновластно царит тут. Лениво идёт женщина с водоносом, лениво плетётся погонщик за еле переступающим с ноги на ногу ослом; дремлет араб на горбе лениво покачивающегося верблюда, сонными глазами посматривает кругом турок – продавец, лениво тянущий свой кальян, а настоящим олицетворением лени являются валяющиеся повсюду на улице сонные собаки.
Не смотря на только что начинающееся лето, базар полон разнообразными фруктами, среди которых выделяются груды ещё не совсем спелого винограда, молодых арбузов, абрикос, персиков.
Вокзал железной дороги находится на краю города. Он своим устройством более напоминает сарай богатого землевладельца, чем наши железнодорожные вокзалы. Кавас Марко сдал в багаж наши вещи и выправил для нас билеты 2 класса1149 по 4 рубля в оба конца (в один конец билет 2 класса стоит 2 р. 50 к.), а для Преосвященного и профессоров – билеты 1-го класса. Яффская железная дорога устроена французской акционерной компанией недавно; движение по ней открыто 15-го августа, 1892 года. До того времени паломники переправлялись из Яффы в Иерусалим или пешком, или на немецких фургонах с большими неудобствами. Некоторые и из членов нашей компании хотели отправиться в Иерусалим пешком, или на лошадях, но к этому могло располагать только своеобразное материальное представление
—574—
о религиозном подвиге, так как само по себе такое путешествие не могло быть интересным и привлекательным, тем более, что до тех пор, пока железно-дорожный поезд не въезжает в безотрадно-каменистую, наводящую тоску, иудейскую пустыню, он идёт долиной садов (24 версты) параллельно прежней пешеходной дороге, и чудными пейзажами можно любоваться из окон вагона, не испытывая в тоже время нестерпимой жары и не рискуя подвергнуться нападению кочующих бедуинов, не перестающих изредка пошаливать с паломниками до самого последнего времени, как то видно из сообщений Православного Палестинского Общества. Поэтому мы все вместе отправились по железной дороге. Железная дорога от Яффы до Иерусалима, обходя непроходимые горы иудейской пустыни, тянется на протяжении 82-х вёрст и идёт, благодаря гористой местности, более 4-х часов.
Ровно в 4 часа, в 8-м по местному времени, раздался последний свисток и поезд тронулся. „Господи, благослови“, перекрестились пассажиры, разместившиеся на скамейках, расставленных вдоль железнодорожного вагона. Кроме нас тут поместилось несколько богомолок-крестьянок и наш проводник Марко – в своей оригинальной форме каваса Палестинского Общества, ежеминутно отвечавший на наши вопросы относительно тех мест, мимо которых мы проезжали.
Сначала поезд идёт среди целого моря зелени, среди апельсинных и лимонных рощ, среди чудных тропических садов. Далее идут поля богатой некогда Саронской равнины. Хлеба сняты, кое-где виднеется зелёная дурра (просо, вроде кукурузы), которая особенно оттеняется на фоне обнажённых полей и выжженной солнцем растительности. Селенья крайне редки. Они поражают своей бедностью. Это, обычно, несколько ушедших наполовину в землю строений, около которых виднеются маленькие полунагие ребята. На полях около селений большие стада овец, пасущихся под присмотром детей. Тут же попадаются и верблюды, испуганно поднимающие голову при виде проходящего мимо поезда. Первая станция – Лудд, библейская Лидда. Поезд стоит несколько минут против небольшого станционного домика, так как он
—575—
на каждой станции запасается торфом и водой. Марко, как добросовестный гид, спешит напомнить нам, что Лидда – исторический город, в котором ап. Пётр исцелил расслабленного Энея. Здесь же родился св. Великомученик Георгий, во имя которого и возвышается там красивый христианский храм. До следующей железнодорожной станции Рамле, где, по преданию, была родина тайного ученика Иисуса Иосифа, уступившего Ему свою пещеру, путь идёт зеленеющей долиной, на которой пасутся стада и обрисовываются время от времени стройные контуры кипарисов и одиноких пальм; но по мере того, как поезд убегает дальше и дальше от Яффы, окружающие пейзажи делаются всё более и более однообразными, и мрачными. Наконец, спустя часа полтора по выезде из Яффы, поезд входит в пределы Иудейских гор. Разнообразные тона и краски, которыми так богаты виды вблизи Яффы, постепенно исчезают и вся окружность принимает однообразный, суровый, мертвенно-бледный колорит. Зелень почти совсем пропадает; только разбросанные по уступам гор и около дороги, покрытые серебристым налётом пыли, оливковые деревья, да возделанные кое-где небольшие виноградники оживляют несколько эту мёртвую картину Иудейской пустыни, сплошь покрытую камнем. Камней здесь целое море. Камни везде: ими усеяны сверху до низу горы; ими же наполнены все ущелья. И всюду, куда ни кинешь взгляд – горы, или вернее каменистые холмы. Они то сбегаются вместе, загораживая дорогу железнодорожному поезду, то разбегаются в разные стороны, открывая на далёкое пространство волнообразную поверхность, усеянную камнями. Селения и здесь крайне редки, благодаря чему эти горы служили прекрасным приютом для разбойников, в недавнем прошлом нападавших на караваны паломников. И сами горы как будто нарочно приспособлены для того, чтобы скрываться среди них. Сходясь, они образуют труднопроходимые тёмные ущелья, под которыми точно повисли в воздухе громадные скалы, оторвавшиеся от гор. Набегая друг на друга, горы создают неожиданные причудливые комбинации, а разбегаясь в разные стороны, образуют бесконечные извилистые проходы. Вообще пейзажи Иудейских гор величественны и суровы, хотя и
—576—
однообразны. Они настраивают душу на торжественный лад и побуждают к самосозерцанию. Тот, кто видел горы нашей Финляндии и любовался её грандиозными пейзажами, может составить себе некоторое, хотя и слабое, представление о Иудейских горах. Как ни однообразны виды гор, не хочется уходить с площадки вагона, откуда мы ими любуемся. В самом однообразии их есть что-то величественное и привлекательное. Поезд идёт медленно, с трудом взбираясь на горы и осторожно спускаясь с них. Солнце уже повисло над горизонтом, готовясь оставить землю до следующего утра.
Марко нечего рассказывать больше об окружающем, и он говорит об Иерусалиме, около которого сосредоточены все мысли паломников1150. По словам Марко, отвечавшего на наши вопросы, число русских паломников во Святую Землю прогрессивно год от году увеличивается; в последнем году оно доходило уже до десяти тысяч. Русские являются преобладающим элементом среди поклонников Святой Земли. Немцы – редкие и случайные гости в ней; французов в год перебывает не более тысячи; англичане являются, главным образом, в качестве богатых туристов, которые путешествуют почти всегда с большим комфортом: с своей прислугой, с своей кухней, с палатками. Только среди русских паломников преобладающим элементом является простой, небогатый люд – крестьяне. Они путешествуют с исключительно религиозной целью. Сколько разного рода неприятностей и лишений, вследствие незнания чужого языка, недостатка денег и недобросовестного отношения со стороны туземцев, на дороге и в самом Иерусалиме, до недавнего времени выпадало на долю русских паломников из простого народа! Правда, в последнее время Палестинское православное общество дела-
—577—
ет всё для него возможное, чтобы облегчить участь русских богомольцев в Иерусалиме (оно даёт сначала бесплатное помещение и стол всем, в первые две недели по прибытии, а затем – за самую минимальную плату), но и оно не может приютить всех богомольцев, особенно в паломнический период, когда их стекается в святой город до пяти тысяч.
В разговоре с Марко мы и не заметили, как проехали последнюю станцию и как наш поезд, медленно пробираясь среди загораживающих ему дорогу гор, приближался к Иерусалиму. Солнце скрылось уже за горами. Всё указывает на приближение к святому городу. „Горы окрест его“, говорит прор. Давид. Действительно, куда ни кинешь взор, всюду горы, да камни, да одинокие, отягощённые плодами, маслины. Но нам не суждено очевидно было доехать до св. города. Провидению было угодно, чтобы мы вступили в него пешком. За 4 версты до города наш поезд остановился среди гор, где не было никакого признака жилья. Сначала на это не обратили внимания пассажиры, думая, что поезд запасается водой или топливом. Но прошло 10–15 минут, и поезд не двигается с места. По наведённым Марко справкам, оказалось, что испортился паровоз и что дано знать в Иерусалим, чтобы прислали оттуда запасный паровоз. Ждём. Через некоторое время из Иерусалима привозит ответ верховой, что там запасного паровоза нет, он – в Яффе; следовательно, поезд может тронуться вперёд только тогда, когда из Яффы вызовут новый, запасный паровоз, а это может случиться не ранее, как через пять шесть часов.
Поэтому, поручив Марко позаботиться о нашем оставшемся в поезде багаже, мы решили тронуться вперёд пешком. Шествие открывали Преосвященный с о. Архимандритом, за которыми шли мы, а затем длинной вереницей тянулись наши паломники с котомками на плечах. Здесь же виднелись какие-то джентльмены-туристы, настоятельница какого-то католического монастыря и несколько монахов. Картина, которую едва ли когда удавалось видеть окрестным горам! Дороги нет: кругом горы. Поэтому наша процессия двигается по шпалам железнодорожного
—578—
полотна, причём мелкие камушки, которыми усыпано полотно, ежеминутно выскальзывая из-под ног, делают движение вперёд крайне затруднительным. Идя по такой дороге, невольно вспоминаешь благоразумный библейский обычай ходить в сандалиях и обмывать ноги в холодной воде при входе в дом. Между тем ночь опускалась над нашими головами, на тёмно-синем небе показался бледный серп луны, в воздухе посвежело. Мы были в 1–1½ версте от Иерусалима.
По мере того, как мы подвигались вперёд, навстречу нам всё чаще и чаще попадался народ, сначала по одиночке, а около города – целыми толпами. Это были русские паломники, жившие в это время в Иерусалиме, и вышедшие во сретение Преосвященного, так как в городе разнеслись преувеличенные слухи о несчастии на железной дороге с тем поездом, в котором ехал Русский Преосвященный. Тут же на дороге приветствовали Преосвященного депутации от Патриарха и консульства, предложившие ему и нам свои экипажи для следования в город.
При самом везде в город Давидов, мы утешены были встречей с Его Блаженством Дамианом, Патриархом Иерусалимским, который пешком, в сопровождении одного инока, шёл на летнюю дачу свою, в монастырь Симеона Богоприимца. При виде Патриарха, мы слезли с экипажей. Его Блаженство приветствовал Преосвященного с благополучным прибытием во святой град и благословил всех нас, сказав при этом, что он сделал распоряжение, чтобы, не смотря на поздний час, нам открыт был теперь доступ к Гробу для поклонения.
Поблагодарив Его Блаженство и простившись с ним, Преосвященный вместе с нами отправился в экипажах во святой град. К сожалению, тёмный покров ночи, слабо освещаемой бледным тусклым сиянием молодой луны, лишил нас удовольствия полюбоваться общей картиной святого града. Остановились мы у Яффских ворот, где слезли, и пешком, в сопровождении консульских кавасов, торжественно постукивавших своими тяжёлыми булавами по каменной мостовой, отправились к святому Гробу Господню. Через несколько минут были уже под
—579—
тёмными сводами величественного храма Воскресения, полного тишины и благоговения. Приложившись к камню помазания, находящемуся прямо против входных дверей, мы повернули налево, за стену внутреннего храма и, пройдя несколько шагов, вступили в обширную ротонду, посреди которой стоит мраморная кувуклия над священной пещерой Гроба Господня. Вот наконец и то место, где лежал Господь! Слабое перо не может выразить того, какими святыми чувствами преисполнена была душа наша, когда мы поклонялись и лобызали этот Гроб, вместивший невместимого. В сознании такого бессилия своего мы и не пытаемся воспроизвести в слове тот священный трепет и благоговение, которыми в эти минуты проникнуто было всё существо наше. Незабвенны до конца жизни будут эти минуты!..
Из храма Воскресения мы теми же улицами отправились через Яффские ворота на Русские постройки. Здесь, в русском храме в честь св. Троицы, уготована была Преосвященному торжественная встреча всем духовенством миссии и народом – богомольцами, наполнившими обширный храм. При входе в храм, один из иеромонахов миссии (Филарет, бывший инспектор Киевской Семинарии) обратился к Преосвященному с речью, в которой, приветствуя его с благополучным прибытием, между прочим, сказал, что среди православно-русского населения, живущего в Иерусалиме и посещающего церковные службы, давно чувствовался недостаток русского, благолепного архиерейского служения, к которому они так привыкли на родине, а теперь с великой радостью они надеются услышать родное архиерейское служение.
После молебна о благополучном прибытии во св. град, Преосвященный обратился ко всем присутствующим с речью, в которой выразил те святые чувства, которыми преисполнены в эти торжественные минуты душа его и спутников его. Затем, применительно к филологическому производству слова „Иерусалим“ (град мира), Преосвященный говорил, что он всего более желает, чтобы здесь, в городе мира, царили мир, благодать и любовь между всеми представителями христианских вероисповеданий, чего, к великому сожалению, здесь нет. Здесь, в святом
—580—
месте, – поучал Преосвященный, – где сам Господь наш Иисус Христос принёс себя в жертву за грехи мира, принёс на землю мир, провозвестил великое слово братской любви, враг рода человеческого посевает вражду и несогласие, возжглось пламя ненависти между представителями различных христианских вероисповеданий, оскорбляющих своим поведением достоинство той великой святыни, перед которой все без различия племён и национальностей должны благоговеть. И если везде, то особенно здесь, у Гроба великого Примирителя людей с Богом, в союзе любви должны соединиться все сердца, чтобы было одно стадо под верховным водительством единого Пастыря – Христа.
Преподав затем благословение собравшемуся народу, Преосвященный вместе с нами отправился к начальнику миссии о. архимандриту Александру, куда прибыли и все члены миссии. Здесь за чашкой чая, среди радушной братии, мы посидели около часа, а затем около десяти часов мы отправились на новое подворье православного Палестинского общества, находящееся недалеко от здания миссии. Здесь, благодаря любезности секретаря Палестинского общества В.Н. Хитрово, сделавшего своевременные распоряжения, нам были бесплатно предоставлены чистые уютные и прекрасно меблированные помещения и бесплатный стол. Выпив по чашке кофе у любезного хозяина подворья уполномоченного Палестинского Общества Н.Г. Михайлова, которому мы обязаны всеми удобствами во время пребывания в Иерусалиме, мы были приглашены в общую столовую на ужин, после чего разместились в отведённых нам прекрасных номерах.
24 июня. Суббота. Первый день в Иерусалиме: у патриарха; на русских раскопках; на Елеонской горе
Утро первого дня в Иерусалиме было посвящено выработке маршрута для обозрения святынь города и окрест лежащих священных мест. Такой маршрут, всегда вообще полезный во время путешествия, нам был особенно необходим в виду того, что в Иерусалиме мы могли оставаться не более месяца (чтобы к началу учебного года
—581—
вернуться в Россию), считая в том числе две недели для поездки в Назарет; но в такой короткий срок (две недели) трудно было детально осмотреть все достопримечательности вечного города и окрестных мест, а потому приходилось выбирать более важное, оставляя менее заслуживающее внимания. Приспособительно к высказанным нами соображениям, принимая во внимание и время, находившееся в нашем распоряжении, маршрут составил Н. Г. Михайлов, отличный знаток Иерусалима и вообще всей Палестины. Маршрут, как оказалось на деле, составлен был вполне целесообразно, и мы выполнили его с чисто немецкой аккуратностью. Не приводим его, потому что он само собой виден будет из последующего, так как вся жизнь наша до выезда из Палестины совершалась по маршруту.
Согласно выработанному маршруту мы должны были начать первый день пребывания в Иерусалиме с посещения Его Блаженства патриарха Дамиана. Поэтому, зайдя в храм Воскресения, приложившись к святому Гробу Господню, мы отправились в греческую патриархию по своеобразным, с каменными, уступами, улицам святого города, который теперь при дневном освящении мы могли рассматривать во всех подробностях. Трудно передать словами то впечатление, какое производит впервые святой город. Его отчасти может понять тот, кому, после долгих лет странствования по пустыне жизни, случалось вернуться в тот родной город, где протекло его первое детство, где зарождались его первые чистые желания и зрели первые искренние и глубокие мысли. При виде родного города, – пусть за прошедшее время физиономия его и изменилась, к лучшему или худшему, – сердце возвратившегося путника радостно трепещет. Тесной вереницей толпятся в голове воспоминания о минувших безвозвратно золотых днях детства, и эти воспоминания разжигают в сердце горячее пламя любви к родному городу. Те же чувства волновали грудь нашу и на улицах св. города; ходя по ним, переживали и мы лучшую пору нашей жизни, золотые дни счастливого детства, так как никогда не бывает так чиста и глубока наша вера, так близок к нам горний Иерусалим, как в годы невинного детства.
—582—

Дитя живёт в сфере воображения, и потому библейские лица: Моисей, Давид, Иосиф, наконец, Христос для него вполне живые лица, облечённые плотью и кровью; он любит их всей силой своего маленького сердца и живо представляет себе на основании священных рассказов те места, где они жили и действовали. Проза жизни, как утренний мороз, убивающий нежные майские цветы, ослабляет силу непосредственного, детского религиозного чувства... Но вот снова те места, среди которых жило детское воображение; вот те места, где действовали знакомые с детства святые люди и просыпается в груди подавленное жизнью детски-непосредственное религиозное чувство. Пу-
—583—
скай библейского Иерусалима уже нет; пусть тот, который мы видим, мало напоминает библейский, так как предсказание Христа, что от города Давидова не останется камня на камне, как и все Его слова, сбылось с буквальной точностью! Но сердце дрожит и при виде совершенно изменившейся родины; оно живёт воспоминаниями далёкого прошлого. Палестина, – это по истине страна священных воспоминаний. Правда, в ней всё за протёкшие века изменилось, но за то всё напоминает о великих, совершившихся здесь священно-исторических событиях. Сам город переменил место, – он вышел из-за библейских стен и вообще совершенно изменился: там, где была ранее гора Мориа – теперь почти низменность, где был поток Кедронский – теперь сухое каменистое ложе... Но остались библейские названия, будящие в душе священные воспоминания о совершившихся здесь событиях.
Утром первого дня, проведённого нами в Иерусалиме, мы, зайдя в храм Воскресения и приложившись к Гробу Господню, отправились в патриархию в сопровождении о. Начальника миссии арх. Александра и Н.Г. Михайлова1151. Резиденция патриарха находится в греческом монастыре св. Георгия, приютившемся среди массы других зданий, недалеко от Воскресенского храма. Здание патриархии затерялось среди других окружающих его и снаружи мало чем обращает на себя внимание. Но внутри оно поместительно и обставлено роскошно. Широкая лестница ведёт вверх, где через устланную мраморными плитами площадку мы вошли в большой светлый и прекрасно убранный зал с длинным рядом диванов и кресел, обитых яркой шёлковой материей. Между ними расположены небольшие разукрашенные столики. Стены увешаны портретами Государя, Государыни, особ Греческого царствующего дома, большим портретом Султана, Великих князей Сергия и Павла Александровичей и Великой княгини Елизаветы Феодоровны. Сюда вскоре из-за тяжёлой драпировки, отделяющей приёмную от внутренних комнат, вышел „блаженнеший и Святейший Отец и Патриарх св. града
—584—

Иерусалима и всей Палестины, Сирии и Аравии за Иорданом, Каны Галилейской и Св. Сиона“ Дамиан. Он был в чёрной, разрезанной по бокам снизу, рясе и в камилавке с расширяющимся дном. Его Блаженство встретил нас очень приветливо. После того как Его Преосвященство представил нас ему, он всех благословил, со всеми облобызался и усадил всех около себя. Затем нам предложено было обычное восточное угощение. Патриарх Дамиан хорошо говорит по-русски и объясняется без переводчика. Он ещё не старый, бодрый, представительный мужчина, с седоватой бородой, круглым и очень симпатич-
—585—
ным лицом, на котором словно застыла улыбка1152. Он очень интересовался нашим путешествием и желал ему полного успеха в виду его благой цели и исключительности. Его Блаженство высказал даже надежду, что благой пример путешествия к величайшей святыне Востока воспитанников духовной школы не останется без последствий. Он подробно расспрашивал о нашем путешествии до Иерусалима, о предполагаемом распределении времени в Иерусалиме и вообще в Палестине, обещав содействовать успеху нашего путешествия, поскольку он может быть нам полезен; благословил Преосвященного и сопутствующее ему духовенство служить во всех греческих храмах и даже совершить у Гроба Господня и на Голгофе „исключительно русское“ служение, – что очень утешительно и знаменательно, особенно если обратить внимание на недавнее время. Напр., когда патриарх Никодим позволил себе во время богослужения произносить некоторые возгласы по-русски, то греки сильно восстали против него, обвиняя его в измене и предательстве русским (см. Журн. сообщ. Импер. Правосл. Пал. Общества) и до последнего времени неохотно допускали русское духовенство служить в храме Воскресении и вообще в греческих церквах, а допустив, старались оттеснить на задний план своими. По окончании аудиенции, получив напутственное благословение Его Блаженства, мы в сопро-
—586—
вождении о. архимандрита и Н. Гр. Михайлова направились по узкой коридоро-образной улице на русские раскопки, в Русский дом, в котором сохраняется недавно-открытая

арка – новый порог „Судных врат“, через который с крестом шёл на Голгофу Господь наш Иисус Христос, часть лестницы, ведшей в базилику Константина, и остатки древнееврейской стены, за которую (вне черты города) Христос вышел на вольные страдания. Русским домом, таким образом, заканчивается крестный путь Христа, а потому он находится всего в нескольких саженях от храма Гроба Господня. Раскопки эти, имеющие громадное значение для археологии и топографии святого города, произведены по почину Августейшего Председателя Императорского Православного Палестинского Общества Великого Князя Сер-
—587—
гея Александровича бывшим начальником русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином, имя которого с благоговением произносится здешними старожилами и делается священным для паломника, видящего на каждом шагу добрые плоды его неутомимой и многополезной деятельности во благо русской Церкви на православном Востоке. Судные врата открыты Антонином 10 июля 1883 года во время раскопок, на глубине 30 аршин. В настоящее время над площадью, где была открыта интересная находка, сооружён небольшой храм в память в Бозе почившего царя Миротворца Александра III-го. Откопанные остатки древнееврейской стены находятся в фундаменте нижнего этажа храма, который соединяется широкой лестницей с верхним этажом. Здесь же хранятся другие находки Антонина и помещается женское братство, члены которого неусыпно читают псалтирь по усопшем Государе и почивших членах Палестинского общества у самого священного порога, помещённого под стеклянным футляром. В Русском доме мы оставались довольно долго, подробно и обстоятельно рассматривая раскопки Антонина, так как они имеют громадное значение для окончательного решения вопроса (спорного до сих пор для учёных) о подлинности тех священных мест, которые заключает в себе храм Воскресения. Дело в том, что как Голгофа, так и пещера погребения Спасителя открыты лишь в 324 году по Р. Хр. Это обстоятельство даёт повод подозревать подлинность этих священных мест некоторым, преимущественно, протестантским учёным, указывающим пещеру погребения Христа на холме Иеремии, за Дамасскими воротами. Но хотя Голгофа и пещера погребения Христа открыты действительно настолько поздно, что в народной памяти могло затеряться историческое предание о местонахождении их, однако св. Елена открыла их, как известно, по верному признаку, – именно, по тем статуям Юпитера и Венеры, которые поставил над Голгофой и пещерой гроба Господня Император Адриан, изгнавший евреев из Иерусалима и желавший уничтожить саму память о священных для христиан местах, сделав их местами для поклонения язычников. Единственной опорой протестантского определения
—588—
места погребения Спасителя служила ссылка на слова евангелия, свидетельствующие о том, что Спаситель был погребён вне стен города, между тем как теперешнее место храма Воскресения, включающее в себе Гроб Господень и Голгофу, по их мнению, находилось внутри древних городских стен, одна из которых проходила к западу от храма Воскресения. Открытый на востоке от храма Воскресения остаток древнееврейской стены подрывает силу этого доказательства, подтверждая убеждение в том, что Голгофа и Гроб Господень находятся действительно вне стены древнего города, заставляя, таким образом, признать подлинность святынь, заключённых в нынешнем храме Воскресения.
По осмотре Русского дома, заведующая им угостила нас чаем, – что было весьма кстати, в виду почти нестерпимой жары, особенно сильно действовавшей на нас, жителей севера. Жара же побуждала торопиться домой, чтобы укрыться поскорее от палящих лучей знойного палестинского солнца. Если в русском доме действительно находится порог „Судных врат“, через которые Христос шёл за город на крестные страдания, то они являются последней стадией великого крестного пути Спасителя. Этим путём и мы отправились теперь на русские постройки. Крестный путь – путь великий и страшный, в настоящее время – цепь узких, грязных, тёмных и шумных улиц, и переулков Иерусалима. Чего-чего только здесь нет?! Верблюды, ослы, лошади, их погонщики, разносчики всевозможного товара, турки, евреи, арабы, христиане всех национальностей – все столпились на этом пути. Крики погонщиков, ругань арабов, выкрикивания продавцов, рёв ослов – всё слилось здесь в один нестройный гул. Невозможно грязная улица завалена грудами разного товара, где фрукты перемешались с тушами мяса, галантерейные товары с священными реликвиями. Одним словом, крестный путь Христа в современном Иерусалиме – это одна из самых грязных, быть может в целом мире, шумных, торговых улиц. Не указывает ли это символически на то, как последователи Христа в современном христ. мире, взявшие на себя крест Его и обещавшие идти Его путём – путём страданий и унижений, идут
—589—
широкой и шумной дорогой радостей и наслаждений жизни
От Русского дома через Дамасскую улицу мы вошли в узкую улицу-коридор, сквозь арки которой проникают сюда слабые лучи света; серая мраморная колонна обозначает здесь место вторичного падения Христа под тяжестью креста. Далее, среди позднейших построек улицы, занятой грязными, полуоткрытыми лавками, местами проступает остаток древнееврейской стены. Благочестивое предание ознаменовало каждый шаг крестного пути Спасителя священными воспоминаниями. Вот, по преданию, дом евангельского Добрука – сердобольного богача; далее, место, где плакали преданные Христу Иерусалимлянки и где Он, Сам изнемогающий под тяжёлой ношей креста, утешал их; вот место, где встретила божественного Страдальца Его Мать и где сострадательный Симон Киринейский взял на себя Его крест. Наконец, мы доходим до излома улицы, где находится древняя арка, известная под названием: „ессе homo“. Отсюда, по преданию, Пилат показал ожесточённой толпе измождённого Христа, одетого в багряницу и с окровавленным терновым венцом на голове. Далее, узкий коридор улицы широкими ступенями поднимается вверх. Лавки, расположенные на протяжении крестного пути, большей частью устроены без окон и без дверей, а освещаются только с улицы. Они или непосредственно соединены с мастерскими, или сами в то же время являются мастерскими, так что, проходя по улице, имеешь возможность наблюдать деятельность в этих мастерских. С улицы видно, как в одном месте столяры работают над изготовлением восточных диванов и других предметов, преимущественно мелких вещиц из оливкового дерева (верблюды-чернильница, подсвечники, альбомы, трости и т. п.), раскупаемых паломниками на память о Иерусалиме; в другом – сапожники шьют туфли из красной кожи, которые здесь в большом ходу, так как продаются крайне дёшево (50 к. на рус. деньги) и очень практичны для ходьбы по здешним камням, убийственным для обычной европейской обуви; затем видно мастерскую горшечника, выделывающего из глины употребительные здесь кувшины, рядом с мастерской, в которой работают над выделыванием из перламутра крестиков, чёток и тому
—590—
подобных вещей, бойко раскупаемых богомольцами на память. Далее работают хлебопекари, тут же и продающие свои горячие печенья; дымятся жаровни, на которых поджаривается шашлык и шипит, вертясь на вертеле, мясо. Такова жизнь на улицах Иерусалима! И если принять во внимание то обстоятельство, что на Востоке внешние формы и весь уклад жизни отличаются необыкновенной устойчивостью и малоподвижностью, то с полным правом в теперешних формах жизни можно видеть формы жизни, современные библейскому Иерусалиму, современные самому Христу чисто библейские картины. Иерусалим словно замер, подобно забальзамированной египетской статуе, и пронёсшиеся над ним тысячелетия, совершенно изменившие его внешний вид, не коснулись форм внутренней жизни, не изменили обычаев и привычек страны. Даже костюмы не износились за протёкшие тысячелетия. Снующие везде евреи с характерными библейскими лицами одеты в широкие, перехваченные у пояса плащи, на ногах красные сандалии.
За то совершенно другой атмосферой веет, едва лишь только выходишь из-за стен города и приближаешься к новому городу, в котором главное место занимают Русские постройки: здесь чисто, просторно и красиво.
Русские постройки, занявшие большую площадь на северо-западном конце Иерусалима, приютились бесспорно в одном из самых лучших уголков города, на возвышенности, отделённой от остальных частей и господствующей над всем городом. Русские постройки, обнесённые массивными стенами, – это целая русская колония в Иерусалиме, недалеко от Яффских ворот. Вся возвышенность покрыта целым рядом зданий, среди которых возвышается пятиглавый собор византийского стиля в честь св. Троицы. Кругом собора группируется целый ряд двухэтажных корпусов, из которых одни принадлежат миссии, другие – Палестинскому обществу; в первых помещаются служащие в Миссии (о. Архимандрит, 5 иеромонахов и несколько певчих; есть номера и для приезжающего духовенства, которое однако мало здесь останавливается); во вторых – устроены большая больница с помещением для служащих, гостиницы для богомольцев,
—591—
простого народа и интеллигенции. Корпуса устроены массивно, с плоскими, по-восточному, крышами, и окрашены бледно-розовой краской. Они приютились по окраине площади, оставив в средине пустым большое пространство, отчасти занятое прекрасным цветником.
Само подворье Палестинского общества для паломников устроено вполне образцово. Два больших корпуса для мужчин и женщин из простых паломников устроены удобно и содержатся чисто. Новое подворье для интеллигентных паломников устроено не только удобно, но даже с комфортом. Оно выстроено по последнему слову науки со всевозможными приспособлениями, с цистернами, снабжающими водой во время летних месяцев, русскими банями, сушильнями для белья, и. т. п. Кроме того, при нём есть прекрасный общий зал, библиотека…
По возвращении на подворье мы пообедали, и до 4-х часов, когда было предположено отправиться на Елеонскую гору, разошлись по своим номерам, кто отдыхать, кто записывать впечатления последних дней. Но заниматься в Иерусалиме днём чем бы то ни было, непривыкшему к здешнему климату человеку, очень трудно. Нестерпимый дневной зной на улице проникает и сквозь решетчатые жалюзи окон подворья в комнаты, где накаливает воздух, расслабляет, убивает всякую энергию и побуждает забираться под кисейный полог койки, что вскоре большинство и сделало.
В три часа Марко уже стучал в двери наших комнат, торопя пить чай, так как через час назначен выезд на Елеон.
(Продолжение следует).h6C
Вознесенский А. Западные славяне к началу ХХ-го века: словаки, словинцы и славонцы1153: (Письмо в редакцию) // Богословский вестник 1901. Т. 2. № 7/8. С. 592–608 (3-я пагин.). (Окончание.)
—592—
Словинцы
Словинцы – это народность, считающаяся официально, по пристрастной государственной переписи 1891 г., в 1,340,000 душ, а на самом деле насчитывающая 1½ милл. душ, разрозненных в 8 раздельных областях Австрии. Главнейшими из областей с словинским населением состоят следующие: Крайня, Приморье (Градско, Горич, Триест и Истрия), Хорутания и Штирия. Но словинцы целой массой живут также и в северной Италии. Центром словинской жизни служит Крайна с главным городом Люблянь (немцы назыв. Ляйбах).
Словинцы принадлежат Австрии; с Угрией граничат (Крайна) только с юго-востока и юга, и то – с славянскими областями её (Хорватией и Рекой). Но положение их от этого не лучше. При благоприятных обстоятельствах Крайна могла бы объединить свои, кругом лежащие области (на сев.-вост. Истрию, на сев. Горич, Триет и Истрию), но такие обстоятельства представлялись только во время австро-венгерской революции в 1848 году, когда, при миролюбивом настроении своём, словинцы не хотели пользоваться критическим положением Австрии. Ныне культуртрегерской немецкой политикой словинские области поставлены в такие отношения, что кроме общесловинских интересов,
—593—
каждая словинская область имеет ещё свои, отдельные областные интересы – часто совершенно противоположные.
Народная жизнь в Крайне значительно затруднена тем обстоятельством, что у словинского меньшинства населения в соседних с Крайной областях отняты все права и даже право на существование. Краинцы не могут „ни разбежаться, ни размахнуться“ в политической жизни, потому что этим они копали бы и самим себе яму1154. Вековая политика немцев, унаследованная от Рима, к словинцам приложена во всей полноте и с скрупулёзными подробностями, так свойственными немецкой нации. Словинцев в Крайне не более полмиллиона, – след. треть народности, а целые две трети её предоставлены произволу немцев, которые в бесправной и позорной австро-венгерской конституционной системе могут управлять славянским большинством при пристрастном сочувствии правительства к немецкому меньшинству.
В силу своей раздробленности словинцы, естественно, не имеют других отношений к славянским народностям и народам, кроме идеального чувства родства – в особенности к чехам и русским. Им – некогда и думать об этом, потому что и собственная локализованная борьба с культуртрегером – не под силу.
В вероисповедном отношении словинцы принадлежат к католической церкви, и только небольшая часть их в Истрии ещё держится православия и принадлежит далматско-истрийской церковной области. Между тем католическая церковь в каждой словинской области имеет своего „над-бискупа“ с подчинёнными ему „бискупами“, равно как имеет своего „надбискупа с пятью бискупами“ и в Далмации (с резиденцией в Задре).
В отношении культурном вообще, словинцы стоят на замечательно высокой ступени. Это видно уже и из того, что в течение тысячелетней локализованной борьбы с немцами они не пали и ещё в настоящее время немцы не имеют сил ассимилировать их с своей нацией. Особенно замечательны успехи словинцев на литературном поле. „Если оглянемся на прошлое словинцев, говорит коррес-
—594—
пондент Словинского Прегледа1155, начиная с того самого времени, когда словинцы занимали ту землю, в которой ныне живёт 12 тысячное разноплеменное население и будем следить, в порядке столетий до начала 20 века, ту страшную борьбу, какую вели и ведут словинцы в своей народной, политической и хозяйственной жизни, то ужаснёмся, придём в изумление перед тем фактом, что у этих разрозненных остатков словинского народа сохранилось ещё столько духовных сил, чтобы за 38 лет создать столь громадную и ценную литературу, какой по справедливости словинцы могут гордиться. До 1860 г. словинская литература была только подготовительным материалом, а занятие ею было стеснено всевозможными препятствиями враждебной немецкой бюрократии, до самого 48 года не позволявшей словинцам учиться на своём материнском языке“. Но и в настоящее время словинцы испытывают всевозможные стеснения в своей литературной работе.
Не смотря на то, в 1898 году издавалось всех словинских журналов и газет 54 – в том числе: политических 22, педагогических 5, беллетристических 2, наконец, религиозных и специальных 25. Кроме того в этом году было издано 15 „sbornik“-ов и „knižnie“.
Опорой словинской литературы, как и народной жизни, служат два литературные общества: Slovenska Matica и Družba sv. Mohorja.
Словенская Матица имеет до 2.880 членов, из них только 6 почётных (четверо – чехи), 271 – членов основателей, вносящих одновременно 50 зл. и 2603 годичных, с взносом по 2 зл. каждогодно. В 1897 г. Матица издала 7 изданий: Letopis Slovenske Matice, Zgodovina slovenskega slovstva, Samosvoje mesto Trst, Sloveska narodne pesmi, Elektrika, Knezova knjižnica и Zabavna knjižnica (всё это получается за 2 зл.).
Дружба св. Могоря основана в 1853 г. с почина фарара Ондрея Ейншпилера; ныне это общество имеет до 77,130 членов и ежегодно издаёт 6 изданий с содержанием религиозным и забавно-поучительным, за 1 зл. еже-
—595—
годного членского взноса. „Дружба“ имеет свой прекрасный дом в Целёвце и свою типографию.
Тем не менее, словинская народность умирает!
Если взять во внимание целую жизнь всего западного славянства со всей её 1000 летнею борьбой с немецкой нацией и Римом, – борьбой, ведущейся у разных слав. народностей разновидными и оригинальными средствами и способами, то это и составит содержание словинской истории во всей её полноте и подробностях. Словинец воевал и доселе воюет со всеми теми враждебными стихиями, которые в одиночку преследовали тот или другой славянский народ в западной Европе. Поэтому и судьба словинцев та же самая, какая постигла и постигала отдельные славянские народности. И если кто-нибудь пожелал бы посмотреть, как умирает народ, пусть приходит в словинскую Хорутанию: там он увидит это на хоруганских словинцах1156!
С административным разделением словинцев нельзя не считаться; поэтому, для более ясного представления о том, как обстоит народное дело у словинцев, необходимо остановиться на каждой в отдельности словинской области. Мы просмотрим только три области.
1) Крайна1157. Это – чисто словинская область с полумиллионным словинским населением, среди которого живёт ничтожная часть немцев. Тем не менее правительственная сторона, заправляющая ходом областной жизни, – немецкая. Словинец может обратиться в любое правительственное учреждение на своём языке; может получить и резолюцию тоже на нём, – но всё делопроизводство ведётся исключительно на языке немецком. Стоит ли словинец перед судом: его выслушают на своём языке, но внутренним языком судов служит язык немецкий. – Общеобразовательные школы – словинские, но немецкому языку в них учат уже с 3-го класса. Средние же школы всецело-немецкие. Словинской педагогии вовсе нет, так что желающий посвятить себя призванию учителя должен
—596—
поступить в немецкий учительский институт. Но чего можно ожидать от учителей, воспитанных не в народном духе?
Для получения высшего образования словинцы ходят в штырский Градец, или в Вену, где сталкиваются со многими славянскими студентами; но уже с детского возраста им внушено, что немецкому народу и языку принадлежит всё преимущество перед слованским. Духовенство – своё, словинское; но чрезмерно клерикальное и обскурантное. Против всего, что в обыденной народной жизни не является слишком католическим, оно восстаёт и воюет. Даже скромный люблянский театр подвергается преследованиям духовенства в исповедницах и с церковной кафедры. Это обстоятельство стало причиной того факта, что интеллигентная часть словинского населения сочла нужным эмансипироваться от духовенства. В Любляне издаются три политические газеты: Slovenski Narod (народно-консервативная), Slovenec (клерикальная) и Slovanski List (народно-свободомысленная). Есть два книжные магазина: большинство книг немецких. Особенной любовью пользуется там русская литература. К несчастью, там только одни нигилистические книги, издаваемые в Швейцарии и Лондоне. Словинцы чувствуют потребность знакомства с русской жизнью и литературой. Но на встречу этой потребности идут только предатели русского народа, служащие немецкому дрангу, но воспитанные, конечно, в России интернациональной русской школой. Таких предателей не бывает в среде немецкого народа и, конечно, прежде всего благодаря национальному направлению немецкой школы. Ни русские консульства, ни частная предприимчивость не озабочена нуждой дать здравые сведения о русском народе, его культуре и литературе.
2) Штирия1158. Вторая область по численности словинского населения после Крайны есть Штирия. Словинское население обитает преимущественно в южной части области (из 22.450 км2 пространства Штирии словинцы занимают 103 кв. мили; северн. граница словин. населения идёт от Соботы до границ Хорутанских), в гражданском отношении при-
—597—
надлежит к 7 окрестным гетманствам, а в церковном – к 219 католическим фарам.
Штырские словинцы известны своей бодростью духа. Штырец не горд, как „горенец“ (житель гористой Крайны) и не так боязлив, как „доленец“ (житель краинских долин); он приветлив, не боится никакой работы, хотя при всём своём усердии к труду получает очень малый заработок, он также – большой патриот. Штырские словинцы живут в отдельных домах, разбросанных по долинам и холмам. Владетели домов называются „кметы“. Они не обладают зажиточностью, однако имеют свою землю, могут говорить о себе, что живут на своей земле. К несчастью, многие бедняки не сохранили земли и продали её немцам, так что немецких осад по сёлам и деревням не меньше, чем „фарных“ храмов.
Внешняя физиогномия штырца – средний рост, крепкое сложение и приятная наружность. Духовные силы народа ниже в тех местах, где засело больше немцев и сильнее действует онемечение, потому что „отнародование“ вообще развращает и затемняет духовные силы.
Права по наследству у них следующие: землю наследует старший сын, если он способен к хозяйству; остальные члены семейства получают деньги. Только в юго-восточной части Штирии земельные участки наследуют все члены семейства, которые строят на полученной земле новые хаты, но уже очень бедные. Всё же от „отнародования“ эта часть Штирии сохраняется соседством с хорватами. Совершенно иначе дело обстоит в северной части; лишь только утрачена там какая-либо пядь словенской земли, она уже утрачена навеки, так что, действительно, почва ускользает из-под ног словинца. Вследствие недостатка знаний, организации и солидарности у словинцев, а также вследствие отсутствия интеллигенции, враги словинской нации имеют там удобное поле деятельности.
Штырские немцы имеют в своих руках все средства к расширению своего господства: они влияют на слованскую молодёжь в школах; дёшево покупают земельные участки словинцев и занимаются ссудой денег. Беда словинцу, если он кредитуется у немца: участок его непременно перейдёт в немецкие руки. В этом случае немцы,
—598—
как и всегда, действуют сообща и имеют специальные организации с целями отбирать словинские земли и онемечивать словинцев. На железных дорогах, в присутствиях („урядах“) и школах господствует немецкий язык. Селянин не имеет права подписать своё имя по-словински. Даже существует тайное распоряжение правительства переделать фамилии в архивных старинных метрических книгах так, чтобы они высматривали немецкими.
Латинское духовенство не помогает штырским словинцам. В Левантинской епископии напр. во всех храмах совершается богослужение всецело на латинском языке и изгнаны из богослужения все словинские песнопения.
Словом, о настоящем положении словинской Штирии можно сказать, что оно гораздо хуже, чем 30 лет тому назад: прежде у штырских словинцев не было стольких и столь яростных врагов.
Только в самое последнее время штырские словинцы начали пробуждаться. Особенно сильное влияние на их пробуждение оказало посещение чешскими велосипедистами г. Ценьи в августе 1891 г. Тотчас же, вслед за тревогами и хлопотами немецко-правительственной партии по этому случаю, в жизни словинцев обнаружилась реакция в отношениях к немцам. После бурь 10 и 11 августа 1891 г. оказалось, что против чехов и словинцев выступали и наиболее известные немецкие торговые фирмы. Тогда сами словинцы начали создавать свои „дружства“, чтобы избавиться от немецких фирм и дело пошло успешно. Немецкие торговцы скоро почувствовать упадок своих дел, и открыли бой против словинских дружств. Выразителем словинских интересов служит целийский журнал „Домовина“, который со времени даже последнего посещения чехами Цельи в 1899 г. был конфискован 12 раз. Но „Домовина“ уже может теперь поставить своим девизом: „свой к своему!“ Бой с немцами возбуждает в словинцах энергию: они уже имеют теперь другое торговое общество „Меркурий“, народный дом в Мариборе, словинский банк и т. п.
3) Хорутаны1159. Численность словинского населения в
—599—
Хорутании в 1890 году равнялась 360,443 души; оно занимает целую южную часть этой области. Между тем во время народной переписи 1890 года хорутанами была записана только 2/3 словинского населения, остальные 1/3 записаны немцами. В немцы переведены все работники, состоявшие на службе у немцев: поселяне, терроризованные чиновниками; умеющие говорить по-немецки; многие домовладетели из-за опасения, чтобы правительство не увеличило платёжную дань и многие словинцы других категорий.
В политическом отношении хорутанские словинцы консервативны, а в религиозном – усердные католики, вследствие сильного влияния католического духовенства, представляющего собой передовую партию борцов за народность и народные права, – но скорее, только „по-видимому“. Впрочем, есть несколько и протестантов среди хорут. словинцев. Общественно-народная жизнь хорут. словинцев в очень печальном положении: из 63 „окрестных“ общин только в 24 есть представители из словинской народности, а в остальных 49 общинах представительство немецкое, или изменнически-словинское, действующее заодно с немцами против словинцев. Впрочем, и в „окресах“ с словинским представительством общественно-народное дело словинцев немногим лучше: общественно-правительственный язык немецкий; всюду господствует террор немцев; соседство с немцами и „отнародненными“ словинцами ведёт к онемечению словинцев. Это онемечение стоит в связи с политическими превратностями здесь и распространением католичества из сольноградской, баварской и друг. церковных кат. провинций с сплошным, давно онемеченным народонаселением.
Чтобы понять настоящее положение хорутанских словинцев, необходимо представить вкратце их историю.
Со времён нападений на Хорутанию баваров, а потом (во времена Карла Великого) и немцев, немецкие рыцари разделили между собой всю эту область и завели в ней немецкое право. Хорутане очутились в рабстве у немецких рыцарей: платили им дани и работали на них, получая возмездие, сообразное с „кулачным правом“. Рыцари строили словинскими руками замки на скалах хорутанских, приглашали для своей защиты и войны с
—600—
словинцами чужестранных жольднеров и немецких всадников, строя для них осады (города и посады) и снабжая их привилегиями. Осадники приводили с собой и немецких ремесленников. Этим и началось онемечение Хорутан. Конечно, словинцы не могли любить своих поработителей и грабителей своей земли и прав. История знает целый ряд споров и восстаний туземцев.
Параллельно с этим рыцарским напором хорутанских словинцев теснило и католическое немецкое духовенство, всегда действовавшее по немецкой национальной программе. Места приходских священников занимали чужестранцы, владевшие словинцами, как своими рабами, полученными от немецких императоров. Католичество распространялось здесь „мечом и огнём“; проповедовали здесь не столько учение Христа, сколько идею светской власти и силы католического духовенства над словинцами. Миссионерским языком был немецкий; молитвы и вероучение преподавались также на немецком языке, непонятном народу. Только одному догмату „их катехизиса“ о десятинах и платежах („justa tributa“) учили по-словенски, потому что признавали необходимым, чтоб народ понимал этот догмат. Так продолжалось немецко-римское культуртрегерство до времён Марии Терезии и Иосифа II.
С того времени у хорутанских господ – светских и духовных были отняты некоторые права; но суд, управление и школы оставались и далее немецкими. Новая система централизации, абсолютизма и онемечения царила и здесь, как и всюду в Австрии. С организацией в 1814 г. „немецкого бунда“ словинские краины были поставлены в разряд немецких городов. Чиновники и учителя должны были сообразоваться с немецкой программой, а образованным человеком признавался только тот, кто владел немецким языком. На словинский язык стали смотреть с пренебрежением.
К 1848 г. словинцы начали пробуждаться. Явились пробудители народа; началась и словинская печать. Но успехи были незначительны, потому что австрийская конституция считает преступником каждого, кто ведёт народ к правде и поучает о народных правах. Ещё в 1849 г. посланник Штейнвендер провозгласил: „мы немцы – го-
—601—
сподский народ, назначенный для господства“. Этот девиз и теперь ещё имеет свою силу. Свобода в Австрии только для немцев; словинские посланники избираются под немецким надзором и оружием. Ныне существует уже общее представление о хорутанах, что они уже – потерянный народ для славянства и ожидает их судьба полабских славян.
Положение хорут. словинцев действительно очень грустное; но ещё нельзя сказать, что всё безвозвратно потеряно. У них есть просветительное „общество св. Могоря“, словинско-немецкие школы, периодическая печать и хозяйственные общества, банки. Недавно возникло новое школьное „общество св. Кирилла и Мефодия“.
Славонцы – сербы
Имя „славонцы“ осталось только в названии области, составляющей нынешний центр этой части слован, сохранивших православное вероисповедание и называющих себя сербами. Соседние с ними на западе хорваты, одноплемённые сербам, давно уже изменили как своему племенному имени, так и православию. Как имя хорватов, так и имя этих сербов – позднейшего происхождения и явилось на почве разности в исповеданиях. (Первольф. Славяне; их взаимные отнош. и связи, Варшава, т. 1 стр. 48). Впрочем, есть и этнические основания для этих позднейших имён. Существовавшее некогда самостоятельное хорватское княжество и даже королевство (с нач. 10 в. до 1102 г.) могло отдать часть своего населения нынешним словинам-хорватам; равно как и сербы с своим вождём Арпадом оставались в южной Угрии, а позднее после Коссовской битвы (1389) особенно часто эмигрировали сюда1160.
Хорватия с Славонией занимает пространство 42,535 кв. километр., на котором по пристрастной народной переписи 1890 года жило 2,200,977 душ. Но сербы (славонские) живут также на большом пространстве в южных Уграх, Истрии, Далмации и на островах.
—602—
Хорваты1161 – католики, а сербы – православные. Но и Хорваты в старину были православными, обнаруживали сильное тяготение к Царьграду и к православию и дорожили церковно-славянским богослужебным языком. Држислав, сын Крезимира Великого, отдался под охрану византийских государей и принял от них знаки королевского достоинства в 994 г. Но римские папы, тогда всемогущие, не признавали этого титула и запрещали хорватам употребление церковно-славянского языка при богослужениях. Только папа Григорий VII в 1076 г. признал хорватского бана Димитра Звонимира королём и послал ему корону, которой Звонимир и был коронован в Солине. После того Звонимир отдал себя под охрану папы, чем признал за папской столицей право делать свою политику на нём. Делом папы и было затем то, что угорская княжна Арпадовского дома, прекрасная Елена, вышла замуж за Звонимира и тем с угорской короной был заключён договор о наследстве хорватской короны: было постановлено, что в случае отсутствия наследников после Звонимира (а это было предвидено, потому что Звонимир умер насильственной смертью, а его смерти предшествовала тоже насильственная смерть его наследника), корона и трон Хорватский должна перейти в наследство угорскому королю. Папе нужно было создать твёрдую крепость против православия и Царьграда. Но в этом и угорские короли династий арпадовцев, анводьцев, люцембургов, гуныандиовцев, ягеллонцев и габсбургов также находили своё призвание.
Припутав хорватов к Угрии, папа замыслил отторгнуть их от православия и нравственного духовного союза с их православными соплеменниками и превратить хорватов в свой передовой пост поборников за католическую церковь на Балкане. Это ему удалось. Хорваты стали ревностными поборниками не только за католическую церковь, но и за угорскую народность. Угорские короли стали иметь в хорватах самых верных подданных и ещё большую опору, чем в собственном угорском народе.
—603—
Личная уния хорватов с уграми держалась до 16 века. В этот период личной унии Хорватия в державе Угорской составляла собственное государство и не имела общего с уграми „снема“. В 16 в. был заведён и общий снем, на котором Хорваты имели только двух представителей, „нунциев“. Нунции только приносили с собой на снем инструкцию хорватских сословий и, когда дело велось о предложениях короля, реферировал сначала угорский, а потом хорватский „пронатор“. Хорватия подавала самостоятельно свои предложения угорскому королю.
Общие снемы бывали редко; земские же хорватские снемы были, обыкновенно, не единодушными, потому что „more solitu“ члены высших сословий не ходили на земские снемы, явно пренебрегая правами своей родины. Следствия этого обнаружились в том, что достоинство хорватских банов упало: бан, бывший первоначально первой особой при угорском короле, стал уже третьей особой; первоначально бан имел право быть верховным воеводой хорватских полков, теперь уже никто бана и не спрашивал о том, и хорватские войска были подчинены Карновацкому генералу. Когда же баны осмеливались указывать на своё право, никто им не отвечал. Тоже самое было и с правами бана, касавшимися приёмов податей и рекрутов, назначения „подбана“ и „жупанов“. Первоначально само собой разумелось, что хорватский бан мог быть избираем только из хорватской шляхты; позднее же, когда шляхта частью вымерла, частью выгублена угорскими князьями Франом Фрацкопалом и Петром Зрипским, на неё уже не обращали никакого внимания. „Статоправное выровнани угерске-хорватске“, заключённое 32 года тому назад, свидетельствует о том, как много убыло прав у хорватов.
Организация духовной жизни хорватов от древних времён находится в руках католической церкви. Со стороны Рима первоначально работал здесь орден павлиниан; потом на помощь к нему пришли иезуиты для того, чтобы выбить первых с поля деятельности и самим завладеть всем. С 1660 г. иезуиты работали над сооружением в Загребе университета; в 1693 г. ректорам иезуитским было даровано со стороны хорватского земского снемя на вечные времена право „вирильного голоса“. Иезуиты озаботи-
—604—
лись образованием также среднего и низшего классов народа. В 1724 г. они основали в Загребе юридический факультет и типографию для печатания школьных и других книг. Между самими хорватами стало много иезуитов, так что в 18 в. хорват Никола Плантич был главой иезуитского Парагвайского королевства.
Как на политическое главенство над хорватами история дала право уграм, так и на главенство духовное над хорватами она дала право католической церкви.
Хорватская история представляет собой копию истории угорской. Сами хорваты стали копировать собой мадьяр и своих недавних противников они стали брать себе в пример, достойный подражания.
Угры в отношении к другим народностям работают с формальной стороны по закону; но лишь окажется благотворность на подчинённых народностях, они переступают закон. То же делают и хорваты в отношении к сербам. Договорами с сербами они признали права сербского письма кириллицей и православного богослужения. Но после кратковременных любезностей они стали относится к сербам также, как угры относятся к славянам, русским и румынам. Всё, что позволили сербам, они отнимают у них и постепенно выступают в страшный бой против сербов и провозглашают совершенное уничтожение сербов.
Эффект мадьярской политики состоит в том, что в своём „выровнани с хорватами“ они получили больше выгод, чем хорваты. Признанием исторических прав хорватов они отвратили от себя хорватскую силу и направили её против сербов, т. е. против тех, кто должен быть их союзниками и вождями. Бой среди одной и той же народности заключался в мадьярской программе: угры достигли того, что хорваты разбратались с сербами и страшными несчастиями междоусобной борьбы ранили самих себя. Каждая хорватская рана дважды ранила: серба и хорвата. Хорваты так увлекались своим боем, что не понимали вовсе того, что, опуская молот на грудь серба, они вырывают душу из собственной народной груди. Страсть, внушённая врагами, овладела ими настолько, что хорваты даже не помыслили о том, что сербы составляют один
—605—
с ними народ, и что, ненавидя сербов, тем самым они ненавидят себя; а провозглашая смертный приговор над сербами, провозглашают его над самими собой. Сербы считают хорватов более враждебными и опасными, чем были турки, немцы и мадьяры. Конечно, не без оснований!
Обходя хронику современной жизни православных сербов Карновицкой автокефальной митрополии, известную читателям Богословского Вестника, благодаря трудам профессора Г.А. Воскресенского, скажем только об отношении хорватско-сербской борьбы к великому „Drang’y nach Osten.“
Нынешняя междоусобная культурная хорватско-сербская борьба есть ничто иное, как локализация немецко-римского дранга против сербов и их православия. Хорваты в этой борьбе представляют собой второ-подчинённую роль, завися непосредственно от угров; они – столь же жалкое орудие дранга, каким были и есть поляки по отношению к России.
„Drang nach Osten“, недавно осмеянный на страницах русской газеты, на самом деле есть исторический факт 1000-чи летней борьбы немецкой нации с славянской и римско-католической церкви с православно-славянской.
Главной ареной этой борьбы всегда служила нынешняя Австрия; но борьба перекидывалась и за пределы Австрии. Так это было во время борьбы Рима в союзе с Польшей за юго-западную часть России; так точно и ныне борьба Рима в союзе с Хорватией перекинулась уже на Балканы. Но и все другие австрийские католич. народности также приобщены к этому немецко-римскому дрангу.
Теперь дело римско-немецкого дранга поставлено так, что его знамя несут сами разбратавшиеся славяне, составляющие передовые посты дранга; поэтому все передовые посты его открыты для деятельности – если и медленной, то всё же испытанно – надёжной. Успехам римско-немецкого дранга способствует то обстоятельство, что и на Балканах и отчасти в России существует раздвоение между сторонниками западноевропейской культуры и защитниками нации и народности. На Балканах католичество свило себе прочные гнезда – в Болгарии, Сербии и даже униатской Черно-
—606—
гории. В России если и мало заметна пропаганда католичества, то немецкий штундизм заставляет обращать на себя особенное внимание епархиальных миссионеров.
Цель дранга составляет следующее: сгладить ненавистное Риму и немцам православие славян и взамен его распространить на них немецкую культуру, на самом же деле – немецкое насилие, как показывает опыт австрийских славян, облагодетельствованных (!) немецко-римской культурой.
Насущный вопрос
Русская история поучает нас тому, что православие, самодержавие и народность всегда составляли краеугольный камень единой и сильной (духовно и материально) Руси, а при нормальном направлении этих трёх основ – и расцвета русской культуры. Православной Россия остаётся с самых первых времён просвещения христианской религией. Она не изменяла православию, напротив мужественно отстояла его от частых преследований римско-католической пропаганды. Если же Россия и потеряла для государства и церкви большую часть Червонной Руси, то это зависело от многих обстоятельств, не столько внутренних, сколько внешним – антирусских. Самодержавие русских государей упрочилось только после неимоверных трудов русских великих князей, которым помогли и исторические обстоятельства русской жизни, воспитавшие в русском народе сознание преимуществ самодержавной власти и сыновнюю любовь, и преданность батюшке-Царю. На сумме этих двух начал покоится и третье начало – „народность“.
Народность, как начало (принцип) русской исторической жизни, обусловливается именно самодержавием и православием. Там, где нет самодержавной власти и православия в качестве государственного исповедания – напр. в Австро-Венгрии, русская народность пропадает и рабствует господам церкви и уполномоченным правительством господам, но ещё более капиталистам. Если же и при самодержавном управлении русский крестьянин долгое время состоял в крепостной зависимости от дворян, то
—607—
это было аномалией, привнесённой со вне, из подражания немецкому праву. В свою очередь и православие, и самодержавие утверждаются всецело на народе, а не на господах. Церковь и вообще составляет неотъемлемую принадлежность народа, а православная церковь – в особенности. Тоже и по отношению к самодержавию. Для самодержавия Государя Императора нет вовсе необходимости иметь постепенные градации сословий: очень дворянских, менее дворянских, недворянских и крестьянских. Самодержавная власть всецело опирается на народе и на всех сословиях, не отделяющих себя от народа же. Дворянское сословие у западных славян проводило свою жизнь в заботах не о народе, а о собственных правах и привилегиях, из которых самое главное состояло в владении народом („душами“), как своим инвентарём. Пример истории Червонной Руси показывает, что дворянство и русское, ради своих привилегий, продавало и своё отечество, и веру. Но и вся вообще западная славянская шляхта всегда служила страшным тормозом усилению авторитета и власти своих князей и королей; особенно же поучительна история чешской шляхты, продававшей своё отечество немцам – врагам народности, но ими же и выгубленной, так что чешской шляхты ныне не существует.
С освобождением русского крестьянства от крепостной зависимости помещикам, „народности“ возвращено присущее ей право стать одним из принципов русской государств. жизни и целая русская жизнь и деятельность этим актом возвращена на свою самостоятельную дорогу, по которой она должна была идти всегда, но временно уклонилась под сильным обаянием западноевропейской культуры.
Ныне уже оказались великие знамения того, что русская жизнь встала на свою национальную дорогу. Собственно, два главные знамения: первое – устроение народного быта на национальных началах общинного владения землёй, так что русскому крестьянину не грозят опасности снова подпасть под новое рабство (капиталистам) более страшное, чем первое, и социалистических ассоциаций с их разнообразной и страшной борьбой против капиталистов и всего строя госуд. жизни. То и другое – на лицо в „прославлен-
—608—
ной“ западной Европе и является там нормальным, историческим сложившимся, злом.
Второе знамение – это начало реформы русской школы, превращение начальной школы из „неопределённого“ в строго определённый тип школы „церковно-приходской“. Этот факт-особенно знаменательный показатель возвращения русской культурной жизни на самостоятельный путь. Со временем он даст свои прекрасные плоды и подготовит реформу средней школы, которую, сообразно с новым направлением русской жизни, необходимо преобразовать из „интернациональной“ в „национально-славянскую“.
Если русская культурная жизнь уже вступила на свою собственную дорогу, завещанную ей целой историей, то нужно признаться в том, что она ещё не утвердилась в своей колее. Для того, чтобы это произошло, необходимо решить в положительном смысле два вопроса, уже назревшие и требующие решения, сообразного с новым национальным направлением русской жизни, столь ненавистной иноплеменникам.
Первый вопрос уже отмечен нами: это преобразование средних школ в „национально-славянские“ с широким введением в курс наук классического церковно-славянского языка и сравнительной славянской филологии, истории и литературы.
Второй вопрос нового национального направления русской культуры относится к области церковной жизни – именно: воззвание к жизни национального православного собора. Решить в положительном смысле этот второй вопрос необходимо для того, чтобы ещё твёрже и всестороннее обосновать православную церковь на вселенском православии, – утвердить общеславянское сознание в истинном православии русской церкви, – питать в славянах надежды на лучшее будущее славянства, а падших славян привести к жизни, сообразной с заветами св. славянских апостолов Кирилла и Мефодия.
Действительно ли назрел вопрос о необходимости близких взаимных сношений между славянами и даже сношений церковных? Кто сомневается в этом, пусть посмотрит на жизнь „слован“, как они умирают.
А. Вознесенский
1901 г. февр. 23. Прага.
Спасский А.А. Обзор журналов: Статьи по древней и общей церковной истории // Богословский вестник 1901. Т. 2. № 7/8. С. 609–625 (3-я пагин.). (Начало.)
—609—
Перечень статей в духовных и светских журналах. – 1) Древнейший памятник христианства в Китае: краткие сведения по истории христианства в этой стране; внешний вид и содержание памятника.
Отдел по древней и общей церковной истории, занимающий, вообще говоря, очень видное место в нашей духовной журналистике, в настоящем году не может похвалиться разнообразием и богатством своего содержания. Кроме статьи А. Сильченкова о „тайноводственном учении в первые века христианства (в „Вере и Разум“, 1901 г. № 4, 5, 7)“, рассмотренной уже в Майской книжке Богосл. Вестн. (стр. 194–199) и относящейся собственно к церковной истории, мы можем отметить за этот год (точнее: за первое полугодие), ещё очень немногое. Это, – два экскурса покойного проф. В.В. Болотова, извлечённые из посмертных бумаг и составляющие продолжение его детальных работ по истории Сиро-Халдейской церкви (Христ. Чт., март, 439–462, апрель, 498–575, июнь 937–965); затем, речь П. Лепорского: „Восточный Иллирик и его церковно-историческое значение“, (Христ. Чт. июль, 131–144) – и только. Материал, как видим, не обильный, хотя и не лишённый своего очень значительного интереса. За то, как- бы в восполнение этой (без сомнения, временной) скудости
—610—
церковно-исторического отдела в духовной журналистике, встречаем в текущем году несколько очень занимательных этюдов из этой области на страницах наших светских журналов. Сюда принадлежат: а) статья С. С. Слуцкого: „Древнейший христианский памятник в Китае“ (в Руск. Вестн., январь, 151–165 стр.), б) довольно обширный церковно-исторический очерк проф. В. И. Герье под заглавием „Борьба за единство веры в IV веке“ (в Вестн. Европы, январь, 1–50; февр. 537–588; март 39–74; апр. 445–479) и в) критическая работа И. А. Джавахова: „Проповедническая деятельность ап. Андрея и св. Нины в Грузии“ (в Журн. Мин. Народн. Просв., январь, 77–113). Так как церковно-исторические вопросы в наших светских журналах доселе ещё являются своего рода редкостью, то с них мы и начнём свой обзор.
1) Под именем „древнейшего памятника христианства в Китае“, о котором ведёт речь статья С. С. Слуцкого, разумеется обширная надпись, найденная в Синанфу, западной столице Китая, и подробно рассказывающая о былых успехах здесь христианской проповеди. Сама надпись не представляет собой какой-либо исторической новости: она найдена была католическими миссионерами ещё в 1625 году и с тех пор неоднократно подвергалась обсуждению как западноевропейских, так и русских учёных1162. Тем не менее появление её на страницах литературного журнала именно в текущем году должно признать как нельзя более своевременным, – в виду последних событий, совершившихся в Китае и обративших общее внимание на эту загадочную страну. Рассматриваемая в связи с этими событиями, статья г. Слуцкого, помимо удовлетворения простой любознательности, получаем ещё свой особый интерес. Как известно, в кровавой драме, разыгравшейся между востоком Азии и западом Европы, немаловажная роль выпала и на долю христианства в лице западноевропейских миссионеров. Вызванный национальными и политическими мотивами, дикий взрыв китайского фанатизма против европейцев
—611—
сразу же принял на себя религиозную окраску, направился против христианства, его служителей и исповедников. Борьба велась не только против европейского вторжения во внутреннюю жизнь Китая, но и против христианской проповеди, и выражалась разрушением христианских храмов, насилиями и убийствами, поражавшими не европейцев одних, но ещё чаще китайцев, принявших христианство. В газетных известиях как бы вставали перед нами сцены из первых веков христианства, выступавшие перед нами с более грубыми и ужасными подробностями... При отсутствии всяких сведений по истории и современной жизни Китая, эта черта китайского восстания, у многих невольно должна была вызывать собой ряд недоуменных вопросов на счёт будущности христианства в Китае: в самом деле, уж не лежал ли источник этой ненависти китайцев к христианству в самой недоступности или непригодности христианского учения для Китая? не бесполезны ли, поэтому, – не вредны ли скорее, – все усилия современных миссионеров христианства? – История даёт на это совсем другой ответ. Она свидетельствует, что было время, когда проповедь христианства встречала себе радушный приём среди китайского населения, когда христианское учение охранялось защитой законов и его исповедники пользовались покровительством правительства. Китай знал христианство гораздо раньше, чем пришли сюда европейские миссионеры, – раньше даже, чем стало известным Европе само существование этой страны, и тогда уже он сумел оценить его возвышенное учение, усвоив ему в законодательном порядке имя „пресветлой веры“. – Но тогдашние проповедники христианства приходили сюда не под охраной пушек и броненосцев, не во имя торговых и политических целей, а ради Евангелия и любви к ближнему, – шли в Китай, вооружённые одним оружием– „великой добродетелью“, „смотря на солнце и неся писание“, как выражается о них надпись...
История христианства в Китае ещё не изучена; далеко ещё не собраны все памятники, касающиеся её; в китайских архивах, если они когда-нибудь будут доступны для науки, без сомнения найдётся не мало материала, способного пролить совсем новый свет на эту область про-
—612—
шлого. При настоящем же состоянии данных, всё, чем наука располагает по вопросу о христианстве в Китае, ограничивается краткими заметками позднейших сирских и армянских хронистов, отрывочными извлечениями, сделанными разными лицами из китайских летописей, случайными сообщениями путешественников, относящимся к разным эпохам и разным местностям, и несколькими надписями. Крайняя бедность и разрозненность этих источников исключает всякую возможность дать более или менее полную и удовлетворительную картину постепенного распространения и прошлых судеб христианства в Китае; невольно приходится довольствоваться отдельными фактами, которые к тому же не всегда можно установить с надлежащей точностью.
Сирские и армянские летописи начало христианства в Китае приурочивают ко временам апостольским и первым просветителем его считают ап. Фаддея, но эти предания возникли в то время, когда для христиан каждой страны хотели указать родоначальника в лице какого-либо апостола, и в нашем случае обязаны несомненно старому географическому заблуждению, смешивавшему Китай с Индией. По более достоверным свидетельствам древности, христианское учение было принесено в Китай из Персии от представителей здешней сирохалдейской общины несториан, официально выделившейся из состава вселенской церкви в 499 г. на соборе в Селевкии при католикосе Бабее. В исторических судьбах христианства в Азии вообще за средневековый период этой общине принадлежит передовое значение. Отпав от союза с греческой церковью, несториане скоро заявили себя такими успехами, какие не встречают себе аналогий в истории других восточных общин, отделившихся от церкви. Они сумели поставить себя в добрые отношения к персидскому правительству, создали прочную внутреннюю организацию, завели школы, развили просвещение, распространили христианство внутри и за пределы Персии и ещё при персидском правительстве образовали из себя могущественную церковь, обнимавшую собой почти все азиатские народности и оказавшую на них сильное просветительное влияние. Но самую блестящую эпоху пережило несторианство после того, как с VII
—613—
века Персия и вся передняя Азия подпала власти арабов-магометан. Арабские халифы, отстроившие себе столицу в Багдаде, центре сиро-халдейского населения, уже не увлекались блеском оружия и победных подвигов, как первые магометанские завоеватели: они искали более благородной славы справедливых правителей народа, покровителей искусства и науки, стремились насадить цивилизованную жизнь среди своих подданных, развить просвещение, – и ближайших помощников в этой задаче нашли в несторианах, как более культурной и просвещённой части населения. Несториане заняли у арабов высшие государственные должности, губернаторствовали в городах, управляли провинциями, ведали финансы и т. д. Они же исправляли обязанности секретарей и лейб-медиков при халифе и эмирах, приобретали иногда безграничное доверие своих повелителей и пользовались огромным влиянием в халифате. Сам Ктезифонский католикос, глава несториан, перенёс свою резиденцию в Багдад и здесь, под боком у халифов, стал важной персоной, соединявшей в своих руках сильную церковную и моральную власть: особыми узаконениями халифов ему были подчинены не только несториане, но и все прочие христиане, жившие в пределах халифата, как то: яковиты, мелхиты (православные) и пр. Несторианские учёные находили себе самый благосклонный приём в багдадском дворце, окружали трон халифа и соперничали между собой в научных занятиях из-за славы и почестей; некоторые из них по поручению халифов путешествовали по Сирии, Армении и Египту, собирали древние рукописи и переводили их на арабский язык. Они первые ознакомили арабов с греческой классической литературой, научили их ценить Аристотеля, Иппократа и Галена и создали то арабское просвещение, которое, будучи пересажено в Испанию, послужило одним из могучих толчков, пробудивших в XIII и XIV в. западноевропейский ум от средневековой спячки. Но главной сферой, в которой преимущественно заявила о себе несторианская церковь в истории Азии, была её миссионерская деятельность. Несторианство обладало какой-то особенной страстью к пропаганде; ещё при персидском правительстве, несторианская церковь выступила за первоначаль-
—614—
ные свои границы и стала быстро распространяться вглубь Азии, а при халифах она раскинулась на неизмеримое пространство и захватила все азийские народности. Её проповедники изрезали Азию по всем направлениям и везде пожинали успех, насаждая христианство, как среди язычников, так и в местностях уже знакомых с христианством; они упрочили несторианское учение в Аравии, занесли его в Ост-Индию и Цейлон и рассеяли среди туркменских племён в средней Азии1163.
От этой несторианской церкви получил христианство и Китай. В Китай несторианские проповедники проникли очень рано; по словам Ебед-Иезу, ещё Ахайя, ктезифонский патриарх в 411–415 гг., посылал миссионеров в Самарканд и Шину (т. е. в Китай); однако о последствиях этого посольства ничего неизвестно, да и вообще сведение Ебед-Иезу стоит одиноко в ряду других свидетельств о христианстве в Китае. В прочные и более или менее постоянные сношения с Китаем несториане вступили уже в VII веке; в 30-х годах этого столетия католикос Иешуйав отправил сюда особое посольство с священными книгами, богослужебными принадлежностями и подарками для богдыхана. Посольство удостоилось благосклонного приёма и достигло счастливых результатов: учение христианское было рассмотрено и одобрено; особым эдиктом было повелено построить христианский храм в столице богдыхана, в квартале Мира и Правосудия, и проповедники его получили свободу учения. С этой поры христианская проповедь приобрела законную почву в Китае, и при том поставлена была в исключительно благоприятные условия. Найденная в Синанфу надпись, содержание которой мы передадим ниже, свидетельствует, что за всё время, от прибытия посольства, до первых годов IX столетия, китайские правители покровительствовали миссионерам, рекомендовали христианство, как „учение благодетельное и достопочтенное“, помогали устроению и украшению храмов, оказывали щедрую помощь и приношения. Но и с
—615—
IX-го века положение христиан в Китае не изменилось, хотя, начиная с этой эпохи, сведения о христианстве в Китае становятся чрезвычайно скудны и отрывочны. Что христианская проповедь продолжала развиваться здесь и после IX века, об этом говорит уже одно то обстоятельство, что до ХIII века включительно католикосы несторианские не переставали назначать сюда особых матранов (митрополитов). Имена некоторых из этих китайских митрополитов сохранены у сирских писателей, а так как в несторианской церкви, как и в других восточных церквах, титулярных епископов (без действительной кафедры и паствы) никогда не существовало, то назначение особых матранов для Китая должно указывать на значительные успехи здесь христианства. Замечательно, что за это же время китайские митрополиты заметно поднимаются и в своём иерархическом ранге; так, в одном документе IX века митрополит Китая значится на первом месте после шести первенствующих митрополитов несторианской церкви; в этом же столетии Китайскому митрополиту была уступлена католикосом важная привилегия – не являться лично к нему при объезде им своей патриархии, но письменно извещать его о состоянии церковных дел в Китае через каждые шесть лет. Когда в XII и XIII вв. в Китай стали проникать западные путешественники и римско-католические миссионеры, они с удивлением узнали, что Китаю уже известно христианство, и в своих сообщениях на запад оставили некоторые очень любопытные сведения о положении китайского христианства за эти века. Из таких сообщений отметим два, относящиеся к ХIII веку и принадлежащие знаменитым путешественникам этого времени – известному Марку Поло и Иоанну, Корвину. Марко Поло, ещё юношей прибывший в Китай, пробыл там около 17-ти лет, находясь в свите хана Коблая (1280–1295), пользуясь его покровительством и даже исполняя некоторые государственные поручения, и потому имел возможность хорошо ознакомиться с жизнью Китая. Он свидетельствует, что в то время христиан было много как в Монголии, так и в Китае и что они повсюду имели церкви. Из рассказов Марка о разных событиях из правления Коблая видно, что тогда они поль-
—616—
зовались вполне мирным положением и принимали энергичное участие в политической жизни страны. Так, рассказывая о бунте Найама, Марк замечает: „а этот Найам был по вере и имени христианин, но не следовал делам веры; имея с собой немалое число христиан, он своё главное знамя украсил знаком креста“; когда бунтовщик был побеждён и по приказанию Коблая задушен, „вельможи и весь народ, – пишет Марко, – среди которого было много христиан (multi fuerunt christiani) добровольно подчинились господству Коблая.“ И сам Коблай пользовался услугами христиан при своих военных походах; так по словам Марка при осаде Синанфу (Singhianfu) ему помогали „бывшие с ним христианские мастера“; „в городе Синанфу, – добавляет по этому поводу Марк, – были христианские церкви несториан, построенные несторианином Мар-Сергием, который наделён был от великого хана властью в этом городе“. Можно думать, что во время посещения Марком Поло Китая и Монголии в здешних городах вообще были очень обычны христианские храмы, потому что, описывая один городок провинции-Манго, он в качестве исключительного явления замечает, что в нём существовал „только один (una solum ecclesia) несторианский храм.“ – Рассказы Марка подтверждает и Иоанн Корвин, который путешествовал в Китай во главе миссии, посланной на восток папой Николаем IV в 1289-м году – с обширными задачами привести к покорности к папскому престолу всех существующих здесь христиан – грузин, несториан, эфиопов (?) и пр. Сообщая о результатах своей миссии в донесении папе от 1305 г. 8 янв., Корвин пишет, между прочим, что... „император монголов, называемый великим ханом, не смотря на то, что погружён в идолопоклонство, оказывает многие благодеяния христианам“, что „несториане, усвояющие себе имя христиан, но сильно уклоняющиеся от христианской религии, такую силу имеют в этих странах, что не дозволяют, чтобы христианин какого-либо другого обычая имел хотя бы маленький молитвенный дом или проповедовал какое- либо другое учение, кроме несторианского“. Корвину пришлось испытать немало притеснений от несториан, старавшихся очернить его в глазах великого хана, и потому
—617—
он судит о них весьма неодобрительно; тем не менее описывая папе свою деятельность в качестве миссионера, он ещё раз даёт свидетельство о процветании несторианства в Китае. „Один правитель (rex) той страны, Георгий из секты несторианской, расположенный ко мне, был обращён мной к истине католической веры и, хотя другие несториане обвиняли его в отступничестве, он большую часть своего народа привёл к истинной католической вере. Когда же царь Георгий истинный христианин шесть лет тому назад (сл. 1299 г.) отошёл к Господу, оставив наследником сына ещё в пелёнках, братья Георгия – все, которых он обратил от заблуждения несториан, после смерти царя, возвратились в прежнюю схизму“.
Но XIII век, к которому относятся приведённые сейчас свидетельства путешественников, был последним веком процветания, а вместе и всей истории христианства в Китае. В половине XIV в. (1369 г.) в Китае произошла революция: монгольская династия великих ханов, покровительствовавшая христианам, была низложена и сменилась китайской династией Мин, открывшей преследование на христиан. Римско-католические миссионеры, успевшие начать пропаганду в конце XIII в., были изгнаны; изгнанию, притеснениям и насилиям подверглись и несториане, и их храмы, украшавшие китайские города, были разрушены. Впрочем, христианство не сразу исчезло в Китае; подвергнутое запрещению и преследованиям, оно содержалось в тайне, так что несторианские католикосы продолжали назначать матранов для Китая и после воздвигнутого здесь гонения на христиан. Самый сильный удар китайскому христианству нанесло собой падение несторианской, сиро-халдейской церкви, от которой оно получило начало. Как бы ни велики были успехи христианства в Китае, оно никогда не могло сделаться здесь основой национальной жизни, а всегда оставалось наносным явлением, державшимся благодаря постоянным связям с сирскими несторианами и непрерывному приливу отсюда свежих сил. Но ещё с XIII в. несторианскую церковь постигли тяжкие бедствия; в этом столетии халифат подпал власти монголов, и несториане, лишившиеся всех своих прежних привилегий, были поставлены в положение бесправных людей, в отно-
—618—
шении к которым дозволительны были всякие насилия и притеснения, а затем нашествие Тимура, пронёсшееся ужасной грозой по всей средней и передней Азии и истребившее её благосостояние, города и жителей, окончательно уничтожило здешнее несторианство, сохранив от этой некогда обширной церкви лишь жалкие остатки, спасшиеся от поголовного избиения или рабства в гористых местах Курдистана. Иссяк источник, питавший собой китайское христианство, исчезло и оно с лица земли. Португальский путешественник Фердинанд Перец, посетивший Китай в 1517 году, уже не нашёл здесь никакого следа христианства (nullum christianismi vestigium).
Открытая в 1625 году и изданная теперь в русском переводе г. Слуцким надпись и представляет собой единственный остаток этих духовных побед, какие некогда были сделаны христианством в Китае. По своей обширности и богатству содержания она является своего рода археологической редкостью, но ещё выше её историческое значение, поскольку подлинность её в настоящее время стоит вне сомнения. В ряду крайне отрывочных и разрозненных известий по истории христианства в Китае, эта надпись, в довольно яркой картине сообщающая нам о судьбах христианской проповеди здесь более чем за полтора столетия (а именно от 635–781), даёт в себе самый ценный, обстоятельный и полный материал из всего, чем располагает наука по этому вопросу, и так как она относится к эпохе первоначального распространения евангелия в китайских странах, то по всей справедливости должна быть названа „древнейшим памятником христианства в Китае“. Поэтому нельзя не высказать признательности г. Слуцкому за опубликование её в русском переводе, притом появляющееся в такое время, когда общий интерес обращён именно к Китаю.
Ознакомимся ближе с этой замечательной надписью, пользуясь статьёй г. Слуцкого1164.
Надпись найдена была при раскопке стен древней кре-
—619—
пости Саншуэн, находящейся у Синанфу, западной столицы Китая, имя которой нередко упоминалось в газетных корреспонденциях прошлого и настоящего года, и тотчас же обратила на себя внимание как западноевропейских миссионеров, так и китайских археологов. По приказанию местного губернатора она была перенесена в ближайший буддийский монастырь, где она должна сохраняться и доселе. По внешнему своему виду надпись представляет собой большую каменную плиту, испещрённую китайскими и сирскими письменами. Китайское письмо занимает центральное место и содержит в себе, кроме заглавия из трёх строк по три знака в каждой, 62 строки, если считать справа на лево, или 28 столбцов, считая сверху вниз, как делают китайцы; всех китайских слов в надписи, по словам Ассемана, насчитывается до 1736. По бокам китайской надписи, а равно и внизу идёт тоже довольно пространная сирская надпись, заинтересовавшая некогда китайских археологов неизвестностью своего языка. Стиль китайской надписи, вызывающей наибольший интерес, отличается, насколько можно судить по переводам, очень своеобразной, свойственной Востоку, полу-символической, полумистической, фразеологией, вследствие чего некоторые детали надписи и доселе, несмотря на все усилия, остаются не вполне разъяснёнными. Китайскую и сирскую надписи возглавляют знак креста и одно общее надписание, относящееся ко всему памятнику: „памятник возвещения и распространения в Срединном царстве сирской пресветлой веры“1165.
По содержанию надпись удобно разлагается на три больших части. Первую часть образует собой обширное введение богословско-исторического характера, представляющее собственно говоря, самый важный отдел всей надписи. Богословский отдел введения начинается изложением основных истин христианства, которое предлагается в возвышенном и таинственном стиле; здесь говорится о вечно-сущем, непостижимом и безначальном Aloha1166,
—620—
едином Боге, троичном в лицах, сотворившем весь мир из ничего, создавшем человека чистым и безгрешным, и предназначившим его к обладанию всем миром, – о падении человека и последовавших за ним бедствиях и заблуждениях: – о воплощении „Мессии“ от Девы, о поклонении волхвов, об исполнении Мессией ветхозаветных писаний, о возвещённом им учении жизни и о писаниях апостольских (числом 27). Далее даётся характеристика христианской жизни и поведении, очевидно, в тех чертах, в каких она выражалась в эпоху сооружения надписи, среди несторианских миссионеров. Она настолько интересна, что мы приведём её полностью по переводу г. Слуцкого:
„Дверь закона есть водное крещение очищающее, воздвигающее в красоте, убеляющее внутренне. Символом прияли знак креста, простирающийся к четырём светилам. Для призывания людей без принуждения ударяют в дерево, зовут к благоговению, милости, милосердию. Совершают богослужение лицом к востоку, взирая на путь славы живущих. Сохраняют бороду, ибо внешность соблюдают обычную; бреют маковку, ибо от внутренних страстей отрешаются. У них нет рабов: равными считают знатных и незнатных между людьми. Не собирают богатств и запасов: учат делить остаток с бедными. Постятся чтобы смирить знание и сделать его совершенным. Бодрствуют (ночью) чтобы, поверяя себя и тиши, укрепиться. Семь раз в день творят славословия в великую помощь живым и умершим. В первый из семи дней приносят бескровную жертву. Очищая сердца, возвращают к простоте. По истине вечный Закон дивен и трудно наименовать его. Делами и богослужениями он вечно сияет: должно называть его Пресветлой верой“.
В историческом отделе своего введения надпись излагает довольно подробный рассказ о христианской проповеди в Китае от прихода сюда первых миссионеров до времени поставления памятника. „В сверкающие дни Тай-суня1167, украшенного государя, просвещённого, мило-
—621—
сердого к людям“ был в Сирской стране высокодобродетельный A-lo-pen1168; взирая на голубые облака, и неся писания, в 9-й Чин-куань1169 он прибыл в Чань-Нянь“. Император приготовил ему торжественный приём; по его распоряжению первый министр должен был встретить путешественника в западном предместье. Принесённые им книги были переведены и „по переводе книг в (для ?) дворцовой библиотеке были вопросы о вере во внутренних покоях дворца; глубоко изученное признано правым и истинным: повелено преподавать и учить“. Через три года по приходе Алопена император издал указ о христианстве, целиком цитируемый в надписи. Вот этот указ:
„Для закона нет неизменного имени. Для святости нет неизменной сущности. Смотря по странам предлагаются религии; в тиши утешают множество жителей. Высокодобродетельный A-lo-pen из Сирской страны, вводя издалека Святое Писание и изображения, пришёл предложить своё учение в столицу, излагая его основания. Оно глубоко, достопочтенно, отрешено от мира; главное стремление его достичь совершенства. Писания просты и без расплывчивости. При правильном учении да забывают сети лжи. Оно помогает природе, благодетельно людям. Прилично распространить его в Империи. Начальники столицы да построят в квартале Мира и Правосудия сирский храм и да соберут туда 21 священника“.
После краткой географической заметки о Сирии, составленной по китайским географам1170, надпись восхваляет царствование преемника Тай-сун’я Као-цунь (650–684): „следуя предкам, Као-цунь оплодотворил начинание доблестного предшественника“. Он вознёс Алопена, даровавши ему сан: „Охранителя царства, Господина великого за-
—622—
кона“1171. „Закон разлился по десяти путям1172, церквами снабдились многие1173 города“. Но в следующие царствования представителям нового учения пришлось потерпеть преследования. Надпись говорит об этом времени (684–713) очень глухо и не совсем вразумительна в переводе г. Слуцкого; здесь значится: „в год Шинь ли (6991) сыны Будды, пользуясь силой, провознесли уста при восточном дворе...; в конце лет сень-тень (713) низшие учёные1174 весьма насмеялись, унизили в западной области Као, – однако, были глава священников Ло-хан, добродетельнейший Ки-ли… высокие иереи: они снова связали разорванное“ – и затем, идёт особый отдел о царствовании Хуэнь-цуня. Но так как конец года сень-тень равняется 713 году, а Хуэнь-цунь начал царствовать в 712, то очевидно известие о гонении 713 года должно войти в отдел царствования этого государя. Судя по Ассеману смысл этого места такой: невежественный народ подверг осмеянию святой закон, но священники Лохан (Иоанн), Кили и другие знатные ученики успели убедить императора в высоте христианского учения, и он стал ему покровительствовать. Хуэнь-цунь (712–757), „благочестивейший император“, приказал „восстановить алтари, дворы, крышу закона, грозившую упасть“ и дал щедрые приношения. В третий год его царствования (715) из царства Сирского пришёл новый проповедник, священник Кихо, и получил позволение вместе с Лоханом, Полуном (Павлом) и другими совершать богослужение во „дворце блаженства“. При императоре Су-цуне (757–763) также строились храмы и поддерживалась „прежняя доброта“. Его преемник Тай-цунь (763–780) „расширил деятельность святых; в день рождения он ежегодно даровал душистый фимиам, посылал императорские яства народу Пресветлой веры“. Благодеяния продолжались и при Куэн-чуне (780–805), наследовавшем Тай-цуню, современнике самой
—623—
надписи, „божественном, просвещённом и воинственном императоре – устроителе“. В царствование Куэнь-чуна пришёл третий знаменитый провозвестник, священник И-ссе; „знанием он превосходил три поколения, дарования его простирались до десяти совершенств“. Он щедро был награждён императором, украшался разными должностями и титулами и ходил в златотканом, чёрно-красном уборе. Тогда же прославился своими благодеяниями князь Куо-Цеу-и: он „чтил1175 древние храмы и возвеличивал обители пресветлого (закона)“, раздавал милостыни: ежегодно собирал он „священников и учеников четырёх церквей и с почтением служил им, доставляя всё нужное пятьдесят дней“. Историческая часть введения заканчивается торжественным заявлением, что „учёные пресветлой веры, в белых одеждах, озираясь на всех этих мужей, пожелали вырезать несокрушимый волнами каменный памятник, дабы восхвалить благие и прекрасные заслуги их“.
Вторую часть памятника составляет надпись в собственном смысле с присоединённым к ней указанием хронологической даты и участников по сооружению памятника. Она написана китайскими стихами и заключает в себе восхваление тех императоров, о которых уже говорилось в введении и которые заявили себя благодеяниями христианству. В приписке значится, что памятник воздвигнут „во второй год великого Куэнь-чуня“ т. е. в 781 году по Р. X., при епископе („владыке закона“) Нинь-шу, управлявшем паствой восточных земель, и что писал его первый секретарь двора, Лиу-сьуе-йен.
Третья часть памятника написана на сирском языке. Она распадается на два отдела, из которых первый, помещённый на правой стороне китайской надписи, перечисляет имена 60 проповедников, потрудившихся над возвещением христианства в Срединном царстве. Этого отдела в переводе Слуцкого не имеется, но Ассеман читал его в списке 1631 года, сделанном, следовательно, шесть лет спустя после открытия надписи и принадлежащем
—624—
библиотеке римской коллегии общества иезуитов, опубликовав его в своей Biblioth. Orient. III, 2, рр. 542–548. Во втором отделе, переведённом и у Слуцкого, снова указываются время сооружения памятника и лица, трудившиеся над ним. По свидетельству сирского текста, памятник воздвигнут был „во дни отца отцов, господина Ханан-Иисуса, кафолического патриарха, и Адама, пресвитера, хорепископа и папы Китайского, 1092 год греческой эры“. Если перевести последнюю цифру (по эре Александра Македонского) на наше летосчисление, то получим тот же 781-й год, какой указывает и китайская надпись. Затруднение в истолковании этих строк сирского текста возникает только из того, что упоминаемый здесь католикос Иоанн Иисус умер в 778 году, за три года до постановки памятника. Ассеман полагает, что причиной ошибки послужила дальность расстояния, вследствие которой известие о смерти патриарха и вступлении нового не могли в этот промежуток времени достичь до Китая. – Устроителем памятника сирский текст называет Индбузина, священника и хорепископа из Кумдана, затем следуют ещё имена пяти лиц, вероятно тоже принимавших участие в этом деле.
Таково содержание надписи; разумеется, мы не могли воспроизвести всех, иногда крайне любопытных, деталей её, хотя и стремились дать ясное понятие о ней. Однако и то, что изложено, даёт, – думаем, – достаточное основание присоединиться к замечанию г. Слуцкого, что „надпись из Синанфу представляет собой памятник столь интересный и столь оригинальный, что ознакомиться с ним не лишнее и читателю неспециалисту“. – Не имея возможности пользоваться подлинником, не считаем себя в праве и высказывать суждение о достоинствах перевода. Сошлёмся лишь на заявление самого переводчика, что им приняты были все меры, чтобы придать своему переводу лучший вид. Он пользовался латинскими, французскими и английскими переводами и „в мере доступной не синологу“ сличил эти переводы с китайским оригиналом Потье и по эстампажу1176 XVII в., хранящемуся в Парижской национальной библиотеке. Перевод какой бы то ни было древней надписи есть дело не лёгкое: тем более перевод Китай-
—625—
ского текста, в отношении к которому ещё не вполне достигнуто первое и главное условие хорошего перевода – установка правильного чтения. Отсюда, конечно, объясняются и те разности в переводе надписи, какие указаны нами у Ассемана. Что касается до полноты перевода, то, как мы видели, у г. Слуцкого не хватает отдела сирской надписи, заключающего в себе перечень имён проповедников христианства в Китае; почему этот отдел устранён, – сказать не можем.
(Окончание в след. книжке).
А. Спасский
Ер. Мигиинский (Громогласов И.М.) Противо-раскольническая беллетристика: [Рец. на:] Попов К. Раскол и его путеводители. 2-е изд., дополи. М., 1901 // Богословский вестник 1901. Т. 2. № 7/8. С. 626–633 (3-я пагин.)
—626—
К. Попов. Раскол и его путеводители. Издание 2-е, дополненное. М. 1901. Стр. IV+629. Ц. 2 руб.
Настоящая заметка будет касаться не столько самой книги, заглавие которой выписано выше, сколько вообще того рода произведений, к которому принадлежит она и которому можно дать название „противо-раскольнической беллетристики“. Этим именно мы обозначаем довольно уже обширную теперь группу писаний, в которых предметом „художественного“ изображения являются тёмные стороны раскольнического быта и отрицательные типы из раскольнической среды. О „художественности“ таких произведений можно, впрочем, говорить лишь с очень большими ограничениями. И эти последние обусловливаются не одними только размерами таланта тех авторов, из-под пера которых выходят беллетристические повествования из жизни раскола. Гораздо существеннее в этом случае, на наш взгляд, тот избыток полемической тенденциозности, который составляет характеристическую черту большинства писаний этого рода. Указанная черта делает их очень похожими на те весьма многочисленные в литературе расколоведения историко-полемические опыты, авторы которых ставили своим девизом – изображать раскол, решительно со всех сторон и во всех пунктах „изобличаемый своей историей“. Этот девиз, очень узко понятый и слишком
—627—
прямолинейно применённый к делу, заставлял расколоведов старого времени заботливо изыскивать не только действительно ценные исторические факты, но и чисто анекдотические мелочи, рисующие грубость и невежество раскольников, совершенно обходя при этом и пропуская мимо всё то, что не отвечает целям всестороннего и неуклонного изобличения. Излишне говорить о том, как мало соответствовала подобная разработка раскола основным требованиям объективно-научного знания; но нельзя не заметить, что и в целях чисто полемических указанный приём был выбран крайне неудачно: сосредоточивая внимание расколоведов исключительно лишь на тёмных сторонах и недостатках, характеризующих раскольническую среду, он создавал слишком поверхностный взгляд на причины религиозного разобщения и приучал видеть в расколе противника, борьба с которым казалась проще и легче, чем это было на самом деле. И тем не менее, не смотря на свои очевидные недостатки, указанный способ отношения к расколу, издавна установившийся в специальной литературе расколоведения, не только благополучно продержался в ней в течение многих десятков лет, не исчезнув окончательно и доселе, но и проник, благодаря той же литературе, в более широкую общественную среду, ставши в ней источником односторонних понятий и предубеждённых суждений о своеобразном мире почитателей двуперстного креста и сугубой аллилуйи. Отражением этих то ходячих понятий и взглядов, подсказанных полемической предубеждённостью, и являются сплошь да рядом те произведения, которые мы отнесли к разряду „противо-раскольнической беллетристики“. Казалось бы, какое дело до специально полемической точки зрения на раскол писателю-беллетристу, взявшему действующих лиц для своего рассказа или повести из раскольнической среды? Для него эта среда, со всеми её религиозно-бытовыми особенностями, должна быть предметом правдивого, объективно-художественного воспроизведения, как и всякая другая. Как бы ни относился такой автор к собственно раскольническим мнениям, он не может забывать того, что одна – принадлежность его героев к числу последователей раскола ещё не даёт права рассматривать все без
—628—
исключения факты их жизни, как результат их раскольнических верований, и что нельзя без грубого нарушения жизненной правды рядить в однообразную маску людей, держащихся одинаковых верований. Между тем на деле мы видим совсем иное. В большинстве случаев „беллетристические“ произведения из истории или современной жизни раскола поразительно напоминают те „лубочные“ картинки, которыми ещё в недавнее время украшались стены крестьянских изб в деревенских захолустьях. Пишущий эти строки живо помнит многие образцы этого лубочного художества, которыми ему не раз случалось любоваться в детские годы. Большинство их составляли картинки батального характера: на быстрых конях несколько фантастического вида мчатся друг на друга два враждебных строя под предводительством своих вождей, отличённых от рядовой массы тем, что своим ростом раза в два или в три превосходят простых воинов. Размашистая кисть художника, не пощадившего красок, одним мазком раскрасила в ярко-зелёный цвет мундиры одного строя, захвативши по пути головы людей и коней; такая же полоса, только синего цвета, прошлась по противоположному строю, придав ему замечательное единство и в значительной степени сгладив очертания отдельных фигур... В рассказах и повестях, содержание которых взято из жизни раскола и его последователей, манера творчества зачастую та же самая. Грубые мазки, однотонно раскрасившие группы действующих лиц, почти не дают возможности различить отдельных человеческих обликов и лишают последние даже отдалённого сходства с живой действительностью. Перед читателем появляются и приходят какие-то однообразные манекены, в которых принадлежность к расколу стёрла все индивидуальные черты, вытравила без остатка все хорошие свойства человеческого ума и сердца. А иной особенно последовательный беллетрист-изобличитель не остановится даже перед тем, чтобы сообщить и внешнему облику раскольника возможно более отталкивающие черты, превращающие его в какое-то фантастическое чудище, в грубую и нелепую карикатуру. Мы могли бы назвать один роман из раскольничьего быта, появившийся лет пять тому назад и успевший выйти уже вто-
—629—
рым изданием, где раскольники представлены не только людьми порочными и бессовестными, но и имеющими четвероугольные носы, на большее посрамление себе перед православными, которые все являются в романе героями добродетели, красавчиками и умницами... Говорить о художественной ценности подобной „беллетристики», конечно, нет надобности: больших художественных красот в её доселе имеющихся образцах не сумеют отыскать даже их обычные читатели и почитатели. Последние, нужно думать, ценят в литературе этого рода исключительно те обличительные тенденции, которые дают ей вид как бы некоторого подспорья делу противо-раскольнической полемики. Лишь этим предположением мы можем объяснить себе то, что типичные образцы „противо-раскольнической беллетристики“, в прежние годы находившей себе приют преимущественно в фельетонном отделе мелкой прессы, за последнее время стали появляться в виде приложений к одному из специальных духовных журналов.
Оставим пока в стороне вопрос о том, насколько правилен указанный сейчас взгляд на тенденциозную беллетристику, как на подспорье православной полемике с расколом, и обратимся к книге г. Попова – одному из образцов, хотя и не самых типичных, такого писательства.
„Раскол и его путеводители“ – это ряд очерков, рисующих типы и отношения в среде отделившегося от церкви старообрядчества. Из 54 статей, вошедших в состав сборника, только 5 или 6 представляют собой простой пересказ действительных фактов или воспроизведение подлинных документов; все остальные имеют форму беллетристических рассказов, точнее – так называемых „сценок“ из раскольнического быта. Нет нужды передавать здесь содержание этих рассказов, чтобы определить их общий характер: сам автор предупредительно облегчает эту задачу, высказывая в предисловии в книге свой взгляд на общественную среду, к которой принадлежат описываемые им дела и лица. Мир раскола представляется ему в чертах исключительно отрицательных. „Раскольник – по его словам – вообще лукавый человек, злобный, мстительный и истиной не живёт. Ко всем другим ис-
—630—
поведаниям он относится крайне враждебно, нетерпеливо, является крайним ругателем и хулителем всякой, чуждой ему, святыни. Раскольник любит учить других, совращать в свою секту, но сам не любит выслушивать мнение других лиц. При собеседовании раскольник любит, чтобы его одного слушали, и тогда он изображает собой „ангела во плоти“ – тихого, кроткого, смиренного, говорит плавно, медленно, заунывно, часто вздыхает, иногда плачет, чтобы сильнее подействовать на слушателя; но если ему является возражатель, который опровергает его мнение и выясняет ему ложь, раскольник выходит из себя, кричит, ругается, говорит дерзости и не преминет похулить и церковь, и святыню... Раскольник всегда и во всём двойственный человек: одна сторона его жизни идёт на показ, „да видим будет пред человеки“; другая, где он является в поразительной наготе своих человеческих слабостей, тщательно скрывается им от не принадлежащих к его секте лиц, но которой он собственно живёт и дышит. Показная сторона жизни у раскольника – тихий вздох, шептание молитвы, напускное смирение, постоянное крестное знамение и пр. Это щиток, за которым скрывается и пьянство, и разврат, и алчность, и мошенство, и др. пороки. Всю эту грязь раскольник прячет потому, что сам привык всегда судить пороки других, выставлять их на показ и потому боится, как бы и ему не кольнули в глаза… Раскольник пьёт больше, чем православный, также напивается „до положения риз“, но он делает это в кругу своих единоверцев, тихо, в доме, под запором... И так во всём лукавство, хитрость и лицемерие проявляют раскольники, делая одно, а показывая другое“. Дальнейшее содержание книги служит как бы оправданием этой общей характеристики, заменяя намечаемые ею черты конкретными типами и картинами раскольничьей жизни. На тёмном фоне рядовой раскольнической массы, беспомощно путающейся в элементарных понятиях и непрерывно дробящейся из-за пустых обрядовых мелочей, перед глазами читателя проходит длинная вереница ещё более тёмных силуэтов раскольнических „коноводов“, разыгрывающих из себя „радетелей старой веры“, и под её прикрытием
—631—
бессовестно эксплуатирующих народную простоту. Попечители и попечительницы молелен, не знающие границ своему самодурству, тешащие своё самолюбие низкопоклонством окружающих и беззастенчиво запускающие руку в общественный карман, начётчики и уставщицы, морочащие народ своим напускным благочестием и втихомолку разрешающие себе „на вся“; злостные тунеядцы, святоши и юродивые, разные „отцы Расстанофии“, „Алёши-праведники“ и „преподобные матери Голиндухи“, сумасшедшие фанатики и ловкие аферисты, – всё это „путеводители“ раскола, среди которых робко жмутся более невинные представители мелкого раскольнического люда, в роде „горемычного Микиты“, совершающего свою „осквернённую“ молитву у печки, или простодушной Аграфены Никитишны, облегчающей себе труд молитвенного подвига „поклонами в скамеечку“. Одна за другой сменяются картины, рисующие царство беспросветной тьмы и безграничной порочности, возбуждающие чувство отвращения к одним и снисходительной жалости к другим представителям этого мира невежд, плутов и проходимцев. Мрачные краски и карикатурные очертания пущены в ход в таком изобилии, что в конце концов утомляют зрителя и... возбуждают невольное сомнение в правдивости находящихся перед ним изображений. Сам автор предвидит возможность такого отношения к своим очеркам раскола со стороны читателей – и спешит предупредить в предисловии, что заподозрить достоверность сообщаемых им фактов нет ни малейшего основания: в беллетристической форме, представляющей то удобство, что она „доступна всем и каждому“, он изобразил лишь действительные факты, быль, переменивши только имена и фамилии действующих лиц. „Если бы тот или другой скептик, подобно мне, – говорит г. Попов – от рождения прожил 25 лет в расколе, одной с ним жизнью, их мыслями, интересами, сам вращался и участвовал на соборах и их деяниях, в качестве истого раскольника; если бы и последующую четверть века он провёл бы опять-таки в среде раскольников, в ближайших отношениях с ними, то едва ли он заподозрил бы что-либо в моих рассказах и отнёс их к области сочинительства автора. Можно говорить, что всё это глупо, дико, невеже-
—632—
ственно, но мало ли что творится в простом народе и дикого и странного. Нам кажется это глупо, а в простом народе выходит очень естественно“.
Не станем оспаривать этих заявлений автора и допустим, что представленные им черты из раскольнического быта целиком взяты из наблюдений над действительностью. Но и за всем тем ещё остаётся возможность поставить вопрос: не имеем ли мы перед собой в изображении г. Попова исключительных и единичных случаев, односторонне подобранных и слишком поспешно возведённых на степень общих явлений силой предвзятого мнения? Опасение вполне естественное, если принять во внимание вышеприведённую характеристику раскольников в предисловии к рассматриваемой книге. Содержание и тон этой характеристики невольно выдают её действительный источник. Это не итог спокойной наблюдательности, осторожно обобщающей действительные факты, а голос крайнего предубеждения, забывающего границы справедливости и благоразумия. Неужели, в самом деле, можно серьёзно утверждать, что каждый раскольник, в силу именно своей принадлежности к расколу, „вообще лукавый человек“ и непременно „пьёт больше православного“? Подобное уверение остаётся неубедительным даже и под пером автора, „прожившего 25 лет в расколе, одной с ним жизнью“. Недоверие к его объективности, внушаемое предисловием, естественно переносится на остальное содержание книги, и невольно думается при чтении составляющих её очерков и рассказов, что это – не картины раскольнического быта, воссоздающие обыденную действительность, а карикатуры „лубочного“ художника, смотрящего на раскол сквозь призму полемических предубеждений.
Но не составляет ли сама эта тенденциозная односторонность повествований в рассматриваемой книге её положительного качества, если посмотреть на неё с точки зрения не объективно-художественных задач, а интересов противо-раскольнической полемики? Сам автор не упускает из вида такого значения своих очерков и в этом указывает даже, в конце предисловия, цель издания своей книги. Он считает нужным выводить наружу различные безобразия, существующие в расколе, „чтобы тёмная и за-
—633—
кулисная жизнь раскольников была всем известна, чтобы раскольники, прикрывающиеся тогой праведников, святых, а внутри полные всякой грязи и нечистоты, не обманывали простой народ и не выдавали ложь за истину“. Это – взгляд на задачи рассказов и очерков из раскольнического быта, разделяемый, как мы видели, не одним нашим автором. Но не слишком ли преувеличены подобные надежды, возлагаемые на произведения тенденциозной „противо-раскольнической беллетристики“? С своей стороны мы не особенно склонны увлекаться ими – и вот почему. Для людей, хорошо знающих раскол, и для самых раскольников такие произведения не нужны и бесцельны: те и другие хорошо знают действительные недостатки раскола, и тенденциозное преувеличение их не поставят, конечно, в заслугу сочинителю. Что же касается средней массы православных читателей, которые, быть может, только по этим произведениям впервые познакомятся с внутренним характером и бытом раскола, то для них подобные источники сведений о последнем способны, думается нам, принести вред, едва ли не перевешивающий ожидаемую пользу. Они могут внушить одностороннее и несправедливое представление о раскольнической среде, которая при всех её недостатках всё же не есть сплошной мир негодяев, тунеядцев и мошенников; а что ещё печальнее – забросить в душу доверчивого читателя искру того фанатического предубеждения, той отчуждённости и озлобленности, которые так неуместны и нежелательны в отношениях православных людей к своим заблуждающимся братьям.
Ер. Мишинский
Савва (Тихомиров), архиеп. Тверской и Кашинский. [Хроника моей жизни:] Автобиографические записки высокопреосв. Саввы [Тихомирова], архиеп. Тверского [и Кашинского († 13 октября 1896 г.): Том 4. (1868–1874 гг.) Годы: 1869–1870] // Богословский вестник 1901. Т. 2. № 7/8. С. 193–288 (4-я пагин.)
—193—
1869 г.
ствия Вам на новой святительской кафедре, я думал только исполнить мой священный долг перед Вашим Высокопреосвященством, отнюдь не помышляя об ответе с Вашей стороны на моё приветствие.
Но если Вашему Высокопреосвященству благоугодно было удостоить меня приветствием с настоящим пресветлым праздником, то да будет мне позволено принять это архипастырское приветствие не как воздаяние, а как новый знак Вашего милостивого ко мне внимания, столь мало мною заслуженного. И чем неожиданней для меня это приветствие, тем оно утешительнее и тем к большей побуждает меня благодарности перед Вами, Милостивейший Архипастырь. Примите же, Высокопреосвященнейший Владыко, мою глубочайшую благодарность за Ваше милостивое о мне воспоминание в столь великие дни и взаимное вседушевное приветствие с светлым и светоносным праздником воскресения Христа Спасителя. Животворный свет, воссиявший от гроба Жизнодавца, выну да озаряет Ваш дух и да укрепляет силу и телесного Вашего зрения, столь необходимую для беспрепятственного исполнения обязанностей Вашего великого и многотрудного служения.
Чтобы не обременять Вашего Высокопреосвященства излишними заботами, я не буду, без особенной нужды, утруждать Вашего внимания моими письмами. Но, если необходимость заставит меня обратиться к Вам, Милостивый Архипастырь, с покорнейшей просьбой о преподании мне Вашего многоопытного совета, или об оказании помощи в моих епархиальных нуждах, которые, конечно, не безызвестны Вашему Высокопреосвященству, позвольте быть уверенным в Вашем благосклонном внимании к моим просьбам.
Препровождаемые при сём книги, произведения моих прежних занятий на должности Синодального Ризничего, благоволите принять от меня, как дань моего глубочайшего высоко-почитания, с которым навсегда имею честь быть и проч.“
21-го числа из Москвы писал мне С.П. Оконнишников, поздравляя меня с праздником и предуведомляя о своём намерении ещё раз посетить меня вместе с И.
—194—
1869 г.
С. Камыниным. В ответ на это писал я ему от 26-го числа:
„Известие о Вашем намерении вторично посетить меня весьма утешительно для меня. Но я просил бы Вас покорно заранее, хотя предположительно, уведомить меня о времени Вашего прибытия, дабы я мог сообразить с этим моё путешествие по епархии. Я не имею ещё никакой определённой мысли о времени моего выезда в епархию, но для меня всё равно, в начале или в конце лета совершить эту поездку; между тем, как мне известно, для Вас не всякое время равно-удобно к путешествию в Витебск“.
Почётному Блюстителю Полоцкого дух. училища, Московскому купцу И.С. Камынину исходатайствовано было мной, за его значительные пожертвования для училища, благословение Св. Синода и объявлено ему через Училищное Правление. Это очень обрадовало его, и он письменно выразил мне свою благодарность. – На его письмо, полученное мной 22-го числа, я отвечал от 25-го:
„Вы, по своему христианскому человеколюбию, приходите на помощь нашей бедности и нищете; а наш долг платить Вам за сие благодарностью и усердной молитвой к Верховному Подателю всяких благ, ущедряющему Вас дарами Своей Благости.
Преподанное Вам благословение Св. Синода да будет действенно над Вами и над Вашим благочестивым семейством, к преуспеянию Вам в дальнейших подвигах христианского благочестия и человеколюбия и к умножению Вашего семейного мира и благоденствия“!
24-го числа писал я в Москву К.И. Невоструеву:
„Книги Ваши1177 я начал уже употреблять в дело согласно Вашему назначению, поручив это Благочинному Единоверческих церквей. Но один экземпляр Вашей книги о св. Ипполите пришлось мне самому вручить. На страстной неделе был у меня один из Режицких беспоповцев, по фамилии Маслеников, которого коснулась Благодать Божия, призывающая его от тьмы заблуждения в чудный свет Православия. Он ещё не присоединился
—195—
1869 г.
к церкви, но уже весьма близок к этому и горит ревностью о вразумлении и просвещении и прочих собратий своих по расколу. По его словам, он обращался будто бы в Петербург к Московскому Святителю с просьбою об устройстве Миссионерства в Режицком и смежных с ним уездах, преисполненных расколом. Владыка яко бы обещал ему своё содействие в Св. Синоде. Маслеников – человек довольно начитанный и благомыслящий; он нарочито приезжал в Витебск для свидания со мной. Я подарил ему Вашу книгу с тем, чтобы он внимательно прочитал её и написал мне о ней свой отзыв. Он с радостью принял дар и обещал исполнить моё требование.
Проект предполагаемого в Москве Братства я читал в какой-то газете, и от души пожелал этому доброму делу успеха и благословения Божия.
Записку Вашу о Городищах бывшего Волжско-Болгарского царства надеюсь в своё время прочитать. Археологический Съезд – дело хорошее и полезное для науки, но не гораздо чинить на нём брани и ссоры, и особенно оглашать это на целый мир, которому от площадной брани ссорящихся археологов пользы никакой нет, а соблазна зело много1178.
На реформы по части церковной, о которых Вы пишете, можно смотреть с разных точек зрения. Что с одной точки зрения может представляться благовидным, то с другой может иметь инаковый вид. Устройство православного клира по образцу лютеранскому, если представляет некоторые выгоды с финансовой точки зрения, едва ли не будет сопряжено с ущербом для духовных интересов, ибо не всякий приход, особенно в Западном крае, в состоянии будет иметь клириков – наёмников. У меня в епархии был опыт, что при двуличном составе причта, за болезнью или смертью причетника, целый приход, в течение Четыредесятницы, оставался без Бого-
—196—
1869 г.
служения и без причащения Св. Таин. С предположением относительно вдовых диаконов можно согласиться. Поставление во священника не ранее 30 лет и полезно, и согласно с канонами церкви“.
Когда я был, в марте месяце, в Смоленске по случаю погребения умершего Епископа Иоанна, я просил кафедрального о. протоиерея Жданова доставить мне экземпляр печатного описания кончины преосвященного и его фотографический портрет. О. протоиерей в точности исполнил мою просьбу и препроводил ко мне означенные вещи и сверх того брошюру бесед покойного Архипастыря1179.
8-го мая, в 10-м часу утра, отправился я, в сопровождении Н.П. Мезенцова1180, в Успенский Тадулинский монастырь для освящения храма.
Небольшой тёплый храм, первоначально устроенный в 1839 г. из жилых покоев, возобновлён и подготовлен был к освящению ещё осенью 1868 г. Для совершения освящения этого храма я не мог решиться, при наклонности своей к простудам, ехать за 30-ть вёрст от Витебска, в зимнее время, и потому предлагал Настоятелю монастыря, Архимандриту Онуфрию, или самому с братией освятить храм, или освящение оного отложить до будущей весны. Архимандрит охотнее согласился ждать весны, нежели самому освящать храм, по той причине, что он, как бывший базилиан, не имел никакого понятия о православном чинопоследовании освящения храмов.
Прибыв во 2-м часу по полудни в монастырь, в шесть часов велел я начинать в возобновлённом храме всенощную службу, во время коей выходил на литию и величание.
На другой день 9-го числа, в день памяти перенесения мощей Святителя Николая, перед литургией совершено было мной, по обычному чину, освящение храма во имя Св. Александра Невского, в сослужении Настоятеля монастыря, кафедрального Ключаря, священника Альбицкого и др. Стече-
—197—
1869 г.
ние богомольцев было очень значительно как потому что в обители имеется чтимая народом икона Святителя Николая, празднуемого в этот день, так и ради необычайного торжества освящения храма, совершаемого притом Архиерейским священнодействием. При сём не излишне заметить, что в Тадулинском монастыре архиерейского посещения не было с 1846 года.
10-го числа, по выслушании ранней литургии в ново-освящённом храме, я возвратился в Витебск.
27-го мая писал мне из Москвы К.И. Невоструев:
„Вседушевно радуюсь, что трудами Вашими постепенно очищается от плевел и сора нива Божия, и, хотя это возбуждает против Вас козни разбросавшего их врага, но Начальство, ценя и понимая Ваше Преосвященство, блюдёт Вас от неприязни, да вящщий получите плод и хвалу, и венец.
Доброе расположение к церкви Вашего раскольника из беспоповцев, Масленикова, конечно, служит знаком такового расположения многих других, склонит к тому и иных. В сём случае не поможет ли сколько-нибудь моё издание Иппол. Слова, в числе трёх экземпляров, ныне по почте в пользу церкви Вашей безвозмездно посылаемое? Жалею, что второпях забыл я к тому приложить брошюры – о наименовании Спасителя. Сие – долг мой.
При сём не могу скрыть от Вашего Преосвященства того, что на днях довольное число Иппол. Слова выписал от меня на своё иждивение Преосвященный Архиепископ Олонецкий1181 для своих миссионеров и некоторых священников. „К сему побудило нашего Архипастыря – писал мне тамошний миссионер – то обстоятельство, что подобное изданному вами подлинному Ипполитову Слову имеется в одной рукописи библиотеки, бывшей в известном Даниловском раскольничьем монастыре, с собственноручными, как можно полагать по почерку, отметками на рукописи ересе-начальника Андрея Денисова касательно сходства и несходства этого слова с тем, что имеется в Соборнике. Посему употребление издания будет иметь здесь особенное значение, Даниловская рукопись будет придавать
—198—
1869 г.
ему для Олонецких беспоповцев большую достоверность… Но и издание оказывает услугу Данил. рукописи в том, отношении, что без него мы не имели бы прочного основания признать Даниловскую рукопись за подлинное Ипполитово слово. Эта услуга, думаем, расположит наших добросовестных и разумных беспоповцев к принятию этой рукописи за документ достоверный и для них“. В письме ко Владыке Аркадию и профессору тамошней Семинарии, также при этом писавшему мне, я представлял, что нахожу весьма полезным к обличению раскола не только в их поморском крае, но и повсеместно, если не вполне издать им означенный Даниловский список, в сличении с другим Чудовским, мною изданным, то написать статью о согласии их между собой, поставив на вид только те резкие места, коими обличаются раскольничьи мудрования по подложному слову, и присовокупив к этому все приписки Денисова об отношении подлинного к подложному, с критическими, где будет нужно, на те приписки замечаниями. При этом в случае каких-либо затруднений или недоразумений предлагал им своё посредство, и советовал для большей гласности статью отпечатать в каком-либо более распространённом духовном журнале.
Слава Богу, проект о нашем Братстве против раскола получает надлежащий ход. После некоторых сомнений и недоразумений со стороны Преосв. Викария Леонида, коему Владыка передал это дело, проект во всех положениях признан хорошим и твёрдым, и скоро Высокопреосвященный Владыка1182 представит оный в Св. Синод. Из двух об этом проекте статей Н.И. Субботина в Воскресных Прибавлениях Московских Ведомостей, статей, нарочно отпечатанных для ознакомления публики с проектом, Ваше Преосвященство можете получить достаточное об этом Братстве понятие1183.
—199—
1869 г.
Московская наша Семинария находится в жалком положении: она без главы и страха, а правление – чисто демократическое. О. Инспектор Академии Михаил1184, Вифанский о. Ректор1185 и Московской Семинарии Инспектор о. Симеон1186 отказались и от баллотировки. Правление большинством голосов, минуя всех умных, летами и заслугами почтенных и твёрдых людей, из толикого облака здешних магистров избирает молодого бывшего весьма недавно в Московской Семинарии профессором, а теперь служащего во 2-м Кадетском корпусе Законоучителем свящ. Благоразумова1187. Вопросы и прения в Правлении, слышал я, доходят до смешного. Общее стремление – приобрести полную свободу, своей лености в угоду, освободиться от власти и контроля, выиграть в материальных средствах, распространить либеральные идеи. Долго спорили о праве посещать классы Ректору и внешним членам правления (т. е. не от Семинарии сущим), о квартирах наставников, ни во что не ставя семейное положение некоторых“.
Жена Московского купца Н. Т. Смирнова, Марья Сергеевна извещала меня письмом ещё от 8-го мая, что она послала на моё имя паникадило, для одной из городских Витебских церквей, по моему усмотрению. Получив паникадило 28-го числа, я отвечал Г же Смирновой благодарностью.
2-го июня отправился по железной дороге в Полоцк для присутствования на экзамене по Закону Божию воспитанников тамошней Военной Гимназии. Экзамен произведён был на другой день утром. – Ответы воспитанников на предлагаемые мною вопросы были на этот раз удовлетворительнее предшествовавшего (1868) года.
Кроме гимназии, посетил я духовное училище и женский Образцовый пансион. Сверх сего обозрены были мною Полоцкие монастыри и церкви.
—200—
1869 г.
Вечером 3-го числа, на ночь, отправился в имение моего доброго и почтенного друга Действ. Стат. Совет. Н.П. Мезенцова, с которым провёл несколько часов в самой искренней беседе. На другой день, 4-го ч. обозрев по пути две сельские церкви, возвратился в Полоцк, и оттуда в тот же день отбыл в Витебск.
Из Витебска 6-го ч., отправил я Директору Полоцкой военной гимназии, Полковнику П.П. Глотову, отзыв о моём присутствии на экзамене следующего содержания:
„На происходившем, в моём присутствии, 3-го сего июня испытании старших воспитанников вверенной Вашему Высокородию Полоцкой военной гимназии в знании Закона Божия мною усмотрено, что уроки по сему предмету преподаны в полноте, соответствующей возрасту и назначению учащихся, с подробными и основательными объяснениями; преподанное усвоено учащимися с достаточным, по мере способностей каждого, пониманием; на предлагаемые мною вопросы даваемы были ответы некоторыми воспитанниками весьма удовлетворительные, а прочими удовлетворительные. В особенности, утешительно было для меня видеть в отвечавших на испытании воспитанниках довольно близкое практическое знакомство с содержанием книг Св. Писания и твёрдое изучение священных славянских текстов с правильным переводом их на русский язык.
Всё это ясно свидетельствует как о прилежании и внимательности к преподаваемому предмету со стороны учащихся, так и об особенной ревности и опытности со стороны преподавателя“1188.
23 числа писал мне профессор Москов. Дух. Академии С.К. Смирнов:
„Ныне у нас кончились экзамены, и мы устремляемся к отдыху, но не думаю, чтоб для меня отдых мог быть вполне отрешённый от забот. Редакция Православного Обозрения требует, чтоб я к каждой книжке подготовлял письма Платона1189, и так как не со всеми примечаниями я мог сладить по здешним источникам, то должен отыскивать потребное в Москве и в других местах.
—201—
1869 г.
Устав Академический сюда ещё не прибыл. Нынешний год он введён будет в Петербурге и Киеве, а мы с Казанью будем год жить на старых основаниях. Кое-что из содержания Устава известно. Ректор Академии не будет выборный; каждый профессор (даже и светских наук) может быть оным не иначе, как имея степень доктора Богословия, для достижения коей даётся служащим уже профессорам три года, в течение коих профессор должен приготовить диссертацию, которая после публично должна быть защищена. Математика уничтожена во всех Академиях и сверх того – нравственная философия. Оклады жалованья университетские. На студента 200 руб. Профессоров положено 9 ординарных, 9 экстраординарных и 6 доцентов.
В Московской Семинарии Ректора ещё нет. Избраны Благоразумов1190 (14 голосов) и Смирнов-Платонов1191, редактор Православного Обозрения (10 голосов). Есть слухи, неизвестно кем пущенные, что Митрополит представит от себя Корнилия Костромского1192. Консерваторы находят это назначение весьма остроумным. Впрочем, порядок в Семинарии и без того может быть восстановится по выходе в вакацию А…а Л…а и К…о.
А.Н. Муравьев издаёт письма к нему Митрополита Филарета. Собрание большое и очень замечательное“1193.
28-го числа получено было мной из Казани письмо от Ректора Академии, Архимандрита Никанора:
„Почтительно уведомляя Вас, что моё недостоинство удостоено украшения орденом Св. Владимира 3-й степени, долгом считаю за эту милость принести почтительную благодарность и Вашему Преосвященству, так как началом этого приятного для меня дела послужила благость моего Архипастыря, Преосвященного Архиепископа Антония1194, основанием же высокоблагосклонная отметка о моём пове-
—202—
1869 г.
дении и трудах, данная на послужном моем списке Вами, Милостивейший Архипастырь“.
В ответ на это писал я от 30-го числа:
„Усердно приветствую Вас с высоким знаком Монаршего благоволения.
Тем более утешаюсь и сорадуюсь Вашей награде, что виновником её Вы признаёте отчасти и меня. Ваши дарования, Ваши достоинства и особенно Ваше благородство и благодушие всегда я ценил, а теперь ценю ещё более, по известному изречению: nil bonum nisi omissum.
В Витебске продолжается постоянная смена служащих лиц, так что я могу считаться одним из старожилов. Долго ли суждено оставаться в Витебске мне, Бог весть. Впрочем, как не затруднительно моё положение здесь, я не желал бы скоро удаляться отсюда, в том убеждении, что, после тяжёлых трудов, рано или поздно настанет и для меня время отдохновения“.
1-го июля получил я из местечка Друскеники Гродненской губернии от неизвестного мне Князя Николая Туркестанова экземпляр составленного им Календаря для поверки годов в русских летописях1195 при письме от 29-го июня. Само собой разумеется, что этот, хотя недорогой, но тем не менее интересный для меня, дар был принят мною с искренней признательностью. Я почёл долгом письменно поблагодарить за него сиятельного автора.
5-го июля дано было мной за № 2163 Полоцкой дух. Консистории предложение следующего содержания:
„Московский Гражданин, Потомственный Дворянин Ив. Ив. Четвериков препроводил ко мне точный список с чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Гребневские и находящейся в Москве в храме Успения Пресв. Богородицы, что под Бором, ныне известном под именем Гребневского, что на Лубянке.
Препровождённая ко мне икона, по желанию г. Четверикова, должна находиться в Чашницком Николаевском храме, освящённом в прошедшем 1868 г. из Латинского Костёла.
—203—
1869 г.
По сему предлагаю Консистории предписать Чашницкому священнику Петру Кисселю, чтобы он явился в Витебск для принятия означенной святыни и затем, по прибытии в Чашники, внёс оную в Николаевский храм с подобающей торжественностью, и о последующем донёс Епархиальному Начальству“.
В первых числах июля получены были мной от упомянутой уже выше Московской купеческой жены М.С. Смирновой 12-ть подризников, при письме от 17-го июня, где благочестивая жертвовательница обещает прислать ещё несколько подризников и спрашивает, не нужно ли для училища девиц духовного звания каких-либо книг духовного содержания. Понятно, что на такой вопрос был дан мною положительный ответ. Приказавши Начальнице училища составить список необходимых и полезных для воспитанниц книг, я немедленно препроводил этот список к г же Смирновой. В списке этом означено было 28-мь названий книг в 270 томах.
24-го ч. писал я в Москву К.И. Невоструеву:
„Долгом поставляю благодарить Вас за Ваше приношение на пользу нашего тёмного раскола. Простите, что запоздал исполнением этого долга.
Предполагаю, если Бог благословит, ехать для обозрения церквей по направлению к тем уездам, где сосредоточен Витебский беспоповщинский раскол, но не знаю, достигну ли центра этой мрачной среды. Впрочем, на всякий случай запасусь Вашими изданиями и беседами о. Павла Прусского.
Посылаю Вам при сём фотографический вид моей загородной дачи в тех мыслях, что не возбудит ли он в Вашей душе благую мысль и желание видеть эту дачу в действительности.
Отрадно читать в отдалении и письма добрых друзей, но ещё утешительнее личное с ними свидание. Меня не оставляет мысль и надежда, рано или поздно, ещё раз побывать в Москве и побеседовать лицом к лицу с друзьями и знакомыми, но, при множестве знакомых, беседы эти, очевидно, не могут быть довольно продолжительными и вполне удовлетворительными. Иное дело, если кто из моих знакомых посетит меня, хотя бы и на краткое
—204—
1869 г.
время, здесь, в Витебске, и особенно в моём загородном уединении: здесь никто и ничто не может препятствовать нашим взаимным беседам.
Положение Московской Семинарии, судя по Вашему описанию, поистине достоплачевно, но оно очень естественно при новом, столь восхваляемом, выборном начале. – Вероятно, опыты, подобные Московскому, вразумили уже высшие власти отвергнуть это начало по отношению к Ректорам Академий.
Многие, особенно светские, восхищаются новыми законоположениями относительно штатов духовенства и назначения окончивших курс Семинарии, но в приложении к делу этих законоположений немало встретится затруднений, по кр. мере, в начале, особенно в наших западных краях. Причетнический оклад в 60 руб. и 10-ти-летнее ожидание священнического сана немного привлекают охотников на должность псаломщика, и потому нам угрожает опасность остаться без кандидатов священства“.
25-го марта 1869 г. Высочайше утверждён был новый штат духовных Консисторий, по которому в великороссийских епархиях вновь назначено, а в западных значительно возвышено было, жалованье членам присутствия, а чиновникам Консисторских Канцелярий удвоены и даже утроены оклады жалованья. Когда получен был мною при Указе Св. Синода новый штат жалованья для служащих в Полоцкой д. Консистории, я пригласил их принести Господу Богу благодарственное о сём молебствие. Вслед за тем составлен был ими благодарственный адрес на имя Обер-Прокурора Св. Синода, Графа Д. А. Толстого, который они представили мне, для препровождения к Его Сиятельству, при следующем письме:
„Преосвященнейший Владыко, Милостивейший Архипастырь и Отец!
Ваше Преосвященство по собственному порыву Вашей Святительской души благоволили предстать перед алтарём Отца Небесного с молитвой от нас за благоденствие Обожаемого Монарха, облагодетельствовавшего нас возвышением штатов, которыми обеспечено наше труженическое существование.
Благоволите же, Милостивейший Архипастырь, предста-
—205—
1869 г.
вить Его Сиятельству, Господину Обер-Прокурору Святейшего Синода, прилагаемое у сего наше верноподданническое выражение чувств беспредельной благодарности Августейшему Монарху за столь великие щедроты и обета верной и честной службы Его Императорскому Величеству, а также глубокой признательности Сиятельнейшему Графу за его предстательство“.
Представленный мне адрес я препроводил к Графу Дмитрию Андреевичу при письме от 31-го июля следующего содержания:
„Сиятельнейший Граф, Милостивый Государь!
Члены Присутствия и чиновники Полоцкой Дух. Консистории, проникнутые чувством живейшей благодарности за великое благодеяние, открывшееся для них в новых, Высочайше дарованных Духовным Консисториям штатах, и сознавая, что этим благодеянием они обязаны предстательству перед Державной Властью Вашего Сиятельства, единодушно положили изъяснить пред Вашим Сиятельством чувства своей глубокой благодарности и обратились ко мне с просьбой представить Вашему Сиятельству выражение их благодарных чувств.
С особенным удовольствием исполняю просьбу моих сотрудников в делах епархиального Управления, соединяя с их признательными чувствами и мою искреннюю благодарность за Ваше, Сиятельнейший Граф, столь человеколюбивое попечение об улучшении материального положения наших Консисторских тружеников.
Призывая на Вас и на Ваши дальнейшие труды и подвиги на пользу Православного духовного ведомства Божие благословение, с истинным почтением и совершенной преданностью имею честь быть и проч.“.
На моё письмо Граф отвечал собственноручным письмом от 25-го августа:
„Преосвященный Владыко, Милостивый Государь и Архипастырь!
Получив на днях почтеннейшее письмо Вашего Преосвященства от 31-го июля, долгом поставляю искренно благодарить Вас за оказанное мне внимание и просить передать мою признательность Г.г. членам присутствия и служащим Полоцкой духовной Консистории. Я почитаю себя
—206—
1869 г.
счастливым, что удостоился быть орудием Всемилостивейшей заботливости Государя Императора о положении лиц, посвятивших себя на служение Православной церкви.
С отличным уважением и искренней преданностью имею честь быть и проч.“.
На этом письме 13-го сентября мною дана была следующая резолюция: „Прочитав сие письмо в Присутствии Консистории, при общем собрании Членов и чиновников, сделать с него список, который и приложить к делу, а подлинное возвратить мне“.
Попечитель Виленского учебного округа, Тайный Советник, П.Н. Батюшков1196 препроводил ко мне, при письме от 31-го июля за № 4803, III и IV вып. издаваемых по Высочайшему повелению под его руководством „Памятников русской старины в западных губерниях Империи“, в дополнение к первым двум выпускам, доставленным мне в прошедшем 1868 г. – Получив письмо и этот дорогой дар 10-го августа, я выразил Его Превосходительству свою искреннюю благодарность в письме от 22-го того же августа.
5-го августа послал я с гостившим у меня Казначеем Троицкой Лавры, Иеромонахом Мелетием, в Киев, А.Н. Муравьеву фотографический вид моей Залучесской дачи и при этом писал Его Превосходительству:
„Усерднейше поздравляю Вас с водворением на высотах древнего Киева-Матери градов Русских; да будет здесь пребывание Ваше ещё более мирным и приятным, нежели в Северной Столице. За благосклонное приглашение меня в Киев, приношу Вам душевную благодарность. Мысль о путешествии в Киев, для поклонения тамошней Святыне, и в особенности нетленным мощам Препод. Евфросинии Полоцкой, меня сильно занимает, и я почитаю священным долгом, рано или поздно, привести эту мысль в исполнение, но для сего ожидаю более благоприятных обстоятельств. Нынешним летом предпринять этого путешествия я не могу, потому что данный нам восьмидневный срок для самовольных отлучек из епархии недостаточен для совершения с душевной пользой и удоволь-
—207—
1869 г.
ствием этого предприятия, а просить у Св. Синода увольнения на более продолжительный срок представляется неудобным и неблаговидным после долговременной моей отлучки из епархии в 1867 г. Я думаю, если буду жив и Господь благословит, просить отпуска на месяц, для путешествия в Киев и оттуда в Москву, или наоборот, тогда, когда Москва соединена будет железной дорогой с Витебском через Смоленск; а теперь, при настоящей оказии, посылаю Вашему Превосходительству мой низкий поклон и глубокое почитание. Податель сего письма, пробывший у меня в гостях четыре дня, хорошо осмотрел моё житьё-бытьё и сообщит Вам, если пожелаете, обстоятельные сведения о моём пребывании в Витебске и Залучесье.
Для наглядного понятия о моём летнем пребывании посылаю Вам фотографический снимок моей загородной дачи. Пребывание на этой даче составляет для меня приятное отдохновение после продолжительных и тяжких зимних трудов.
Есть слух, что Вы предпринимаете издание писем, полученных Вами от покойного Московского Святителя; весьма утешительный слух, если он справедлив. В этих письмах читающие обретут, без сомнения, много драгоценных мыслей и сведений. С нетерпением ожидаю я появления на свет этих драгоценных писем“.
В ответ на это получил от Киевского насельника послание от 21-го ч. следующего содержания;
„Приношу благодарность Вашему Преосвященству за добрую обо мне память – фотографию Вашей виллы, которую однако не променяю на свою. „Прииди и виждь“, а это бы можно было сделать и без особого отпуска, умножив только несколькими днями осьмидневный срок; но Вы так педантически аккуратны, что Вам кажется вся вселенная подвижется, аще не сотворите. Незачем для сего ждать железной дороги на Смоленск. Исполняя желание Ваше, посылаю Вам изданные мною письма Владыки, а Преосвящ. Леониду не послал, потому что он не хотел озаботиться перед новым Владыкой о издании сих писем. Слишком сделался придворным человеком и от всех епархий отказывается, чтобы только не расстаться с Московским
—208—
1869 г.
кружком, что я нахожу весьма неприличным, и всё грозит уйти на покой, между тем сидит.
Простите и примите уверение в искреннем моём уважении ...
Постарайтесь огласить мою книгу, чтобы она из Киева расходилась по Вашим пределам“.
8-го числа, в седьмом часу утра, отправился я в путь, для обычного обозрения церквей вверенной мне епархии. На этот раз путешествие моё продолжалось тринадцать дней (с 8 по 21 число), и мною осмотрено в уездах Городокском, Невельском, Себежском, Дриссенском, Лепельском и Полоцком два монастыря и 22 приходских церкви; причём совершено было 5-ть литургий со всенощными перед ними бдениями.
Изложу здесь некоторые частности моего 13-ти-дневного путешествия по епархии.
Первая церковь на моём пути была – Собор в г. Городке. Здесь я выслушал литургию и пересмотрел церковные документы, которые оказались в большей исправности, чем в первый раз (в 1867 г.). Затем в доме протоиерея Бобровского пил чай.
Прибыв в село Рудню, я нашёл в здешней церкви большие беспорядки: во-первых, я снова увидел за левым клиросом прежний престол, который, не смотря на моё приказание в 1867 г. предать оный огню, оставался целым; во-вторых, с ужасом увидел, что запасные Св. Дары хранятся в медном ковчежце на лоскутке газетной бумаги, и в-третьих, заметил священника не совсем в трезвом виде. Приняв всё это во внимание, я почёл справедливым непослушного, небрежного и нетрезвого священника Кушина удалить от настоящего прихода.
В селе Завережье, осмотрев церковь, я посетил дом священника И. Корвецкого. Корвецкий вздумал угощать меня шампанским и при этом имел бесстыдство просить о принятии его дочери на казённое содержание в женском училище. За первое я сделал ему замечание, а в последнем отказал.
В тот же день (8-го ч.), в 5 часов вечера прибыл в г. Невель и остановился в Преображенском монастыре. На другой день (9 ч.) утром раннюю литургию слушал в
—209—
1869 г.
монастырской церкви, а вечером всенощную службу совершал в Градском Успенском Соборе. Там же на следующий день (10-го числа), в воскресенье совершена была мной литургия с молебном и молитвой о бездождии.
В 10-ти саженях от Православного Градского собора стоит обширный каменный латинский костёл. Скажу о нём несколько слов.
Костёл этот, посвящённый сначала имени известного врага православия Иосафата Кунцевича, а потом не без особенного лукавого намерения переименованный во имя св. великомученика Георгия, всегда служил и служит к соблазну православного народонаселения, как городского, так и окрестного сельского. При одновременном совершении богослужения как в соборе, так и в костёле, игра в последнем на органе с присоединением иногда и других музыкальных инструментов (барабанов, литавр и др.) служит немалым развлечением и оскорблением религиозного чувства и в священнодействующих, и в молящихся в православном храме, в особенности в летнее время, при открытых окнах и дверях как в соборе, так и в костёле.
Но этим не ограничиваются неблагоприятные действия близкого соседства латинского костёла на посетителей, православного храма. Занимая видную местность при городской площади, латинский костёл, в базарные дни и в нарочитые местные праздники православной церкви, как, напр., в день празднования Казанской иконе Божией Матери, в день преп. Нила Столбенского (27-го мая) и др., когда бывает многочисленное стечение богомольцев, производимой на органе игрой во множестве привлекает к себе православных простолюдинов, отстраняя их от посещения православных храмов.
Приняв, с одной стороны, во внимание столь неблагоприятное соседство римско-католического костёла с православным храмом и вредное действие оного на православное местное народонаселение, а с другой, имея в виду весьма незначительное количество римско-католического населения в г. Невеле, именно, не более 55-ти душ обоего пола, для которого весьма достаточным мог быть другой, существовавший в конце города, костёл, – я не раз обращался к
—210—
1869 г.
Начальнику губернии Токареву с ходатайством об удалении соблазна от взоров православных жителей г. Невеля, но моё ходатайство не имело успеха.
Вечером 10-го числа выехал я из Невеля на ночлег в имение Предводителя Дворянства Н.И. Евреинова-Еменец, где провёл время в приятной беседе с добрыми и благочестивыми хозяевами.
На другой день, 11-го ч., утром осмотрел Еменецкую церковь, в которой за левым клиросом находится очень древний образ Божией Матери. После обеда возвратился опять в Невель.
12-го числа утром, осмотревши городские училища – мужское и женское, а также пансион, отправился далее, по направлению к г. Себежу.
В два часа по полудни прибыл в имение помещика Статс-Секретаря Ст. Мих. Жуковского. После обеда, в 6 ч. вечера, я совершил в существующей при имении Конашеве небольшой, но очень благолепной, церкви всенощную службу с величанием Святителю Тихону, а после оной панихиду о почивающих под этой церковью родителях благочестивого помещика.
На следующий день, 13-го числа, в мест. Гультяеве (15 в. от Конашева) совершена была мной соборне литургия с молебном Свят. Тихону, так как в этот день совершается церковью память открытия его св. мощей.
Из Гультяева прибыл я того же дня, в 6 часу вечера, в заштатный Покровский Вербилов монастырь и здесь расположился ночевать.
Здесь скажу несколько слов о том, в каком положении усмотрена была мною эта пустынная обитель1197.
Обширный монастырский храм снаружи был приведён уже в довольно благоустроенный вид, но внутри требовал безотложного обновления. Священными утварями и ризничными принадлежностями монастырь был снабжён из приношений от Московских обителей и церквей в достаточном количестве. Братии весьма немного, но богослужение отправляется довольно чинно. На ранней литургии, которую
—211—
1869 г.
я слушал на другой день, чтение и пение было очень удовлетворительно.
14-го числа, в 10 часов утра отправился из Вербилова и в 4 часа по полудни прибыл в г. Себеж.
На расстоянии почти 50-ти вёрст от Вербилова монастыря до Себежа не встретилось на пути ни одной приходской церкви; причина та, что в этой местности, лесистой и болотистой, большинство населения составляют раскольники-беспоповцы.
Небольшой и малолюдный городок Себеж расположен на узкой полосе земли, вдающейся в обширное озеро того же имени и оканчивающейся высоким и крутым пригорком. В нём одна Православная церковь и Латинский костёл.
По прибытии в Себеж, отправлено было мной в обычное время всенощное богослужение с литией и величанием, а на другой день, 15-го ч., в праздник Успения Пресвятые Богородицы, совершена литургия при многолюдном стечении богомольцев, не только городских, но и окрестных селений. Должно заметить, что вообще народонаселение Себежа и Себежского уезда, как пограничное с древлеправославным населением Псковской губернии, более привержено к православию и менее других соседних уездов Витебской губернии подвергалось влиянию латинства и во всех отношениях сохранило почти неприкосновенным для чужих элементов древлерусский тип.
Совсем иное встретил я в примыкающем к Себежскому уезду уезде Дриссенском. Здесь поразила меня ощутительная разность, как в топографическом, так и этнографическом отношении: вместо песчаной почвы и дремучих сосновых лесов, которыми изобилует Себежский уезд, предо мною открылись обширные поля с глинистой и отчасти чернозёмной почвой; вместо великорусских крестьян с длинными бородами на каждом шагу встречались бритые и стриженые поселяне; вместо чистого и правильного русского языка слышалось белорусское наречие с примесью множества польских слов.
Первая встретившаяся мне на пути из Себежа церковь Дриссенского уезда – в селе Церковне. Построенная на правительственные суммы и в начале 1867 г. освящённая
—212—
1869 г.
во имя Успения Божией Матери, церковь эта имеет вид настоящего православного храма и в среде прочих церквей Дриссенского уезда, сохранившихся большей частью от времени Унии, составляет приятную особенность. Местные иконы в этой церкви – Спасителя и Божией Матери, а также изображение Тайной Вечери над царскими вратами – все очень хорошей кисти – приношение бывшего Министра Народного Просвещения, Действ. Тайного Совет. Авраама Сергеевича Норова1198, а Храмовый образ Успения Божией Матери довольно хорошее произведение искусства священника Стрелковской церкви того же уезда, Петра Соколова, изучавшего церковную иконопись, под руководством академика Солнцева1199, в С.-Петербургской Дух. Семинарии. В этой же церкви находится древняя, по преданию, явленная икона Св. мученицы Параскевы, благоговейно чтимая народом. С этой иконой, в день празднования муч. Параскевы, ежегодно, впрочем, не с очень давнего времени, совершается крестный ход в соседнее местечко Освею, отстоящее от Церковны в 10-ти верстах.
Но так как этот крестный ход, существующий не далее, как с 1836 г., установлен не в следствие каких-либо особенных обстоятельств и не по желанию церковлянских прихожан, а по произволу бывшего владельца Шадурского – римско-католика, которому принадлежит и местечко Освея, где он имеет торговые лавки и питейные заведения, и следовательно побудительною причиной для установления этого хода со стороны Шадурского, очевидно, были одни лишь корыстные расчёты, между тем как церковлянская церковь, коей принадлежит чтимая святыня, а равно и причт сей церкви, получавший до 1836 г. значительные приношения от притекающих Богомольцев, с этого времени лишились своих выгод, то, приняв во внимание эти обстоятельства, Полоцкое епархиальное Начальство, по сношении с Гражданским, предположило, согласно прошению церковлянского причта, отменить на будущее время совершение этого крестного хода, как незаконно установленного и притом несообразного с обычаями пра-
—213—
1869 г.
вославной церкви, по которым чтимая святыня, в нарочитые дни её чествования, обыкновенно привлекает благочестивых поклонников к месту её чествования, а не сама привлекается ради чьих-бы-то ни было корыстных расчётов в иное место.
Местечко Освея – богатое имение помянутого помещика Шадурского, расположенное на берегу большего озера того же имени, имеет значительное население. Большинство этого населения, как и вообще в городах и местечках западного края, составляют евреи и отчасти католики: но здесь немало однако ж и православных. Существовавшая до последнего времени в Освее православная церковь во имя Преображения Господня имела свою, заслуживающую внимания, историю. Церковь эта, зданием деревянная, построена тщанием и иждивением Виленского воеводы Казимира Яна Сапеги около 1667 г. и первоначально принадлежала Униатам. Но, в течение 18-го столетия, она неоднократно переходила из рук в руки от униатов к римским католикам и даже, среди этой взаимной борьбы, нередко оставалась по несколько лет запечатанной с прекращением в ней богослужения, пока, наконец, не было дозволено в ней, с разрешения Папского престола, совершать богослужение поочерёдно латинскому и униатскому духовенству, и это продолжалось до воссоединения униатов с православной церковью в 1839 г. Поводом к такой странной и непристойной борьбе из за обладания церковью служило её выгодное положение в центре местечка и на торговой площади. До 1840 г. в самой ограде церковной существовали лавки, отдаваемые в аренду евреям и приносившие значительный доход владельцу местечка – Шадурскому, который, как римский католик, без сомнения, из этого дохода уделял довольную часть ксёндзам, когда в их владении находилась церковь. В настоящее время ветхая Освейская церковь разрушена и на её месте воздвигнут, на правительственные суммы, новый каменный храм.
На половине пути между Освеей и г. Дриссой находится богатое имение польского помещика Лопацинского – Сарые. Здесь в 1855 г. сооружён был Лопацинским каменный, необширный, но весьма красивый, готической архитектуры, костёл. Но так как этот костёл воздвиг-
—214—
1869 г.
нут был без ведома и разрешения Правительства, то он в 1868 г., по распоряжению гражданского начальства, был закрыт и передан в духовное православное ведомство. В феврале 1869 г. костёл этот освящён в православную церковь во имя Успения Пресвятые Богородицы. Ново-освящённый храм снабжён был всем потребным из собранных мной в Москве приношений.
По пути из Сарыи, не доезжая вёрст четырёх до г. Дриссы, посетил я церковь св. Евфросинии, находящуюся в местности, получившей наименование от окружающего её соснового бора – Боровки. Вот какие сведения сохранились об этой церкви. Церковь, зданием каменная, сооружена в 1840 г. богатым польским помещиком Щиттом и первоначально была Латинским костёлом, а в 1844 г. обращена в Православный храм. Существовавшая здесь до 1840 г. униатская деревянная церковь, имевшая вид пуни, т. е. сарая, по распоряжению помещика, была разобрана, так как она закрывала собой и портила вид ново-сооружённого костёла, и по перенесении на другое место обращена была действительно в сарай. С упразднением этой церкви, прихожане-униаты по необходимости должны были посещать костёл и, обращаясь с прочими духовными требами к своему приходскому священнику, причащение св. Таин принимали от рук латинских ксёндзов; и это продолжалось до тех пор, пока униатский приход не был воссоединён с православной церковью, а костёл обращён в Православный храм, т. е. по 1844 г. При моём посещении, Боровская церковь, как по внешнему виду, так и по внутреннему состоянию, представляла мало отрадного для взора; но в ней, среди убожества, тем приятнее поразили меня и благолепием, и особенным историческим значением некоторые священные предметы, как то, образ Живоначальной Троицы на горнем месте, весьма искусной кисти в фряжском стиле, и напрестольный сребро-позлащённый крест. Это – драгоценные дары Её Величества, Государыни Императрицы Марии Александровны. Поведением же местного священника Сченсновича и беспорядками в ризнице я не был утешен.
Прибыв 16-го числа, в 7 ч. вечера, в г. Дриссу, я не
—215—
1869 г.
нашёл местного священника и Благочинного И. Короткевича. Он, по своей благочиннической обязанности, отправился встречать меня, но не по той дороге, по которой ехал я. Так как об этом обстоятельстве мне сделалось известным ещё в. Освее, то я взял отсюда с собой одного из двух священников с тем, чтобы он отправил всенощную в градской Дриссенской церкви, где я на другой день, в воскресенье, располагался совершать литургию. – Ночью возвратился и священник Короткевич, но он не участвовал уже в священнослужении: вместо него приглашено было, по моему распоряжению, несколько священников из подгородных сел.
Церковь, в которой я совершал 17-го числа литургию, каменная, но весьма тесная и маловместительная: при всей однако ж тесноте, она, к удивлению моему, не смотря на воскресный день, не была наполнена народом, обыкновенно привлекаемым в храм торжественным архиерейским священнослужением. Это странное и вместе прискорбное явление объясняется отчасти тем, что большинство Дриссенских прихожан рассеяно на значительном от города расстоянии по деревням, а отчасти и равнодушием к православию здешнего народонаселения, происходящим, с одной стороны, от невежества, а с другой – от сильного влияния латинства, господствовавшего в этом уезде в прежнее время.
По пути из Дриссы к Полоцку посетил местечко Волынцы – Забялы то ж. Здесь на возвышенном пригорке красуется огромный Доминиканский костёл, окружённый обширными каменными зданиями для помещения ксёндзов, а при подошве этого пригорка, как бы у подножия костёла, на расстоянии не более 200 саженей, приютилась малая и убогая православная церковь. Церковь эта, зданием деревянная, построена была доминиканами для их крепостных крестьян в виде костёла и в 1842 г., по распоряжению Начальства, передана в православное ведомство. Длина этой церкви не более 5-ти саженей, ей соответствует и ширина; между тем число приходских душ, принадлежащих этой церкви, простирается до 2-х тысяч. Помещения причта находятся на расстоянии полутора версты от церкви и притом за рекой, от чего происходит крайнее
—216—
1869 г.
затруднение для причта в посещении церкви, особенно в весеннее и осеннее время.
Само собой разумеется, что описанная здесь церковь не могла далее оставаться в таком убогом виде; её необходимо было заменить новой, более обширной, но скоро ли могла дойти до этой церкви очередь, при множестве, с одной стороны, других церквей в епархии, находящихся в подобном положении, а с другой, при ограниченности сумм, ежегодно отпускаемых от казны на построение новых и на возобновление ветхих церквей? По Полоцкой епархии, в 1869 г., нуждались в более или менее капитальных починках и исправлениях 128 церквей, а 5 церквей, по совершенной их ветхости, были даже запечатаны с прекращением в них богослужения.
Далее, по пути, встретил я церковь в селении Ново-Замшанах – Смоляки то ж. Церковь во имя св. великом. Георгия, деревянная, построенная, как значится в Клировой ведомости, одним из Полоцких Архиереев, но кем именно и когда неизвестно. Беднее и скуднее этой церкви трудно что-либо и представить. Бедность эта зависит частью от малочисленности и бедности прихожан, а частью от невнимательности и нерадения причта.
18-го ч. в 5-ть часов по полудни прибыл в Полоцк и остановился по обычаю в Богоявленском монастыре. На другой день, 19-го ч. совершал в главной монастырской церкви литургию, а после обеда отправился за Двину для обозрения некоторых ближайших церквей. Ночь провёл в Бездедовичах у помещика Н.П. Мезенцова, и 20-го числа возвратился опять в Полоцк.
Вечером 21-го числа благополучно возвратился в Витебск.
Пока я путешествовал по епархии, мне писали из разных мест разные лица, а именно:
9-го августа писал профессор Московской Дух. Академии С.К. Смирнов:
„Относительно нашего Устава могу сообщить Вам, что при нём прислано предписание, чтобы профессоров обязать подпиской в три года приготовить диссертации на степень доктора. Те, которые в службе своей перешли за термин пятилетий, не подвергаются в настоящее
—217—
1869 г.
время баллотировке и продолжают служить до 30 или 35 лет.
Граф Дмитрий Андреевич1200 в настоящее время гостит в своём Рязанском имении и во второй половине августа будет в Москве на открытии Съезда Естествоиспытателей и потом будет обозревать гимназии и другие учебные заведения. – Граф Михаил Владимирович1201 находится в большой скорби: жена его опасно больна от крайнего истощения сил.
Ректора в Московской Семинарии ещё нет. О. Инспектор наш1202, которому я передавал Ваше приглашение ехать в Друскеники1203, пробыл вакацию в Москве, лечился гальванизмом, но никакого облегчения не получил“.
13-го ч. писал из Москвы Преосвящ. Леонид:
„Живу всё лето в Москве в духоте, в скорби, в страшной туге сердечной. От дел в келью без указания Промысла бежать боюсь; хорошо, что ускользнул от Нижнего, но что далее? Что я? Ненужное надгробие Митрополита Филарета. История не имеет обратного хода; но бывают и такие истории, за которыми и вперёд идти не хочется. Только в храме утешение, да иногда в доброй беседе, особенно на даче с родными. Помню, как однажды (мы поехали из Новоспасского в Кремль) Вы говорили мне: не надобно заранее печалиться, а наслаждаться настоящим. Да, мы оба были справедливы: Вы – потому что будущее предоставляли Богу, я – потому что предчувствия сердца были сильны и тяжелы; оба – потому что очень любили настоящее. Моё земное, и внешнее, и духовное, всё погребено в Лаврской Филаретовской церкви. Впрочем, если эта сокровищница сохранит мне что-нибудь для неба, я вознаграждён за испытания и страдания. Нередко переношусь мыслью к Вам и, хотя за уголок, приподнимаю завесу, однако вижу, как велики Ваши труды, как много Вы должны страдать за Церковь Божию.
—218—
1869 г.
В бытность здесь Высочайшего Двора, я действительно принимал в Саввине Её Величество с Великой Княжной Марией Александровной1204. В Ильинском был принят Государыней, утешен был Её благочестивым и разумным словом о монастыре; слушал с нею первую панихиду по Тат. Бор. Потёмкиной1205; был у Великих Князей, которые воспитываются в навыках благочестия и набожности. В Москве обедал у Цесаревича1206 и довольно говорил с Ним и с Цесаревной1207, в которой заметны залоги Екатерины и Марии Феодоровны – уменье действовать на сердца и готовность на благотворительность. След огненный восторга всеобщего оставлен юной четой по всем берегам Волги и Дона. Везде внимание ко всякому – кстати сказанное слово, кстати посещённый дом, и принятое или непринятое приглашение, угощение, и всё это с умом и чистосердечием. Донцы в восторге неизъяснимом были, увидев подле Царственного Молодца – Атамана своего юную Атаманшу на коне, в женском верховом платье казачьего (синего) цвета, в казачьей бараньей шапке с белым султаном, смелую, с особенным искусством в наездничестве. Дай Бог, чтобы все обстоятельства благоприятны были к утверждению народа в любви и преданности к престолу, всегда, и в наши злые времена особенно.
Однако простите и благословите“.
Письмо это получено было мною 17-го числа в г. Дриссе. 1-го сентября писал я в Киев А. Н. Муравьеву.
„Спешу принести Вашему Превосходительству искреннюю благодарность за драгоценный дар. Оторваться не могу
—219—
1869 г.
от изданных Вами писем приснопамятного Святителя. Письма эти, без сомнения, заключают в себе наиболее интереса сравнительно с другими, адресованными к иным лицам, по крайней мере, с теми, кои уже напечатаны до настоящего времени.
Огласить Ваше издание в пределах вверенной мне епархии я почитаю приятным долгом и для примера других начну выписку Вашего издания с себя. Посылая вместе с сим 10 руб., прошу выслать мне, сколько следует за эту сумму, экземпляров книги.
Храню и я, как драгоценный залог отеческого внимания и благоволения ко мне покойного Владыки, несколько писем, которые также со временем, быть может, будут преданы печати1208.
Вы напрасно упрекаете меня в педантизме. Мне суждено в настоящую пору жить и действовать в такой стране и среди такого общества, где не только отступление от закона, но и законные мои действия нередко подвергаются нареканиям и доносам.
Позвольте вступиться за Преосвященного Леонида. Я не буду оправдывать его за уклонение от ходатайства перед новым Владыкой относительно Вашего издания писем, но не могу не защищать его от Вашего нападения на счёт его уклонения от принятия какой бы то ни было епархиальной кафедры. При его болезненном состоянии, при его впечатлительной натуре и при его аристократических привычках, оставить столицу и удалиться в провинциальную глушь, где нет для него привычного общества и где служебная ответственность падёт на его рамена тяжким бременем, значит обречь себя на преждевременную смерть“.
Андрей Николаевич не замедлил выслать мне книги и вместе с тем писал мне от 8-го числа:
„Поспешаю исполнить желание Вашего Преосвященства и отправить Вам 4 экземпляра писем Владыки, которые продаются здесь по 2 р. 50 к., а с пересылкой 3 руб., но с Вас я на сей раз за вес не беру (ради знакомства, как говорят в лавках).
Что касается Преосвященного Леонида, это самое я и
—220—
1869 г.
осуждаю в нём, что Вы допускаете, т. е. чтобы он мог предпочитать свои аристократические привычки долгу служебному и ради сего оставаться в Москве. Это недостойно Епископа; если Вы подвизаетесь в Полоцке, то и он мог быть в Нижнем и ещё с большим утешением. Впрочем, наша переписка прекратилась. – Сегодня только от нас уехали дорогие гости Наследник и Цесаревна, которые милостиво посетили меня в моей вилле и восхищались ею“.
28-го сентября предстояло в Киеве торжественное празднество по случаю пятидесятилетнего юбилея тамошней духовной академии. В том предположении, что в этом торжестве примет участие, как воспитанник Киевской академии, мой почтенный сосед Преосвящ. Макарий1209, Архиепископ Литовский, я почёл долгом пригласить Его Высокопреосвященство к себе на перепутье, так как путь из Вильны в Киев лежал через Витебск. По этому случаю я писал Литовскому Владыке;
„До меня достиг слух и, думаю, правдоподобный, что Ваше Высокопреосвященство имеете намерение в конце текущего месяца предпринять путешествие в Киев, для присутствования на предстоящем юбилее тамошней духовной Академии.
Давно занимает меня мысль о свидании с Вашим Высокопреосвященством, но до сих пор не представлялось удобства к её осуществлению.
Так как путь из Вильны в Киев лежит через Витебск, то, если бы и Ваше Высокопреосвященство нашли возможным остановиться здесь и удостоить меня своим посещением, я почёл бы это за особенное для себя счастье.
В случае, если со стороны Вашего Высокопреосвященства, не встретится особенного затруднения к удовлетворению моего душевного желания, просил бы я покорнейше предварительно уведомить меня о времени Вашего отбытия из Вильны, дабы я мог сделать надлежащее распоряжение относительно высылки экипажа на Витебскую станцию железной дороги“.
—221—
1869 г.
На это письмо получен был мной из Вильны от 17-го числа следующий ответ:
„Усерднейше благодарю Вас за Вашу братскую предупредительность и те любезные услуги, какие мне предлагаете. К сожалению, воспользоваться ими я не могу.
Я действительно имел намерение отправиться в Киев на юбилей родной Академии и твёрдо стоял в этом намерении. Но с наступлением осени, дождливой и сырой, я почувствовал, что бедное моё здоровье не в состоянии вынести такого длинного пути в такое время. А потому нашёлся вынужденным отказаться от счастья посетить св. град Киев и уже известил о том Академию.
Поручая себя Вашим братским молитвам, с совершенным почтением и преданностью имею честь быть“.
27-го числа писал мне Преосвященный Игнатий1210:
„Со днём Ангела усердно Вас приветствую и желаю Вам Божественного утешения и подкрепления во всех благих пастырских начинаниях и предприятиях.
Признаюсь, что я едва не попал на Вологодскую кафедру1211. Не знаю, похвалите ли меня за то, что я отказался от предложения. Но так решиться заставило меня некрепкое состояние здоровья, для которого неблагоприятен мог бы быть тамошний болотистый климат. Признаюсь, что ещё несколько лет желал бы я пробыть на теперешнем месте.
За молчание моё прошу премного прощения. Да не поставится сие мне в вину великую“.
Казначей Высокопетровского монастыря, о. Иосиф письменное приветствие меня со днём ангела сопровождал вещественным даром – прислал мне книгу писем в Бозе почившего Митрополита Филарета к А.Н. Муравьеву. Притом он передал мне поздравление и от известного благотворителя Полоцкого женского училища, С.П. Оконнишникова, сообщая вместе с тем о следующем прискорбном событии в семействе последнего: трёхлетний сын его Пётр, увидевши в передней комнате стакан с ку-
—222—
1869 г.
поросным маслом, попробовал этого масла и на другой день скончался.
28-го числа приветствовал меня от лица подведомого духовенства Велижский Благочинный, священник Владимир Щербов в таких выражениях:
„Священным и отрадным долгом считаю приветствовать Ваше Преосвященство, Милостивейшего Архипастыря и незабвенного отца и святителя с наступающим днём Вашего Ангела, поздравить не от одного только своего имени, но от лица всего вверенного мне духовенства.
В достопамятный день Вашего Ангела, все мы пастыри душ, вместе с нашими духовными детьми, принесём особенно тёплую усердную молитву к Господу сил о здравии и долгоденствии Вашего Преосвященства! С мольбой о продлении бесценной жизни нашего незабвенного Святителя и истинно милосердого Отца, мы соединим и благодарственную молитву к Царю Небесному, пославшему нам в лице Вашем истинно благодетельного Отца, под покровительством которого мы живём мирно и благополучно.
В день Вашего Ангела мы предложим нашу трапезу бедным и нищим, да разделят и они нашу общую радость и торжество и соединят свои молитвы с нашими о ниспослании всех благ и небесного благословения на Вас – нашего Архипастыря и Святителя!
Примите милостиво приветствие от сердец, проникнутых к Вам чувством глубокой беспредельной любви и благоговения.
Мы убеждены, что бесконечно Благий и неизглаголанно Милосердый Господь примет и услышит нашу смиренную и усердную мольбу, и продлит жизнь нашего незабвенного Архипастыря, Отца и Святителя, на много и премного лет, для славы Пресвятого Своего имени и радости, и счастья православного духовенства“.
29-го числа писал мне К.И. Невоструев:
„Увы! мысль о нашем Московском Братстве против раскола почти совсем остановилась и отменилась. Владыка, по наущениям других, недоброжелательствующих, подозрительных или недальновидных, показывает к
—223—
1869 г.
ней холодность и недоверие, а таким образом у всех опускаются руки. Это прискорбно!
Летом Преосвященный Донской1212 для вразумления коснеющего в расколе своего казачества просил у нашего Владыки кого-нибудь из раскола же обратившегося. Владыка хорошо указал на о. Пафнутия1213, жившего у нас в Чудове, который уже и отправился в Новочеркасск. О. Пафнутий на прощальном от Владыки благословении заметил, что каковы бы ни были действия на раскол в провинциях, без устройства по нему дела в самой Москве, будут малоуспешны. Возбуждённые в провинции сомнения раскольники через депутатов своих обыкновенно хотят разрешить справками и беседами в Москве, и по недостатку людей сочувствующих и руководствующих часто в том и другом обманываются.
На новые церковные реформы1214 сильно здесь негодуют, а в деревнях крестьяне плачут. Тем страннее и прискорбнее оказывается пущенная в Московских Епархиальных Ведомостях (и даже по внушению будто бы... и сказать не смею) в похвалу их статья. Когда Преосвященный Леонид ездил ныне по епархии, в некоторых сёлах крестьяне со слезами падали на колена, умоляя Его Преосвященство, чтоб не закрывали их церкви, построенные отцами их, при коих они частью и покоятся. Преосвященный Леонид писал о сём с дороги к Владыке – Митрополиту. Из Симбирска и Самары также неблагоприятствующие реформе вести.
Делаю Вашему Преосвященству убогое приношение, посланное по почте. По Рязанской епархии вновь открылись богатые и хорошие материалы, но беда, что Преосвящ. Алексий1215 не сочувствует археологическим исследованиям.
—224—
1869 г.
Сейчас лишь получил известие, что из двух представленных кандидатов вопреки прямой воле Владыки, выраженной в представлении, на ректуру Московской Семинарии утверждён не Вифанской Семинарии ректор О. Сергий 1216, но Священник Кадетского корпуса Благоразумов1217, человек ещё молодой“.
Того же числа писал мне из Мурома священник А.И. Орфанов1218 и после приветственных слов извещал меня:
„День этот в настоящем году вдвойне будет важен и памятен для меня, как день тезоименитства Вашего и как начало новой для меня деятельности. Волей Божией и распоряжением нашего Архипастыря перемещён я из собора во священника к приходской градской церкви Казанские Божия Матери“.
1-го октября, в день моего Ангела, Кафедральный Протоиерей И. Копаевич1219, поднося мне икону от лица соборян, сказал следующую речь:
„С чувством глубокого благоговения к Святительской Особе Твоей, имеем счастье приветствовать Тебя, Преосвященнейший Владыко, с настоящим вожделеннейшим днём Твоего Ангела. Такие торжества особенно отрадны для всех и каждого, которыми мы привыкли, по обыкновению, исчислять наши и других лета, наши труды и успехи, наши заслуги и награды, всё, что составляет нашу деятельность и наше отличие от других. При таком радостном, в настоящие минуты, перечислении и Твоих достоинств, мы не можем не видеть, что лета Твои, Преосвященнейший Владыка, ещё не маститы, но труды и заботы о вверенной твоему попечению здешней пастве тяжелы и неизмеримы. Но сподоби только нас, Владыка святый, любити Тя и боятися и во всем творити волю Твою; при этом святом условии и Твой покой и наше общее благо несомненны. Да совершает убо благодатное сие общение в нас Сам Верховный Пастыреначальник
—225—
1869 г.
Господь наш Иисус Христос, Которого Св. образ да будет с нашей стороны залогом постоянной нашей готовности внимать Пастырскому Твоему гласу и неуклонно следовать Твоему учению. Да здравствуеши и благоденствуеши с нами, Владыко святый, на многия лета!“
4-го числа писал мне Профессор Московский Дух. Академии С.К. Смирнов:
„На новый год Вашей жизни прошу принять от меня искреннее желание Вам всего доброго и благоприятного в жизни, а паче всего крепкого здравия.
День Вашего Ангела и день академического праздника провели мы нынешний год без о. Ректора1220, который ещё до Сергиева дня уехал на Киевский юбилей. Юбилейное торжество Киевской Академии было, кажется, великолепнее нашего, и щедрот Академии дано более. В нашей Академии ожидается торжество освящения храма, которое предполагается в половине ноября. Церковь отделывается великолепно.
Московская Семинария торжествует по случаю утверждения Ректором Благоразумова“.
15-го октября обращался я к Преосвященному Игнатию, Еп. Можайскому, с официальным письмом, за № 3106, такого содержания:
„Преосвященнейший Владыко, Милостивый Архипастырь!
Казначей вверенного управлению Вашего Преосвященства монастыря, Иеромонах Иосиф, вследствие ходатайства моего, удостоен благословения Св. Синода за принятие, хранение и доставление в Витебск икон, священных и церковных утварей и ризничных вещей, пожертвованных в 1867 г. Московскими монастырями и церквами в пользу церквей Полоцкой епархии.
Свидетельство о сём Полоцкой Д. Консистории препровождая к Вашему Преосвященству, покорнейше прошу Вас, Милостивый Архипастырь, принять на себя труд вручить оное о. Казначею.
С совершенным почтением и братской о Христе любовью имею честь быть“ и проч.
—226—
1869 г.
А на другой день 16-го числа, я писал ему же частным образом:
„За братское приветствие Ваше приношу мою усерднейшую благодарность.
Ваше слово после долгого безмолвия произвело на меня такое же приятное впечатление, какое обыкновенно испытывается при неожиданной встрече с добрым другом после продолжительной с ним разлуки. Других причин Вашего продолжительного молчания, кроме Ваших служебных занятий и ежедневного развлечения посетителями, я не желал бы и воображать. Я уверен, что Ваше доброе ко мне расположение сохраняется и при Вашем молчании. Впрочем, не могу не пожелать, чтобы это молчание, хотя изредка, время от времени нарушалось, к взаимному нашему утешению.
Что Вы избавились от Вологодской кафедры, этому нельзя не порадоваться, но, с другой стороны, нельзя не заметить, что чем дальше Вы будете оставаться в Москве, тем труднее Вам будет с нею разлучаться, если только Вам суждено рано или поздно испытать эту разлуку. Я до сих пор не могу равнодушно вспоминать о благословенной Москве. Правда, моё положение здесь исключительное; в другом месте, может быть, я скорее примирился бы с своим положением.
Итак, в Московскую Семинарию вступил первый выборный Ректор и притом из лиц белого духовенства. Постигаю радость и торжество по сему случаю избирателей, тем более, что ими одержана победа над сторонними настойчивыми усилиями, чтобы был назначен невыборный Ректор. Что в подобном настоящему случае не уважено представление какого-нибудь Полоцкого Епископа, это очень неудивительно, но, если отвергнуто ходатайство Московского Митрополита и Члена Синода, это весьма печально“.
Того же дня писал я и к Казначею Высокопетровского монастыря, о. Иосифу, для которого исходатайствовано мной благословение Св. Синода:
„Приветствуя Вас с преподанным Вам благословением Св. Синода, ещё раз повторяю Вам и мою личную душевную признательность за понесённые Вами труды и
—227—
1869 г.
беспокойства на пользу вверенной мне епархии. Призванное на Вас Высшим Священноначалием благословение Божие да осеняет Вас во все дни жизни Вашей и да укрепляет Ваш дух на дальнейшие подвиги христианского самоотвержения и благоделания на пользу ближних“.
20-го числа писал я в Москву Преосвящ. Леониду:
„Письмо Ваше от 13-го августа, полученное мною 17 числа в городе Дриссе, отзывается каким-то таинственно-печальным тоном. Желал бы я проникнуть в Ваше душевное состояние и ближе узнать о Ваших настоящих обстоятельствах, но, вероятно, этих сведений не могу я получить посредством хартии. Посему, думаю, не бесполезно было бы устроить нам где-либо и как-либо свидание, чтобы личным искренним и откровенным объяснением взаимно облегчить тугу сердечную. По некоторым данным, я могу отчасти догадываться о Ваших нравственно-душевных скорбях.
Что до меня, то и я, в свою очередь, также нередко сетуя хожду (Пс.37:7). На всех путях жизни и службы, время от времени, более и более встречается преткновений и столкновений. С высшими светскими властями, как туземными, так и Виленскими, с некоторого времени веду открытую борьбу. Признаюсь откровенно, не могу не радоваться газетным известиям, что с будущего нового года Витебская губерния освобождается от Виленского подначалия; вместе с этим наши взоры и мысли естественно отвратятся от тёмного запада и будут обращены, если не к светлому востоку, по крайней мере, к северному сиянию.
По газетам видно, что Вас нередко посещают в последнее время разные знаменитые иерархи. Желал бы я знать, какое впечатление произвёл на Вас Сербский Владыка1221. Мне припоминается, что я видел его в Москве в начале пятидесятых годов, когда он, по окончании академического курса, путешествовал в Петербург.
По случаю киевского юбилейного торжества ожидал было и я на перепутье почтенного гостя Литовского Преосвященного 1222, но, по слабости здоровья, он не решился пред-
—228—
1869 г.
принять путешествия в Киев. У меня начинается мало по малу заочное знакомство с знаменитым соседом, но скоро ли увидимся лицом к лицу, Бог весть. Слышно, что Преосвященный Макарий, переселившись из Харькова в Вильну, очутился в таком же почти положении, как и бывший епископ Можайский, по переселении из Москвы в Витебск. Такая судьба ещё более сближает нас взаимно“.
27-го числа получил я письмо от 25-го из Москвы от И.И. Четверикова:
„При сём прилагаю две квитанции Конторы Транспортов на отправленные 7-мь мест богослужебных предметов, для церкви Св. Духа в Училище девиц духовного звания, застрахованные в восемьсот руб. сер. Фактура приложена в письме к Баронессе Марии Александровне Боде1223, которое прошу покорнейше приказать ей передать “.
В тот же, или на другой день отвечал я Ивану Ивановичу:
„Сегодня лишь узнал я из газет, что Вы Всемилостивейше пожалованы чином Статского Советника за Ваши многолетние и в высшей степени благотворные труды по устроению и поддержанию Храмов Божиих по всем, в особенности западным, окраинам России. Спешу принести Вам моё искреннее, сердечное приветствие с таким знаком Монаршего к Вам благоволения. Над Вами оправдывается таким образом древнее присловие, что за Царём служба не пропадает даром.
Посланные Вами при письме от 25-го сего октября две квитанции и письмо на имя Баронессы Боде мною получены сегодня 27-го числа. Письмо доставлено по принадлежности. Приношения Ваши будут приняты с должной признательностью.
Недавно писал мне добрый мой приятель, Вам известный Н.П. Мезенцов, что он обратился к Вам с просьбой об оказании помощи к возобновлению и благоукрашению приходской церкви в его вновь приобретённом имении и просил на сей раз моего ходатайства перед Вами.
—229—
1869 г.
Если возможно, благоволите оказать помощь церкви Божией, бедностью и убожеством коей я поражён был при её обозрении в минувшем августе.
На сих днях посетил меня Ваш родственник А.В. Ганешин1224; как почётный блюститель Полоцкой Семинарии, он ознаменовал своё посещение щедрым (1000 р.) приношением на пользу бедных воспитанников. Господь сторицей воздаст ему за сие. Много побеседовали мы с гостем о Вас и о вашей благотворной деятельности“.
1-го ноября писал я в Москву К.И. Невоструеву:
„И за приветствие, и за книжное приношение усерднейше благодарю Вас. Виды Москвы возбудили во мне много приятных воспоминаний; между прочим, вид на Москву с Воробьёвых гор напомнил мне о нашей с Вами когда-то прогулке на эти горы. Сочинение о Рязанских древностях составляет также приятное для меня приобретение. Очень жаль, что нет сочувствия и поощрения со стороны Епархиальной власти1225 к дальнейшим трудам по части описания этих древностей.
Во время путешествия моего, в минувшем августе, по епархии, мне случилось остановиться, для перемены лошадей, в одной деревне, в которой между православными живут и раскольники-беспоповцы. Из толпы народа, окружавшей мою карету, я подозвал к себе одного крестьянина для того, чтобы побеседовать с ним о чём-нибудь; с ним подошли и другие. На вопрос мой, православный ли он и к какому приходу принадлежит их деревня, он назвал себя православным и указал приходскую церковь. Между тем, после узнал я, что спрошенный мной крестьянин – один из закоренелых раскольников. Такова хитрость и бесстыдство раскольничьей братии.
Недавно мне вздумалось спросить моего переплётчика еврея, есть ли между ними в городе кто-либо начитанный и сведущий в Талмудическом учении. Он указал мне на одного старика-купца, которого, по моему поручению, он и пригласил побывать у меня. Старик с удовольствием – де принял моё предложение и обещал не замедлить своим
—230—
1869 г.
посещением. С любопытством ожидаю этого посещения. В религиозном отношении не видится опасности для православия от близкого соседства с еврейским населением, но в нравственном и экономическом отношениях соседство это для нашего православного народонаселения весьма гибельно, а в будущем угрожает ещё большими бедами. Мы – господствующее великорусское племя здесь в совершенном порабощении у Христоубийственного племени еврейского. Против его хитростей и козней никто и ничто не может оградить нас.
Что касается соседства других приятелей, разумею, Поляков, от этого соседства немало вреда для православных и в религиозном отношении. Весьма нередко получаются мной жалобы со всех сторон на вторжение в православное стадо хищных волков-ксёндзов. Пишу об этом к гражданской власти, но принимаются ли ею должные меры к пресечению этих разбойнических набегов, неизвестно. Прежде слышно было, что ксёндзы подвергались за совершение треб православным денежному штрафу; продолжается ли это и теперь, не знаю. Очень мало доводилось мне встречаться с здешним латинским духовенством, однако-ж из ксёндзов, коих случилось мне видать, не все показались мне достойными порицания.
Если мысль о вашем Московском Братстве против раскола не осуществится, это достойно будет крайнего сожаления. Где же и быть главному противодействию Русскому расколу, как не в главном центре его?
Из газет с удовольствием узнал я, что Ваш критический труд по разбору сочинения Хрущова1226 не остался без приличного вознаграждения. Поздравляю Вас. Если Ваша рецензия будет напечатана, прошу указать мне, где можно будет прочитать её; а если будут отдельные оттиски этой рецензии, нельзя ли будет пожаловать мне один экземпляр оной.
В настоящее время, в часы досуга, читаю я Историю Императора Александра I-го, соч. Богдановича1227, и достиг
—231—
1869 г.
уже в ней до описания варварского нашествия на Москву Наполеона. В газетах, между тем, не раз уже видел я объявление о продаже по уменьшенной цене (именно, 5 руб. вместо 15 р.) издания: „Император Александр и его сподвижники в 1812–1815 г.“ Издания этого у меня недоставало, а теперь, как нельзя более, кстати приобрести оное. Не примете ли на себя труд, достопочтеннейший Капитон Иванович, купить для меня это издание? Оно продаётся у Манухина. – Да, кстати, благоволите приобрести для меня ещё одно сочинение, о котором недавно пришло мне на мысль, это – „Повествование о России Н. С. Арцыбышева1228 (изд. Общ. Ист. и Древ. Российск.). Книги эти или сами потрудитесь переслать мне по почте, или передайте Высокопетровскому О. Казначею; а он перешлёт их ко мне при какой-нибудь оказии. Деньги мною будут высланы немедленно.
Ещё одна до Вас просьба. Не случается ли Вам встречаться где-либо в учёных собраниях с А.А. Мартыновым – издателем подробного Исторического и Археологического Описания Москвы? При встрече с ним прошу спросить его, скоро ли выйдет в свет и будет мне доставлен 2-й том его издания, на получение коего у меня хранится билет более 3-х лет, оплаченный 107-ю рублями серебром. Заплативши деньги за книгу, очень неприятно так долго ожидать её.
Вы по своему доброму ко мне расположению, обещали в скором времени писать мне; прошу исполнить Ваше обещание“.
5-го ч. писал мне из Москвы Преосвященный Леонид: „Матерь Игуменья Митрофания1229 предложила мне доставить к Вашему Преосвященству моё письмо. Я написал его на двух листах и послал; через несколько дней оно возвратилось от неё, и уже я не расположен послать его вторично.
Если даст Бог, увидимся, то и наговоримся, а теперь скажу Вам о себе. Купался я от 15 июня до 6-го сентября; с 6-го до 22-го провёл в Саввине, для разъез-
—232—
1869 г.
дов по приходам; но как ни весенний, ни летний воздух не освежал меня, то чувствую уже, что недостаёт мне сил, сколько викарию Московскому иметь нужно. Поэтому живу и движусь кое-как. „Сподоби Господи день сей, вечер сей, нощь сию“; „весь живот наш Христу Богу предадим“ – вот расположения, с которыми и которыми живу. Владыка1230 вполне милостив и снисходителен ко мне. – Есть слух, что на днях получит указ о приезде в Синод на зиму. Его особенно заботит устроение церковных дел в Америке (т. е. отошедшей от нас с Калифорнией).
Сербский Владыка1231 очень приятное произвёл на меня впечатление. От него дышит свежестью. Умён, красноречив, приветлив, благосердечен, смирён, благочестив, полон деятельности, полон благих надежд1232.
Вопрос о сокращении приходов Вас не касается, а над нами висит как меч, ибо я прямо высказал Владыке в письме, что распоряжение это даже приниматься исполнять опасно. По осмотре церквей я убедился, что дело это не принесёт пользы духовенству, что значит сокращение на два – на три прихода в уезде? Принесёт вред для паствы, ибо удалит от церкви народ, и без того скорее удаляющийся, нежели приближающийся к церкви. Опасно в политическом отношении, ибо возбуждает ропот против Власти. Ропот доходит до угрожающих размеров, и где же? В среде, наиболее обязанной Царю и доныне ему безгранично преданной – в крестьянстве!
Для Московской епархии утверждено, чтобы 4 члена Консистории служили без жалованья и избирались из Архимандритов, и четыре с жалованьем из Протоиереев. Требуют в Св. Синод, для Комиссии по пересмотру Консисторского устава, одного члена Консистории и одного наставника Академии (по Каноническому праву).
—233—
1869 г.
Очень тягощусь мыслью, что на мне лежит долг перед почившим Архипастырем собрать всё, что знаю о нём по 30-тилетнему нахождению моему под крылом этого орла, по воле Божией, охранявшего могущественно Церковь и отлетевшего весьма безвременно для нас, но, конечно, благовременно для него. Хочу, но руки не доходят. Чтобы дописать письмо это, должен был оставить одр ранее обыкновенного.
Прошу святых молитв Ваших и благословения, прошу от души, чувствуя в этом нужду. Простите“.
Разрушение от пожара моста через реку Мету на Николаевской железной дороге было поводом к следующей переписке между мной и Наместником Московского Чудова монастыря, Архимандритом Вениамином1233.
О. Вениамин извещал меня от 9-го числа:
„Высокопреосвященнейший Митрополит – наш Владыка получил указ из Св. Синода, коим он приглашается в С.-Петербург „ныне же“, как сказано в указе. А потому Владыка намерен выехать из Москвы 19-го сего ноября. Но так как через р. Мету переправа очень затруднительна, а во время ледохода невозможна, то он предполагает ехать по Орловско-Витебской железной дороге. Выехавши 19-го числа, в Витебск он должен прибыть или поутру, или в полдень 21-го дня; поезд, как слышно, останавливается в Витебске часа на три. Владыке желательно было бы в этот день (21 ч.), как день праздничный, помолиться во храме; но это более будет, кажется, зависеть от отправки и хода поездов железной дороги.
Если же Высокопреосвященнейший Митрополит изменит план поездки, то я извещу Вас телеграммой в самый день выезда его из Москвы“.
Получив это неожиданное известие 12-го числа, я на другой же день поспешил ответить о. Архимандриту, и вот что писал ему:
„Очень благодарен Вам за приятное для меня уведомление о предстоящем путешествии Высокопреосвященнейшего Митрополита в Петербург через Витебск.
Поезд в Витебске останавливается часа на три с по-
—234—
1869 г.
ловиной; приходит обыкновенно в 7-мь часов утра, а отходит около половины 11-го. Иногда поезд часа на два и опаздывает, но не более, и в этом случае откладывается на некоторое время и дальнейшее движение из Витебска.
Если Его Высокопреосвященству угодно слушать 21-го числа литургию в Витебске, в таком случае надобно будет оставаться здесь на сутки, а потому и билеты брать только до Витебска.
Чем продолжительнее будет пребывание Владыки в моём епархиальном граде, тем, конечно, для меня будет утешительнее.
Но я просил бы Вас покорнейше предуведомить меня о том, кто будет сопровождать Его Высокопреосвященство в Петербург, дабы я мог заблаговременно сделать нужные распоряжения о приготовлении и удобного и приличного для каждого из со-путников помещения.
Если 19-го числа я не получу от Вас телеграммы, это буду почитать знаком, что в этот день последует отбытие из Москвы Его Высокопреосвященства. Если же в этот день выезд не состоится, то я прошу Вас покорно уведомить меня о сём телеграммой“.
Вместе с сим писал я и Высокопреосвященному Митрополиту:
„Известился я, что Ваше Высокопреосвященство 19-го сего ноября изволите предпринимать путешествие из Москвы в Петербург по Орловско-Витебской железной дороге и 21-го числа, в день праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы, располагаетесь слушать в Витебске Божественную Литургию.
Известие это доставило мне душевную радость и Ваше Архипастырское посещение я почту для себя за особенное счастье.
При сём долгом поставляю предуведомить Вас, Милостивый Архипастырь, что пассажирский поезд приходит в Витебск обыкновенно в семь часов утра, а отходит около половины одиннадцатого; в настоящее же время, по причине необыкновенного множества пассажиров, поезд иногда опаздывает часа на два.
Если Вашему Высокопреосвященству благоугодно будет,
—235—
1869 г.
в день прибытия Вашего в Витебск, присутствовать при литургии, позвольте мне иметь приятную надежду, что Вы благоволите провести под моим смиренным кровом и следующую затем ночь, как для отдохновения от продолжительного и утомительного пути, так и потому что литургия ни в каком случае не может окончиться ко времени отхода из Витебска поезда.
В приятнейшем ожидании милостивого посещения Вашего, с глубочайшим высокопочитанием и сыновней преданностью имею честь быть и пр.“
12-го числа писал мне, по возвращении из Витебска в Москву, гость мой, почётный блюститель Полоцкой д. Семинарии, Московский 1-й гильдии купец и Потомственный Почётный Гражданин, А.В. Ганешин:
„Свидетельствуя Вам глубочайшее своё почтение, я считаю долгом ещё раз поблагодарить Вас за то радушие, внимание и гостеприимство, которыми я пользовался в бытность мою у Вас и которые на всегда оставили в моей памяти самое приятное воспоминание.
При сём осмеливаюсь просить Вас принять от меня, отправляемую вместе с этим письмом, маленькую посылку – мантию, как знак моего к Вам искреннего внимания и признательности“.
В ответ на это писал я от 19-го числа:
„Спешу выразить Вам мою искреннюю, душевную благодарность за Ваше богатое приношение. Употребление Вашего великолепного дара при священнослужении, без сомнения, каждый раз будет располагать меня к молитвенному воспоминанию о Вас и о Ваших присных. Господь, богатый милостью и щедротами, сторицей да воздаст Вам за Ваше усердие к Его служителю.
Начальство Полоцкой Семинарии вместе со мной повторяет Вам свою усердную благодарность за Ваше щедрое приношение на пользу бедных учеников1234“.
В начале ноября Витебск и витебская губерния в один раз освобождены были, по распоряжению высшего Правительства, и от неприятной зависимости от Вилен-
—236—
1869 г.
ского преобладания и от тяжкого ига губернатора Токарева. Этому все, как светские, так и духовные, были очень рады и с радостью ожидали нового, независимого от Вильны, Начальника губернии.
Настало 19-е число; с нетерпением жду роковой вести: будет у меня или нет вожделенный Московский Гость, Высокопреосвященный Митрополит. Увы! получаю известие в отрицательном смысле. Сверх чаяния, мне телеграфирует в этот день сам Владыка: „Искренно благодарю за приглашение; поеду ныне по Николаевской дороге“. В след затем получаю телеграмму и от Наместника его: „Владыка выехал по Николаевской железной дороге“.
Но как одновременно с Московским Митрополитом должен был отправляться в Петербург и Митрополит Киевский Арсений1235, я почёл долгом наведаться, через Лаврского Наместника, Архимандрита Варлаама, о направлении его пути. О. Варлаам отвечал мне телеграммой от 19-го числа: „Митрополит Киевский выезжает в 5-ть часов по полудни. Из Орла уведомит особой телеграммой о направлении“. Но телеграммы из Орла не последовало, и Митрополит проехал через Москву и оттуда, в след за Московским Владыкой, по Николаевской дороге. Таким образом, по русской пословице, честь была предложена, а убытков Бог избавил.
27-го числа писал мне из Москвы К.И. Невоструев:
„Всепокорнейше прощу извинения, что отчасти по независящим от меня причинам так медлительно отвечаю на прошедшее милостивое, благоуветливое и теплотой духа исполненное писание, Ваше.
А.А. Мартынова не удалось мне нигде видеть, ни узнать о квартире его, а от достоверных людей известился я, что издание 2-го тома Описания Москвы только ещё в идее его, которая скоро ли осуществится, думают, и ему самому это неизвестно. Когда я увижу его или узнаю о квартире, напомню ему о его долге публике.
Объявление Манухина в газетах о продаже у него издания „Император Александр и его сподвижники“ за 5 руб. вместо 15-ти оказалось фальшивым, сделанным лишь для
—237—
1869 г.
уловления заочных покупателей – провинциалов. Под пресловутым изданием на деле оказывается не всё издание, а только два тома.
Дело о Московском братстве против раскола после словесных представлений Николая Ивановича Субботина1236, Отца Павла Прусского и, кажется, неких иных пошло в ход и теперь находится в Консистории. В последнее время и я дерзнул завести о сём речь перед Владыкой, и получил в ответ, что Братство яко бы с недоверчивостью принимаемое светским начальством (действовали тут и недоброжелатели) откроется на первый раз в виде опыта на 10 лет.
Слава Богу, правда немного выходит на свет, хотя, конечно, не обойдётся это даром. Сверх чаяния недавно получил я из Академии наук 1-й корректурный лист Рецензии моей на книгу г. Хрущова. Полагая, что хотят напечатать её с своими поправками и исключениями неблагоприятствующего книге и в сём случае намереваясь вполне напечатать её здесь, в Москве, с сомнением изъявлял я г. Непременному Секретарю своё желание видеть Рецензию в Академическом издании без означенных поправок и исключений, и в ответ получил лестное удостоверение, что и Академия положила напечатать её совершенно по оригиналу, предоставя мне самому поправки и исключения при корректуре. По издании надобно ожидать неприятностей от журналов, превозносивших прежде книгу Хрущова, но аз на раны готов (Пс.37:18), особенно под авторитетом Академии и при вероятном сочувствии любителей истины и православия. Вашему Преосвященству оттиск (каковыми хотели подарить меня) доставлю.
О новых духовных реформах, простите моему неразумию и дерзновению, народ рассуждает так: не столь было бы горько, если б это сделали только светские люди – прогрессисты, от них нечего и ожидать хорошего для церкви, но как же такой враждебный церкви и духовенству указ и устав подписали Святители-то и ничего против него ни сказали, ни сделали? О сём разумевает он, яко последняя година. И когда народ отчасти своим противле-
—238—
1869 г.
нием, а более слезами и воплями вразумил реформаторов и заставил их в глаголемых разъяснениях отказаться от прежней тенденции, он, ограждая себя, сослался на донесения архиереев, яко бы требовавшие такой реформы. Почему бы этим святителям не предъявить в успокоение публики против таких лже-толкований? Почему бы не идти против выборного начала, где оно делает явный вред? Одним из пагубных Следствий, от нынешних реформ, тотчас же обнаружившихся, оказалось то, что ныне из кончивших семинарский курс в один только Московский Университет явилось 82 человека, которые при соперничестве с гимназическими медалистами, при всех нажиманиях на них экзаменаторов, запнули своих соперников и с честью все, кроме двух, поступили в Университет. Это значит, говорил с прискорбием передававший сей факт Профессор Юркевич1237, что все лучшие силы от церкви обратились в мир. И при превратном образовании в Университете не будут ли эти студенты впоследствии даже врагами церкви? Здесь, в Москве, все почти учёные и хорошие священники, кои могли бы воспитать лучших сынов церкви (в числе их и о. прот. Гавриил Иванович1238, сын Владыки) отдают своих детей в гимназии“.
17-го декабря писал я И.И. Четверикову:
„Как ни заботились мы освятить Св. Духовскую церковь к празднику, но она не только не освящена, но и не передана ещё в духовное ведомство. Таковы у нас порядки по церковно-строительному делу! Может ли утверждаться и процветать здесь православие, когда храмы православные остаются по несколько лет запечатанными; а если и воссозидаются, то только для того, чтобы через два–три года снова разрушиться. Правительство ежегодно отпускает на этот предмет значительные суммы; но из этих сумм едва ли третья часть употребляется согласно назначению. Всё зло в равнодушии к делу Православия в местных администраторах, коих главная забота обращена на устрой-
—239—
1869 г.
ство театров и других увеселительных зданий. Не знаю, лучше ли пойдёт наше церковно-строительное дело с освобождением Витебской губернии от Виленского владычества1239 и с поступлением к нам нового начальника губернии.“
Обер-Прокурор Св. Синода, Граф Д.А. Толстой, составив на основании записок покойного Митрополита Литовского Иосифа и других документов статью под заглавием: „Иосиф Митрополит Литовский, и воссоединение униатов с православной церковью в 1839 г.,“ и напечатав её отдельной брошюрой1240, препроводил ко мне при частном (литографированном, очевидно, циркулярном) письме от 4-го декабря, с выражением уверенности, что память этого знаменитого иерарха и заслуги, оказанные им Православной церкви и России, мною чтутся. В чём конечно Его Сиятельство нимало не ошибся.
18-го числа писал я профессору Московской Духов. Академии, С.К. Смирнову, в ответ на его письмо от 4-го октября:
„Простите Бога ради, что так поздно отвечаю на Ваше любезное приветствие со днём моего Ангела: дела и заботы отнимают у меня и время и спокойствие души, без которого нельзя заниматься и дружеской беседой.
Думаю, что с освобождением Витебской губернии от Литовского владычества1241 и с удалением отсюда Губернатора Токарева, я буду иметь менее случаев к столкновениям и распрям с гражданской властью. О новом, на сих днях прибывшем сюда, Начальнике губернии слышатся добрые отзывы. В западном крае, по исключительному положению здесь Православия и духовенства, сношения между епархиальным Начальством и Гражданским несравненно многосложнее и запутаннее, нежели во внутренних губерниях.
Около 21-го числа прошедшего ноября я был в приятном ожидании посещения двух старейших иерархов – Московского и Киевского, но, к сожалению, моё ожидание
—240—
1869 г.
не исполнилось; а мне крайне хотелось бы излить перед ними всю мою душу...
Граф Д. А. был в Витебске, но ни сам не захотел пожаловать ко мне, ни к себе не пригласил. Правда, он, весьма усталый от пути, останавливался здесь не более, как часа на два или на три, и притом на станции железной дороги, куда мне не весьма удобно было приехать.
Был у меня в ноябре один гость Московский, и приятный и полезный – Почётный Блюститель нашей Семинарии А.В. Ганешин. своё посещение он ознаменовал очень щедрым приношением на пользу наших бедных школьников; тысячу рублей оставил деньгами, и на 400 руб. прислал одеял и полотна, а мне принёс в дар великолепную мантию. Да будет благословен град Москва!
Освящён ли Ваш академический храм? Кстати: каким образом пришло на мысль г. Касицину1242 проповедовать о необходимости переведения Московской Академии из Лавры в Москву; и как на это смотрит Ваше Академическое братство? Да скажите пожалуйста, кем написана статья по этому поводу в Московских Епархиальных Ведомостях1243? Век реформ и переворотов“!
Далее поведу речь о известном протоиерее Юркевиче1244. Настоятель Полоцкого Софийского Собора, Протоиерей Андрей Юркевич в прошении своём от 21-го сентября жаловался Св. Синоду: 1) на неудовлетворение мною ходатайства соборного причта об отпуске потребной суммы на необходимые предметы при Богослужении, за недостатком кошельковой; 2) на непринятие епархиальным Начальством мер к увеличению доходов собора устранением духо-
—241—
1869 г.
венства Полоцкого Богоявленского монастыря от совершения треб соборным прихожанам, и 3) на оставление мною без последствий донесения настоятеля Богоявленского монастыря о крайне безнравственных поступках Иеромонахов того монастыря Тихона и Варнавы.
Св. Синод прошение прот. Юркевича препроводил ко мне при Указе от 19-го ноября за № 3815, с предписанием представить по содержанию оного сведения и заключение.
Собрав нужные по настоящему делу сведения через Настоятелей монастырей Полоцкого Богоявленского и Тадулинского Успенского, а также через Полоцкого Благочинного священника Одинцова и истребовав относящиеся к сему делу справки из документов, хранящихся в Консистории, я изложил свой отзыв в пространном донесении Св. Синоду от 19-го декабря за № 3779, в котором с достаточной силой и обстоятельностью опроверг все пункты, заключающиеся в жалобе Юркевича.
Не излагая здесь моего отзыва в цельном виде, я ограничусь только повторением моих заключительных слов донесения.
„Из соображения всего, выше мною изложенного, – писал я, – не трудно усмотреть, что прошение Протоиерея Юркевича частью лишено основательности, частью наполнено лживыми и бездоказательными объяснениями и всё проникнуто язвительными укоризнами, направленными лично против меня. – Посему мнением полагаю:
1) Ходатайство протоиерея Юркевича о возвращении Полоцкому Софийскому Собору преимущества относительно соборных молебствий оставить без удовлетворения.
2) Что же касается ассигнования потребной на каждодневное Богослужение в Соборе и содержание оного в благолепии суммы, то, хотя Полоцкое Епархиальное Начальство по тем основаниям, какие имело в виду и какие изъяснены в вышеизложенном определении Консистории, не почитало себя в праве утруждать Высшее Начальство ходатайством о ежегодном отпуске суммы на потребности Полоцкого Софийского Собора, но если бы Св. Синоду благоугодно было назначить к ежегодному отпуску для сего Собора хотя бы не очень значительную сумму, эта милость
—242—
1869 г.
принята была бы Епархиальным Начальством с глубокой признательностью.
Но почтительнейше представляя на благоусмотрение Святейшего Синода сии заключения, уместным и благовременным почитаю войти при сём в некоторые объяснения в рассуждении личных ко мне отношений протоиерея Андрея Юркевича и обратиться к Святейшему Правительствующему Синоду с смиренной просьбой.
Протоиерей Юркевич, входя в Св. Синод с жалобой на отказ со стороны Епархиального Начальства в исходатайствовании ежегодного из казны отпуска суммы на потребности Полоцкого Софийского Собора, думал, по-видимому, засвидетельствовать тем свою ревность о благе и пользе сего Собора, как настоятель оного, но при этом он далеко вышел из пределов, указываемых здравым смыслом и доброй совестью. Ему для достижения своей цели, казалось бы, достаточно было ограничиться отрицанием или ослаблением тех оснований, на коих утверждено постановление Епархиального Начальства об отказе причту Софийского Собора в его домогательстве на счёт исходатайствования суммы на потребности Собора. Пусть бы протоиерей Юркевич представил ясные и твёрдые доказательства того, что к сокращению и ущербу Соборных доходов служит вмешательство в исправление треб по Соборному приходу со стороны монашествующих Богоявленского монастыря, Епархиальному Начальству не трудно было бы принять против сего надлежащие меры и оградить интересы Собора. Но таких доказательств он не представил. Указание на неблагоповедение некоторых из братии монастырской не есть доказательство вмешательства их в исправление мирских треб; напротив, это скорее может служить доказательством противного, ибо какой здравомыслящий прихожанин будет обращаться с своими духовными требами к нетрезвым и неблагонравным монахам? Но у протоиерея Юркевича имелись при сём в виду совсем другие соображения, как это можно примечать по направлению мыслей в его прошении. Ему нужно было иметь только какой бы то ни было повод к возведению обвинения на своего Епархиального архиерея перед лицом Св. Синода; и вот он всю вину упадка соборных доходов воз-
—243—
1869 г.
лагает на архиерея, поощряющего якобы своим „прикровением“ нетрезвых и неблагонравных монахов Богоявленского монастыря продолжать, в подрыв доходам Собора, вмешательство в преподавание духовных треб соборным прихожанам.
Чем же я мог навлечь на себя гнев протоиерея Юркевича, и что могло побудить сего последнего к таким лживым и бездоказательным обвинениям против меня?
Побудительными к сему причинами служат, по усмотрению, два следующие обстоятельства:
1) Удаление прот. Юркевича от должности Благочинного. Ещё в июле 1867 г., вследствие постоянных, большей частью, неосновательных жалоб на сослужителя своего, Соборного священника Пясковского в опущении церковных служб и мирских треб, исполнения коих Юркевич требовал от Пясковского не только на его, Пясковского, но и на своей седмице, по причине частых отлучек из города под предлогом исполнения служебных обязанностей, хотя при сём оказывался иногда и вне пределов вверенного ему округа, тогда как священник Пясковский не менее Юркевича постоянно занят преподаванием уроков по Закону Божию в разных учебных заведениях, куда его приглашали предпочтительно перед Юркевичем, – протоиерей Юркевич уволен был мной от должности Благочинного. Но для Юркевича, привыкшего с ранних лет своей службы над всеми властвовать, нелегко было лишиться этой почётной должности, и он всячески старался возвратить её себе, прибегая для сего к разным, даже недостойным, хотя для него и обычным, средствам. Прежде всего, он начал выражать своё неудовольствие на меня безименными, исполненными укоризн и порицаний, письмами, и притом не только на русском, но и на латинском языке, и даже стихами. Пасквильные письма эти он писал иногда не в одном даже экземпляре и рассылал их в одно и то же время к разным лицам, чтобы тем более распространить на мой счёт худую молву. Когда это постыдное средство не имело успеха, протоиерей Юркевич явился ко мне вечером 16-го сентября 1868 г. лично и требовал от меня возвращения ему Благочиннической должности, угрожая мне в противном случае пе-
—244—
1869 г.
чатным пасквилем. Когда я объяснил ему, что его угроза ни к чему не поведёт и что он напрасно трудился над составлением и прежних пасквилей, на это он с бесстыдством ответил мне: „а всё-таки приятно написать пасквиль“. После такого откровенного и дерзкого объяснения со стороны Юркевича, хотя я не мог преследовать его судебным порядком, так как объяснение происходило наедине, не мог не получить самого невыгодного понятия о его нравственном характере, хотя и прежде не очень высокое имел я понятие о его нравственных качествах.
2) Другой ещё ближайшей причиной негодования на меня со стороны прот. Юркевича может служить предание его в прошедшем августе месяце уголовному суду по делу о получении, в течение восьми лет, жалованья за умершую в 1851 г. просвирню Усвицкой церкви Ксению Войткевичеву.
В какой мере указанные мной причины могут оправдывать протоиерея Юркевича в его посягательстве на честь своего Епархиального Архиерея, судить о сём предоставляю другим. Но предполагая, что подобные причины к неудовольствиям на меня со стороны Юркевича могут представляться и на будущее время и имея в виду, что протоиерей Юркевич всегда отличался особенной склонностью к ябедам и доносам, о чём не безызвестно и Св. Синоду, и что, по причине этого немиролюбивого и беспокойного его характера, Полоцкое Епархиальное Начальство ещё в 1863 г. ходатайствовало перед Св. Синодом о перемещении его, Юркевича, из Полоцкой в Могилёвскую епархию, к которой он принадлежит по своему происхождению, не могу не повторить и я, в свою очередь, почтительнейшего ходатайства перед Святейшим Правительствующим Синодом об удалении из пределов вверенной мне епархии столь беспокойного и не отличающегося добрыми качествами священнослужителя, каков протоиерей Юркевич. Сим удалением не только обеспечено было бы на дальнейшее время моё личное спокойствие, но и удовлетворены были бы желания всех, кто только имеет какие бы то ни было отношения к протоиерею Юркевичу“.
На другой день после отправления донесения своего в
—245—
1869 г.
Св. Синод, Я писал по тому же делу и к Обер-Прокурору, Графу Д.А. Толстому:
„Вследствие определения Полоцкой Дух. Консистории, состоявшегося по жалобе чиновницы Подобед на протоиерея Полоцкого Софийского Собора Юркевича и мною утверждённого 6-го октября 1866 г. (через три недели по прибытии моём в Витебск), коим Юркевич признан оправданным и ему возвращена должность Благочинного1245, – Ваше Сиятельство конфиденциальным письмом от 17-го ноября того же года за № 168 признали нужным обратить моё внимание на то, что протоиерей Юркевич в последние годы подвергался многим обвинениям и сам неоднократно входил к Вашим предместникам и в Св. Синод с жалобами, в которых, обвиняя высших лиц местного духовенства, дозволял себе разные против них порицания, обнаруживающие во всяком случае немиролюбивый и беспокойный характер его.
Приняв с душевной признательностью столь благосклонное и доброжелательное со стороны Вашего Сиятельства предостережение на счёт протоиерея Юркевича, я тем внимательнее стал наблюдать за ним и вскоре собственным опытом убедился в тех наклонностях и свойствах его характера, какие указаны в помянутом письме.
В течение трёхлетнего моего служения на Полоцкой кафедре, я неоднократно уже делался предметом тайного и явного злоречия и порицания со стороны Юркевича; а в настоящее время подвергся даже формальному обвинению от него перед лицом Высшего духовного правительства. Своё личное ко мне неудовольствие он вздумал прикрыть личиной ревности о благе и пользе Собора, коего он именуется Настоятелем, и в сентябре настоящего года вошёл в Святейший Синод прошением, в котором жалуется на разные будто бы с моей стороны опущения. По этой жалобе указом Св. Синода от 19-го минувшего ноября предписано мне представить сведения и заключение.
Представляя вместе с сим Св. Синоду требуемые от меня сведения и заключение, я, опровергая взводимые на
—246—
1869 г.
меня протоиереем Юркевичем обвинения и клеветы, прошу у Св. Синода милости избавить меня от такого беспокойного священнослужителя, каков Юркевич.
Удаление протоиерея Юркевича из Полоцкой епархии не будет противно и его собственным мыслям, и намерениям. В прошедшем году он сам объявлял мне, что он подал прошение о принятии его в Варшавскую епархию, но, вероятно, получил отказ. В нынешнем году до меня не раз доходили слухи, что Юркевич намерен переместиться в Нижегородскую епархию, где преосвящ. Филарет1246 ближайший ему по жене родственник. На новом месте, в иной среде, при других обстоятельствах, быть может, и изменился бы на лучшее нрав протоиерея Юркевича.
Ваше Сиятельство явили бы мне новый опыт Вашего доброжелательства, если бы, вникнувши в содержание представляемого мной Святейшему Синоду объяснения, благоволили употребить Ваше содействие к удовлетворению моего ходатайства об удалении протоиерея Юркевича из пределов вверенной мне епархии“.
Но если не было удовлетворено моё ходатайство об удалении протоиерея Юркевича из Полоцкой епархии, по крайней мере решено удалить его из Полоцкого Софийского Собора, с назначением ему, по моему усмотрению, срока для приискания другого места вне Полоцка. Я назначил Юркевичу месячный срок, но он и не думал искать себе места. По прошествии месяца, я удалил его от Софийского Собора и на его место определил Зароновского Благочинного, Священника Феодора Иваницкого с возведением его в сан Протоиерея. Но Юркевич предпочёл оставаться безместным, чтобы жить безвыездно в Полоцке и продолжать свои бесчестные занятия ябедами и клеветами.
22-го декабря писал я Московскому купцу, почётному блюстителю Полоцкого духовного училища Ив. Степ. Камынину:
„Ещё в ноябре получил я из Москвы предуведомление, что получены в пользу Полоцкой кафедры некото-
—247—
1869 г.
рые ризничные вещи, но от кого, именно, этого объяснено не было. Теперь, получивши сами вещи, я узнал из приложенной при них записки, что это усердное приношение от Вашего благочестивого дома, и притом некоторые предметы, как можно догадываться, суть произведения собственных трудов Вашей достопочтенной супруги или других женских рук Вашего дома. – Из полученных мной вещей особенное заслуживает внимание архиерейское облачение: оно так изящно, что употреблённое вчера мной при совершении литургии произвело необыкновенно приятное впечатление на всех, присутствовавших в храме, не только женщин, но и мужчин. – Ваше имя и имена Ваших присных всегда воспоминались мною при совершении бескровной Жертвы; а отныне ещё более имею побуждение и долг творить о Вас и о сродниках Ваших молитвенное воспоминание, особенно в те дни, когда будет употребляемо при священнослужении принесённое Вами в дар прекрасное облачение.
О Вашем благочестивом усердии к моим епархиальным нуждам долгом поставлю довести до сведения Высшего Духовного Правительства; а между тем спешу выразить за Ваши приношения и мою личную признательность Вам и Вашей почтенной супруге со всем Вашим домом. Посылаемое вместе с сим священное изображение Препод. Евфросинии, Княжны Полоцкой, прошу принять от меня в благословение всему Вашему семейству и в залог моего всегдашнего молитвенного о Вас воспоминания.
Давно ожидает Вашего посещения облагодетельствованное Вами Полоцкое училище; а в Витебске всегда готово для Вас и перепутье. Когда же, в самом деле, Вы исполните данное Вами обещание ещё раз посетить наши страны“?
23-го ч., приветствуя с праздником, между прочим, писал мне Казначей Троицкой Сергиевой Лавры, о. Мелетий:
„У нас в обители всё по милости Божией идёт по-старому – мир и тишина и любовь братская между собой крепко, молитвами Преподобных Отец наших Сергия и Никона, стоят. О. Наместник милостью Божией храним и здравствует, и также служит без устали. Владыка наш
—248—
1869 г.
к нам и обители нашей по-видимому мирен. Академия наша стоит ещё, церковь у них устрояется, но всё ещё конца нет, хотели непременно освятить по осени, но вот уже и зима начинает приходить, а не слышно, когда будет освящение. Г. Толоконников начал дело, да и тянет – кажется обыкновенная его болезнь большей частью не дозволяет покончить. Я думаю Вы читали, что Касицын вздумал переносить Академию в Москву и всё рассчитал, как Лавра должна купить у них корпуса и даже прибавить, что лишнего потребуется. Я было и деньги приготовил, но что-то остановилось дело, кажется опять остаются на старом месте. Слышали ли Вы историю про Московскую семинарию, как она торжествовала вступление нового Ректора 1247; было напечатано в газете: после обыкновенных приветствий был предложен скромный обед. Наш Владыка Митрополит спустя уже довольно времени после этого торжества был приглашён в семинарию, по случаю какого-то праздника – тут было много и других знаменитостей приглашено. Собрались все у о. Ректора в комнатах семинарии. Владыка вдруг говорит: о. Ректор, вы заметили ли ошибку в Ведомостях по случаю ввода Вашего в семинарию? Тот отвечает: нет, не заметил. Владыка говорит: „сказано обед скромный – здесь опечатка, а надобно бы напечатать: скоромный, потому что день был постный, а обед был приготовлен из говядины и других подобных принадлежностей. Ректор начал оправдываться, говорит: это было сделано для больных, а Владыка сказал: а когда больные, то зачем же им тут и быть, или в особую комнату их поместить“.
24-го ч. писал мне профессор Московской Академии С. К. Смирнов:
„Имею честь приветствовать Вас с праздником Рождества Христа Спасителя и с наступающим новым годом. От всей души, глубоко Вам преданный, желаю Вам в новый год переселиться с запада поближе к центру Руси, к нашей матушке первопрестольной. Поздра-
—249—
1869 г.
вляю Вас с новым Гражданским Начальником1248; дай Вам Бог в его управление вкушать спокойствие. Недавно я слышал (от Н. С. К.)1249, что прежний перемещён вследствие Вашего влияния; душевно порадовался я этому известью.
Реформа на носу, но у нас ещё не было серьёзных толков о будущем. В настоящее время более заняты Академической церковью, в которой ныне предполагается совершить всенощную, а освящение должно последовать на святках и будет совершено Митрополитом, который ожидается в Москву по поводу открытия Миссионерского Общества.
Печатные толки о перемещении Академии из Лавры в Москву продолжаются к крайнему прискорбию о. Ректора и большинства наставников. Касицыну предложены были от Митрополита три вопросные пункта, но это его не останавливает. В Епархиальных Ведомостях статья принадлежит тому, о котором сказал я в первом отделении сего письма (т. е. П. С. Казанскому). Борьба, конечно, окончится не перемещением Академии в Москву, ради чего без нужды не захотят тратить огромных сумм, но будет иметь последствием неприятности в самом обществе наставников, а всего более проект Касицына агитирует студентов.
Из новостей, касающихся Академической братии, могу сообщить Вам, что А.Ф. Лавров1250 вызывается в Петербург для присутствования в Комитете по делу применения действующих судебных уставов к быту духовенства.
Р. S. В скиту (в пещерной церкви) явилась Чудотворная Черниговская икона Богоматери. Писана на полотне. Много чудотворений и многочисленное стечение народа. Я написал статью, но до формального освидетельствования иконы и чудес печатать не позволяют“.
—250—
1869 г.
30-го ч. писал я в Москву К.И. Невоструеву:
„Усерднейше благодарю Вас за Ваш дорогой, давно для меня вожделенный, дар – зрелый плод Ваших неутомимых трудов. Судя по предисловию, которое я успел лишь прочитать, должно полагать, что в Вашей новоизданной книге Описания Синодальной Библиотеки1251 заключается весьма много интересных сведений относительно состава и изменений наших церковных служб. Очень бы желал я прочитать эту книгу от начала до конца, но едва ли это желание может быть исполнено при множестве ежедневных препятствий. Да поможет Вам Господь привести к счастливому окончанию Ваш монументальный и многополезный труд!
Кстати об Академии. Скажите Бога ради, сбыточны ли мечты г. Касицына и его единомышленников о переведении Академии из Лавры в Москву, и как смотрят на это благомыслящие отцы Московские магистры? – Что за странное время мы переживаем? Везде какое-то судорожное движение: ни в ком и ни в чём нет постоянства. Где же конец этому прогрессу и этим реформам“?
В заключение не могу не поместить здесь изложенного мной в Отчёте Святейшему Синоду о состоянии Полоцкой епархии за 1869 г. общего взгляда на состояние этой епархии:
„Между разнообразными нуждами и недостатками, как вещественными, так и духовными, усматриваемыми в вверенной мне Полоцкой епархии и составляющими предмет постоянных забот и попечений Епархиального Начальства, в настоящую минуту более всего озабочивает это начальство бедственное положение многих храмов Божиих в Полоцкой епархии. Из них, в течение минувшего 1869 г., 128-мь церквей нуждались в более или менее капитальных починках и исправлениях, а 5 церквей, по совершенной ветхости и опасности к продолжению в них Богослужения, запечатаны. Но запечатанных церквей, в коих прекращено Богослужение, немало остаётся и от прежних, и притом весьма давних (от 10 до 20 лет)
—251—
1869 г.
времён. Если храм Божий по справедливости называется училищем веры и благочестия Христианского, то где нет храма, там нет и этого спасительного училища, и потому члены той или другой приходской общины, как овцы, не имеющие двора овчего, рассеиваются по другим приходским церквам, если таковые имеются по близости, а нередко привлекаются к ближайшим латинским костёлам и даже увлекаются на распутья раскола.
По причине исключительного положения Полоцкой, равно как и других епархий Западного края России, попечение о постройке здесь новых и о починке и исправлении существующих ветхих церквей приняло на себя, как известно, высшее Гражданское Правительство, непосредственное же распоряжение по церковно-строительному делу в западном крае возложено на местные Губернские Комитеты, переименованные в 1868 г. в Присутствия. До 1868 г. церковно-строительное дело производилось без всякого почти участия со стороны Епархиальных Начальств; а в этом году, по новым Высочайше утверждённым правилам для устройства Православных церквей в 9-ти губерниях Западного Края, допущено некоторое участие в деле созидания церквей и Епархиальных Архиереев.
В Полоцкой епархии и в прежние годы церковно-строительное дело совершалось не вполне благоуспешно, и в настоящее время идёт не с желаемым успехом. Частью по причине скудости в сведущих и честных подрядчиках и мастеровых людях, а частью и вследствие недостатка должного надзора, а, может быть, и потребной опытности в техниках, наблюдавших и наблюдающих за постройкой церквей, церкви созидались и созидаются то с излишней поспешностью, в видах скорейшего получения за производство работ условленной платы, то с крайней медлительностью, зависящей частью от неисправности подрядчиков, а частью и от невнимания наблюдателей за производством работ. Естественным последствием излишней поспешности в деле построения церквей, в особенности каменных, бывает их непрочность и другие недостатки, которые вскоре, по принятии новоустроенных храмов в епархиальное ведомство, обнаруживаются и требуют преждевременных иногда значительных расходов для их ис-
—252—
1869 г.
правления. Так, воздвигнутая в местечке Бешенковичах Лепельского уезда каменная церковь, стоившая более 35 т. рублей, ещё прежде, нежели была освящена, оказалась чрезвычайно сырой от того, что была оштукатурена как снаружи, так и внутри, немедленно по окончании каменной кладки. В таком же положении оказалась и другая каменная церковь в м. Камени того же уезда. Деревянные же церкви, на другой или много третий год по принятии их в епархиальное ведомство, начинают пропускать сквозь крыши более или менее сильную течь.
После таких прискорбных опытов построения и исправления церквей в Полоцкой епархии, можно было надеяться, что со введением новых, упомянутых выше правил для устройства церквей, церковно-строительное дело пойдёт быстрее и успешнее. Но и эта надежда не оправдывается. По 1-му § помянутых правил требуется прежде всего произвести осмотр существующих церквей и местностей, где находились сгоревшие или, за разрушением, упразднившиеся приходские храмы, и настоящий вид существующих церквей снять на план, а затем начертать общую сеть церквей, долженствующих быть в губернии, для удовлетворения религиозным нуждам местного православного населения. В мае 1868 г. Г. Министр Внутренних дел отношением просил Витебского Губернатора принять меры к осмотру храмов и составлению сети долженствующих быть в губернии церквей, направляя это дело так, чтобы не далее 20-го августа того 1868 г. Министерство могло иметь точные сведения, как об общем числе вошедших в сеть церквей, так и о тех, по которым составлены проекты и сметы уже утверждены надлежащим порядком. Между тем, требование Г. Министра остаётся и до сих лор неисполненным. Несмотря на то, что труд осмотра церквей и составления планов разделён был между пятью, состоящими на службе в Витебской губернии, техниками, поручение это доселе ещё не всеми исполнено, и потому Церковно-Строительное Присутствие до настоящего времени не могло приступить к составлению требуемой сети церквей. Причина столь непростительной медленности в таком важном деле заключалась отчасти в скорой перемене Начальников губернии (в 1868 и 1869 г.
—253—
1869 г.
их сменилось три), а частью в недостатке внимания и ревности к этому святому делу со стороны некоторых из сменившихся Губернаторов. Так, по распоряжению бывшего начальника губернии Токарева, один из архитекторов, которому поручен был осмотр церквей по нескольким уездам, отвлечён был на целое лето минувшего 1869 г. от этого спешного и важного дела и приставлен был к другому, конечно, с точки зрения г. Токарева, может быть, не менее важному делу, а, именно, к перестройке театра при Губернаторском доме.
Если церковно-строительное дело по Полоцкой епархии будет продолжаться таким образом и на будущее время, то немалое ещё число церквей придётся запечатать и прекратить в них Богослужение, к великому прискорбию Епархиального Начальства и к явному ущербу духовных интересов православных поселян.
Но принимая во внимание, с одной стороны, освобождение Витебской губернии от зависимости Виленской Администрации, а с другой – благорасположение к Православной церкви, усматриваемое в новом Начальнике губернии г. Ростовцеве, можно с уверенностью ожидать большей поспешности и больших успехов в деле постройки и исправления церквей по вверенной мне епархии“.
1-го января писал мне из Гродно Н.П. Мезенцов:
„Сегодня Новый год, начинаю его поздравлением Вашего Преосвященства. Да пошлёт Вам Господь Бог многия и многия лета на прославление святого Его имени с такой же силой и пользой Вашей пастве, как это есть в настоящее время. Подай, Господи! Письмо это идёт из Гродно, где я случайно нахожусь с 29-го по поручению Генерал-губернатора. Думал проводить старый год и встретить новый в кругу своих в Вильне, но случилось иначе, и я здесь совершенно один.
Прошу святых молитв Ваших обо мне грешном и надеюсь, что Вы верите чувствам глубочайшего уважения и нелицемерной преданности, с каковыми имею честь быть всегда и проч...“
10-го ч. писал я в Москву Преосвящ. Леониду:
„Приношу Вашему Преосвященству вкупе с Вашими присными моё усерднейшее поздравление с наступившим
—254—
1870 г.
новым годом и желаю всем Вам новых и обильных даров благодати Божией.
Душевно благодарю Вас, Преосвященнейший, и за краткое писание, но ещё приятнее было бы для меня получить Ваше пространное послание, которое Вы уже приготовили было, но удержали у себя1252. Если оно сохранилось у Вас, прошу прислать его мне, как предназначенное для меня и потому составляющее как бы мою принадлежность. Личного свидания ожидать ещё долго, да и неизвестно ещё, состоится ли оно. Если матерь Митрофания, по возвращении из Петербурга, являлась к Вашему Преосвященству, то, конечно, она изложила Вам некраткую и не весьма утешительную повесть о моём житье-бытье. Да, моё пребывание на Полоцкой кафедре не может быть названо мирным и приятным. С первого шага моего вступления на эту кафедру и до последних дней истекшего года мне довелось вести непрерывную брань с разного рода врагами и противниками; в особенности, тяжёл был для меня минувший год. В настоящем году есть некоторая надежда на перемену моих общественных отношений к лучшему. Великое уже благо теперь же ощущается для меня в прекращении всяких сношений с злосчастной администрацией Виленской; а ещё более ощутил я спокойствия от удаления отсюда Губернатора Токарева. И вот, едва лишь наступил четвёртый год моего пребывания в Витебске, как я встречаю уже четвёртого Начальника губернии, так же, как четвёртого уже Секретаря имею в Консистории. А так как, по пословице, у всякого барона своя фантазия, то изволь Архиерей применяться и прилаживаться к этим баронским фантазиям; и надобно Вам доложить, что в западном крае отношения Епархиального Начальства к Гражданскому несравненно многосложнее и запутаннее, нежели во внутренних губерниях. Нужно ли созидать и исправлять храм Божий, без гражданского Начальства ни начать, ни совершить этого дела нельзя, потому что денежные средства, отпускаемые на этот предмет от казны, в его руках. Строить ли нужно вновь или исправлять
—255—
1870 г.
разрушающиеся постройки того или другого сельского причта, без гражданского Начальства обойтись никак нельзя. Требуется ли взыскать с прихожан в пользу священника, так называемые, обработочные за землю деньги, надобно кланяться Мировому Посреднику, или, в случае неудовлетворения с его стороны, Губернатору. Раскольничьи ли наставники вторгаются в православную паству, или ксёндзы – хищницы прелазят во двор овчий, нет иной защиты от этих волков лютых, кроме власти Полицейской. Хорошо, если эта власть сколько-нибудь сочувствует делу Православия, но большей частью случается видеть противное. Бывает иногда и то, что мелкие административные власти не прочь бы оказать нам содействие по отношению к латинской и раскольничьей пропаганде, но им грозят пальцем сверху, и православные пастыри с их паствами предаются в жертву всякого рода насилиям и поруганиям со стороны врагов. Мы просим позаботиться об ускорении церковно-строительного дела, а нам отвечают, что у них есть дело более нужное и спешное – устройство театра и других позорищных храмин. Всё это говорю Вам без всякого преувеличения. Призываем на помощь высшую духовную власть, или ответствуют молчанием, или говорят: терпите“.
14-го ч. получил я неожиданно письмо из Томска от Ректора тамошней Семинарии, Архимандрита Моисея1253, со-воспитанника моего по Московской Академии. Вот что писал он мне от 18-го декабря 1869 г.:
„Приближение всерадостного торжества о Рождении по плоти Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа, открывает мне давно желанный приятнейший случай явиться мысленно Святительскому лицу Вашему, облобызать святительскую десницу Вашу и приветствовать Вас, первый раз в Архиерейском сане, с той пренебесной радостью, которая от ангела возвещена всем падшим сынам Адама.
Удостойте, Христолюбивейший Архипастырь, преподать в новом лете Благодати Святительское, ещё впервые, благо-
—256—
1870 г.
словение Ваше и для меня недостойного, да вспомоществуемый молитвами Вашими возмогу с неослабным усердием паки изыти на святое служение церкви Христовой в деле образования духовного юношества“.
Я не замедлил ответом на это дружеское послание и 17 числа писал я о. Моисею:
„С братской любовью спешу отозваться на Ваш отдалённый, но издавна знакомый и любезный мне глас. Искренно благодарю Вас за приветствие меня с торжественным праздником Рождения по плоти Христа Спасителя и вседушевно желаю Вам на новое лето новых сил и новых благих плодов в делах Вашего учебно-воспитательного служения Православной церкви.
Письмо Ваше от 18-го декабря получено мной лишь 14-го сего января: вот какое пространство разделяет Вас со мною! Из одного центра мы удалились совершенно в противоположные пункты, но да сохранится между нами навсегда духовное и молитвенное единение, для которого не может служить преградой никакое пространственное разделение!
После нашего последнего свидания в 1861 г. со мною немало уже совершилось перемен и к лучшему, и к худшему. Переход, или лучше возвращение из Академии в Москву, конечно, не может быть назван переходом к худшему, но удаление из Москвы в Витебск не могу, по правде, почитать для себя за особенное счастье. Здесь, в течение трёх лет, пришлось мне испытать много, очень много всякого рода затруднений и огорчений. Но так как я никогда сам не предназначал для себя и не искал никаких должностей, а всегда шёл туда, куда мне указывали идти, то и это назначение я принял с полной покорностью, как указание воли Божией. Утешаю себя той мыслью, что после многотрудного здесь делания, может быть, Господь даст рано или поздно вкусить и плодов этого делания.
Вы как подвизаетесь на отдалённом востоке? Желал бы я получить более или менее подробные сведения о Вашем пребывании, о Ваших трудах, о состоянии вверенной Вам Семинарии, о физических и нравственных особенностях Томской епархии и, между прочим, о причине
—257—
1870 г.
перемещения из Томской епархии Преосвящ. Алексия1254 и о Ваших к нему отношениях“.
18-го числа писал я Н.П. Мезенцову:
„Прежде всего приношу Вам усерднейшую благодарность за Ваше поздравление с новым годом. Взаимно и Вас приветствую с новым летом благости Божией и всеусердно желаю Вам обновления духовного.
У меня ныне новый год начался мирным общением с новым Начальником1255 губернии сначала в храме Божием, и затем в его жилище. Он устроил в этот день трапезу любви, к которой пригласил меня и высших представителей Губернской Администрации. Беседа за трапезой была любезная и весёлая. Вообще, со времени его прибытия в Витебск, у меня на душе стало гораздо спокойнее. Сегодня он был у меня за литургией в домовой церкви с своей дщерью, которая недавно приехала к нему и в первый раз пожаловала ко мне. С переменой главного деятеля значительно начинают изменяться отношения ко мне и второстепенных актёров“.
Смотритель Переяславского д. училища (Владим. еп.) священник А. Свирелин, составив книгу под заглавием: „Православная Вера“1256, прислал мне экземпляр этой книги при письме от 23-го января, в котором изъяснил цель своего издания в следующих выражениях:
„Сообразно Высочайшему положению о народных училищах утверждать в народе религиозные и нравственные понятия, при составлении означенной книги я имел целью изложить в ней религиозно-нравственное учение Православной веры в цельном и, по возможности, полном составе так, чтобы она служила справочной и руководственной книгой для нашего православного народа. Для сего книга разделена на три части: в 1-й – излагается учение веры с пояснением догматов веры примерами, избранными из
—258—
1870 г.
Четий-Миней, и изъяснение 10-ти заповедей Божиих; во 2-й – представлено изъяснение всего Православного Богослужения – общественного и частного с переводом особенно замечательных молитвословий на русский язык; в 3-й – помещены примеры и правила веры и нравственности, которые всего ближе могут служить руководством в быту народа“.
О. Свирелин известен мне с детства, как уроженец села Афанасьевского Шуйского уезда, невдалеке от моей родины, и как родной племянник Преосвященного Архиепископа Агафангела1257. Когда я был Ректором Московской Академии, Свирелин, бывши уже священником в г. Переяславле, домогался получить от Академии какую-либо учёную степень и просил дать ему тему для написания сочинения. Ему дана была А. В. Горским следующая тема: „Догматическое учение православной церкви по Чети-Минеям Св. Димитрия Ростовского“. Когда представлено было написанное на эту тему о. Свирелиным сочинение, ему дана была степень действительного студента Академии. Материалами, собранными для этого сочинения, о. Свирелин, очевидно, воспользовался и при составлении изданной им в 1868 г. книги: „Православная Вера“.
24-го января писала мне Настоятельница Виленского женского монастыря, Игуменья Флавиана1258:
„В начале декабря прошедшего года, возвращаясь из поездки в Москву, по делам Обители, я имела в виду истинное для себя утешение удостоиться личной духовной беседы и святительского благословения Вашего Преосвященства, когда мне предстояла возможность ехать на Витебск. Но обстоятельства вдруг расположились иначе, указывая мне необходимость быть в Петербурге, и я должна была лишить себя двоякого утешения и лично представиться Вашему Преосвященству и выразить Вам глубокое чувство благодарности за высокое для меня святительское благоволение и внимание Ваше, о котором сообщил мне достопоч-
—259—
1870 г.
теннейший Николай Павлович Мезенцов. При настоящем отправлении Николая Павловича в Богоспасаемые пределы Вашего Архипастырства, я, не имея счастья воспользоваться лично милостивым приёмом Вашим, принимаю смелость выразить перед Вашим Преосвященством, по крайней мере, искренность моего задушевного желания и сожаления о нечаянном препятствии“.
Игуменья Флавиана (в мире Екатерина Александровна Попова) уроженка Москвы, дочь Титулярного Советника. После домашнего воспитания, 16-ти лет она поступила в монастырь; в 1852 г., августа 2-го дня, она получила пострижение в Московском Алексеевском монастыре, а в 1855 г. назначена была Казначеей того же монастыря. В 1864 г., по мысли бывшего Главного Начальника Северо-Западного края М.Н. Муравьева, состоялось Высочайшее повеление об открытии в Вильне, на месте женского латинского монастыря (Визиток), православного первоклассного Мариинского монастыря. Почивший в Бозе Митрополит Литовский Иосиф обратился к Московскому Митрополиту Филарету с просьбой избрать из Московских монастырей способную и благонадёжную кандидатку, для определения в этот монастырь Настоятельницей. Жребий избрания пал на Казначею Алексеевского монастыря Флавиану, как женщину очень способную, умную и распорядительную. За отсутствием Владыки Филарета из Москвы (он был в Троицкой Лавре) мне поручено было отправить монахиню Флавиану с избранными ею из среды Алексеевских сестёр в Вильну. Мне же поручено было Митрополитом, по просьбе Флавианы, избрать из диаконов Московских кандидата во священника для нового Виленского монастыря1259.
Законоучитель Демидовского Лицея и Ярославской Гимназии, священник А.П. Лавров1260, товарищ мой по Академии, обратился ко мне с письмом от 26 января, в котором изъяснял:
„В истекшем году напечатав труд свой „Краткий Очерк Истории Христианской Церкви“1261, я считаю прият-
—260—
1870 г.
ным для себя долгом предложить Вам в дар два экземпляра его. Надеюсь, что Вы, помня прежнего своего товарища по Академии, Алексея Лаврова, примете благосклонно этот дар его и не забудете его в своих молитвах пред престолом Божиим.
После посещения Вами г. Ярославля и в частности моей квартиры, в жизни моей произошли большие перемены. В 1862 г. я поступил во священника и законоучителя Демидовского Лицея, а в 1866 г., в течение трёх недель, лишился троих детей и жены. Не могу выразить словами тяжести этого лишения. Уже четвёртый год идёт после великого несчастия моего, но рана душевная ещё слишком глубока и сильна. И опытом убедился я, что девство гораздо легче переносить, нежели вдовство. К счастью моему ещё остались у меня два сына, которые и обучаются в нашей Гимназии.
Напечатанный мною Очерк Истории Христианской церкви так понравился г. Попечителю Московского Учебного Округа Князю Ширинскому-Шихматову, что он обратился в духовный учебный Комитет с своим ходатайством о дозволении ввести его в руководство во всех Гимназиях Московского Округа. Не знаю, какой ответ последует на это из Духовного Учебного Комитета. Но я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Преосвященство, не признаете ли Вы полезным ввести этот очерк в руководство по Церковной Истории в Вашей духовной Семинарии. С своей стороны я премного был бы благодарен Вам за это“.
Желая оказать услугу доброму товарищу, я поручил Семинарскому Правлению рассмотреть составленную о. Лавровым книгу и о последующем представить с мнением.
Правление, рассмотрев книгу, представило мне 23-го февраля следующее постановление:
„Хотя отзывы Комиссии, рассматривавшей, по поручению Правления, сочинение священника Лаврова „Краткий Очерк Истории Христианской Церкви“ и говорят в пользу этого сочинения, свидетельствуя о пригодности его к употреблению в качестве учебника для учеников Семинарии по предмету Церковной Истории, но, в виду недавнего Указа из Св. Синода, от 15-го прошлого января за № 6, которым определяется, что, в ожидании нового более удовлет-
—261—
1870 г.
ворительного руководства по Церковной Истории, Наставникам следует держаться по этому предмету руководства Архимандрита Иннокентия, Правление Семинарии не находит удобным введение вышеозначенного сочинения священника Лаврова учебным руководством в Семинарии по Церковной Истории“.
Уведомляя об этом неблагоприятном отзыве Семинарского Правления своего доброго товарища, я писал ему:
„Очень сожалею, что Ваше желание относительно Вашего Очерка Истории удовлетворено быть не может, но Вы сами можете из представленного мне Семинарским Правлением мнения усмотреть, в чём заключается препятствие к удовлетворению Вашего желания.
Вашему семейному лишению тем живее сочувствую, что я сам, как Вам известно, испытал подобное горе. Не следует ли и Вам последовать моему примеру? Но да подкрепить и да утешит Вас Господь в этом горестном лишении Своею Благодатью!
С любовью вспоминаю я о моём пребывании в знатном граде Ярославле1262 и о моём с Вами свидании. С того времени много воды утекло в Вашей знаменитой Волге и много совершилось перемен в Вашей и моей жизни“.
Благочинный 1-го округа Полоцкого Благочиния, почтенный старец о. Феодор Одинцов в донесении от 27-го января за № 59-м преподал мне следующее наставление:
„В некоторых приходах вверенного мне Благочиннического округа от времён подданства, когда крестьянин имел свободного только времени вечер субботний и воскресного дня до обеда, остался обычай привозить младенцев для совершения над ними таинств Крещения и Миропомазания в субботу вечером. И таинства уничижаются, поскольку приезжают кумовья и поевши и иногда выпивши, и воскресный день лишается должного почтения не только от кумов, но и от всей деревни, в которой младенцы. Целую ночь и утро празднуют крестины, и никого с той деревни в Церкви. Ревностнейшие священники сколько ни силятся усовещевать и убеждать, чтобы перестали грешить сим своим обычаем, но мало успевают, более по-
—262—
1870 г.
тому что не все одинаково восстают против сего. А не все одинаково восстают, потому что нет на это подтвердительного воспрещения в настоящее время, и не было прежде. Кроме сего долг исповеди отбывается крестьянами в одно утро. Иногда бывает так: дьячок читает и поёт канон, а священник выходит к иконе Спасителя или Богородицы, и исповедует человек сто. Ни молитв к исповеди, ни молитв ко причащению не читается, и нет времени прочитать их. И сие чинится собственно, потому что не было слова от Архипастыря. Самим священникам трудно устоять против исстари введённого обычая. Печатное слово Вашего Преосвященства, прочитываемое по церквам, могло бы и скоро и удобно исправить и недоумения разрешить по сим важным предметам, подлежащим Святительскому разрешению. Сами священники этого желают. А и народ православный сначала, может быть, поскучает, а потом, достойно в первом случае почтивши св. Таинства, а во втором освятившись исповедью и причащением, возблагодарит Бога за своё вразумление. О чём честь имею нижайше донести Вашему Преосвященству и ожидать разрешения“.
28 ч. писал мне из Вильны Н.П. Мезенцов:
„Вместо того, чтобы иметь счастье быть уже у Вашего Преосвященства, я ещё здесь в Вильне. Причина этому бывшая болезнь, и семья, в виду свирепствующих морозов, обязала меня остаться с нею до 3-го февраля. На это я должен был согласиться и только поэтому не мог быть в Полоцке, как я предполагал, и сегодня или даже вчера иметь радость душевную поклониться Вам, мой святой Владыко. У нас и сейчас 16° мороза и нет дня, чтобы не случилось на железной дороге какого-нибудь несчастия.
О вчерашнем столкновении поездов, вероятно, осторожно известят в газетах, т. е. не скажут правды. Гласность, как видно, нужна только для того, чтобы рассказать, как ничтожный воришка вытащил у меня платок из кармана, а о тех ворах, которые наживаются от железной дороги и убивают людей1263, нельзя говорить, чтобы не
—263—
1870 г.
раздразнить высокопоставленных двигателей своих интересов.
Грустно видеть существующее повсеместное зло и, конечно, нескоро дождёмся мы доброго порядка. Такова то кара над нами небесная! Кроме разговоров о происшествиях на железной дороге здесь беспрестанно слышишь об обливаниях женщин кислотой, что, впрочем, завелось уже с успехом в Петербурге. Указывают виновниками этой забавы нищих мальчишек и господ, прилично одетых, а уличить никого не могут, хотя заботливое Начальство очень горячится. Простите, святый Владыко, что занимаю Вас этими рассказами.
Чувства безграничной моей к Вам преданности и глубокого уважения известны Вашему Преосвященству. С ними был и буду до гроба“.
29-го ч. получил я из Петербурга от Действ. Ст. Сов. Ник. Александр. Новосельского письмо (вероятно, циркулярное ко всем епархиальным архиереям) следующего содержания:
„Дух религиозного неверия, возникший в последние годы и развивающийся в некоторых слоях нашего общества, в особенности же в среде молодого поколения, способного увлекаться всякого рода учениями, имеющими вид истины и выдающими себя за научные результаты современного знания, возбудил во мне желание предпринять издание Сборника сочинений современных писателей, под заглавием: „Материализм, наука и христианство“. Характер этого издания чисто апологетический. Избранные, как уже вошедшие, так и имеющие войти в состав Сборника, сочинения, при внутреннем, строго христианском, направлении, отличаются, сколько своим беспристрастием, столько же глубоким знанием избранных предметов. Все современные теории неверия, касающиеся основных истин религии вообще и христианства в особенности, найдут в Сборнике полное и беспристрастное раскрытие своих слабых сторон и ясное указание кроющихся в них недостатков и заблуждений. Современное неверие любит прикрываться авторитетом науки, и в ней одной ищет своей опоры. Соответственно этому и посвящённые рассмотрению современного неверия, во всех его родах, сочинения име-
—264—
1870 г.
ют характер чисто научный и принадлежат перу таких писателей, которые составляют авторитеты даже в Европейской литературе. Наложение этих сочинений самое популярное и общедоступное.
В настоящее время изданы и находятся в продаже пять книг, содержащих в себе семь сочинений, печатаются и скоро выйдут из печати две, и много капитальных сочинений уже переведено на русский язык и ожидает своей очереди для напечатания. Но двухлетний опыт этого издания уже показал, что столь серьёзные научного содержания сочинения, не смотря на внутренние их достоинства, не могут иметь должного распространения в среде нашего общества, без официальной поддержки и содействия, тогда как только при внимании к этому изданию общества и может осуществиться цель, к которой оно направлено. Единичные усилия в таком деле могут только бесплодно истощать средства и повести к прекращению издания, единственным побуждением к которому служит, с моей стороны, желание содействовать утверждению в нашем обществе религиозных убеждений и предохранение от гибельных плодов неверия. Духовенство ближе всего поставлено к внутренней жизни нашего общества; представители духовенства всего чаще и всего скорее могут иметь нужду в такого рода издании, при встрече с людьми, проникнутыми антирелигиозным направлением, – потому духовенство прежде всего должно и отозваться сочувствием к нему, оказав содействие к его осуществлению и распространению. В глубоком убеждении, что православное духовенство наше всегда готово оказать зависящую от него поддержку в добром христианском начинании, считаю долгом покорнейше просить Ваше Преосвященство удостоить вашим вниманием предпринятое мной издание, сделав распоряжение об извещении о нём подведомственного духовенства, с представлением права, где окажется к тому возможность, выписывать это издание и на счёт церковной кошельковой суммы“.
3-го (15) февраля писал мне из Парижа, принявший православие, бывший католический Аббат, о. Владимир Гетто1264.
—265—
1870 г.
Письмо писано на французском языке, но я изложу его здесь в русском переводе. Вот содержание его:
„Преосвященнейший Владыко!
Я отправил в Киев к Архимандриту Филарету1265, Ректору Академии, 2 экземпляра 1-го тома Церковной Истории, на которую вы подписались.
Прошу Ваше Преосвященство, когда Вам угодно будет уплатить за 2-й том, адресовать деньги в Петербург Г. Неллье, книгопродавцу Двора Его Величества на Невском проспекте. Пересылка денег прямо в Париж сопряжена с значительными издержками. Том стоит 2 р. 60 коп. по причине потери на курсе.
Прошу Ваше Преосвященство принять изъявление моей признательности за сочувствие, которое Вы изволили оказать моему сочинению.
С почтением целую Вашу Архипастырскую руку и прошу Вас благословить меня, как покорнейшего сына Вашего, В. Геттэ, священника, доктора Богословия Православной Российской церкви.“
Скажу кстати несколько слов об о. Владимире Геттэ. Он был, если не ошибаюсь, в 1865 г. в Москве, и, между прочим, заезжал ко мне, но, к сожалению, не застал меня дома: я был в поездке по епархии1266. В Москву привозил его известный Протоиерей Васильев1267 для представления его Московскому Митрополиту Филарету и для испрошения ему учёной степени магистра Богословия. Владыка, зная, что о. Геттэ в то время написал уже до 40 томов разных сочинений в защиту Православной церкви против католицизма, сказал Протоиерею Васильеву, что учёные труды священника Геттэ заслуживают степени не магистра, а доктора Богословия. – И ему дана была, по ходатайству Московской Д. Академии, эта высшая учёная степень.
9 числа писал мне проф. С.К. Смирнов:
„17-го февраля в Московской Семинарии назначено собрание духовенства по поводу быть или не быть Вифанской Семинарии. Прокурор предложил Духовенству Московской
—266—
1870 г.
епархии содержать Семинарию на свой счёт; иначе она должна быть закрыта. Всё это относится к пресловутому вопросу об улучшении быта духовенства. Большинство заинтересованных в деле Вифанской Семинарии уверены, что отстоять её существование не предвидится никакой надежды, тем более, что Митрополит не высказал ни малейшего участия к делу, а предлагает уже, что на место Семинарии должно перейти Перервинское училище1268. Сейчас посылаю к Гилярову1269 записку о. Ректора Вифанского1270; не знаю, напечатает ли он, но если напечатает, то имени автора не оглашайте.
Об ожидаемой реформе нашей Академии прошёл слух, будто её в нынешнем году не будет; но это, кажется, принадлежит к числу вымыслов“.
В ответ на это писал я от 16-го числа:
„Приношу Вам мою душевную благодарность за Ваше вторичное письмо, которое побудило меня неотложно взяться за перо, чтобы ответствовать Вам как на это послание, так и на предыдущее от 24-го декабря.
С благодарностью принимаю Ваше искреннее желание относительно переселения моего с запада на восток. Но я и теперь уже, по милости Божией, стал несколько ближе к Востоку, отрешившись от сношений с Вильной. В самом деле, я теперь же начинаю чувствовать благодетельные последствия этой отрешённости; а ещё более ощутительно для меня удаление из Витебска губернатора Токарева. По моему ли влиянию, или не по моему, состоялось это удаление1271, во всяком случае я чрезвычайно этому рад. В преемнике Токарева1272 видится человек совсем иных качеств.
Издаваемой г. Гиляровым газеты здесь, кажется, никто не получает, и потому упоминаемую Вами статью, если она
—267—
1870 г.
и будет напечатана, едва ли мне удастся прочитать, хотя и желал бы. Всё, касающееся Москвы, меня очень интересует. О ходе описываемого Вами дела по Вифанской Семинарии я читал в Моск. Епарх. Ведомостях, которые я выписываю. Чудные дела деются у нас на Руси в настоящую пору по всем ведомствам!
Московское Общество Любителей Духовного Просвещения почтило меня званием своего Почётного Члена, о чём я получил сегодня уведомление вместе с дипломом на это звание. Не знаю, кому собственно обязан я этой честью, вероятно, Председателю Общества, новопосвящённому Преосвященному Муромскому1273, который подписал диплом. Это уже третий у меня в Витебске диплом: первые два присланы были от Исторических Обществ Московского и Одесского. Мне очень совестно, что эти почётные титулы присвояются мне незаслуженно с моей стороны, а заслуживать теперь довольно уже поздно, при моих служебных обстоятельствах. Читать кое-что я нахожу ещё время, но писать решительно не могу“.
12-го ч. извещал меня С.П. Оконнишников, что в настоящее время он не может, вопреки своему обещанию, приехать в Витебск, обещаясь посетить меня во время Пасхи, что он имел разговор с И.А. Ляминым1274 (душеприказчиком покойного благотворителя Рыбникова)1275, который в память усопшего готов пожертвовать что-либо для Полоцкой епархии, но не знает, что для неё нужнее – вещи или деньги, и проч.
На это писал я Сергею Петровичу от 17 числа:
„Давно уже не писал Вам, потому что со дня на день ожидал Вашего посещения. Но если ожидания мои остались тщетными в прошедшем, то да утешит меня надежда на будущее. Позвольте надеяться, что Вы с Божиим благословением исполните своё слово.
О себе могу сказать утешительного только то, что с переменой некоторых внешних отношений начинает мало по малу утверждаться моё внутреннее спокойствие. Подробнее о сём побеседую при личном с Вами свидании.
—268—
1870 г.
О предполагаемом в память Ив. Петр. Рыбникова пожертвовании я пишу вместе с сим Ив. Арт. Лямину“.
И вот что писал я г. Лямину:
„Сергей Петрович Оконнишников от Вашего имени спрашивает меня, по поводу изъявляемого Вами желания пожертвовать что-либо в пользу церквей Полоцкой епархии в память покойного Ив. Петр. Рыбникова, – что мне нужнее вещи или деньги? В ответ на это спешу ответствовать Вам, что по причине многообразных нужд церковных для нас необходимы и вещи, и деньги. Есть церкви, где недостаёт самых необходимых утварей, как, напр., священных сосудов и напрестольных евангелий. Случается иногда так, что, если оказывается нужным совершать Богослужение в приписной к приходскому храму церкви, священник должен брать с собой священные утвари, так как другого экземпляра не имеется. Есть и такие храмы, которые требуют неотложной починки для беспрепятственного совершения Богослужения, а собственных к тому средств не имеют. Хотя Правительство и заботится о постройке и починке церквей в Западном крае, но дело это слишком медленно подвигается вперёд, а между тем храмы Божии более и более ветшают, и даже некоторые из них, в ожидании исправления, остаются по десяти и более лет запечатанными. Здесь, очевидно, необходимы денежные пособия. – Итак, я покорнейше просил бы Вас, достопочтеннейший Иван Артемьевич, половину той суммы, какую Вам угодно будет назначить в пользу бедствующих церквей вверенной мне епархии, употребить на приобретение священных сосудов и евангелий, а другую прислать мне для употребления на необходимые исправления ветхих храмов.
Впрочем, всё это предоставляю Вашему собственному благоусмотрению и распоряжению и за всякую, оказанную Вами помощь, буду весьма признателен Вам“.
Но не только пожертвования, даже и ответа не получил я на это письмо.
15-го же числа получил я от Московского Общества Любителей Духовного Просвещения Диплом на звание Почётного Члена сего Общества при следующей бумаге за № 49:
—269—
1870 г.
„Московское Общество Любителей Духовного Просвещения по уважению к просвещённой деятельности Вашего Преосвященства во благо православной церкви и к распространению духовного Просвещения между сынами Её, в заседании своём 5-го февраля сего 1870 г., согласно ст. V, 2 Высочайше утверждённого положения об образовании Московского Общества Любителей Духовного Просвещения избрав Вас в свои Почётные Члены, имеет честь при сём препроводить к Вашему Преосвященству диплом на сие звание“.
Само собой разумеется, что я счёл долгом выразить свою благодарность за оказанную мне честь.
В 1863 г. я был свидетелем открытия сего Общества, бывши тогда Викарием Московской епархии и Управляющим Высокопетровским монастырём, при котором оное было открыто.
16-го числа писал мне племянник, студент Московской Академии А.И. Успенский;
„Прежде всего спешу поделиться с Вами впечатлениями по поводу окончательного устройства нашего Академического храма и его освящения. Мысль о нашем храме, давно лелеемая многими, теперь осуществилась на деле. Храм вполне устроен и освящён.
Благодаря усердию нашего попечителя – Толоконникова и некоторых частных лиц, наш храм благолепен. Иконостас и вся церковная утварь в нём редкие. 12-го числа сего месяца происходило освящение нашего храма. Его освящал Преосвященный Игнатий с Наместником Лавры и нашим Академическим Начальством. Освящение было торжественнейшее; после этого знаменательного обряда, за литургией был посвящён во священника наш бакалавр Н. Фортинский1276.
В конце литургии о. Ректор1277 произнёс глубокое слово, в котором раскрывал и значение этого храма по отношению к богословской науке и нашей корпорации. Это слово
—270—
1870 г.
произвело на всех глубокое впечатление. Содержание этого слова подробно не передаю, потому что Вы, по всей вероятности, прочтёте его в каком-нибудь духовном журнале1278. После литургии, был дан в покоях О. Ректора обед: на него, кроме профессоров с их супругами, были приглашены некоторые из монашествующих Лавры и чиновных людей посада. Душой этого собрания был ктитор нашего храма г. Толоконников. Этот день, надобно сказать, был общим торжеством всего нашего Академического мира. Он сделался эпохой в нашей Академии. С него началась как бы иная жизнь.
От описания этого торжества перейду к самой Академии. В ней пока всё идёт по-старому. Весной в ней начнутся перестройки. Что же касается меня, то я, благодарение Господу, чувствую себя недурно. При этом скажу Вашему Преосвященству, что после Рождественских каникул, вследствие полного разочарования в прежней теме, данной для сочинения на степень, я взял другую: „О чудесах с апологетической точки зрения“. Эта тема по Богословию, и она мне весьма нравится. Пиша на неё курсовое сочинение, я могу хорошо познакомиться, как с положительным, так и отрицательным богословским направлением. А это будет весьма полезно для той жизни, которая мне предстоит впереди. Поэтому я теперь с удовольствием тружусь над ней. К каникулам надеюсь весь материал собрать на эту тему“.
Помощник Статс-Секретаря, А.П. Вилинбахов, с которым я познакомился в августе 1869 г. в г. Невеле, обещал доставить мне печатный экземпляр мнений по вопросу о детях священно-церковно-служительских. Но обещание это исполнил не ранее 20-го февраля 1870 г., 22-го числа мною получены были следующие три брошюры: 1) Свод мнений Епархиальных Начальств по вопросу об открытии детям священно-церковнослужителей, для обеспечения своего существования, всех поприщ граждан-
—271—
1870 г.
ской деятельности; 2) Представление Высочайше утверждённого присутствия по делам православного духовенства по вышеозначенному вопросу и 3) Отзыв Главноуправляющего II Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии по тому же вопросу.
При этом Г. Вилинбахов писал мне:
„Исполняя желание Ваше иметь некоторые записки, касающиеся последних преобразований по духовному ведомству, я покорнейше прошу Вас, Преосвященнейший, благосклонно извинить меня в том, что я не сделал этого ранее, и верить, что причиной тому послужила не забывчивость, а позднее получение мною двух, из прилагаемых у сего записок“…
Выражая свою признательность за доставление мне этих любопытных записок, я писал 3-го марта почтенному Афанасию Петровичу:
„Приношу Вашему Превосходительству искреннюю благодарность за доставление мне очень интересных для меня записок.
Читая Свод мнений Епархиальных Начальств по предложенному им вопросу, я, к удивлению, не вижу никакого по этому вопросу отзыва со стороны Полоцкого Епарх. Начальства. Видно, что оно или вовсе не представляло отзыва, или этот отзыв оказался незаслуживающим внимания.
Дай Бог, чтобы как эта реформа относительно священно-церковно-служительских детей, так и прочие, касающиеся вообще духовенства, послужили ко благу и церкви и Государства“.
21-го ч. писал я к новорукоположенному (18-го января) Епископу Муромскому, викарию Владимирской епархии, Преосвященному Иакову1279:
„Преосвященнейший Владыко, Возлюбленный о Господе Брат!
Усерднейше приветствую Вас с новым высоким званием Епископа. Да дарует Вам Пастыреначальник Господь И. Христос достойно ходити сего звания и право правити слово истины!
Наименование, присвоенное Вашей епископской кафедре,
—272—
1870 г.
очень близко и любезно моему сердцу. В Богоспасаемом граде Муроме, и, именно, при Вашей настоящей кафедре, суждено было мне, как не безызвестно Вашему Преосвященству, начать служение Христовой церкви в сане иерейском. Когда Господь приведёт Вас совершать святительское служение в Вашем престольном храме, не лишите и меня, смиренного некогда служителя сего храма, Вашего молитвенного воспоминания.
В Муроме остаётся ещё в живых моя тёща – старица, и при ней и около её многочисленное семейство. Покорнейше прошу не оставить эту старицу и её чад Вашим Архипастырским вниманием.
На сих днях я имел удовольствие получить от Московского Общества Любителей Духовного Просвещения диплом на звание Почётного Члена сего Общества, подписанный рукой Вашего Преосвященства. По всей вероятности, эта честь оказана мне по внушению Вашего Преосвященства, и потому я, воздавши обычное благодарение за оказанную мне честь Обществу, спешу выразить Вашему Преосвященству мою особенную искреннюю благодарность.
Желал бы я непраздно носить присвоенный мне Обществом титул, но, к сожалению, при моих обстоятельствах и при моём поистине затруднительном во многих отношениях положении, не имею возможности заниматься ни науками, ни литературой. Едва достаёт мне времени и сил исполнять обязанности своего звания и отражать постоянные нападения врагов, как внешних, так и внутренних“.
Преосвященный не замедлил ответить мне, и 4-го марта писал:
„Вашим любезным посланием от 21 февраля, с приветствием по случаю возведения меня в сан епископский, Ваше Преосвященство доставили мне истинное утешение. Искреннейше благодарю Вас за такое воспоминание о мне. Не Вам, а мне бы следовало наперёд просить Ваше Преосвященство о принятии меня в общение, как новопосвященного, и я помышлял о сём, но по стеснённым обстоятельствам никак не мог исполнить своего сердечного желания. Простите меня.
Знаю, что Муром нечужой для Вас город; знаю и то,
—273—
1870 г.
что память о Вас там честно хранится. Ваши милостивы отношения к тёще и её семейству обновляют воспоминание о Вас и ставят Вас в особом свете. Вот это истинный свет!
Когда Господь приведёт меня посетить Муром, я не премину посетить дом, в коем Вы жили, и увидеть Вашу тёщу, если будет жива. Что касается молитвы, я и без особых напоминаний считал и считаю долгом сердца молиться о Вас на ряду с Иерархами, мною досточтимыми; могу ли забыть о Вас в Муромском Соборе?
Ваше Преосвященство, как и неких других Иерархов, давно бы надобно включить в число Почётных Членов Общества Любителей Духовного Просвещения, но сего сделать мы не могли по заповеди в Бозе почившего Владыки, нашего незабвенного попечителя. Он удерживал нас, говоря: „наперёд заявите свою деятельность, потом вводите в своё Общество Почётных Членов“. Послужить Обществу можете, если захотите, распространением изданий Общества. И это будет услуга. Ваше духовенство, полагаю, богаче здешнего, и образованнее.
Моё положение во Владимире хорошо. Владыка1280 добрый и опытный. Помещение у меня сухое, тёплое и очень достаточное. Дел пока немного. Оклад мой 2500 руб. Можно благодарить Бога. Не знаю только, насколько могу быть полезным здешней пастве. Владимир не Москва. В Москве много помощников на добро. Здесь нищета поразительная, а источников для пособий мало.
Поучите нас действовать против раскола. Здесь то и дело просят скрытые раскольники об отчислении от Православия. Сам я в деле раскола сущий невежда. Да, кажется, самый дельный ничего не сделает без денег – средства, каким с успехом пользуются раскольники при совращении Православных, а у нас где деньги? где общение, подобное раскольническому? Каждый думает только о себе... Не правда ли?!
Поручаю себя св. молитвам Вашим и прошу продолжить обо мне Вашу добрую память.
—274—
1870 г.
Вашего Преосвященства покорнейший слуга Иаков, Епископ Муромский“.
Известный издатель сочинения: „Раскольники и Острожники“, Ф.В. Ливанов, препровождая ко мне 2-й том своего сочинения, писал от 26-го числа:
„В прилагаемом при сём на имя Вашего Высокопреосвященства 2-м томе только что изданной мною новой книги „Раскольники и Острожники“ рассмотрены, на основании документальных источников Министерства Внутренних Дел, двадцать две губернии, в коих жили и действовали Молокане и Духоборцы, причём приведены подлинником самое полное учение тех и других и все обряды их молений и таинств, в первый раз являющиеся в печати; в очерках „Раскольничий Племянничек“ и „Раскольничья Дочька“ указаны идеалы, к которым стремится молодое поколение раскольников, и разработана, на основании документальных источников, вся шумная история „Плотицынского дела“, со всей тёмной деятельностью газет, журналов и адвокатов, защищавших миллионеров скопцов...
Так как все эти неопровержимые сведения, помимо заинтересованной публики, более всех других нужны духовенству православному, поставленному, по самому своему назначению, в необходимую борьбу с расколом и скопчеством, то я решился сделать и свою вторую книгу несравненно доступнее для духовенства, чем для публики. Для этого я имею честь предложить духовенству вверенной Вашему Высокопреосвященству Епархии 2-й том по 3 руб. 40 коп. сер. за экземпляр и с моей пересылкой, вместо объявленной цены 4 руб. с пересылкой, т. е. духовенству епархии Вашего Высокопреосвященства уступается 60 коп. с каждой книги. Пусть книгопродавцы не наживаются на счёт духовенства!
Если Вашему Высокопреосвященству благоугодно будет предоставить духовенству Вашей епархии эти облегчения в приобретении 2-го тома „Раскольников и Острожников“, мною будут высланы в подведомственную Вам Консисторию 50 экземпляров (при меньшем количестве я стесняюсь сделать такую значительную уступку, как 60 коп. на каждый экземпляр) для предложения оных духовен-
—275—
1870 г.
ству; деньги же могут быть мне пересылаемы за книги по мере распродажи книг, ныне же вышлются оные пока в кредит“.
3-го марта приветствовал я со днём ангела (7-го числа) Московского учёного друга моего, Капитона Ивановича Невоструева, и при этом писал ему:
„Вместе со мной приветствует Вас и достопочтенный священник Павел1281. Он, наконец, в последних днях Сырной недели посетил меня и провёл у меня целые сутки. Много мы побеседовали с ним, как о его личной судьбе, так и о его благоплодной деятельности ко благу Православной церкви. Он получил от меня согласие на собеседование и, аще Господь благословит, на присоединение к единоверию беспоповцев в Динабургском и Режицком уездах. Ожидаю от него приятных известий о последствиях его бесед. Когда он возвратится в Москву, и Вы увидитесь с ним, полюбопытствуйте и Вы узнать от него о его пребывании и действовании в пределах Полоцкой епархии и, что услышите от него, потрудитесь сообщить и мне. Вашей приязнью он хвалится и благодарит Вас за доброе к нему расположение.
Присланные мне в прошедшем году от Н.М. Аласина в количестве 200 экземпляров1282 и распространённые мной между раскольниками беседы о. Павла читаются, как слышно, беспоповцами с большим интересом и пользой. Явился у наших раскольников запрос и на другие подобные книги прежнего времени. Недавно обратился ко мне от имени раскольников один благочинный с просьбой о доставлении им для прочтения Увета, Жезла Правления и др. Думаю удовлетворить их желанию и послать им книги, какие имеются в моей собственной библиотеке.
На сих днях прочитал я в Московских Епархиальных Ведомостях объявление о выходе в свет вторым уже изданием „Письма некоему старообрядцу Поморского согласия о необходимости исповеди перед иереями в церкви“. Письмо это, по-видимому, принадлежит священнику Параскевиевской,
—276—
1870 г.
в Охотном ряду, церкви Виноградову1283. Если моё предположение справедливо и если Вы знакомы с о. Виноградовым, попросите его, пожалуйста, выслать мне 100 экземпляров его Письма, для распространения, по примеру бесед о. Павла, между здешними раскольниками – беспоповцами. Деньги высланы будут немедленно по получении брошюр“.
5-го ч. Полоцкий Благочинный, священник Ф. Одинцов, доносил мне:
„Сего марта первого числа священник Бельской церкви Иоанн Блюдинский получал пособие, определённое ему за понесённые убытки при пожаре, происшедшем в его доме, и, получив пособие, отправился в лавку Русского известного ему купца. Туда, пока купец отпускал нужные для него предметы, прибыл предводитель Полоцкого Дворянства г. Б. Едва только священник успел оказать своё почтение и заявить приветствие, г. Б. такую речь начал: „Что вы, батюшка, делаете мне подрез?“ „Какой подрез, я не понимаю“, ответил священник. „Почему вы не выходите из занимаемого Вами училищного дома; здесь бы было сельское Правление; вы мою корчму лишаете дохода“. Священник говорил: „если бы было куда выйти, я бы вышел, а на улице теперь жить не можно, детей поморозить можно“. „Вы задружили с помещиком, и его корчме доход от сельского Правления, а моя корчма совсем без дохода“. Священник шуточно ответил: „помилуйте, я ещё поддерживаю вашу корчму.“ „Ну, не шутите, батюшка“; и, вышедши из лавки со священником, сказал ему вполголоса: „Батюшка, Преосвященнейший обещал Вас послать в монастырь на шесть недель; и тогда мне можно будет распорядиться занять дом сельским Правлением.“ Священник ответил: „Если заслужу и угодно будет Архипастырю, не только на шесть недель, но и на шесть месяцев, определить меня в монастырь, я повинуюсь воле моего Начальства; а всё-таки мне с семейством поместиться негде, кроме сего училищного дома.“ Вот какие побуждения руководят Гг. Предводителей Дворянства. И г.
—277—
1870 г.
Посредник твердит, конечно, в угоду г. Б., что сельское Бельское Правление совсем не у места, потому что не при церкви. А оно от церкви в трёх верстах; только вот беда, что там корчма другого помещика. Простите, Преосвященнейший Владыко, что осмеливаюсь беспокоить сим. Сердце обливается кровью, когда видишь, как благожелательствуют г. православные помещики – руководители дворянства и приставники Правительства. Вот где причина остановки обеспечения причтов домами и постройками. Отсюда возникают клеветы на духовенство и подстрекательство простого люда православного.“
6-го числа священник Малиновской церкви, Динабургского уезда, Василий Соловьев частным письмом извещал меня о последствиях бесед Настоятеля Московского Единоверческого монастыря, Иеромонаха Павла Прусского, с раскольниками Малиновского прихода:
„Тотчас по возвращении из Витебска, я начал разузнавать, какое влияние произвёл инок Павел, так называемый Прусский, на Малиновских раскольников и какие плоды оставил после себя. Он, сколько я мог узнать, произвёл на них очень хорошее впечатление, как своим умом, который показал в беседах с ними, так и своей аскетической жизнью. Особенно благотворно подействовал на тех, которые ещё прежде чувствовали своё заблуждение; он своими беседами с ними окончательно разубедил их в заблуждении и обратил на путь истины. – На первый раз, как передавал сам о. Павел и от других я слышал, заявили желание принять православие, на правах единоверия, до 60 человек, но только своё присоединение отложили до осени, так как те лица, которые желают присоединиться к церкви, в настоящее время собираются на работы, а по возвращении с работ будут хлопотать об устройстве церкви и к тому времени обещается приехать опять о. Павел. Сознавшие своё заблуждение, зная, что их наставники не в состоянии будут говорить с о. Павлом, написали к ним письма, в которых просили их приехать в деревню Рубенишки и защитить своих прихожан от обличений Павла Прусского, но все наставники письменно отказались беседовать с иноком Павлом и защищать их перед ним. Этим самим
—278—
1870 г.
они посрамили своих прежних наставников и поставили их в глазах народа невеждами, необразованными и малограмотными.
Из деревни Рубенишек о. Павел был приглашён раскольниками в деревню Данышевку, где моленная, и там он провёл дня два в беседе с ними; раскольники привели насильственным образом для прения с о. Павлом своего Наставника. При многочисленном стечении народа, о. Павел обличал его в заблуждении и делал ему много вопросов, но он, по своей малограмотности, не отвечал на них, или отвечал нелепо. Наконец, когда о. Павел спросил его, кто поставил тебя во священника, народ за него со смехом ответил: „Мы человек сорок взяли из корчмы, привели в моленную и поставили в отцы“. Словом, о. Павел своими беседами многих из раскольников привёл в колеблющееся состояние.
После отъезда о. Павла, в расколе образовались две враждебные партии: одна из желающих возвратиться в лоно православной церкви, а другая из фанатиков раскола; хотя первая партия состоит из меньшей цифры, чем вторая, но за то она имеет более влиятельных людей, и есть надежда, что со временем первая будет иметь перевес над последней партией.
Достоуважаемый о. Павел 27-го февраля из Малиновки отправился в Динабург, там совершал литургию и некоторых единоверцев приобщал Св. Таин, из Динабурга – в Режицу, откуда мне писал и просил выслать в город Режицу дьячка Малиновской церкви Шапкина, как хорошо умеющего петь по-единоверчески. В Режицком Соборе 8-го марта будет присоединяться к Православию, на правах единоверия, купец Маслеников1284.
При сём посылаю Вашему Преосвященству копию пригласительного письма, которое посылали раскольники, желающие принять православие, к своим наставникам, и копию ответа одного наставника на пригласительное письмо“.
Вот эти копии от слова до слова:
„Честный Отец Андрей Севастьянович. Приехал сюда Павел Прускии привёс с собою много древних книг,
—279—
1870 г.
и показывает из них что священство и таинства должны быть досудного дня а безних ни как не возможно спастися и мы не знаем ему что ответить, и есть некоторые слушают его, и может быть что некоторые будут готовы склониться на его сторону, то вы честный отче уподобьтись доброму пастырю полагающему душу свою за овцы, а не тому который оставляет овцы и бегает от них оставляет их на изядение, но потщитесь приехать прогнать его Павла словом Божиим, и истинными доказательствами заградить ему уста, а если вы отец не потщитесь победить его Павла словом истины то церковные1285 над нами восторжествуют и многие из наших могут иметь причину колебаться в нашем положении“.
Ответ:
„1870 года февраля 23 дня панедельник,
Добрые, Осип Мерькульевичь, и Кирьян Силиверьстьевичь,
На получение Вашего писма от 22-го февраля уведомляем вас что мы не будим на ваша собрание и не желаем быть никагда в вашем совети, а почему Вас все покорнейше просим не извините на том а савету Мы вам недадим никакова как вы знайте так вы про себя и разумейти, и мы от закону малоумные, а толька то знаем что как преданы мы прежними своими Духовными Отцами так мы согласны вевтом и сконьчать свою жизнь сего света, а святости нати мы толька можем в сокрушение сердца, и в Добрых Делах в том и спастися можем, и так пращайте Осип Мерькульевичь и Кирьян Силиверстьевичь, Гости Ваши и Совет Ваш как хотит, писал Семен Ипатьев по приказанию отца Духовного Андрея Савость, и причих прихожан Маленны“.
Рапортом от 8-го числа доводил до моего сведения о своих беседах с раскольниками и о присоединении некоторых из них к Единоверию сам о. Павел. Он писал:
„Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыко, Милостивейший Отец и Архипастырь! Честь имею донести
—280—
1870 г.
Вашему Преосвященству о том, что я, по получении разрешения от Вашего Преосвященства беседовать с глаголемыми в Вашей епархии старообрядцами, вступал в беседу с ними в Динабургском уезде в двух местах и неоднократно, в деревнях Рубенишках и Данышевке, людей было съехавшись довольно и со иных деревень, и сами они старообрядцы письменно приглашали на беседу своих наставников, но наставники отказались; на другой день после этого Данышевские старообрядцы своего наставника упросили прийти; но пришедший наставник рассуждать от писания не захотел и, указывая на привезённые мной книги, сказал так: сии книги я вижу, они наши старые книги, но мы стоим не на книгах, но на том, что нам предали наши старики, потому я от книг говорить ничего и не могу, и сказал кое что о своих обычаях безбрачных преданных стариками, и так затем и ушёл, и люди после его со мной беседовали довольно, и просили меня отслужить молебен, что я и исполнил, и они сами за молебном молились.
В Режице присоединены мной к Святой церкви, и ко исповеди, и к причастью Святых Таинств допущены 8-го марта Режицкий купец Лука Иванович Маслеников, жена его Мавра Артамоновна, и мать его Ксения и малолетний сын его Парфений, всех 4 души.
При сём донесении честь имею препроводить Вашему Преосвященству данный мне из Консистории билет“.
В выданном 20-го февраля, за № 2331, из Полоцкой Консистории билете, между прочим, было изъяснено:
„Предъявителю сего, состоящему Настоятелем Московского Единоверческого Никольского монастыря Иеромонаху Павлу, вследствие его прошения, Его Преосвященство, Преосвященнейший Савва, Епископ Полоцкий и Витебский, разрешает и благословляет беспрепятственно посещать единоверческие церкви, дома единоверцев и старообрядцев, согласных принять его и слушать поучения о присоединении к св. церкви на правилах Единоверия в Полоцкой епархии, а равно совершать для них все церковные службы, требы и даже, где окажется возможным, Божественную Литургию на Св. Антиминсе древнего освящения, имеющемся при нём Иеромонахе Павле“.
—281—
1870 г.
9-го числа получено было мной из Петербурга от Епархиального Архитектора Хр. Н. Плющевского-Плющика письмо от 6-го ч. следующего содержания:
„Относительно Протоиерея Юркевича считаю нужным сообщить, что Святейшим Синодом постановлено, если после назначенного ему Вашим Преосвященством срока он не перейдёт в другую епархию, уволить его совершенно; о замене натуральной повинности, отбываемой крестьянами для обработки земли причтам, деньгами, полагается со всех землевладельцев сделать постоянный сбор, который, вместе с отпускаемыми ныне на вспоможение духовенству 19.000 рублей обратить на увеличение содержания, как сельскому, так городскому и кафедральному духовенству, до такого размера, что Кафедральный Протоиерей будет получать до 1500 руб. и никак не менее 1200 руб. содержания; делом этим спешат и остановка за сведениями от г. Главного Начальника Западного Края; об изменении вида Николаевского Собора в Министерстве Внутренних Дел очень заботятся и надеются, что недели через две утвердится новый проект; на постройку церквей в Западном Крае сумма ассигнуемая очень уменьшена, так что, вместо просимых Церковно-Строительным Присутствием 75.000 руб., на нынешний год будет отпущено едва ли 45.000 рублей“.
15-го числа, в воскресенье 3-й недели Великого Поста, совершено было торжественное открытие Витебского (епархиального) Комитета Православного Миссионерского Общества.
Ещё в 1865 г. основано было, по инициативе Барнаульского купца Малькова1286, Миссионерское Общество под покровительством Государыни Императрицы. В тоже время составлен был и Устав для сего Общества. Совет Общества находился в Петербурге. Но в 1868 г. в следствие распрей, происшедших в Совете, Её Величество изволила. признать необходимым, чтобы главное Управление Миссионерского Общества перенесено было в Москву и со-
—282—
1870 г.
стояло под председательством Митрополита Московского Иннокентия, как близко знакомого с делом Миссионерства. Вслед затем разрешено было составить проект нового устава Миссионерского Общества. Составленный проект устава, по рассмотрении и исправлении в Св. Синоде, внесён был в Комитет Министров и затем в 21 день ноября 1869 г. удостоен Высочайшего утверждения. По новому Уставу Миссионерского Общества, между прочим постановлено открыть в епархиях, под председательством местных Преосвященных, Миссионерские Комитеты. В конце 1869 г. разослан был епархиальным архиереям при Указе из Св. Синода новый Устав Миссионерского Общества, с приглашением к открытию Миссионерских Комитетов.
Я не замедлил отозваться на это приглашение и поспешил обратиться к своей пастве с следующим пастырским воззванием:
„По силе § 4 Высочайше утверждённого в 21-й день ноября минувшего 1869 г. Устава Православного Миссионерского Общества, коего назначение есть содействие православным миссиям в деле обращения в Православную веру обитающих в пределах Русской Империи нехристиан и утверждение обращённых в истинах св. веры и в правилах христианской жизни, делами сего Общества наведывают: Совет, находящийся в Москве, под председательством Высокопреосвященного Митрополита Московского, и, Комитеты, открываемые в епархиальных городах, под председательством местных архиереев.
В виду открытия Комитета в Витебске, как епархиальном городе Полоцкой епархии, с целью содействия Московскому Совету, обращаюсь, по долгу Председателя сего Комитета, к православным сынам Полоцкой церкви с усерднейшей просьбой принять участие в святом деле споспешествования православным русским миссиям благотворительными приношениями.
Желающие оказать помощь Миссионерскому Обществу денежными пожертвованиями (на основании § 16 Устава, не менее трёх рублей в год) и через то приобрести право на звание действительного члена сего Общества, приглашаются 15-го числа текущего марта к часу пополудни в
—283—
1870 г.
Витебский Архиерейский дом, для избрания, согласно § 51 Устава, Членов Комитета“.
На этот пастырский глас с любовью откликнулись многие из православных жителей г. Витебска. В назначенный день и час, в моём архиерейском доме, собралось 65 человек.
Об открытии Витебского Комитета православного миссионерского Общества, в местных Губернских Ведомостях напечатаны были в своё время следующие сведения:
„Благая мысль содействовать успехам православных миссий в деле обращения в православную веру обитающих в пределах Русской Империи нехристиан встретила полное к себе сочувствие со стороны Витебского православного Общества.
Равноапостольное дело просвещения неверующих светом евангельского учения уже само по себе, без всяких иных соображений, одной высотой своей священной задачи сочувственно располагает к себе сердца ревнующих о славе Божией христиан. Но есть и другие причины, ручающиеся за повсеместное быстрое умножение числа членов православного миссионерского общества, споспешников этого святого дела. Наше национальное чувство глубоко оскорбляется сознанием того грустного факта, что в среде европейских государств только одно наше отечество считает в числе своих граждан грубых идолопоклонников, не – познавших единого истинного Бога. При этом невольно западает в душу сомнение: может ли государство называться цивилизованным и просвещённым, когда его ещё не вполне озаряет невечерний свет истинного Боговедения? возможно ли быстрое и успешное развитие гражданственности в обществе, между членами которого существует такое резкое и глубокое разъединение, какое естественно должно быть, и обыкновенно бывает, между просвещёнными христианской верой и людьми, коснеющими в самом грубом суеверии и совершенном невежестве? Как пагубно может влиять подобное разъединение на развитие общественной жизни, какие может ставить преграды успехам промышленности, процветанию ремёсел и улучшению экономического быта, православным жителям г. Витебска это должно быть отчасти известно из ежедневного непо-
—284—
1870 г.
средственного опыта. В нашем городе нет грубых идолопоклонников; вид кумиров не оскорбляет нашего религиозного чувства. Но большинство городского населения состоит из чтителей Моисеева закона, живущих своей особой замкнутой жизнью, преследующих свои исключительные интересы и по многим бытовым вопросам неразделяющих с нами ни наших чувств, ни наших убеждений. О грустных последствиях такого разъединения между населением нашего города, дающих себя чувствовать почти на каждом шагу, было бы излишне распространяться, так как они всем хорошо известны.
И так, когда от лица нашего Архипастыря Преосвященного Саввы, епископа Полоцкого и Витебского, последовало приглашение к участию в деле православных русских миссий, местное православное общество не могло не откликнуться на него с полной готовностью. Действительно в назначенный день, 15 марта настоящего года, в доме Его Преосвященства, собралось православных жителей г. Витебска 65 человек. Его Преосвященство изволил открыть собрание молитвой: Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе… Царю небесный... Трисвятое... Отче наш... Благословен еси Христе Боже наш... и Слава и ныне, Днесь благодать Св. Духа нас собра... Затем протоиерей Успенского собора Василий Волков1287 начал чтение Устава православного миссионерского общества. По прочтении 51 § сего Устава, Его Преосвященство, приостановив чтение, объявил собранию, что звание товарища председателя комитета Витебского миссионерского общества изъявил согласие принять на себя Его Превосходительство, Г. Начальник Витебской губернии Павел Яковлевич Ростовцев, потом продолжалось до конца чтение устава. По прочтении устава всем присутствующим, желающим быть членами общества, предложено было записать на особых печатных списках свои имена и фамилии, с означением количества ежегодных взносов и единовременных пожертвований в пользу миссионерского общества. Записались все присутствовавшие в собрании. Итого ежегодных взносов объявлено на 241 руб. и сделано единовременных пожертвований 40 руб.
—285—
1870 г.
После сего председатель Комитета пригласил членов общества к выборам в члены Комитета и их кандидаты и в должность казначея. На сей предмет были розданы особые печатные билетики, на которых каждый присутствовавший в собрании записывал имена избираемых им кандидатов. Большинством голосов избраны: 1) шесть членов комитета, 2) столько же к ним кандидатов и 3) казначей. Результаты выборов объявлены собранию г. товарищем председателя комитета. После чего председатель комитета объявил комитет открытым и в кратких словах выразил надежду на содействие со стороны членов комитета и членов общества святому делу православных русских миссий; потом объявлено собрание закрытым до будущего 1871 г., или до особого какого-либо чрезвычайного случая. Наконец, последовало заключительное благодарственное пение: Достойно есть... и проч.
Таким образом было положено начало истинно святому делу. Твёрдо уповаем, что со временем оно получить ещё более широкое развитие. Без сомнения, ещё многие духовные и светские лица, как в г. Витебске, так и в его уездах, пожелают принять на себя звание членов православного миссионерского общества и посильными приношениями содействовать успехам православных миссий в родном отечестве. Это бесспорно святое дело слишком к нам близко, чтобы кто-либо из православных христиан, ревнующих о славе Божией и преуспеянии народном, мог отнестись к нему равнодушно“.
16-го марта получено было мной из Москвы от Е.В. Кашинцовой1288 письмо от 14-го ч. следующего содержания:
„Преисполненное горем сердце требует духовной пищи. Обращаюсь к Вам, как к высокому другу, изливаю перед Вами свои мысли, ищу в Вас утешителя в своей душевной скорби, день ото дня усиливающейся, и даже надеюсь получить от Вас и нужный для меня совет. Вы поймёте, что одно уже слово „наследство“ для меня более, чем убийственно; это ядовитая чаша, которую неминуемо я должна испить! Мне предоставлена вся движимость, она
—286—
1870 г.
ценна; я же не только ею пользоваться, но и видеть ничего не в силах; и сужу так, что всё то, что принадлежало тленному телу, должно быть наследством бессмертной души, хотя столь Вам известной своей добродетелью, молитвенно христианской, но всё требующей молитв от оставшихся ещё пока на земле; я жажду окончания всех сроков, установленных законом, дабы, веруя в законы небесные, получить всё мне назначенное, обратить всё в деньги и предоставить к Вам для исправления и украшения столь нуждающихся храмов в Вашем крае. Храм Божий не подобится неблагодарному человечеству: он и за ничтожную лепту возносит свои молитвы к Богу, и за упокой, столь близкой мне души, услышатся они на небесах. Меня эта мысль облегчает в скорби, но оттяжка времени крушит, ибо не рассчитываю на долготу своей жизни. Второе обстоятельство меня смущает и даже затрудняет: как это всё продать! добросовестных найти трудно, никто не вложит себе в мысль, что купить ценную вещь за бесценок будет ни что иное, как отнять у церкви; к тому же какие покупщики в Шуе. Рассуждаю и так: не лучше ли мне доставить Вам в натуре вещи, как то ценные табакерки, несколько часов, золотые цепочки и проч. Может быть, Вы иметь будете случай обратить это в деньги или обменять на церковные утвари; но не знаю, как и через кого Вам доставить: через почту будет очень дорого, если выставить ценность; уменьшить, много риску. Научите, Преосвященнейший Владыко! Сверх сего, экипажи, лошади, разная мебель, может быть и библиотека светская и духовная, могут быть проданы и в Шуе, хотя за бесценок, но всё-таки вся выручка будет доставлена к Вам. Всё же иконы тамошние и обручальное кольцо я предоставляю в Юрчаковскую церковь.
Вот, Преосвященнейший Владыко, всё, что у меня на сердце, передала Вам; скажите мне Ваше мнение и дайте совет. Если же воля друга моего не выполнится, и найдутся люди, которые будут оспаривать мне назначенное, то я в спор не войду и буду с горем думать, что Богу не угодно моё приношение; ибо я хлопочу далеко-далеко не за себя; мне ничего не надо, да и собственно для себя, как выше писала, нашла бы это отравой при взгляде
—287—
1870 г.
на вещи того, кто уже телом давно в могиле! Господь сподобил меня причаститься на первой неделе, но какое грешное было говенье! Прошу Ваших молитв и благословения и для страстной недели“.
На другой же день, 17-го ч., писал я в ответ:
„Вам угодно просить моего совета относительно распоряжения принадлежащим Вам по закону и по воле покойного супруга Вашего движимым имуществом.
Если бы у Вас были дети или ближайшие бедные родственники, без сомнения, я посоветовал бы Вам разделить между ними, если не всё, то, по крайней мере, половину доставшегося Вам имущества, ибо Господь сказал: милости хощу, а не жертвы. Но поскольку у Вас нет ни детей, ни, сколько помнится мне, очень бедных родственников, то Ваше намерение принести в жертву Богу всё, что неоспоримо принадлежит Вам по праву, не может не быть вполне одобрено. И если Вы, по своему доброму, христианскому ко мне расположению, предоставляете мне распорядиться принадлежащим Вам имуществом на пользу бедствующих церквей вверенной мне епархии, я принимаю на себя это поручение тем с большей готовностью, что, с одной стороны, я буду иметь возможность удовлетворить через сие насущным потребностям многих бедных церквей, а с другой для меня утешительно думать, что дорогие для меня имена рабов Божиих Николая и Евдокии будут молитвенно воспоминаться перед престолом Божиим не только мною, но и многими из моих со-молитвенников.
Но как это дело устроить? – Прежде всего я просил бы Вас прислать мне, при особом полуофициальном письме, хотя краткий список вещей, какие угодно Вам предоставить в моё распоряжение. Из этого списка я увидел бы, какие из значащихся в нём вещей можно было бы доставить ко мне в Витебск и какие из них могли бы быть проданы на месте. О доставлении вещей в Витебск Вам не нужно будет самим заботиться, я укажу Вам способ к их препровождению. – В случае продажи ненужных вещей на месте, т. е. в Шуе, я могу обратиться с просьбой к моим тамошним добрым знакомым принять участие в этом деле и охранить церковный интерес.
—288—
1870 г.
Что касается библиотеки, то я думал бы поручить Шуйскому Соборному Протоиерею о. Владимиру Цветкову составить краткий каталог книгам, из коих одни, может быть, с пользой могли бы быть отданы в здешние, крайне скудные, церковные библиотеки, другие библиотеки училищные, иные же остались бы в Шуе для продажи.
Угодно ли Вам принять такие мысли? Если будете писать ко мне, потрудитесь известить меня и о том, когда минуют все законные сроки, после которых Вы будете иметь уже полное и неоспоримое право распорядиться Вашим наследством по своему усмотрению.
Пишу эти строки 17-го числа, в день Алексия Божия человека, и припоминаю, что в этот день когда-то я, по приглашению покойного Николая Андреевича, совершал литургию в Вашем прежнем приходском храме и имел у Вас радушную трапезу. Памятником этого служения сохраняются у меня до сих пор пожалованные мне Николаем Андреевичем столовые часы, которые каждый день напоминают мне о почтенном дарителе“.
24 ч. писала мне из Москвы Е.В. Кашинцова:
„Перечитывая последнее письмо Ваше, останавливаюсь на словах: „Господь сказал: милости хощу, а не жертвы“. Разбирая состояние моих близких, даже очень близких моему сердцу, трёх моих племянниц, которые уже замужем и детей имеют, дочерей покойной сестры моей, с которой мы составляли одного человека, я, по духовному завещанию, предоставляю им все свои имения после себя – 950 душ, более чем по 300 душ на каждую, весь свой капитал, хотя не огромный, вещи, серебро и всю решительно свою движимость. Московская движимость покойного спутника моей жизни назначена мною в продажу. Я, призвав мебельных торговцев и объяснив им, на что будут употреблены вырученные от продажи деньги, просила их, чтобы они по совести оценили и купили то, что принадлежит церкви. Но, как Вы думаете, Владыко, во что они оценили шесть комнат, наполненных мебелью и зеркалами? – во сто рублей! Добросовестно ли же это? А на замечание моё, что делают грех перед Богом, ответили: „что вмешивать Бока в наши дела“. После этого, что будет в Шуе, где средств мало для сбыту! всё пой-
(Продолжение следует).
Журналы собраний Совета Московской Духовной Академии за 1900 год // Богословский вестник 1901. Т. 2. № 7/8. С. 145–208 (5-я пагин.)
—145—
Академии к сведению и исполнению“ – указ на имя Его Высокопреосвященства из Святейшего Синода от 30 апреля за № 2680:
„По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали: дело об утверждении кандидата богословия одной из духовных академий в степени магистра богословия. Приказали: В виду того, что по пар. 88 академического устава утверждение в богословских степенях магистра и доктора принадлежит Святейшему Синоду, предписать Советам духовных академий при возбуждении ходатайств через местных епархиальных Преосвященных об утверждении в учёных степенях магистра и доктора лиц представлять в Святейший Синод десять экземпляров сочинений на учёную степень, для снабжения оными Синодальных Членов и присутствующих в Святейшем Синоде Преосвященных; о чём, для зависящих распоряжений, послать Вашему Преосвященству и Преосвященным Митрополитам Киевскому и С.-Петербургскому и Архиепископу Казанскому указы“.
Определили: 1) Указ Святейшего Синода принять к сведению. 2) На будущее время требовать от ищущих степени магистра богословия и доктора не 50-ти, как полагается § 32 „Положения об испытаниях на учёные степени“, а 60-ти экземпляров напечатанной диссертации.
II. Резолюции Его Высокопреосвященства, последовавшие на журналах собраний Совета Академии:
а) 20 марта 1900 года: „1900 г. Апр. 22. По статьям XIV и XVI. Разрешается помощнику инспектора Харьковской духовной семинарии Чистосердову переработать его кандидатское сочинение для соискания степени магистра, студенту Челаку сдать устное испытание после летних каникул. Прочее читано и утверждается“. –
б) 19 апреля 1900 года: „1900 г. Апреля 27. По ст. I. На время отсутствия Ректора Академии разрешается поручить исправление его должности Инспектору Архимандриту Евдокиму, а исправление должности последнего профессору Петру Цветкову. Прочее утверждается“.
Определили: Резолюции Его Высокопреосвященства принять к сведению и исполнению и сообщить тем лицам, коих они касаются, а последнюю и Правлению Академии–для зависящих распоряжений.
—146—
III. Отношение Канцелярии Обер-Прокурора Святейшего Синода от 13 мая за № 3446: „По утверждённому Г. Синодальным Обер Прокурором 4 мая 1900 года докладу Учебного Комитета при Святейшем Синоде, кандидат Московской духовной академии Иван Некрасов определён на должность учителя латинского языка в Кашинское духовное училище. – Канцелярия Обер-Прокурора Святейшего Синода долгом поставляет сообщить о сём Совету Академии для сведения и зависящего распоряжения“.
Справка: По распоряжению Преосвященного Ректора Академии кандидату И. Некрасову дано знать о состоявшемся назначении его на духовно-учебную службу.
Определили: Принять к сведению.
IV. а) Отзыв экстраординарного профессора по кафедре Священного Писания Ветхого Завета Василия Мышцына о сочинении инспектора Минской Духовной Семинарии, кандидата богословия, иеромонаха Фаддея (Успенского) под заглавием: „Единство книги пророка Исаии“, представленном (в рукописи) на соискание степени магистра богословия:
„Во введении к своему сочинению (1–27 стр.) автор выясняет задачу и метод своего исследования. Ветхозаветные пророчества суть не простые естественные отзвуки исторических событий, но явления сверхъестественные, необъяснимые из начал естественных. В них пророки, возводимые Духом Божиим к созерцанию будущего, возвещали задолго до наступления „новое и сокровенное“ для естественного разума. Современные пророку события обыкновенно имели значение моментов, от которых пророки отправлялись в разумении будущих событий и в которых, как в образах, видели будущее. Но рационалистическая критика иначе смотрит на дело. Отрицая возможность сверхъестественных предсказаний, она смотрит на ветхозаветные пророчества, как на историю, как на сообщение post factum. Как видно из истории рационалистической критики, такой взгляд на ветхозаветные пророчества был первым и самым главным основанием к отрицанию единства и подлинности книги пр. Исаии, а затем уже явились на помощь ему соображения психологические, экзегетические, филологические и исторические (хронологические). Но отрицание сверхъестественности пророчеств, как скоро служит осно-
—147—
ванием к отрицанию единства книги пр. Исаии, является petitio principii и потому может быть игнорировано исследователем библейского текста. Прямая задача его в историко-экзегетическом и психологическом анализе текста с точки зрения единства книги, в выяснении единства тона, мысли, стиля и языка в книге. –
Применительно к намеченному плану автор посвящает первую часть сочинения исследованию общих особенностей книги пр. Исаии (28–52 стр.). Такими особенностями являются: 1) проходящее через всю книгу пророка единство тона и стиля, выразившееся в употреблении одних и тех же выражений на всём протяжении пророческой книги, в излюбленных у пророка образах собирания винограда, ночи и дня, света и тьмы и др.; 2) единство основной мысли о спасении „святого семени“, имеющем открыться в Сионе, и характерный для пророка Исаии способ представления, по которому Спаситель мыслится у него в общем понятии „святого семени“, как из него происходящий и как бы разделяющий судьбы своего народа (отсюда слова: „отрасль Господа“, „камень, положенный в Сионе“; „раб Божий“ – означают у него и Спасителя и спасённый остаток израилев); 3) постепенность в раскрытии мыслей, благодаря которой с каждой главой пророк становится яснее, подробнее и определённее, обращая намёк предшествующей главы в ясную мысль в следующей главе; 4) хронологическое расположение пророчеств, свидетельствующих о том, что пророк записывал свои пророчества по мере их произнесения.
Отметив общие черты книги пр. Исаии, автор во второй части сочинения (53–806) даёт подробный анализ каждой главы пророческой книги, устанавливая для неё хронологическую дату, указывая в ней характерные для пророка черты в содержании и стиле и вместе с тем опровергая возражения отрицательной критики против её подлинности. При этом особенное внимание посвящается анализу второй части книги (40–66 гл.), приписываемой почти всеми протестантскими учёными другому, позднейшему автору. При анализе второй части книги, особенно в учении о рабе Божием, автор старается указать сходство с первой частью, как в мыслях, так и в языке.
Для защитника единства книги пр. Исаии представляется
—148—
два пути: или изложить и разобрать все существующие мнения рационалистов по вопросу о происхождении книги пр. Исаии и получить в результате вывод, что нет достаточных оснований к отрицанию подлинности этой книги, или путём самостоятельного анализа содержания и языка книги показать, в каком случае то и другое находит лучшее объяснение, при признании ли всей книги за произведение одного лица, или при разделении её между многими разновременными авторами. Автор избрал этот второй, гораздо более трудный и в той же мере более плодотворный способ защиты единства книги пр. Исаии, и в этом, высокое достоинство труда О. Фаддея. Постановкой вопроса вынужденный обратить главное внимание на изучение не западных трудов по этому предмету, а самой книги пророка, автор превосходно изучил её как со стороны содержания, так и со стороны языка. Благодаря этому он мог свободно и легко защищать подлинность глав и отделов, отвергаемых критикой. Его полемика почти всегда беспристрастна и основательна. Мысль читателя не насилуется им, но охотно подчиняется его доводам. Сам автор, видимо, глубоко убеждён в правоте своего взгляда, согласного с церковным преданием. Все эти свойства сочинения О. Фаддея сообщают ему значение труда научного и весьма полезного для православного богословия. Со стороны литературной оно почти безукоризненно: план сочинения выдержан вполне, язык отличается сжатостью, выразительностью и меткостью. Весьма часто автор удерживает в своей речи картинность и рельефность языка самого пророка.
Указанные нами в отзыве о кандидатском сочинении О. Фаддея пробелы в настоящем труде восполнены. Автор присоединил к своему сочинению научный комментарий важнейших для него мест из пр. Исаии и подробно аргументировал свой взгляд на учение пр. Исаии о Рабе Божием.
По всем указанным основаниям мы считаем автора вполне заслуживающим степени магистра богословия“.
б) Отзыв о том же сочинении экстраординарного профессора Академии по кафедре пастырского богословия и педагогики Александра Шостьина:
—149—
„В обычном „введении“ автор рассуждает о характере ветхозаветных пророчеств вообще, как явлений сверхъестественных, и о значении их в жизни еврейского народа; затем характеризует в частности пророчества Исаии и указывает отношение к книге этого пророка так называемой отрицательной критики (стр. 1–18); наконец, определяет ближе задачу и метод своего исследования (стр. 19–27).
Наиболее целесообразным автор находит такой путь исследования, который состоит в том, чтобы сначала возможно внимательнее всмотреться в книгу в её целом и посмотреть, нет ли в самой книге твёрдых оснований для признания её единства, и если есть, то свидетельство непосредственного впечатления взвесить путём строго-критической проверки текста и затем показать, в каком случае текст книги находит более естественное изъяснение, при признании ли всей книги за подлинное произведение пророка Исаии, или при разделении её между многими разновременными авторами и редакторами; имеют ли различные основания, по которым многие отделы книги считаются происшедшими не от пророка Исаии, полное научное значение или твёрдость“ (стр. 26–27).
И во всём исследовании своём автор остаётся верным намеченному пути. Так, прежде чем приступить к „изложению самого текста книги и исследованию всех её частей в отдельности“ (стр. 53–806), он довольно подробно выясняет „общие особенности книги пророка Исаии“, характеризуя тон речи в ней и образ выражения мыслей (стр. 28–37), отмечая одну основную мысль, проходящую через всю книгу, и постепенность в раскрытии её (стр. 38–44).
Так же поступает автор и далее: в каждом отделе книги он сначала выясняет положительным образом смысл пророчества, исторические обстоятельства и повод к его произнесению, связь с основной мыслью книги и сходство с другими частями её в образах и выражениях, а потом уже переходит к разбору существующих возражений отрицательной критики против подлинности того или другого пророчества. Иногда разбор этих возражений и их оснований выделяется в особые параграфы, как напр. „исследование вопроса об отношении хронологии
—150—
библейской и ассиро-вавилонских памятников“ (стр. 405–461), или о „Рабе Господнем“ в отделе 40–66 гл. (стр. 713–806).
Такая постановка исследования, при которой прямые положительные доказательства значительно преобладают над разбором и опровержением разных возражений, весьма способствует тому, что внимание читателя не разбрасывается по мелочам и одна определённая, последовательно проведённая, мысль настойчиво нудит его согласиться с заключительным выводом автора, что книга пр. Исаии действительно „производит впечатление не бессвязного соединения частей, принадлежащих многим и разновременным писателям, но целостного произведения одного писателя, относящегося к одному времени, и везде отражает на себе личный характер именно пророка Исаии и его времени“; что „во всей книге преобладает один и тот же „дерзновенный“ тон речи, что „все части книги проникнуты одной основной мыслью пророка Исаии „о спасении Божиим“; что „самое словесное выражение и язык не только сходны во всех частях книги, но и имеют характерные особенности, свойственные пророку Исаии в общепризнанных отделах книги (стр. 807–808).
Печать серьёзного и добросовестного изучения предмета лежит на всём труде о. Фаддея. Очень внимательно и всесторонне исследована сама книга пророка Исаии, – что особенно ценно; почти так же тщательно изучена и обширная немецкая литература (не говорим о русской) по избранному вопросу. – Язык отличается точностью и ясностью. Даже и в полемических частях он дышит тоном спокойствия и учёного беспристрастия.
В качестве магистерской диссертации рассмотренный труд должен быть признан вполне удовлетворительным“.
в) Отзыв экстраординарного профессора Академии по кафедре введения в круг богословских наук Сергея Глаголева о сочинении помощника инспектора Московской Духовной Академии, кандидата богословия, Александра Покровского под заглавием: „Библейское учение о первобытной религии. Опыт библейско-апологетического исследования“, представленном (в рукописи) на соискание степени магистра богословия:
—151—
„Сочинение г. А. Покровского представляет собой обширный апологетический комментарий первых шести глав кн. Бытия. Его прямая задача–дать изложение веро- и нраво-учения допотопного человечества, но выполнение этой задачи неизбежно соединяется с выполнением других – анализом священного текста, повествующего о первобытных временах, сличением библейских данных с научными данными о первоистории человечества. Автор ещё значительно расширил свою тему, наметив себе опровержение эволюционных воззрений на перворелигию человечества и сличение в апологетических целях библейского повествования с древнейшими преданиями человечества. Автор, видимо, стремился к тому, чтобы не оставить в своём исследовании ни одного вопроса открытым, ни одного возражения неустранённым. Вследствие этого предметом его исследования оказывается почти весь текст первых шести глав, и его исследование из монографии по одному вопросу, касающемуся первых кн. Бытия, превращается в обширный комментарий этих глав, снабжённый тяжёлой апологетической арматурой.
Отступая иногда очень далеко в сторону от своей прямой задачи, автор никогда не забывает своей темы. Критика эволюционного учения о перворелигии ему нужна, чтобы обосновать библейское учение; скандинавские, греческие, авестические сказания о богах и первых временах человечества ему нужны, чтобы отыскивать в них отдалённые отголоски библейской правды. По отношению к своей прямой задаче он сделал всё, что мог. Он тщательно пытался выяснить, какие религиозные истины были известны патриархам человечества, какие заповеди они имели для своего руководства, в каких формах они выражали своё богопочитание.
Задача исследования автора была трудна и сложна, но он успешно довёл до конца её исполнение. Его исследование представляет собой полезный и ценный вклад в православную богословскую науку, но сложность и разнообразность затронутых в нём вопросов делали неизбежным то, что не все они были рассмотрены автором с одинаковой полнотой и не везде можно согласиться с полученными им выводами.
—152—
Это должно сказать об апологетической стороне его сочинения. Метод его работы был тот, которым пользовались и доселе пользуются многие апологеты. Для опровержения воззрений противников он пользовался апологетическими исследованиями, которые направлялись против этих противников, выбирал из имевшихся у него под руками апологетических сочинений взгляды и аргументы, которые казались ему наиболее правильными и убедительными и приводил их в опровержение антирелигиозных учений. Но этот метод навсегда останется малоплодным. Для того, чтобы сознательно отвергнуть то или иное воззрение на предмет и установить на него свой собственный взгляд, нужно непосредственно ознакомиться с предметом, а не ограничиваться только знакомством с некоторыми основаниями за и против известных воззрений на него. Наш автор разбирает эволюционный взгляд на происхождение религии и верования дикарей. Для такого разбора необходимо знание антропологии и этнографии, материала, которым они располагают, и метода, которым они пользуются. Только тогда для автора может быть ясна степень основательности того или иного взгляда на вопрос, и только тогда для него может быть понятно возникновение того или другого взгляда. Но из сочинения г. Покровского мы видим, что он не пошёл этим путём, но ограничился знакомством с теориями, оставив без изучения факт, который эти теории хотят объяснить. Он приводит много выдержек и сообщений из разных книг, направляющихся против эволюционизма, но эти доводы не могут иметь большой силы убедительности. Читателю постоянно предносятся вопросы: а известны ли автору факты противоположного свойства? что он знает о веддах, сингалезах, племенах акка? Знает ли автор, что эволюционисты не игнорируют и считают вполне объяснимыми с их точки зрения те факты, на которые он ссылается. Знает ли автор палеонтологическую историю человека, насколько она независимо ни от каких теорий выяснена современной наукой. Его выпискам можно противопоставить бесчисленный ряд выписок противоположного свойства; в его утверждения об обезьянах и дикарях зоологи и антропологи могут потребовать внесения небольших поправок, которые унич-
—153—
тожат всё значение его рассуждения. Не ознакомился автор и с археологическим материалом, имеющимся для суждения о первочеловечестве. Такой материал, напр., собран в С.-Жерменском музее близ Парижа и о нём можно составить очень определённое представление по книге Мортилье (+1898) – Sur ľ antiquité de ľ homme, по работам Рейнаха. Подобный же материал имеется в музее für Völkerxunde в Берлине, с ним можно ознакомиться по работам Бастиана и др. Без сомнения, критические замечания и приводимые автором факты имеют значение, но они представляют собой лишь незначительный материал для достижения той цели, которой он хочет достигнуть своим небольшим трактатом о эволюционной теории. Одна эта цель требует значительно более труда, чем сколько нужно для выполнения прямой задачи автора. В оправдание автора, однако нужно заметить, что, встретив на пути своего исследования эволюционную теорию, он не имел возможности сосредоточить свои занятия на её разборе и нашёл неудобным обойти её. Тогда он при помощи различных противников эволюционизма написал трактат, в котором собрал возражения против эволюционной теории, изложил эту теорию в тех формах, в которых познакомился с нею при изучении исследуемого вопроса (в формах, предложенных преимущественно историками религий, но не натуралистами). В этих формах она наиболее открыта для нападений (автор не коснулся воззрений Дарвина, Ван-Энде и др.). Эволюционисты не согласятся с доводами автора, но анти-эволюционист при систематическом исследовании вопроса, как полезным пособием, воспользуется и работой нашего автора.
С апологетическими целями автор привлекает в своё сочинение предания народов. Позволительно думать, что он несколько преувеличивает их апологетическое значение. Он не снабжает эти предания справками о том, какие взгляды существуют в науке на время их происхождения и способ образования. Между тем исторические справки в этом отношении могли бы быть очень поучительными. Так, для автора вопрос о сходстве авестических преданий с библейскими (стр. 287–289) решается очень просто: авестические предания – отголосок перво-
—154—
бытной истории человечества, сохранившийся у иранцев, хотя и в искажённом виде. Но на самом деле для принятия этого мнения представляются большие трудности. Иранцы-арийцы; нет оснований считать их и старшей ветвью арийцев; в других ветвях арийцев нет преданий подобных тем, которые находятся в Авесте и чрезвычайно приближаются к библейским. С другой стороны, персы в VI столетии вступают в общение с евреями, а книги персов, в которых содержатся повествования сходные с библейскими, происхождения гораздо позднейшего, чем VI в. до P. X. Не естественнее ли здесь объяснять сходство заимствованиями, а не общностью воспоминаний? Точно так же, как привлекать для апологетических целей мифологию германцев (стр. 616) и искать в ней воспоминаний о библейских событиях, когда мифы германцев записаны уже в христианскую эру, и на них несомненно отразилось христианское влияние? Предания – тёмная вещь. Мы не думаем совсем отрицать их значение, находим весьма целесообразным то, что автор собрал их в своём исследовании. Только в постоянном стремлении автора видеть в них искажение библейской правды, а не продукт самостоятельного творчества воображения народов мы видим увлечение, которое ведёт его иногда к ошибочным выводам.
В своём стремлении устанавливать по возможности везде согласие Библии и науки г. Покровский попытался заняться и устранением конфликта между Библией и естествознанием в вопросе о творении земли. Он принял визионерную теорию, согласно которой дни творения суть дни видений. Адаму, по предположению этой теории, в видении была показана история творения мира, причём каждая эпоха творения представлялась в видении продолжавшеюся в течение некоторой законченной единицы времени, которую бытописатель называет днём (60–61 стр., но она не была днём действительно). Г. Покровский думает этой теорией спасти буквальное понимание дня в 1-ой гл. кн. Бытия, избежать натяжек и примирить Библию с наукой. К его теме этот вопрос не имел прямого отношения, и мы склонны думать, что он поступил бы лучше, если бы совсем оставил его в стороне. Принимаемая им теория
—155—
вызывает много недоумений. Адам созерцал историю творения в видении. Спрашивается, как мог видеть Адам создание пространства? Затем видеть можно только при некотором свете, но начало творения (1 и 2 ст. кн. Быт.) происходило при отсутствии света. Таким образом, по теории принимаемой нашим автором Адам созерцал события, совершавшиеся в непроницаемом мраке. Автор, как и все сторонники этой безусловно не имеющей для себя никаких оснований теории, упускает из вида, что есть многое, что мы можем понимать при помощи слова, но чего не может видеть человеческое зрение. Я могу понять, как образуются моря (9 и 10 стр.), но этот процесс происходит в таком масштабе, что я его не могу видеть. Имея много против себя, визионерная теория ничего не даёт. Слово уот с точки зрения её употребляется в 1-ой гл. кн. Бытия неверно, она противоречит всему строю 1-ой главы, излагающей божественные определения („сказал Бог“) и их осуществление („и стало“), но совсем не описывающей картин событий (каковые являются в видениях). Правда, не мало существует теорий ещё менее состоятельных, чем визионерная, и трудно указать апологетические толкования 1-ой главы, которые не вызывали бы против себя серьёзных возражений, но автору для выполнения его задачи нужно было не исследование того, каким образом люди получили откровение о творении и как понимать его, а то, как его могли и должны были понимать люди патриархального времени, какие извлекали из него они моральные и догматические истины (о Боге, как Творце всего; о высоком назначении человека; о субботе), и эти стороны вопроса г. Покровский рассматривает и исследует с успехом.
Успешным и основательным представляется нам у г. Покровского и вообще исследование и разрешение вопросов, прямо относящихся к его теме – выяснению библейского учения о религии допотопных патриархов. Здесь автору прежде всего должна быть поставлена в заслугу тщательная заботливость в выборе руководителей и пособий. Ему приходилось обращаться за помощью и к католикам, и к протестантам, и к рационалистам, он пользовался многими английскими, французскими и немецкими пособи-
—156—
ями, но он нигде в своём сочинении не уклонился ни на право, ни на лево от православного понимания. Пользуясь учёными указаниями везде, где они даются, он своими неизменными руководителями имеет св. отцов, его непогрешимым коррективом служит учение православной церкви. Автор – сведущий и осторожный православный богослов. Автору в его исследовании представлялись две опасности: или стать на слишком критическую почву и прийти к выводу, что о перворелигии человечества нельзя сказать почти ничего, или дать слишком широкий простор своему воображению и нарисовать подробную, но фантастическую картину из времён первочеловечества. Автор счастливо избежал обеих этих опасностей: он постарался извлечь из указаний Св. Писания по возможности всё, что в них заключается, но не более. В некоторых местах своего исследования он как будто переходит эти границы (предположение, что Каин с Авелем приносили жертву в субботу, стр. 789; довольно произвольное изложение жизни Каина, стр. 538), но и здесь он ищет некоторых опор для своих догадок, и затем, и здесь его выводы стоят в полном согласии с теми положительными результатами, которые устанавливаются в его сочинении на основании серьёзных данных. В сочинении г. Покровского религиозная жизнь первочеловечества изображается с такой полнотой, какой читатель не найдёт в других исследованиях. Не смотря на полноту и обширность сочинения, в нём очень легко ориентироваться. У автора чрезвычайно отчётливый план исследования, строгая система, обычай – резюмировать свои выводы (итоги его изысканий изложены им в VI – последней – главе его сочинения), и наконец, сочинение его снабжено подробным изложением его содержания. Строго-православный характер, полнота, обстоятельность и основательность выводов, лёгкость и ясность изложения, вот – качества труда г. Покровского.
Ценность этих качеств возвышается ещё тем более, что в своём исследовании г. Покровский не имел ни готовых образцов, по которым бы он мог производить свою работу, ни прямых ответов на свою тему. История богооткровенной религии в её древнейшие моменты доселе мало была предметом исследований. Между тем теперь,
—157—
когда постоянно появляются новые и новые книги в рационалистическом духе о первобытной религии, особенно желательно появление исследований, устанавливающих православный взгляд на изначальные религиозные судьбы человечества. И у правомыслящих образованных людей постоянно встречающих в книгах заявления, что первые люди или не имели религии, или имели крайне нелепые религии, необходимо должен возникать вопрос: как же на самом деле веровали люди первобытной эпохи и как они почитали Бога? Работа г. Покровского представляет попытку дать ответ на этот неизбежный вопрос. Он вложил в свою работу много знаний и много труда и проявил много критического такта и способностей в разборе различных мнений и выборе между ними. Своей работой он даёт многое и даёт надежду, что в будущем даст ещё больше. Присуждение ему степени магистра богословия является естественной наградой за его полезный труд“.
г) Отзыв о том же сочинении экстраординарного профессора Академии по кафедре Священного Писания Ветхого Завета Василия Мышцына:
„Введение к сочинению А. Покровского по значительности своего объёма (СХVII стр.) заслуживает того, чтобы сказать о нём особо. Автор уверен, что „оригинальное заглавие“ его труда, именно „соединение терминов: первобытная религия и библейское учение“ вызовет в современном интеллигенте удивление и недоумение, так как первое выражение по ходячему взгляду означает состояние первобытной дикости, второе указывает на библию, как на источник для характеристики первобытного состояния. С целью рассеять такое недоумение и оправдать raison d’être своего исследования, автор и предлагает своё введение (XVII стр.).
Мы думаем, однако, что автор совершенно напрасно беспокоится за заглавие своего сочинения. Подобное заглавие с таким именно сочетанием терминов: „первобытная религия“ и „библейское учение“ (точнее: „библейские данные“, так как в библии собственно „учения“ нет) может поставить свободно всякий рационалист. У Велльгаузена, Мейнхольда, Марти, Грюнвальда очень часто встречаются указания на библейские свидетельства о фетишизме, культе предков,
—158—
пандемонизме и о других формах грубого язычества, по их мнению, предшествовавших монотеизму. Различие между ними и нашим автором не в соединении означенных терминов, а главным образом в том, где находят библейские свидетельства о первобытной религии, в первых ли главах книги Бытия, как наш автор, или в косвенных указаниях, разбросанных по всей Библии, преимущественно в именах и названиях, как рационалисты, отрицающие древнее происхождение первых глав книги Бытия. Итак, заглавие сочинения г. Покровского не требовало от него никакого оправдания. И если что следовало оправдывать автору, так это то, почему он продолжает находить материал для своего исследования в начальных главах Бытия в то время, как „современные интеллигенты“ оставляют их без внимания в вопросе о первобытном состоянии человечества. Другими словами, вместо общих рассуждений о необходимости веры в науке и о действительности сверхъестественного откровения мы предпочли бы видеть в введении краткую, но точную и твёрдую оценку главнейших оснований, по которым современная библейская критика отказывается судить о первобытной религии по первым главам книги Бытия.
Этот пробел чувствуется и при чтении самого сочинения. В нём 6 глав, из которых первые пять посвящены анализу 6 начальных глав книги Бытия. Каждая из пяти глав сочинения состоит из трёх отделов: в первом даётся объяснение библейских повествований, во втором – раскрывается их теоретический, догматико-этический смысл, в третьем – библейские данные подтверждаются древними преданиями народов, особенно свидетельствами древних халдейских памятников. Как видно, автор не только раскрывает, но и доказывает библейское учение. Об апологетическом характере своего исследования он сам заявляет на 1-ой стр. „По общему своему направлению наш опыт – апологетического характера: он посвящён защите библейского учения о первобытной религии человечества... главным образом от ударов библейско-рационалистической критики“. Но в тоже время автор сам предупреждает читателя, что он не намерен „ринуться в пучину (этой же самой) библейской критики“ (2 стр.) т. е.
—159—
рассмотреть рационалистические мнения (по крайней мере, поскольку в них есть общего) о происхождении первых глав книги Бытия. Можно ли такую защиту от ударов библейско-рационалистической критики назвать полной? Едва ли. Было время, когда достоверность библейских свидетельств о первобытном состоянии человечества отрицали на основаниях философских, исторических и этнографических; теперь на помощь такому отрицанию явилась библейская критика, имеющая уже громадную литературу. Следовательно, и защита библейского учения не должна миновать её.
Другой довольно существенный недостаток сочинения г. Покровского в ином роде. Если там автор ограничил свою задачу, то в другом случае он расширил её, и опять, по нашему мнению, в ущерб научности сочинения. Предмет автора – библейское учение о первобытной религии, т. е. религиозные верования и культ первых людей по изображению Библии. Тема исследования ясна и определённа. Автор должен был иметь дело с религией первых людей, но отнюдь не с религией самого бытописателя. Он должен был направить весь свой анализ на религиозные представления, понятия и действия, усвояемые бытописателем первым людям, но не принадлежащие ему самому. Между тем автор излагает подробно содержание 6 глав книги Бытия с объяснением всех главнейших моментов первоистории (творение мира в 6 дней, создание человека, грехопадение и т. д.) и важнейших выражений (евр. слов, соответствующих русским: „в начале“, „сотворил“, „небо“, „день“, „лицо Божие“ и мн. др.) и на основании того и другого раскрывает содержание всех религиозных, нравственных и бытовых идей, заключающихся в 6 главах книги Бытия, напр. библейскую космогонию, учение о свойствах Божиих, о совершенстве мира, о цели создания его, о материальности и смертности природы Адама, о бессмертии духа, об образе и подобии Божием, о грехе, о всеобщности и наследственности греха, о следствиях греха, о трёхчастном составе человека, о зачатках учения о Троичности и т. д. Всё это в самом лучшем случае можно назвать раскрытием идей бытописателя: говорим – в лучшем случае потому, что автор привнёс в
—160—
толкование немало богословских идей, которые едва ли имел бытописатель. Но признать всё это содержанием религии первых людей уже решительно нельзя. Правда, автор нередко указывает основания для усвоения некоторых понятий первым людям. Но не говоря о том, что и здесь он не идёт далее предположений, для значительной части библейского материала, обследованного им, нет и быть не может никаких оснований вносить его в содержание религии первых людей.
Если мы будем рассматривать сочинение г. Покровского независимо от его прямых задач, то должны будем отметить в нём значительные достоинства. Самую важную заслугу автора, по нашему мнению, составляет довольно полный и обстоятельный комментарий на 6 глав книги Бытия. Избегая экзегетических мелочей, автор подробно останавливается на выяснении мест, более или менее важных для ветхозаветного веро- и нравоучения, причём обнаруживает значительное знакомство с экзегетической и библейско-богословской литературой. Особенное внимание обращает автор на те места, в которых рационалисты стараются отыскать основания к своему пониманию Библии. В большинстве случаев, не сходя с экзегетической почвы, автор везде даёт толкования, вполне согласные с православным учением и церковными преданиями. Однако труд автора не представляет собой отрывочного комментария. Благодаря тщательному выяснению внутренней стороны заключающегося в 6 главах книги Бытия библейского материала, его отвлечённо-богословского смысла, сочинение г. Покровского рисует первоисторию мира и человечества в цельной и стройной картине, вызывая в читателе вполне определённое и ясное впечатление. Предоставляя специалисту судить о научном качестве сведений по истории языческих религий, мы не можем не одобрить попытку автора подтвердить достоверность библейских сказаний преданиями древних народов. Это вполне отвечает апологетическому характеру сочинения.
Указанные достоинства труда г. Покровского дают нам основание признать автора вполне достойным степени магистра богословия“.
д) Отзыв экстраординарного профессора Академии по ка-
—161—
ведре Священного Писания Ветхого Завета Василия Мышцына о сочинении преподавателя Вифанской Духовной Семинарии Дмитрия Введенского под заглавием: „Учение Ветхого Завета о грехе“, представленном (в рукописи) на соискание степени магистра богословия:
„Сочинение г. Введенского состоит из пяти глав и введения, в котором кратко говорится о важности вопроса о грехе с ветхозаветной точки зрения и указывается литература предмета:
1-я глава. Сущность греха. Здесь автор анализирует большую часть библейских наименований греха с их филологической стороны и находит, что все они недостаточны для определения самой сущности греха. Во все наименования входит идея уклонения от какой-либо нормы (цели, линии, порядка и т. д.). Но в чём заключается норма, и в какой степени нарушается она в грехе, на это в наименованиях греха указаний нет. Этот недостаток филологического анализа пополняется прямыми библейскими указаниями на волю Божию, как на единственную норму, уклонение от которой составляет грех. Однако эта норма в своих внешних формах не остаётся неизменной. Она такова была лишь по своей сущности. Со стороны же исторического и конкретного её содержания она есть нечто развивающееся, в зависимости от чего видоизменяется с формальной стороны и понятие греха. Сначала эта норма мыслится в форме обычая, освящённого Богом. Грешить отсюда значит делать то, чего не делают (Быт.20:9), вопреки требованиям обычая (–38, 8). Автор опровергает при этом взгляд Смита и Клемена, утверждающих, что в Ветхом Завете нормой часто мыслится известный порядок, независимо от воли Божией. После синайского законодательства нормой являются преимущественно предписания закона Божия. В эпоху пророков оба эти посредства в отношении человека к Богу (обычай и закон) стушёвываются, и нравственной нормой объявляется непосредственная воля Божия, а грехом – внутреннее греховное движение сердца. Это – самая высшая ветхозаветная точка зрения на нравственную норму и грех. В ней формальное определение греха вполне совпадает с понятием его глубочайшей сущности.
—162—
2-я глава. Субъект или носитель греха. Как носитель греха, человек должен быть рассматриваем с двоякой точки зрения, как представитель рода и как индивидуум. Это различение примиряет видимое противоречие между местами библии, где говорится о всеобщности греха, и местами, где констатируется праведность некоторых лиц. Обосновав учение В. З. о всеобщности и врождённости греха на неподлежащих сомнению местах библии, автор основательно опровергает возражения Бретшнейдера, Клемена, Руэтши, Кайзера, Дилльманна и Кнобеля, в большей или меньшей степени отрицающих существование в В. З. учения о врождённости греха. В конце главы автор говорит о различении в В. З. степеней греха, о различении грехов сознательных и бессознательных (против Штаде, Клемена и Сменда).
3-я глава. Происхождение греха. Разобрав мнение Мюллера о довременном падении душ, автор даёт подробный анализ библейскому сказанию о грехопадении, излагает и разбирает аллегорическое и мифологическое толкование его (Гегеля, Шиллера, Бауэра, Бретшнейдера, Болена, Рейсса, Велльгаузена, Гофманна, Руэтши, Сменда и Кайзера) и понимание Мартенсена, Ницше, Вейссе, Шенкеля и Шультца, видящих в библейском повествовании о падении образное представление действительного факта, и наконец раскрывает положительный смысл повествования. Опровергнув мнение, приписывающее В. З. мысль о происхождении греха от Бога (Штаде, Клемена, Кайзера, Ренана и др.) и от плоти (Руэтши, Клемена и др.), автор в конце главы указывает следы библейского повествования о грехопадении в позднейших книгах В. З. и кратко в преданиях языческих народов.
4-я глава. Следствия греха. Под ними автор разумеет физическое зло и смерть. Объективное наказание за грех, как и субъективное сознание вины, с библейской точки зрения рассматриваются, не как нечто привходящее извне, но лишь как простое следствие, вытекающее из греха и возвращающееся на самого же виновника. Автор подтверждает это многими местами из библии и в тоже время объясняет места, по-видимому противоречащие этой мысли, напр. известное место о наказании до третьего и четвёртого
—163—
рода. Но не всякое зло есть, по учению В. З., наказание. По отношению к праведникам оно может быть воспитательным средством. Излагая ветхозаветное учение о смерти, автор говорит о возможности бессмертия для первых людей и опровергает взгляд Клемена, Кайзера, Штаде, Вейссе, Бретшнейдера и др., по которому смерть представляется в библии, следствием не греха, а тленности человеческой природы.
5-я глава. Общий взгляд на ветхозаветное учение о возможности борьбы человека с силой греха. В силу всеобщности и врождённости греха человек своими силами не может восстановить завет с Богом. Он восстановляется милосердием Божиим, выражением которого служили жертва и ходатайство, праведников о грешниках, возводившее мысль к Единому Ходатаю – Мессии, долженствовавшему пострадать за людей.
Как видно отчасти уже из краткого изложения содержания сочинения г. Введенского, главным достоинством его является правильная постановка вопроса и вполне научный метод исследования. Задача автора состояла в том, чтобы собрать и уяснить весь относящийся к его предмету библейский материал и, по возможности придерживаясь устанавливаемой в самой библии связи понятий, привести его в систему. Он воздерживается от догматических и философских умозрений на почве библейской и не навязывает ветхозаветному представлению понятий новозаветных и церковных. У него вывод следует за изъяснением текста, а не наоборот. Благодаря этому сочинение его представляет собой опыт систематического экзегеза. При такой постановке дела, автору необходимо было изучить библию с интересующей его стороны и ознакомиться с результатами изучения библии другими. То и другое выполнено автором в достаточной мере. Не ограничиваясь готовыми собраниями ветхозаветных цитат, находившимися в бывших у него под руками трудах, но самостоятельно изучая библейский материал, он в тоже время на каждом шагу старается проверять своё понимание результатами новейших экзегетических и библейско-богословских работ. Кроме различных латинских и немецких комментариев на В. З. (Корн. а Ляппда, Баумгартена, Делича,
—164—
Кейля, Кнобеля, Дилльманна, Лянге, Штракка и Цокклера, Корнели, Кнабенбауера, Гуммеляуера и др.) и библейских богословий и историй (Дилльманна, Сменда, Кайзера, Шульца, Олера, Бестманна, Гофмана, Евальда, Дума, Штаде, Келера и др.), автор пользовался прямо относящимися к его теме трудами Клемена, Руэтши, Мюллера, Филиппи, Умбрейта, Бретипнейдера, Краббе, Толюкка, а также Гофманна, Ричля, Вебера, Будде, Велльгаузена, Зеллина, Лебедева и Велтистова. Из всех этих трудов автором постоянно приводятся выдержки всегда с точной цитацией. Так как большая часть этих учёных имеет свой односторонний и предвзятый взгляд на предмет, то автору часто приходится полемизировать с ними. Однако полемика эта большей частью ведётся, как и следовало, на почве экзегеза и притом занимает в сочинении обычно второстепенное место, будучи большей частью помещаема под строкой. Плодом правильной постановки вопроса, научного метода и основательного знакомства с литературой предмета является у автора всестороннее и вообще беспристрастное раскрытие ветхозаветного понятия о грехе. Каких-либо существенных недостатков в сочинении г. Введенского мы не нашли. Пробелы незначительны и по количеству, и по качеству. Напрасно, напр., автор отрицает по временам антропоморфические представления о Боге в Св. Писании и может быть не вполне точные взгляды у некоторых ветхозаветных людей, не принадлежавших к избранным людям своего времени. В 4 главе в речи о Боге, гневающемся и карающем, автор смотрит на ветхозаветное учение, как на нечто однажды данное и от начала до конца тожественное. Это едва ли верно. В 5 главе совсем не выясняется связь между институтом жертв и идеей о Ходатае за грешников и Рабе Божием. Не выяснено также, почему по ветхозаветному представлению Мессия должен был страдать за людей, раз Он является Ходатаем за грешников. Остальные пробелы, указанные нами при представлении сочинения г. Введенского на степень кандидата богословия, в должной мере восполнены автором. –
В виду весьма значительных достоинств сочинения г. Введенского, мы считаем его вполне достойным степени магистра богословия“.
—165—
е) Отзыв о том же сочинении ординарного профессора Академии по кафедре Св. Писания Нового Завета Митрофана Муретова:
„Кроме краткого указания на возможность и важность вопроса о грехе с ветхозаветной точки зрения и перечисления пособий – в начале сочинения и общего изложения основных тезисов сочинения – в конце его, – диссертация г. Введенского состоит из пяти глав. В первой главе, озаглавливающейся „сущность греха“ (стр. 1–87), доказывается, что а., „грех по учению Ветхого Завета всегда понимался (кем?) морально (курсивы автора), как грех пред Богом; b., что нормой, определяющею отклонение человека от Бога, по её внутреннейшей стороне, всегда была воля Божия; с., что эта норма была опосредствована определённым содержанием (обычаи, предписания закона Моисеева и т. п.), каковое содержание в свою очередь сообщало особый характер и формальному определению греха; d., что на последней стадии развития ветхозаветной идеи греха эта норма понимается чисто этически, почему и формальное определение греха вполне совпадает с понятием его глубочайшей сущности“ (стр. 86–87). Во второй главе под заглавием: „субъект или носитель греха в связи с выяснением вопроса о врождённости греха“ (стр. 87–168) автор рассматривает грех: а., в отношении к человеческому роду или человечеству вообще, откуда объясняются прирождённость и всеобщность греха и разрешаются соединённые с этими понятиями богословско-догматические недоумения, – и б., в отношении к каждому отдельному лицу, откуда объясняются индивидуальные особенности и разные степени греховности каждого человека. Глава третья: „происхождение греха“ (стр. 169–358) доказывает, что грех есть явление историческое, как изображается он в книге Бытия, причём опровергается аллегорическое толкование библейского повествования о грехопадении наших прародителей, утверждается подлинность этого повествования вопреки возражениям против неё со стороны отрицательно-рационалистической критики и отстраняется мысль, что Бог есть виновник греха и плоть есть его источник. В четвёртой главе (стр. 359–470) раскрывается „следствие греха“, именно: а., виновность греха и наказание за него, причём особому раз-
—166—
смотрению подвергается вопрос о ветхозаветном воззрении на Бога, как на „мстителя“ и гневающегося судию, б., связь зла с грехом Адама и Евы, возрастание зла в зависимости от возрастания греха среди людей и ветхозаветная точка зрения на носителя греха и наказания, – и в., смерть, как необходимое следствие греха. Последняя глава под заглавием: „общий взгляд на ветхозаветное учение о возможности борьбы человека с силой греха“ (стр. 470–516) посвящена раскрытию ветхозаветного учения о примирении человека с Богом и об освобождении человека от греха или искуплении, причём автор доказывает: недостаточность субъективной возможности примирения человека с Богом для полного его искупления, необходимость милости и любви Божией для этого, значение кровавой жертвы и сокрушённого сердца в деле примирения человека с Богом и значение веры ветхозаветного человека в „Идеального Ходатая“ и в оправдание „от Бога“.
По общему своему характеру диссертация г. Введенского представляет собой выделенный в особую тетрадь систематический толковник к тем местам Ветхого Завета, кои обычно приводятся догматическими руководствами в соответствующих параграфах под рубрикой доказательств из Ветхого Завета. Таким характером диссертации Введенского объясняются следующие её особенности:
1) В решении указанных вопросов автор старается строго ограничиваться одним только Ветхим Заветом, не касаясь подробно ни учения Нового Завета о грехе, ни раскрытия этого учения в древнехристианской литературе, – что обычно излагается в догматиках, в соответствующих отделах, вместе с ветхозаветным учением. Но такое отношение автора к Новому Завету и к древне-церковной истории догмата о грехе частью искусственно, а частью и едва ли законно. Оно искусственно, ибо наш автор в начале (стр. II) своего сочинения решительно утверждает, что сам „Ветхий Завет нигде не ставит своей прямой задачей раскрытие учения о грехе (курсив наш). А как именно такую прямую задачу ставят Новый Завет и церковные учители догматического периода, – и с этой именно задачей наш автор обращается и к Ветхому Завету, находя в нём решения, какие даны в Новом Завете и у
—167—
древнехристианских его истолкователей: то преднамеренное отсутствие их в сочинении есть не более, как только искусственное, совершенно излишнее и для дела неблагодарное устранение того, что молча всё-таки везде автором предполагается, как скрытый deus ex machina всего его труда. Оно едва ли и законно, ибо если автор находит нужным пользоваться новейшими толкованиями Ветхого Завета, по духу и времени ему уже очень далёкими, то не тем ли более следовало прежде всего и повсюду обращаться, хотя бы в качестве экзегетических параллелей по исследуемым автором вопросам, к Новому Завету, как продолжению, исполнению и изъяснению ветхозаветного откровения, и к экзегетам – догматистам святоотеческого периода, как наиболее совершенным носителям библейского духа? Искусственность и незаконность такого отношения к Новому Завету и древне-отеческим экзегетам-догматистам, по-видимому, чувствует и сам автор, если иногда всё-таки находит себя вынужденным обращаться и к Новому Завету, и к святым отцам. Кратко: вопросы христианского, и в частности новозаветного богословия могут быть плодотворно исследуемы по отношению к Ветхому Завету только в неразрывной и всесторонней связи как с новозаветным учением, так и вообще с историей догмата в древнехристианской церкви.
2) Как обычно в догматических системах, наш автор с наперёд данными вопросами обращается к Библии (частнее – к одному только Ветхому Завету), как к единому и безразличному источнику или одной живой личности, безотносительно от той священной книги, из коей извлекается ответ, от её писателя, отношения к другим книгам, времени и места её написания и вообще исторических и индивидуально-психологических условий её происхождения. Например, в вопросе о необходимости греха для ветхозаветного человека или другом каком из решаемых в рассматриваемом сочинении изыскиваемые на них ответы автор не подвергает ближайшему и точнейшему обсуждению по отношению к книге, в коей они находятся, будет ли то книга Бытия, или Судей, или Иова, или Псалмы Давида, или позднейшие, или пророки, или даже книга Премудрости Соломона и Ездры. Если экзегет, по
—168—
древне-отеческой герменевтике, при изъяснении священных текстов всегда должен иметь в виду, кто говорит, кому, когда, для чего и пр., то для нашего автора, как библейского догматиста, достаточно только того, что известный текст есть в Библии и что он имеет такой, а не иной, непосредственно-грамматический смысл.
3) Но при такой библейско-догматической обработке вопроса может казаться излишней и общему характеру труда не соответствующей обширная трактация о подлинности повествования книги Бытия о грехопадении прародителей, со справками и параллелями из древних религиозных преданий народов и даже из клинообразного Генезиса. Не понятно, почему автор занялся только этим частным вопросом, между тем как он не касается более общих вопросов, от коих в зависимости стоит и этот, именно: о подлинности книги Бытия и всего Пятокнижия, как и о происхождении других ветхозаветных книг, коих свидетельствами пользуется автор. То же самое должно сказать и о сравнительной критике и установе подлинного текста употребляемых автором свидетельств ветхозаветной Библии. Только изредка кое-где есть слабые попытки к такому критическому установу текста приводимых автором свидетельств. Таким образом, говоря вообще, наш автор относится критически безразлично как к источникам, так и к тексту ветхозаветного учения о грехе, принимая Ветхий Завет так, как употребляется он в догматико-богословских системах, то есть во всём его объёме, каков он есть в Библии, без исторической и текстуальной критики.
4) Той же наконец особенностью рассматриваемого труда надо объяснять отсутствие в нём ближайших и точнейших изъяснений того жизненно-психологического значения, какое для ветхозаветного человека имели исследуемые автором понятия, – или нравственно-религиозного их анализа. Ведь если, повторяем слова автора, „Ветхий Завет нигде не ставит своей прямой задачей раскрытие учения о грехе, потому что грех для сознания ветхозаветного человека был не простым объектом холодного философского (догматического тож? – вопрос наш) исследования, а постоянно переживаемым и почти постоянно отмечае-
—169—
мым на страницах Библии, в его проявлениях, фактом“, то прямая, по-видимому, и более плодотворная задача автора состояла именно в нравственно-психологическом анализе „этого постоянно переживаемого и почти постоянно отмечаемого на страницах Библии факта“, – то есть силы греха для нравственно-религиозного сознания ветхозаветного человека и определявшегося этим сознанием всего настроения его нравственно-религиозной жизни, его страданий и блаженств, его заветных дум, чаяний и идеалов, вообще всего того, что ветхозаветного человека делало выразителем и носителем Ветхого Завета. Решение этой задачи могло быть поставлено автором или в виде частного анализа отдельных священных книг Ветхого Завета в историческом порядке их появления, или в виде общего исследования всего Ветхого Завета, или же, что ещё лучше – то и другое вместе, – сначала одно, потом другое.
Говорим всё это отнюдь не к осуждению труда г. Введенского, а только для его характеристики, как труда именно библейско-догматического, а не библейско-экзегетического. На нет и суда нет. Но то, что есть в труде автора, то есть те вопросы, какие исследует автор, а равно и сам способ их исследования – имеют для православного богословия вообще и для догматики в частности существенную важность, как истолкование ветхозаветных свидетельств касательно православно-догматического учения о грехе.
И это значение труда г. Введенского усугубляется тем, во 1-х, что, хотя автор, как мы говорили уже, и избегает прямо и подробно касаться свидетельств или учения Нового Завета и Церкви, но молча предполагает это учение и с догматическою строгостью руководствуется им как в выборе и постановке самих вопросов исследования, так и в общем их решении и раскрытии всех частных сторон. Автор всегда и во всём остаётся строго православным догматистом.
Во 2-х, для доказательства церковно-православного учения о грехе и для опровержения воззрений инославных и рационалистических автор часто и умело пользуется этимологией еврейских терминов и подробным истолковательным анализом, по еврейскому подлиннику, тех тек-
—170—
стов, в коих он находит ответы на исследуемые им догматические вопросы.
В 3-х, кроме весьма ограниченного числа русских пособий автор весьма обстоятельно и широко изучил огромнейшую немецкую литературу, прямо или косвенно относящуюся к данному вопросу, как церковно-ортодоксального, так и отрицательно-рационалистического направления. Полного одобрения заслуживают подробнейшие разборы тех иностранных истолкований ветхозаветного учения о грехе, кои несогласны с православной догматикой, – и, в виду и против них, весьма обстоятельные раскрытия православных воззрений и толкований. Похвальны также постоянно сообщаемые автором в примечаниях общие указания как положительной, так и отрицательной литературы по всем частным вопросам исследования, с точным обозначением сочинений и относящихся в них сюда мест, – указания, свидетельствующие о том, что автор тщательно изучил литературу исследуемых им вопросов, и весьма облегчающие каждому возможность скоро проверять автора или самостоятельно изучать эти вопросы.
В 4-х, общая постановка глав сочинения и его план отличаются обдуманностью и систематичностью. Изложение, хотя и тяжеловатое, но правильное и удобопонятное. Из числа весьма немногих исключений можно указать для исправления разве только самые первые слова сочинения (Введение, стр. 1): „грех – это едва ли не самый фактор (? курсивы и знаки в скобах – наши), около которого (?) вращается (?) всё учение Ветхого Завета“.
В 5-х, наконец, должно иметь в виду поразительную скудость русской библейско-богословской литературы вообще и по данному вопросу особенно, так что к двум–трём, и то кратко и косвенно затрагивающим предмет, русским сочинениям труд г. Введенского составит весьма существенное и вполне полезное восполнение, как первая и специальная обработка ветхозаветного учения о грехе.
В виду указанных соображений нахожу труд г. Введенского вполне удовлетворительным для учёной степени магистра богословия“.
Справка: 1) §31 „Положения об испытаниях на учёные степени: „Сочинение, представленное на степень магистра
—171—
богословия и признанное удовлетворительным, должно быть напечатано, но в Совет Академии для рассмотрения оно может быть представлено и до напечатания, в рукописи чёткой и чистой“; 2) По § 81 лит. а п. 10. устава духовных академий „одобрение к напечатанию сочинений, писанных на соискание учёных степеней“, значится в числе дел, окончательно решаемых самим Советом Академии.
Определили: 1) Дозволить инспектору Минской Духовной Семинарии иеромонаху Фаддею, помощнику инспектора Московской Духовной Академии Александру Покровскому и преподавателю Вифанской Духовной Семинарии Дмитрию Введенскому печатать их диссертации на степень магистра богословия. 2) Суждение о коллоквиумах иметь по представлении каждым из поименованных лиц Преосвященному Ректору Академии 60-ти экземпляров напечатанной диссертации.
V. Заявление Преосвященного Ректора Академии о том, что вторым рецензентом докторской диссертации экстраординарного профессора Киевской Духовной Академии Маркеллина Олесницкого, представленной Совету Академии 12 октября 1899 года, он назначает члена Совета – экстраординарного профессора Академии по кафедре введения в круг богословских наук Сергея Глаголева.
Определили: Принять к сведению.
VI. а) Отчёт о годичных занятиях по предмету библейской истории профессорского стипендиата Ивана Петровых:
„Немногими страницами обязательного отчёта не надеюсь дать вполне удовлетворительного представления о всём, чем благословился мой посильный в области избранного предмета годичный труд. Под свежими чарующими впечатлениями, – к сожалению, на первый раз столь недолговременного (16-дневного) пребывания под благодатным небом Палестины минувшим летом 1899 года; при возжёгшемся отсюда же живейшем интересе вообще к многострадальным судьбам обездоленной ныне Св. Земли – начался и шёл упомянутый труд, и описание его, возможное для меня пока с одной только заказной – так сказать – стороны, предпринимаю лишь как временно-срочное подтверждение того, что – сколько позволяли мне мои силы – сделано ими всё возможное...
—172—
В поданном мной при начале отчётного года заявлении я преднаметил для более специального изучения последние периоды Библейской Истории. Намерение это наилучшим образом согласовалось и даже прямо совмещалось с моим желанием – обработать свой кандидатский труд для представления на степень магистра богословия, почему в упомянутом заявлении мной и было испрошено утверждение Советом того и другого, – утверждение, тем более основательное, что сам характер темы моего сочинения позволял сделать последнее прямым и наиболее полным ответом на те требования, какие должны быть предъявлены мне, как практиканту. До невозможности обширный характер этой темы, к сожалению, не позволил мне всего за один год представить своё сочинение в вполне законченном виде и в качестве ответа на указанные требования; к тому же и некоторые более общие стороны изучавшегося предмета, не имеющие надобности быть затрагиваемыми в сочинении специального характера, делают необходимым особый очерк – отчёт, к каковому мы теперь и приступим.
I.
Наилучшая целесообразнейшая постановка занятий по такому предмету, каков Библейская История, предполагает тщательное разграничение их по двум следующим подразделениям: 1) обзор и изучение первоисточного материала и 2) обзор и изучение развившейся на основе уже этого материала литературы предмета. Применение этого принципа к изучению нашего предмета, неизбежное и необходимо-важное на протяжении всей Библейской Истории, требует, однако, установления некоторых особенностей в порядке самого применения, в области различных отделов предмета. Основания к такой неодинаковости даются самим характером первоисточного материала, каковым в первых отделах служат почти исключительно одни только свящ. книги Ветхого Завета, как известно и понятно – при своей Боговдохновенности допускающих лишь почтительно – отдалённое прикосновение критики, с значительными ограничениями; в то время как материалом последних отделов нашего предмета служат, и так же исключительно, –
—173—
светская того времени литература и во многих случаях почти исключительно Иудейский историк Иосиф Флавий, критика которого, самая беспощадная и беспрестанная, узаконяется искони общепризнанной репутацией названного писателя, – репутацией не всегда благонадёжного и беспристрастного историка. Само собой понятно, в первом случае положение историка гораздо своеобразнее, чем во втором: там его задача сводится к приспособлению почти уже совершенно готового материала к общей задаче Библейской Истории, каковой задачей мы признаём проникновение в пути Божественного Провидения, ведущего человечество к цели обожествления, и установление связи этих путей с развитием Библейского человечества в умственном, нравственном и религиозном отношениях; здесь историк должен ещё добыть и установить сколько-нибудь готовый, надёжный для его целей материал из того сыряку со всеми посторонними и иногда весьма нежелательными его элементами, какой представляет ему широкое поле светской литературы, не заходящей далеко в глубь Израильской истории, но зато приобретающей право почти на исключительную монополию в последних отделах этой Истории.
Позволим себе пояснить условия, а также и значение этой неодинаковости в положении и роли историка.
Как известно, отличительною особенностью всей первой половины истории Израиля была большая замкнутость и малоизвестность его вне-Израильскому миру, доходящая в более ранние эпохи до полной его неизвестности и отчуждения от общего хода развития народов. Это обстоятельство одно достаточно объясняет то, что рассматриваемый период, за исключением священно-библейских книг, не имеет почти никакого другого побочно-источного материала для своего начертания. Эллины, передавшие нам свою географическую номенклатуру, ничего не знали об Израильской стране, упоминая только о Палестине, как земле Филистимлян или Критян (Plesti, Phlisti, Phlisti-Creti) – торгового и разбойничьего населения, господствовавшего на восточном берегу Средиземного моря, при значительной культурности обладавшего редкой предприимчивостью и совершенно заслонявшего Израильский мир от постороннего наблюдения.
—174—
Неудивительно, что сам отец истории, Геродот, с такой тщательностью собиравший все любопытные сведения, находился в полной неизвестности относительно Израильского народа и знал только о народах филистимского побережья, расположенных на великом историческом пути между верхним Евфратом и низовьями Нила, между Дамаском и Мемфисом1289. Вообще до Александра Великого ни один греческий писатель не сохранил следа1290, чтобы Грекам была известна Иудейская страна, с её древнейшей историей и происхождением Иудеев. И насколько в этом невежестве позволительно было коснеть, красноречиво говорит тот факт, что долго спустя после Тацита, не возвышавшегося далее повторения баснословных мнений о происхождении Иудеев1291, Дион Кассий – странно сказать! – не знает всё ещё, откуда Иудеи произошли, и совсем не отличает их от Филистимлян1292.
Соответствующий профанизм в отношении всего, что делалось „за морем“, обнаруживали также и Иудеи, интересы которых до такой степени замыкались внутри Иорданской низменности, что даже о „море“ они говорили весьма неопределённо, как будто бы зная о нём только понаслышке1293. Такие порывы, какими отличался, например. Соломон, к общению и сближению с внешним не-Израильским миром1294, были сколько приятным, столько же и редким исключением из общего духа политики царей еврейских, хотя бы эти самые цари в принципе и не были „против“ таких исключений, судя по тому, что они не пренебрегали языческой жизнью и общением с язычеством, даже до полного отпадения в последнее.
После этого ясно, почему первоисточным материалом
—175—
первых периодов Израильской истории служат почти исключительно обнимающие это время свящ. книги Ветхого Завета1295 образовавшиеся – надо заметить – большей частью из современных самим событиям записей современников-авторов. Из этого материала почерпаются все важные и надежнейшие данные для истории народа Божия от начала сформировки его в государственно-политическое общество до позднейших времён персидского владычества, следоват., о том, прежде всего, длинном периоде Израильской истории, за время которого общение Иеговы со Своим народом путём чрезвычайных Божественных откровений достигло окончательного завершения, и цели освятительно-Божественных воздействий на человечество, возбуждение потребности освящения и достижения его – это Божественное семя – могло начать свой могучий полный рост.
Исторические книги1296 от Пятокнижия до Неемии представляют сравнительно достаточно – последовательное течение исторической жизни Израиля, причём каждая книга (кроме Паралипоменон) обыкновенно без ощутительных переры-
—176—
вов продолжает историю, как один первоисточник. С пророческой литературой начинается раздробление в единстве этого первоисточника, когда одна и та же историческая истина в собственном смысле слагается из трудов не одного человека и не одного времени, и одной из главных задач историка выступает извлечение и объединение этой истины из раскрывающих и дополняющих её параллельных представлений. Приведём несколько образцов этого рода работы. Что̀ в 4Цар.15:8–19 описывается только в кратких чертах, о том можно судить гораздо лучше по жизненному и яркому описанию этого периода у пр. Осии, III–XIV гл. – О союзе с Египтянами в это же описываемое время узнаём у того же Осии, Ос.7:11, 12:3–14, тогда как в исторических книгах о том нет даже упоминания. Что предтечи Халдеев – Скифы Геродота – делали набеги во времена Иосии также на Палестину, узнаём мы из пророчеств Софонии и ещё раньше Иеремии. Наконец, о более любопытных и едва ли менее правдоподобных мотивах замедления постройки храма Вавилонскими переселенцами узнаём из обличений пр. Аггея1297, где главным тормозом столь священного дела выставляется халатное отношение к нему самих Иудеев (Агг. I–II гл.). Нечто подобное можно сказать о всей книге Паралипоменон, которая, хотя касается уже ранее описанных (в книгах Царств) событий, – однако, касается с совершенно особой точки зрения и по другим интересам, чем у автора Царств, и при этих условиях представляет также то здесь, то там материал для дополнения своего прецедента. – Для дальнейшего длинного периода плена наши сравнительно скудные сведения по политической истории Израиля черпаются почти только из пророческих писаний. Ближайшее после-пленное время описано современниками Ездрой и Неемией без больших отступлений от истины, хотя и не везде с желательной обстоятельностью и подробностью1298. Нарушение, затем, стройного течения
—177—
свящ. первоисточника весьма крупным пробелом в несколько столетий (от Неемии до Антиоха Епифана, 440–175 до Хр.) создаёт печальное положение для историка, лишённого всякой возможности сколько-нибудь прочным узлом соединить концы порванной нити библейского рассказа. Правда, имеется некоторая видимость способности заполнить означенный пробел в попытке Иудейского историка Иосифа Флавия; однако, эта попытка не идёт дальше воспроизведения пары легендарных событий, крайне слабых в своих деталях перед строгой исторической критикой, да и заполняет только лишь ничтожную часть всего громадного промежутка; подобная же попытка во II и III Макк. также ограничивается лишь самыми незначительными и, притом, исторически ненадёжными повествованиями. История Маккавейского периода может быть представлена по историческим книгам Маккавеев довольно обстоятельно, причём исторический характер 1 Макк.1299 настолько удовлетворителен, как только можно желать для того времени. Важным достоинствам этого источника почти не вредит, напр., то, что сочинитель считает вполне позволительным, подобно классическим историкам, влагать в уста своих героев молитвы и речи, или хотя бы и то, что по местам он слаб по части иноземной истории, допуская, напр., Александра Великого на своём смертном одре делить царство и почти настаивать на сродстве Иудеев со Спартанцами (1Макк.12:21). Во всяком случае I книга по достоверности стоит выше II-ой, которая1300, кроме подозрительных элементов, допускает очевидные исторические и хронологические ошибки, особенно в Сирийской истории. При всём том, и эта книга сохраняет значение важного исторического пособия, и в целом заслуживает даже более веры, чем некритичный Иосиф.
Собственно, побочным, но весьма важным источником параллельно Ветхозаветной истории служат дошедшие и доходящие до нас частью в вещественных открытиях и
—178—
памятниках, частью в письменных произведениях древности – сведения по истории тех народов, с коими народ Израильский вступал в более или менее близкое соприкосновение; таковы – Египтяне, Финикияне, Ассирияне, Вавилоняне, Персы, Греки (и позднее Римляне). Сюда же, хотя бы в самой незначительной степени, можно отнести и первую половину Археологии Иосифа (I–XI кн.), дающую повествование не только параллельное историческому рассказу Библии, но и подчинённое ему, как своему основному, впрочем, не единственному источнику. Большинство отличий, какие находим у него по сравнению с этим его первоисточником, объясняются только тем, (и ценность их определяет то), что независимо от бесчисленных неточностей и неосмотрительностей, Иосиф допускал позволительным до чрезвычайности крайнее применение к языческим читателям, одновременно с самым безразборчивым заимствованием иудейско-гаггадических сказаний, имеющих весьма мало исторического значения. При всём этом, нельзя отрицать совершенно всякое значение за Иосифом даже для древнейшего времени: то там, то здесь он даёт часто весьма полезные замечания и указания, коих никак нельзя игнорировать историку1301.
II.
Как известно, кодекс свящ. Библейских книг обрывается упоминанием о гибели Симона Маккавея (135 г. до Хр.), оставляя читателя в совершенном неведении почти 1½ векового периода до предопределённого окончания „полноты времён“. Любопытен образ речи в окончании последней – в хронологическом порядке событий – книги. Сообщив о том, что Иоанн, сын Симона, извещённый во время о грозившей ему от Птоломея опасности, предупредил своих убийц, летописец многозначительно замечает: „прочие же дела Иоанна и войны его и мужественные подвиги его, славно совершённые, и сооружение стен, им воздвигнутых, и другие деяния его – вот, они описаны в
—179—
книге дней первосвященства его, с того времени, как сделался он первосвященником после отца своего“ (1Макк. 16:3–34). Сопоставляя данное место с 3Цар.11:41,14:29 – и бесчисленным множеством других подобных мест III и IV кн. Царств, легко прийти к вполне основательному заключению, что книга дней первосвященства Иоаннова есть ни что иное, как отдалённейшая преемница „книги дел Соломоновых“, „летописи Царей,“ и т. п. памятников, в которые вносились описания деяний царей, и давали потом материал для последующей хронографии. Умышлено или нет описатель дел Иоанновых употребил образ речи писателя Царств1302, только невозможно, очевидно, никакое сомнение в том, что упомянутая им „книга дней первосвященства“ Иоаннова действительно существовала, и что подобные же „летописи“ последующих его преемников также служили обычным средством увековечения более или менее славных деяний времени, по образцу упомянутых прототипов. По крайней мере, упоминаемые Иосифом1303 „собственные записки Ирода“ оставляют выше всякого сомнения эту истину, и нам остаётся лишь ещё раз пожалеть, что столь драгоценные памятники так дёшево оценены вандальской беззастенчивостью неумолимого всегубителя – времени, и так безжалостно им уничтожены. Болея этими ранами, нанесёнными нам временем, – ранами единственными, для которых это время не является целителем, – мы не всегда можем успешно пытаться вознаградить себя теми жалкими отголосками преданного забвению времени, какие могли только уцелеть в бессильной борьбе с „временем“. Вот каково ныне положение историка, приступающего к исследованию духовной жизни и истории Израиля в период после-Маккавейский. Главным источником в данном случае, конечно, должны бы служить появлявшиеся за это время и дошедшие до нас литературные труды, среди которых должно дать место и Новому Завету, поскольку он есть произведение Иудейских писателей и имеет черты, касающиеся
—180—
иудейской жизни того времени. Если бы исключить отсюда драгоценные труды Иосифа, то по всему остающемуся за сим исключением материалу мы были бы решительно не в состоянии написать историю упомянутого периода, и более или менее ясно даже представить её себе в главных моментах. Таким образом, в ряду источников Библейской науки Иосиф занимает, по справедливости, самое почтенное место, после Библии. Это не просто источник, но источник важнейший, без которого наша наука столь же, или почти столь же бессильна и немыслима, как без Библии. Иметь только Библию и не иметь Иосифа – для Библейского историка едва не одинаково худо, как иметь только Иосифа и не иметь Библии. Всё это вполне справедливо с того самого момента, как только кончается повествование книг Маккавейских. Если последние в пределах повествуемой ими эпохи ещё могут заменять (и даже с успехом превосходить) Иосифа, то за пределами Маккавейских летописей, утрата Иосифа, поистине, была бы тягчайшим ударом для истории. Значение Иосифа ничем так лучше не может быть взвешено и рельефно представлено, как допущением возможности этой утраты, которая делала бы для нас столь тёмной эпоху Христа, делала бы для нас совершенно неизвестными эти последние ужасные стычки векового зла и добра, в лице Ирода и Мариаммы с их партиями, олицетворивших всю разрушительность злобы первого „Антихриста“, предварившего своим выступлением (и исступлением) первое путешествие Царя мира...
Изучение Иосифа, как главного и в указанных границах единственного полного источника заставляло и позволило нам более или менее глубоко проникнуть в область всего, что имеет при изучении вообще последних отделов Библейской истории такое или иное значение. Кажется, если бы нарочно придумывать, и то едва ли можно было бы придумать для введения во всестороннее исследование после-библейского материала более лучшую систему и более удачное средство, чем Иосиф, как он есть, со всеми его ошибками, обмолвками, крайностями и недостатками, являющимися своего рода felix culpa и орудием для отыскания настоящих сокровищ древней письменности в области
—181—
Иудейской истории (Очевидно, что и представление отчёта в изучении последних периодов Библейской истории почти равнозначаще простому описанию того не несложного, впрочем, процесса, в результате которого позволительно допустить возможно более обстоятельное изучение материала Иосифа, как источника собственно).
Повествование 1 Маккав. книги, по всему вероятию, лежало в основе повествования Иосифа. Но с 135 года и он, очевидно, лишался письменных Иудейских источников для истории Асмонеев и по необходимости должен был восполнять этот недостаток из других областей. Так он и делает. Он обращается к всемирно-историческим трудам Греков и ексцерпирует из них всё, так или иначе касающееся истории Палестины. Главными из этих его источников для времени от 135–37 г. до Хр. являются именно – чаще других цитируемые историки – Страбон (XIII, 10, 4; 11, 3; 12, 6; XIV, 3, 1; 4, 3; 6, 4; 7, 2; 8, 3; XV, 1, 2) и Николай Дамаскин (XIII, 8, 4; 12, 6; XIV, 1, 3:4, 3; 6, 4; XVI, 7, 1). Менее их встречаем ссылки на Тимагена, (XIII, 11,3; 12, 5), Азиния Поллиона и Ипсикрата (XIV, 8,3) – все в местах, взятых у Страбона. Весьма вероятно также, что многие „повествовательные“ отделы у Иосифа прямо или косвенно (через посредство Страбона и Николая Д.) в сущности основываются на Посидонии, (особенно для первой половины указанного периода, 135–85 до Хр.), следы влияния коего на обоих названных посредников Иосифа очевидны. На подобную же зависимость от Посидония указывает сильное сходство между его рассказом и возводящимися к Посидонию повествованиями Диодора и Трога Помпея (=Иустина) в обстоятельствах завоевания Иерусалима через Антиоха Сидета (срв. Арх. XIII, 8, 23 и Диодор, XXXIV, 1) и в Парфянском походе Димитрия II-го (Арх. XIII, 5, 11 и Иустин, XXXVI, 1, 3). Если присоединить сюда только однажды названного Иосифом и едва ли им черпанного Тита Ливия (XIV, 4, 3), то запас материалов Иосифа вообще для последних эпох Иудейской истории можно считать исчерпанным1304.
—182—
Следуя прежде всего ясным цитатам самого Иосифа, мы обратились сначала к указываемым им светским источникам, а, затем, и к другим из той же (светской) области, и результаты их обзора и изучения можем резюмировать в следующем.
Вообще, и золотой, и серебряный – века̀ классической литературы оставили нам лишь скудные сравнительно остатки своего величия и неистощимых сокровищ классического гения и таланта. Так о Страбоне (60–20 г. до Хр.), чаще других цитируемом Иосифом, известно, что – кроме 17 книг „Географии“, дошедшей до нас в самом печальном виде, он был также автором капитальнейшего исторического труда, от которого до настоящего времени едва могли быть собраны несколько жалких обрывков (Müller. Fragm. hist. Graec. III, 490–494). Из „Географии“ Страбоновой узнаём, что этот труд был уже закончен в то время, когда он начал свою Географию (I, 1, 22–23, § 13), что пятая книга этого труда начиналась с того пункта, где оканчивался Поливий, т. е. со 146 г. до Хр. (XI, 9, 3, § 515), что в первой книге была сообщена им история Александра Великого (II, 1, 9, § 70); по лексикону Свиды (под словом Πολύβιος) можно добавить, что один из отделов труда μετα Πολύβιον занимал 43 книги, что с первыми 4-мя даёт, след., 47. – Из цитат Иосифа эти сведения могут быть ещё дополнены тем, что труд шёл, по крайней мере, до завоевания Иерусалима Иродом (37 г. до Хр.), заключаясь, по-видимому, основанием владычества Августа. Значительное большинство этих цитат показывают, что для истории Асмонеев от Иоанна Гиркана до гибели Антигона (135–37 г.), и, может быть, даже также для Антиоха Епифана (прот. Апп. II, 7), – труд Страбона был для Иосифа главным источником. Поистине, если следует скорбеть об утрате этого труда, то нельзя также не благодарить судьбу и за то, что Иосиф употребил его, как главный источник, подле Николая Д., хотя положение историка собственно по отношению к Иосифу от этого, разумеется, не улучшается, и только разве в местах,
—183—
прямо отмеченных именем Страбона, он (историк) избавляет от необходимости заподозревать авторитет и достоверность Иосифа. Известно, что Страбон вообще был основательнейший исследователь, пользовавшийся лучшими источниками с осторожностью и критикой, как это видно уже из некоторых приведённых Иосифом выдержек из Страбона, где последний несколько раз цитирует своих посредников (Тимагена, Азиния П. и Ипсикрата), а также и из засвидетельствований Иосифа, не раз констатирующего согласие Страбона с Никол. Дам. Что он основывался также на великом труде Посидония, это несомненно столько же, как и то, что лучшие последующие исторические таланты охотно употребляли Страбона за его испытанную благонадёжность. В том виде, в каком дошёл до нас Страбон теперь, он интересен для нас, кроме, отдельных более или менее исторически-ценных указаний и замечаний в своей Географии, – особенно сообщениями из истории Сирии и Палестины (XVI, 2, 25–46), опиравшимися вообще на источниках истории до-Помпеевского времени и, может быть, особенно на показаниях из Посидония, часто здесь цитируемого Страбоном. Что касается собственно исторических отрывков от другого труда Страбона, то – собранные Müllerus’ом (в Fragm. hist. Graec. III, 490–494) все они, – особенно имеющие интерес для нашего предмета, – в количестве до 10, – заимствуются только из трудов Иосифа, кроме которого с трудом набираются лишь ещё 5 менее важных отрывков у Плутарха, Тертуллиана и самого Страбона в „Географии“.
Не менее печально положение дел в рассуждении другого ещё более использованного Иосифом писателя за после-библейское время, каков Николай Дамаскин, известный советник и друг Ирода, написавший ἱστορίαν ϰαϑολιϰὴν ἐν βιβλίοις ὀγδοήϰοντα1305, ϰαὶ τοῦ (βίου) Καίσαρος ἀγωγῆν... ϰαὶ περὶ τοῦ ὶδίου βίου ϰαὶ τῆς ἑαυτοῦ ἀγωγῆς, а также – παραδόξων ἐϑῶν συναγωγή, причём от всех этих трудов имеются также лишь незначительные фрагменты (Müller. III, 343–464, с приб. IV, 661–668). А между тем из отдельных ука-
—184—
заний Иосифа и из других свидетелей есть возможность составить ясное понятие о размерах и плане этого труда, являющегося в своём роде феноменом. Так, значительные фрагменты в извлечениях Константина Порфирородного (912–959 г.; это – своего рода „Müllerus“ X века) – все сделанные из 7 первых книг – указывают, что эти книги обнимали древнейшую историю Ассириян, Мидян, Греков, Лидян и Персов до времён Креза и Кира. О 8–95 кн. ничего неизвестно. С 96-й книги доходят до нас фрагменты, сохранённые Иосифом и Атенеем: определённо цитируются 96, 103, 104, 107, 108, 110, 114, 116, 123 и 124 книги; в последних двух – (123–124) излагались переговоры, происходившие в 14 г. до Хр. перед Агриппой в Малой Азии о милостях тамошним Иудеям, причём Ирод и Николай выступали защитниками и ходатаями за иудейские интересы1306; в остальных 20 книгах, без сомнения, обнималась история следующих 10 лет до воцарения Архелая (4 г. Хр. эры.). О степени влияния капитального труда Николая на Иосифа можно отчасти судить по тому, что он цитируется Иосифом уже для истории первобытного времени, для истории Давида1307 и Антиоха Епифана1308 – и по аналогии с „значением“ подобных же цитат в истории Ирода и Асмонеев („заимствование“) не будет слишком смело заключить, что и в более ранних случаях цитаты Иосифа не всегда имеют значение простых „указаний“ на называемого автора, но более или менее сильно и „зависели“ от него. Во всяком же случае, по книгам XV–XVII (история Ирода) вполне очевидна чрезвычайная подробность Николая в значении источника Иосифа, и последний свидетельствует это не только массой красноречивых цитат, но и заметным ослаблением связи и подробности при переходе от Ирода к началу воцарения Архелая, где ему, очевидно, уже не представлялось подобного подробного источника. Может быть, широкое поле, отведённое Иосифом Николаю в своём труде, способно ослабить и здесь сожаление об его утрате, но, с другой стороны, это же са-
—185—
мое только более затрудняет решение историка о правоспособности Иосифа отнестись вполне разумно и критически к своему важнейшему источнику. По крайней мере, всякий изучающий Иосифа вынужден считаться со многими плодами этой его неосторожности и небрежности, когда известно, что – в общем весьма достоверный и обстоятельный писатель – Николай был, однако же. „советник“ и приближённейший „друг“ Ирода, и, как такой, конечно, едва ли был способен с беспристрастной объективностью изложить события его времени. Так, по крайней мере, обнаруживается даже в местах влияния на Иосифа, который всё же таки не был настолько слеп в отношении к Николаю, чтобы совершенно не видеть опасности быть введённым в заблуждение его пристрастием и ошибками. Насколько эта опасность оправдалась (а это несомненно), иногда незаметно для самого Иосифа, и каковы размеры вообще влияния Николая на Иосифа, по имеющимся ныне (147-ми) отрывкам первого у Müllerus’a – судить трудно: нельзя не видеть только, что при многочисленных, почти дословных заимствованиях из Николая, Иосиф иногда и отличается от него – сокращая, дополняя или даже и повествуя об одном и том же совершенно иначе (срв. Müll. III, 353, пр. 18 и мн. др.).
Что касается, затем, Тимагена, Азиния Поллиона и Ипсикрата, цитируемых Иосифом из вторых рук (в местах Страбона), то первый (ок. второй ½ послед. века до Хр.) „знаменитейший историк“ по Квинтилиану1309 – от своих многочисленных и ценных по учёности трудов оставил также жалкие отрывки, по которым едва можно судить о вышеуказанных достоинствах и содержательности его трудов. Цитаты Иосифа с именем Тимагена, касающиеся истории Антиоха Епифана1310, иудейского царя Аристовула1311 и Александра Ианнея1312, а тем более собранные Müllerus’oм (III, 317–323) фрагменты (12) не дают ясного представления о широте исследований названного историка, и едва ли уже
—186—
Иосифу, цитирующему его в Страбоне, было доступно непосредственное знакомство с ним. Тем менее эти цитаты и фрагменты могут дать что-либо поучительное для более глубокого проникновения в подпольный механизм работы Иосифа.
Второй из этой триады историков – Азиний Поллион автор – участник и, след., лучший знаток „истории междоусобной войны между Цезарем и Помпеем“, в 17 книгах, давших материал Плутарху, Аппиану и др. в их трудах, – не оставил ничего важного даже в извлечениях другими товарищами по своей профессии. Не менее не посчастливилось и третьему – Ипсикрату, старшему современнику Страбона, сохранившего всего 2–3 заметки из своего коллеги, из коих одна, подхваченная Иосифом, касается египетского похода Цезаря, и столь же маловажна для нас по своему значению, как и другие, собранные у Müllenis’a фрагменты (III, 493 и д.).
Столь же почти мало утешительные сведения можно дать о весьма важном для нас историке Поливии (ок. 167 г. до Хр.), который два раза точно указан и употреблён Иосифом и известен по мастерскому изображению развития Римского мировладычества в 40 книгах (от 220–146 г. до Хр.). Из всех книг только 5 первых сохранились полностью, двух совершенно недостаёт (17 и 40 – последней), от остальных сохранились более или менее значительные фрагменты, между тем как для нас были бы важны особенно последние 15 книг, начиная с XXVI, где впервые (10 г.) упоминается об Антиохе Епифане, и даётся немало любопытного для его характеристики. Влияние Поливия на Иосифа в особенности сказывается при изложении событий 1 Макк. книги, к эпохе которой относятся обе его ссылки на имя Поливия, но несчастная судьба трудов последнего опять-таки и здесь оставляет критику безоружной для разоблачения степени этого влияния и для более обстоятельного представления хода событий. Всё, что в настоящее время имеет для нас значение в Поливии, ограничивается почти только изложением войны из-за ϰοιλὴ – Сирии между Антиохом (III Великим) и Птоломеем (Филопатором) – Полив. V, 31; 34; 40–41; 45 и д.; 49 и д.; 58, 60 и 61; 67–68; 82 и д.; XI, 34.
—187—
Непосредственный продолжатель Поливия – Посидоний († ок. 50 г. до Хр.) автор, по крайней мере, 52 книг, часто цитируемых у Атенея, Страбона, Плутарха и др. под именем ἱστορίαι (от 146 г.–90 г.), хотя Иосифом называется по имени всего один раз и только в труде пр. Аппиона (II, 7), – тем не менее, – поскольку зависели от него Страбон и Николай – главные источники Иосифа, и поскольку вообще этот великий историк, подобно Поливию, стоял в высоком уважении позднейших историков, пользовавшихся ими, как главными источниками для истории относящегося сюда времени, – постольку, разумеется, ту же дань зависимости и преклонения получал и от Иосифа. Впрочем, ни об этой зависимости, ни вообще о значении Посидония для нашего предмета, отрывки этого автора судить не дают возможности (Müller. III, 245–296).
Не в лучшем положении находится историк в рассуждении Диодора и Трога Помпея (=Иустина), сродство с которыми Иосифа указывает если не на непосредственное влияние их на него, то во всяком случае на общность их источника в Посидонии и не лишено – в силу этого – важного значения. Первый из названных авторов, современник Цезаря и Августа, оставил нам большой труд по универсальной истории всех времён и народов, названный им Βιβλιοϑήϰη – из 40 книг, обнимающих период от древнейших времён до 60 г. до Хр. Из дошедших до нас книг (I–V первоистория Египта и Эфиопии, Ассириян и др. народов Востока, как и Греков, ХI–XX от начала 2-й персидской войны 480 г. до Хр., до истории преемников Александра В. – 302 г. до Хр.) и фрагментов (Müll. II, VII–XXVI) этого историка более заслуживают нашего внимания книги от XXIX, где в 32 г. впервые упоминается имя Антиоха Епифана, но целость и содержательность источника здесь-то в особенности и начинают оставлять желать лучшего.
Другой современник Августа, Трог Помпей – должен был быть весьма любопытным и полезным для нас в своей универсальной истории, ведённой им от Ninus'a до своего времени в 44 книгах, содержавших тщательно обработанный по лучшим греческим источникам материал по истории Македонии и царств „диадохов.“ От всего
—188—
этого сокровища уцелели ныне только prologi и „извлечение“ известного Иустина, настолько всё же содержательное, что даёт для нас важный источник для истории Селевкидов.
Наконец, однажды только упомянутый Иосифом и, по-видимому, случайно – Тит Ливий (59–17 г. до Хр.) имеет известность, как автор „истории Римской“ от основания Рима до смерти Друза (9 г. по Хр.) в 142 книгах. Этот капитальнейший труд, несмотря на то, что его отказываются назвать учёным (написанным по источникам и умеющим сливать материалы в одно целое), по стройности и красоте изложения украсил автора вполне заслуженной славой одного из лучших историков древности. И, между тем, от этого-то его сокровища (не забудем, что наш Иосиф когда-то с честью слыл за „Тита Ливия Греков“), несомненно сохранившего для нас вместе с собой весьма благодарный материал для критики и дополнения Иосифа, уцелело всего только – 1-я, 3-я, 4-я декады и первая половина 5-й (41–45 кн.), обнимающие годы 178–167 до Хр. и обрывающиеся как раз на том месте, где рассказ начинает приобретать для нас исключительную важность. То обстоятельство, что Поливий и Посидоний, продолжатель первого, в значительной степени входили в этого автора, даёт право надеяться на значительную связь или зависимость от него и Иосифа, и, нет сомнения – ущерб для исследователей последнего и вообще для историографов Иудейского народа особенно велик от утраты Ливия.
Таким образом, мы привели в известность всё, что, по собственным указаниям, или только по более или менее очевидным и несомненным намёкам и соображениям составляло и могло составлять материал для истории Иосифа, в последних отделах. Но даже и в наше, столь отдалённое время, можно указать и такие материалы по предмету Иосифа, незнания которых если можно не ставить ему в вину, зато есть возможность во многом дополнять и исправлять ими Иосифа, столько же как и тем, чем он не совсем умело пользовался. Так, комплект греческих историков (Поливий, Диодор, Страбон) дополняется Плутархом, Аппианом и Дионом Кассием. Первый (50–120 по Хр.) оставил нам свои любопытные и в высшей степени умело составленные биографии знаменитейших мужей Гре-
—189—
ции и Рима (βίοι παράλληλοι) – всего до 50, из коих для нас немаловажное значение имеют Александр В., Красс, Помпей, Цезарь, Брут и Антоний.
Аппиан (современник Траяна, Адриана и Антонина Пия) сообщает нам историю Рима в 24 книгах, по особому этнографическому, а не обычному тогда синхронистическому методу, то есть рассматривает специально историю каждой в отдельности земли и народа, входивших тогда в состав всесветной монархии Рима, ведя таковую историю от первого соприкосновения Риму до полного их подчинения (коснувшись также коротенько и истории более ранних времён). До настоящего времени от этих трудов дошли: от I–V и IX только отрывки, а сполна имеются: VI – ἱβηριϰή (т. е. ἱστορία). VII – ἀννιβαϊϰή, VIII – λιβυϰή ϰαὶ Καρχηδονιϰή, XI – Συριαϰή ϰαὶ Παρϑιϰή (последняя утрачена), ХII– Μιϑριδάτεος, ХIII–ХVII – Ἐμφύλια (т. е. гражданская война), ХХIII – Δαϰιϰή или Ἰλλῃριϰή.
Наконец, Дион Кассий (155–229 по Хр.), доведший свой замечательный труд о Римской истории (от прихода Энея в Латиум) до 229 г., в 80 книгах, оставил от первых 34 книг только маленькие отрывки, – более значительные части от 35–36, затем, 37–54 включительно в совершенной целости (от войны Лукулла и Помпея с Митридатом до смерти Агриппы, в 12 г. до Хр.), – от 55–60 включительно – опять значительные отрывки, и от остальных 61–80 книг только выработанный в XI в. (Ксифилином) перечень (для первых 34 книг недостаёт даже и этого).
Из серии латинских писателей, кроме известных уже – Тита Ливия и Трога Помпея, в дополнение к ним должны быть присоединены – Цицерон, Тацит и Светоний. Речи и письма первого (106–43 г.) дают богатейший материал и главный источник, можно сказать, своего времени, и особенно важны для истории Сирии в период от 57–43 до Хр. – Из исторических трудов второго (55 г. по Хр. – ок. 120), кроме „Летописей“, дающих важнейший источник в 16–18 кн. для времени Тиверия, Калигулы, Клавдия и Нерона и истории Сирии, – весьма важна „История“ Тацита, обнимающая в 14 книгах время Гальбы, Отона, Вителлия, Веспасиана, Тита и Домициана (68–96 г.),
—190—
от которой имеются ныне I–IV книги и часть V-й, от 68–70 г. С особенным интересом и пользой читается V, 1–13, где Тацит в кратких чертах даёт, обзор истории Иудейского народа до войны Тита. – Наконец, от Светония (современник Домициана, Траяна и Адриана) имеются „жизни 12 цезарей Римских“ (Vitae ХII Impera torum), в числе коих (Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitellius, Vespasianus, Titus, Domitianus) выдаются, по важности сообщений, предпоследние две.
Особняком от этой группы мы поставим Павзания, Геродота и Кв. Курция, труды которых имеют значение для более ранних эпох иудейской истории. Первый из них (II в. по Хр.) славится блестящим „описанием Еллады или Греции (в Х кн.)“, из которого историк может с благодарностью воспользоваться сведениями о Птоломеях. Второй, Отец Истории (484–408) уцелел в 9 книгах своих „Повествований“, которые могут служить подтверждением похвалы древних, сказывавших, что „устами Геродота сами музы говорили“. В одном из трёх обращений Иосифа к Геродоту он доказывает им свою мысль о наименовании всех Египетских царей фараонами (Арх. VIII, 6, 2); в двух других исправляет его погрешности, допущенные в постановке вместо „Сусака“ Сезостриса (2 раза – Арх. VIII, 10, 2–3) и в наименовании царя Ассирийского – Эфиопским. Параллель последним случаям представляет, вероятно, упоминание о Геродоте в ϰατὰ Απιῶνος, I, 3, что его „все изобличают во лжи“, хотя это не мешает самому Иосифу далее (I, 12) пользоваться Геродотом для доказательства сравнительной юности и недавней безвестности Рима (по сравнению с восточными народами, от коих другие – в том числе и Рим – заимствовали семена своей культуры), а также находить в нём едва, впрочем, уловимые самим Иосифом – следы упоминания Иудеев (I, 22), – честь, которую Иосиф обращает в преимущество и похвалу их перед Римом. Наибольшего внимания из труда Геродота заслуживают, по нашему мнению, три первые книги, в которых даётся история Лидийских царей до Кира и самого Кира (I), Камбиза, Лжесмердиса и Дария Гистаспа, до разделения Персидского царства и взятия Вавилона (III) и описание Египта, с его царями и жи-
—191—
телями (II), требующее, впрочем, большой осторожности, на которой настаивал ещё Страбон, замечая, что „Геродот сообщает много баснословного о Египте“ (XVII, 1, 52 и мн. др.). Наконец, Квинт Курций, время жизни которого не установлено1313, даёт высокого достоинства историю Александра Великого, в X книгах, две из коих совершенно погибли, остальные уцелели только с пробелами.
Всех этих авторов, во главе с Иосифом, совершенно достаточно для ознакомления и изучения Птоломеевского, Селевкидского и римского периодов Иудейской истории. Нельзя не убеждаться при этом, что в общем комплекте источников, после Библейского материала, Иосиф в значительной степени заменяет всех их, и во всяком случае занимает такое господствующее между ними положение, что даёт право всё остальное считать только дополнением, пояснением к себе; впрочем, на всё это он имеет право не столько в рассуждении бесспорных научно-исторических достоинств его материала, сколько именно в виду отсутствия, неполноты или утраты более капитальных материалов, существовавших несомненно и даже отразившихся на самом Иосифе. К сожалению, весь этот запас являющегося ныне побочным в отношении к Иосифу материала, который и теперь служит не только дополнением и пояснением, а нередко и оружием для столь основательной критики и исправления Иосифа, настолько незначителен по сравнению с важностью событий, сопровождавших и обусловливавших последние судьбы Иудейской истории, что критик почти всецело предоставлен самому себе и испытывает подчас скверное положение – или повторять безотчётно Иосифа при ясно ощущаемой несостоятельности его сообщений, или опустить руки в полной беспомощности для надлежащего освещения событий. Чувство этой беспомощности только ещё более обостряется при знании, что были такие мерители исторической достоверности Иосифа, обличители и свидетели слишком иногда беззастенчивого его лжесвидетельства и критерии его на-
—192—
учности, – были, но... теперь их нет! Остаётся, следовательно, повторять его, и если не совсем безотчётно, то с слишком большими и не всегда вполне безапелляционными напряжениями критического таланта и субъективной сообразительности, с слишком смелыми ампутациями критического ножа, с крайней разбросанностью в светскую всех родов литературу.
Насколько увенчались успехом наши труды в этом деле проверки, дополнения и исправления Иосифа светской литературой и критическими соображениями, насколько вообще нам удалось сделать его источником для Библейской истории – эта столь высокопочтенная, достойная более лучших вдохновенных сил (поистине – пророков! пр. Аппион. I, 8) – роль – покажет наше сочинение, доведённое вчерне до последнего разрушения Иерусалима Титом. После того, как показано, в какой области вращалась любознательность специального исследователя Иосифа, надеемся, что верный путь его труда достаточно выясняется; а то, насколько он, при этом, обеспечивается со стороны широты и научной современности исследования и вообще в целях отчёта, – попытаемся показать областью современной научной литературы, какая – на ряду с первоисточно-классическим материалом – подлежала за истекший год нашему изучению.
III.
Приступающий к исследованию вообще Библейского материала, с какой бы то ни было стороны, должен знать те полномочия и границы, за круг которых он не может и не должен выводить свою научную правоспособность. Он должен знать, что ему необходимо и здесь conditio sine qua non науки – критика, должен знать её оправдание и точный смысл в приложении к такому исключительному предмету, как Слово Божие. С характернейшими воззрениями на этот счёт мы познакомились в „Ueber Berechtigung der Kritik des Alt. Testamentes,“ Köhler’а. Немало положительных достоинств представляет в нашей отечественной литературе труд Добротворского – „Критический метод в исследовании Свящ, Писания“, но вообще надо заметить – вопрос об оправдании критического изучения Библии – один из
—193—
тех вопросов, которые не столько разрешимы специальными теориями, сколько самой практикой. И зачастую – то, чего никак нельзя не допускать на практике, оказывается не совсем уместным при возведении в теорию: очевидно, что этот вопрос ещё имеет все права на будущее...
Западная литература – как обычно везде и во всём – неизмеримо богаче нашей отечественной капитальными исследованиями в области нашей науки. Лучшие представители последней1314, начиная с родоначальника их – Филарета – просвещённейшего Архипастыря во всех отношениях, – платили дань уважения (к) неистощимым плодам трудолюбия западного учёного мира и с удовольствием пользовались ими.
Из благодарнейших результатов этого трудолюбия навсегда останутся „феноменами“ такого рода исследования, как Jost, Ewald, Stade, Holtzmann, Schürer u Köhler.
С первым из них мы познакомились в двух его трудах, носящих названия: 1) Allgemeine Geschichte des Israelitischen Volkes, I–II т. и 2) Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Maccabäer bis auf unsre Tage, I–X т. Особенную ценность представляют для нас (при изучении Иосифа особенно) два первые тома последнего труда, снабжённые в высшей степени вескими научными данными (в особых прибавлениях). Являясь результатом широкого знакомства историка с внебиблейской классической и средневековой литературой, а также раввинистическими произведениями, эти данные служат незаменимым пособием при ознакомлении с Иосифом, критике и дополнении его.
Ещё более достоинств представляет огромнейший труд „Geschichte des Volkes Israel“ Ewald’а, I–VII, обнимающий историю народа Израильского от самых ранних библейских эпох до конечного поглощения его Римом после разрушения Иерусалима. По полноте и широте исследования, по тонкопсихологической наблюдательности, по теплоте религиозно-нравственного чувства и яркости изображения – этот труд не имеет себе подобного, и обычно служит и едва ли перестанет когда служит главной подкладкой всех дальнейших исследований того же рода. То обсто-
—194—
ятельство, что научная основательность труда здесь за некоторыми исключениями успешно дружит с воззрениями и духом Ветхозаветных Писаний, делает этот выдающийся, в ряду не столь умеренных при своей научности, труд особенно важным для неготового на крайности историка. Наконец, в дополнение характеристики этого важнейшего пособия отметим в нём особенную обстоятельность отделов, останавливающихся на специальном исследовании и выяснении внутренних сторон и основ жизни Израиля, обычные представления истории которого часто ограничиваются изложением внешнеполитических изменений в его судьбах, или жизнеописаниями его представителей.
Упоминая выше о трудах, не столь умеренных при своей научности, мы разумели, между прочим, бесспорно выдающийся труд Stade „Geschichte des Volkes Israel“. I–II т. Задача труда – представить историю народа Израильского в двух основных эпохах: Израелитизм и Иудейство. Первая кончается началом Вавилонского плена и разделяется на половины уничтожением Израильского царства в 722 г. – Вторая разделяется на 4 отдела: 1) время от плена до конституции общества при Ездре, 444 г. 2) идёт далее до Александра В., 336 г. 3) до Антиоха IV Епифана, 175 г. и 4) до окончательного уничтожения политического существования Иудеи Римлянами, 73 г. Исходя из мысли, что отличительной чертой истории Израиля обычно является воззрение на неё, как на историю религиозной идеи, подобно тому как история Рима является историей развития государственной жизни и история Греции – историей развития классических искусств, философии и науки вообще, Stade устанавливает прежде всего, что всякое историческое повествование об Израиле, ограничивающееся политической его историей, было бы односторонне. По-видимому, здесь даётся прямое указание, что такая история будет тем, что мы привыкли соединять с выражением „Библейская История“. Наоборот, однако, Stade и по цеди, и методу отличает свою историю от „так называемой Библейской“, которая имеет по нему лишь „одну назидательную цель“, разрабатываемую и методом, не столь свойственным настоящей науке, а именно – „гармонистическим“, а не историко-кри-
—195—
тическим. Отличительной чертой этого (первого) метода который он навязывает в своего рода монополию Библейской истории, признаётся то, что в повествованиях из Библии она, Библ. история, не знает противоречий, а где таковые обнаруживаются слишком ярко, она отклоняется прочь. Для иллюстрации этого Stade ссылается на Библейско-исторического Давида и находит его совсем неисторичным. Конечно, нельзя согласиться с подобными воззрениями на дело, узкими для действительной Библейской Истории и только воображаемо-широкими и исключительными для истории народа Израильского. Недоразумение, навеваемое Stade, падает, когда мы установим, что основная идея и задача Библейской Истории вовсе не настолько отлична по существу от таковых же в просто истории Израиля, как избранного народа Божия, и хотя верно, что последняя может быть рассматриваема с точки зрения многих других идей и задач, при всём том это никоим образом не нарушает их идейного единства, а значит – не может вносить в них и противоречия или противоположности. Скажем более: Библейская история не только не отлична по существу чем-либо от истории Израиля, но и всегда имеет последнюю своей необходимой подпочвой. Конечно, естественно при этом и желать, чтобы эта подпочва тщательнейшим образом разрабатывалась, ибо всякое прогрессивное усовершенствование её лучше упитает, оживит и произрастающую на ней историю Библейскую. Что касается, затем, назидательной цели, которую Stade готов ставить чуть не в вину Библейской истории и, во всяком случае, считать ущербом чистой истине, то нет никакого основания, по нашему убеждению, отрешать эту цель от какой-угодно реальной действительности и относить её в область воображений фантазии, подобной той, которая измышляет действительно иногда сильно действующие на волю и чувство назидательные драмы и сцены для подмостков театра. Напротив, как никакое самое роскошное художественное произведение не сравняется по назидательности с живыми уроками реальной действительности, так нет и не может быть лучше и законо-сообразнее того назидания, какое может быть почерпаемо из уроков действительной истории. И таких уроков в ней
—196—
слишком неисчерпаемое множество, чтобы была какая-нибудь нужда ещё измышлять их из своей фантазии или пользоваться заведомо вымышленными. Такая цель, как назидание, поистине не оправдывала бы таких средств к ней. К счастью, в них и нет надобности. Реальная, а не воображаемая история, хотя бы из-под изысканнейше – правдивого пера Stade, в обилии даёт материала для назидания, если бы он только и был нужен для Библейской истории. Но все эти своеобразные воззрения Stade нимало не ослабляют вообще научных достоинств его труда, представляющего одно из обстоятельнейших расследований в области библейско-исторического первоисточного материала, хотя и не чуждое в отдельности – требующих большой осторожности при пользовании – увлечений.
Труд Osk. Holtzmann’а (Das Ende des jüdischen Staatswesens und die Entstehung des Christenthums), занимающий почти 2/3 огромного II-го тома Stade (273–674 стр.) представляет прямое и наиболее подходящее продолжение труда Stade, доведённого до греческого периода Иудейской истории. Но при всей капитальности и этого труда, сравнение его с Schürer’ом „Geschichte des Iudischen Volkes im Zeitalter Iesu Christi“ I–II т. (2-е изд.) более располагает в пользу последнего. Недавний выход его в свет 3-м изданием составит выдающееся событие в области еврейско-исторической науки. В книге, уже при 1-м её издании (Лейпциг, 1874 г. под скромным наименованием Lehrbuch der Neutestamentlichen Zeitgeschichte), не только получила новое и чрезвычайно яркое освещение одна из наиболее сложных и интересных эпох еврейской истории, но и собран богатейший материал для понимания процесса возникновения и развития христианства. Целая масса вопросов, дотоле тёмных и неустановленных, всесторонне затрагивается и освещается автором самым тщательнейшим образом, на основании и Иосифа Флавия, и светской, и раввинистической литературы. Кроме всех этих достоинств, сполна перешедших из I-го издания во II-е, бывшее у нас под руками (3-е ещё не совсем вышло), последнее обогатилось массой новых плодов редкого трудолюбия и основательности автора. I-й том труда излагает в наилучше обработанном виде внешне-политическую историю Палестины с 175 г.: а
—197—
во втором – специально трактуется о внутренней жизни и быте еврейского народа за указанное время. Вообще, труду Schürer’a и особенно его ценным примечаниям, и цитатам из первоисточников мы весьма обязаны при изучении Иосифа Флавия, как источника последних эпох Иудейской истории, где Schürer вполне может претендовать на незаменимо авторитетное руководственное значение.
Из многочисленных трудов Köhler’а мы успели познакомиться с Lehrbuch der Biblischen Geschichte Alten Testamentes, первой частью 1-й половины и второй частью II половины. Первая часть I половины своим общим значением и богатством справочного материала весьма помогла нам ориентироваться в непроглядных „чащах“ западной библейско-исторической литературы; вторая часть II пол. – весьма прекрасное руководство для изучения царского периода Иудейской истории и далее, кончая эпохой Неемии, тем более обстоятельное, что отлично знакомит со всей новейшей литературой, оказавшей те или иные успехи по разработке этого отдела Израильской истории.
Весьма симпатичный опыт представляет Geschichte des Alten Bundes, Hasse. Это – в высшей степени замечательное по глубине и созерцательной основательности представление „истории Завета Бога с человечеством“, – истории, по взгляду автора, не просто человеческой, которая развивалась под руководством Провидения только вообще, но гораздо более – истории, которая была один непрерывный ряд Божественных откровений, находивших в вочеловечении Божества и свою цель и, в то же время, и своё основание. Сообразно такому, вполне основательному взгляду, Ветхий Завет должен рассматриваться как историческая истина только в своём „подразвитии“ к Новому (Hinentwicklung zum Neuem), а не в „противоположении“ ему. Новое Иудейство, в силу этого положения, трактуется как мёртвое residuum, а не как жизненный плод Ветхого Завета; такого рода плод гораздо справедливее есть христианство, от которого только и получает существенное значение и смысл Ветхий Завет. В некоторый дефект проникнутого этой мыслью труда можно поставить только то, что он не идёт дальше обработки, хотя бы и основательнейшей, одного только канонического материала Библии, хотя, впро-
—198—
чем, эта как бы недоконченность труда не есть, конечно, положительный его недостаток.
Совершенно подобная по характеру, и едва ли не более содержательная по глубине богословского созерцания – Geschihte des Alten Bundes – Kurtz’a, – представляет один из своего рода шедевров ортодоксального направления в нашей науке; к сожалению, труд этот также не полон. Одной из оригинальных черт его должно быть отмечено то, что исходным пунктом своим он полагает заключение завета Бога с Авраамом, сообразно с чем и время, предшествовавшее этому заключению завета, принимается во внимание лишь в значении подготовительной „до – истории“. Средоточным и центральным пунктом всей истории служит Боговочеловечение во Христе, как условие, вместе, и средство обожествления человека. Это – и основание, и последняя цель Ветхого Завета, – и если, как вытекает из существа этого Завета, эта цель должна быть раскрыта и достигнута через взаимодействие обоих посредников („агентов“) Завета, то и история этого Завета должна касаться двоякой деятельности – Божественной и человеческой, и соответственно этому – представить двойственно-цельное содержание развития всей Истории. Оба эти порядка развития (Божественное и человеческое) никак не могут идти иначе, как друг с другом, проникая себя взаимно и обусловливая взаимно свой успех. Каждая новая степень откровения Божества вызывает новый и высший расцвет свобододеятельности в народе Завета, являющийся прямым следствием и плодом предшествующего плодотворного восприятия элементов Божественного проникновения в существо духа человеческого. Таким образом, к последней цели и средоточному пункту всей Завето-деятельности Божией со всеми её внешними проявлениями – к вочеловечению Бога во Христе – клонились и закон, и пророчества, и вообще вся промыслительная деятельность об избранном народе и его отдельных представителях. Отличительный характер истории Ветхого Завета, в согласии с этим положением, будет тот, что она в существенных моментах своего развития есть „история освящения“. Верный на всём протяжении своего труда этим общим воззрениям на свой предмет, Kurtz прекрасно справляется
—199—
с нелёгкой задачей – установить смысл отдельных эпох и представителей в истории Ветхозаветного народа, не нарушая единства своей основной точки зрения; и с этой стороны в особенности труд его не перестанет служить образцом для всех дальнейших попыток в том же роде, которых особенно можно пожелать для второй половины Ветхозаветной Истории, оставшейся менее освещённой с точки зрения, подобной Kurtz’y.
Штудируя труд Schürer’a, бывшего главным пособием нашим при изучении после-Маккавейского периода, мы имели случай и старались знакомиться, конечно, с указываемой им в начале каждого § литературой предмета. Из более полных исследований по предмету Израильской истории (кроме вышеуказанных) мы познакомились с Hitzig, Geschichte des Volkes Israel, I–II, тоже – Seinecke, собственно 2-я часть, vom Exil bis zur Zerstörung Ierusalems durch die Römer, и пр. др. по мере возможности и надобности. Труд первого (Hitzig), при меньшей солидности, близко сроден Schürer’y, по научной пытливости ко всему любопытному в Израильской истории и по старанию разрешать труднейшие из вопросов этой истории экскурсиями в область материала первоисточного. Труд второго (Seinecke), в указанном ограничении, представляет весьма важное дополнение к тем обоим, благодаря в особенности большему знакомству и вниманию1315 к данным раввинистической литературы и умению освещать ими научный материал.
После всех этих более или менее целостных и полных обзоров предмета Библейской Истории, весьма многим мы были обязаны трудам по разработке отдельных периодов и вопросов в области нашего предмета. Так, Engelstoft, Historia populi judaici biblica дал нам благодарный материал более или менее ценными указаниями при ознакомлении с вне-библейской литературой, имеющей значение не в ограниченных лишь заглавием пределах („до оккупации Иудеями Палестины“), но и вообще для ориентирования в неточной литературе предмета.
—200—
Ещё обстоятельнее в этом отношении труд Lengerke, Kenáan. Volks – und Religionsgeschichte lsrael’s, а для эпохи Царей также Eisenlohr, Das Volk Israel unter der Herrschaft der Könige, весьма, впрочем, близкий к соответствующим частям Ewald’a. Довольно обширный и один из самых тёмных и недостаточно освещённых периодов в истории Иудейства – от плена до Маккавеев – точно так же имеет достаточно своих специальных исследователей, между которыми многие прекрасно дополняют друг друга и вместе дают иногда значительно более обстоятельное обозрение известных периодов Иудейской истории, чем даже наилучшие из трудов общего характера. Таковы – Das Jahrhundert nach dem Babilonischen Exile, Rosenzweig’Α, исследование – обращающее особенное внимание на религиозное развитие Иудейства за указанное время и представляющее тщательнейшую обработку иудейско-раввинистических материалов, относящихся к данному вопросу; и Vier Jahrhundert aus der Geschichte der Iuden (von der Zerstörung des ersten Tempels bis zur Makkab. Tempelweihe), Jastrow"a. – дополняющее достоинства первого преимущественным освещением политическо-бытовых сторон жизни Израиля. Важное историческо-литературное, – и вообще для ориентировки в первоисточном материале пред-Маккавейского периода, – значение имеет исследование Willrich’a, – Juden und Griechen vor der Makkabäischen Erchebung, обстоятельно знакомящее с авторами первоисточников и, насколько возможно, с самими этими первоисточниками, о многих из коих, впрочем, теперь можно сказать почти только то одно, „что̀“ в них когда-то было? Обстоятельнейшее обозрение, не только экзегетическое, но и историко-критическое для Маккавейского периода дают – Grimm, в Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zu den Apokryphen des Alten Testamentes (das erste Buch der Makkabäer), и Keil – в Kommentar über die Bücher der Makkabäer (I и II кн. Макк.). А начиная со смерти Иуды Маккавея до конца – весьма важным пособием служит, кроме Schürer’a и в параллель ему, Grätz, Geschichte der Iuden von dem Tode Iuda Makkabi’s bis zum Untergang des Indischen Staates, – если не считать грубо-рационалистических комментариев его к Евангелию и нелепых воззрений на Божественное Лицо Господа Иисуса Христа, которые только учёное поме-
—201—
шательство может хладнокровно выдавать за „научные“. Всему остальному в трудах Grätz’a это не мешает отдать справедливость и все права на внимание, и, между прочим, воззрения Grätz’a на так называемые секты Иудеев (фарисеи, саддукеи, ессеи), отступая от обычных избитых толкований этого в высшей степени интересного явления в Иудействе, при всей своей новизне и своеобразности, кажется, ближе всего к истине. Много ценного представляют и другие заметки, и воззрения Grätz’a, собранные в особом отделе его исследования (Noten. 415–503).
Наконец, отметим ещё труд, столько же оригинальный по замыслу, сколько небезуспешный по выполнению и представляющий важное пособие при изучении Иосифовского материала Иудейской истории с того момента, как на помощь историку Библейскому начинает опять приходить Слово Божие. Это труд Krenkel’а – Iosephus und Lucas (der Schriftstellerische Einfluss des Iudischen Geschichtschreibers auf den Christichen), не столько, впрочем, убедительно доказывающий действительное литературное влияние Иудейского историка на Евангелиста и Дееписателя, сколько основательно разрешающий, где требуется, некоторые недоуменные сопоставления текстов обоих писателей и указывающий возможность взаимного дополнения их одного через другого, как повествователей одних и тех же параллельных эпох.
Не рекламируя настоящего отчёта доказательствами нашего знакомства с другими источниками и пособиями, имевшими или более случайное значение, или слишком специальное, относящееся до отдельных частнейших сторон и вопросов, излишних для целей отчёта, – мы добавим лишь, в виде заключения, к последнему, что он ни в каком случае не мог дать полного и яснейшего понятия о всём, что составителем его сделано за год добросовестного труда. Достаточно материала для суждения об этом может дать только наше сочинение, на недалёкую подачу которого надеемся. Тщательная же распланировка и расценка, и обсуждение всего изучавшегося материала, столько же как выяснение положения Библейского историка, имеющего дело с этим материалом, – позволяют нам также надеяться, что автор дал в своём отчёте не сухой только перечень материалов своего труда,
—202—
но и удовлетворительно осветил путь для своих дальнейших занятий по предмету, интерес к которому после 16-дневного возбуждённо-восторженного биения пульса и всестороннего удовлетворения юношески-впечатлительной души в благодатной – и вещественной, и духовной – атмосфере Св. Земли, стал – поистине! – интересом жизни. Говоря вполне безтенденциозно: это „полумесячное“ дыхание воздухом Св. Земли и вообще „духовное питание от „Неё“ – навсегда удержит своё значение в некотором роде „утробного периода“ по отношению ко всему, что бы только ни ожидало меня в дальнейшей жизни. „Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь!“ – вот то̀, к чему везде и во всём будет предопределяющим меня этот период! Любовь ко Св. Земле и жгучий интерес ко всему, что касается её и её истории – вот то, что останется неизменным при всех переменах жизни! Каждая статья, каждое слово о Св. Земле – то же, что письмо, полученное от близких и родных сердцу! История и судьбы Св. Земли всплывают в сознании и сердце со всей неотразимо-обаятельной живостью, ясностью и понятностью, чего не достигнут в такой мере никакие описания, изображения и сочинения. Одним словом, немногие дни пребывания в Палестине для меня, как студента, были наилучшей наградой за долгие годы учения на всю жизнь, и наилучшим, так сказать, заключением того духовного развития, за какое только можно быть обязанным дорогой Академии!..
Но – да простится мне это невольное увлечение“!..
б) Словесное предложение Ректора Академии Арсения, Епископа Волоколамского:
„Из представленного профессорским стипендиатом Иваном Петровых отчёта о его занятиях по библейской истории в течение 1899–1900 учебного года я убедился, что автор его с большой пользой для себя употребил бывшее в его распоряжении время, значительно пополнил свои познания и вообще достаточно подготовился к преподаванию избранного им предмета. – Так как г. Петровых Советом Академии ещё в прошлом учебном году намечен был кандидатом к замещению вакантной в Академии кафедры библейской истории, временное преподавание какового предмета я с началом будущего учебного
—203—
года оставляю, то считаю долгом предложить Совету Академии теперь же окончательно решить вопрос об избрании г. Петровых на вакантную должность преподавателя библейской истории“.
Справка: 1) По § 81 лит. а п. 7 устава духовных академий „принятие мер к замещению профессорских и других преподавательских вакансий“ значится в числе дел, окончательно решаемых самим Советом Академии. 2) По § 50 того же устава „ищущие звания доцента, но неизвестные Совету своими преподавательскими способностями, должны прочесть, в присутствии Совета, две пробных лекции: одну на тему по собственному избранию, а другую – по назначению Совета“.
Определили: Профессорского стипендиата Ивана Петровых избрать кандидатом на вакантную должность преподавателя библейской истории, обязав его, в начале будущего 1900–1901 учебного года, прочитать две, установленных § 50 академического устава, пробных лекции: одну на тему по собственному избранию, а другую – по назначению Совета.
VII. Донесение комиссии (в составе ординарных профессоров Григория Воскресенского и Николая Заозерского и экстраординарного профессора Сергея Глаголева), ревизовавшей кассу, приходо-расходные книги и другие документы редакции „Богословского Вестника“ и рассматривавшей отчёт редакции за 1899-й год:
„Честь имеем донести Совету Академии, что, во исполнение возложенного на нас Советом поручения от 20-го марта текущего года, мы произвели ревизию кассы и приходо-расходных книг редакции „Богословского Вестника“, равно рассмотрели отчёт за 1899 год, и нашли следующее:
1) Все процентные бумаги редакции, равно как и наличные деньги, которые должны быть по отчёту, находятся в целости.
2) Отчёт за 1899 год составлен редакцией согласно с приходо-расходными книгами.
3) Приходо-расходные кассовые и вспомогательные книги редакции найдены нами в порядке и исправности: все листы, шнуры и печати в целости.
4) Записи в них прихода и расхода ведены чисто, без помарок, а где таковые встречаются, там они оговорены
—204—
по надлежащему; страничные итоги и транспорты показаны правильно.
5) На все крупные расходы, произведённые редакцией, и почти на все мелкие расходы имеются счета, расписки и другие оправдательные документы“.
Определили: Принять к сведению.
VIII. Донесение экстраординарного профессора Иерофея Татарского и исправляющего должность доцента Академии Павла Тихомирова, производивших ревизию академической библиотеки:
„Исполняя возложенное на нас Советом Академии поручение, мы, руководствуясь § 54 инструкции библиотекарю, произвели ревизию академической библиотеки и имеем честь донести Совету Академии следующее:
Наличность библиотеки находится в целости и надлежащем виде. Вновь поступившие приобретения своевременно занесены в библиотечные каталоги. Книги и рукописи, взятые профессорами и студентами, своевременно записаны.
Из нужд библиотеки считаем необходимым вновь указать на отмечавшуюся и в прежние годы нужду в новых шкафах и в переделке существующих шкафов в целях лучшего предохранения книг от пыли; последнее могло бы быть достигаемо постепенным устройством в шкафах стеклянных дверок.
В деятельности библиотекарей обращаем внимание Совета на произведённую ими разборку дублетов, хранившихся прежде на шкафах и почти никогда не выдаваемых; теперь эти дублеты помещены на соответственные места в шкафы и стали вполне доступны для пользования.
Доводя о всём изложенном до сведения Совета Академии, не можем не засвидетельствовать перед ним о заслуживающем благодарности, внимательном и усердном отношении библиотекарей к своему делу“.
Определили: 1) Принять к сведению. 2) О нуждах библиотеки в хозяйственном отношении сообщить Правлению Академии для надлежащих распоряжений. 3) Библиотекарю Академии Константину Попову и помощнику библиотекаря Василию Протопопову за их внимательное и усердное отношение к своему делу выразить от Совета Академии благодарность.
—205—
IX. Отношения:
а) Совета Александро-Мариинского Дома Призрения в Сергиевском Посаде:
„Совет Александро-Мариинского Дома Призрения имеет честь сообщить Совету Московской Духовной Академии, что ординарный профессор Академии, Статский Советник Пётр Цветков Его Высокопревосходительством Г. Обер-Прокурором Святейшего Синода 21 декабря 1899 года определён членом Совета Александро-Мариинского Дома Призрения“.
б) Г. исправляющего обязанности инспектора Торговой школы B. В. и Π. В. Кузьминых (в Москве): „Честь имею довести до сведения Вашего Преосвященства, что и. д. доцента Московской Духовной Академии по кафедре истории и обличения русского раскола Илья Громогласов распоряжением Г. Директора Департамента Торговли и Мануфактур от 3 мая 1900 г. за № 18255 назначен на должность штатного преподавателя общеобразовательных предметов в Торговой школе В. В. и П. В. Кузьминых с 4 марта 1900 г., с оставлением в занимаемой им должности“.
в) Московской Духовной Консистории: „Московская Консистория имеет честь уведомить, что экстраординарный профессор Московской Духовной Академии Введенский Высочайшим приказом от 27 апреля сего года за № 29 произведён за выслугу лет из Коллежских в Статские Советники со старшинством с 23 сентября 1899 года“.
Определили: 1) Принять к сведению. 2) Об утверждении заслуженного ординарного профессора Петра Цветкова и исправляющего должность доцента Академии Ильи Громогласова в вышеозначенных должностях, а экстраординарного профессора Алексея Введенского – в чине Статского Советника внести в формулярные о службе их списки.
X. Представление душеприказчика по завещанию покойного О. Протопресвитера Московского Большего Успенского Собора Александра Симеоновича Ильинского – потомственного почётного гражданина Николая Павловича Чамова:
„Имею честь препроводить Совету Московской Духовной Академии одно свидетельство Государственной 4% ренты в пять тысяч рублей за № 252, сер. 192, с купоном на
—206—
срок июнь 1900 года, завещанное покойным Отцом Протопресвитером Александром Симеоновичем Ильинским на образование одной стипендии в Академии имени покойного завещателя с тем, чтобы капитал стипендии, обращённый в Государственные процентные бумаги, оставался неприкосновенным, проценты же с него, по усмотрению Совета Академии, были употребляемы на содержание тех из воспитанников, которые содержаться во время учения собственными средствами не могут и между тем прав на казённое содержание не имеют; причём на стипендию должны быть назначаемы преимущественно воспитанники духовного звания Московской епархии, отличающиеся прилежанием в учении и благонравием. Если бы назначенной на стипендию суммы, по существующим в Академии окладам содержания или вследствие уменьшения самых процентов, оказалось недостаточно, назначение стипендии отлагать до того времени, как оная, через ежегодное присоединение к капиталу процентов, достигнет потребного размера.
Покорнейше прошу Совет Московской Духовной Академии в получении от меня вышеозначенного свидетельства 4% ренты выдать мне соответственное удостоверение с обозначением в нём указанной выше воли покойного Отца Протопресвитера Александра Симеоновича Ильинского“.
Справка: Требуемое удостоверение выдано потомственному почётному гражданину Николаю Павловичу Чамову 4 мая сего года за № 120; свидетельство же Государственной 4% ренты в 5000 рублей передано в Правление Академии для внесения на хранение в Московскую Контору Государственного Банка.
Определили: 1) Просить ходатайства Его Высокопреосвященства перед Святейшим Синодом об учреждении при Московской Духовной Академии стипендии имени покойного О. Протопресвитера Московского Большего Успенского Собора Александра Симеоновича Ильинского. 2) Представить установленным порядком на благоусмотрение и утверждение Святейшего Синода следующий проект положения об означенной стипендии:
—207—
§ 1.
На проценты с завещанного покойным Протопресвитером Московского Большого Успенского Собора Александром Симеоновичем Ильинским капитала, заключающегося в одном свидетельстве Государственной 4% ренты на сумму пять тысяч рублей, учреждается при Московской Духовной Академии стипендия имени названного О. Протопресвитера.
§2.
Стипендия назначается Советом Академии, с утверждения Епархиального Преосвященного, на четыре года одному из своекоштных студентов Академии, отличающемуся прилежанием в учении и благонравием, по происхождению преимущественно из воспитанников духовного звания Московской епархии.
§3.
Если стипендия освободится прежде окончания стипендиатом полного академического курса (вследствие, напр., смерти стипендиата или увольнения его из Академии), то она назначается порядком, указанным в § 2.
§4.
Пользование стипендией не налагает на стипендиата никаких обязательств.
§ 5.
Стипендия должна быть назначаема лишь в том случае, если сумма процентов с капитала будет равняться сумме, ассигнуемой на ежегодное содержание казённокоштного студента Академии; до того же времени проценты должны быть присоединяемы к основному капиталу для увеличения его до требуемых размеров.
XI. Отношение Преосвященного Никандра, Епископа Симбирского и Сызранского:
„Как бывший питомец Московской Духовной Академии, честь имею препроводить в дар Академии для фундаментальной библиотеки в двух особых посылках коллекцию греческих „аколуфий“ (τῶν ἀϰολουϑιῶν) или чинопоследова-
—208—
ний служб святым Православной Церкви, состоящую из 170 экземпляров (за исключением №№. 6, 26, 81, 95, 150 и 170, не найденных для отсылки), печатных и рукописных, изданных в XIX и ХVIII столетиях. Из этих „аколуфий“ одни представляются имеющими известную важность по своей сравнительной старине, другие – как составляющие библиографическую редкость в самой Греции по ограниченности выпущенных в свет экземпляров, иные же как заключающие в себе службы таким греческим святым (в особенности – новым мученикам в эпоху турецкого владычества), которые привлекли особое внимание Русской Церкви, как например, аколуфии четырёх новых мучеников из города Рефимно (на острове Крите), честная глава одного из которых по просьбе в Бозе почившего Императора Николая I-го была послана в Санкт-Петербург, где и хранится в одном из соборов (см. № 14 прилагаемого при сём каталога) и проч...
Сверх сего имею честь препроводить также в особой (3-й) посылке три древних греческих рукописи, из которых одна (I), относящаяся, как нужно думать, к X веку, написанная на пергаменте чётким миниатюрным письмом того времени с киноварью (длиной 16-ть сантиметров, шириной 11 сантиметров, в досчатом, обшитом кожей, переплёте того времени), представляет замечательную и драгоценную в научном и других отношениях редкость. Это Τυπιϰόν, заключающий в себе „устав служб Великой Христовой Церкви и, знаменитого Студийского монастыря“. (Περιέχει τὸ τυπιϰόν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοὖ Ἐϰϰλησίας σὺν τῷ μοναστηρίῳ τῶν Στουδίων). Как видно из содержания, типикон этот заключает в себе службы всей триоди и пятидесятницы и вообще показание всех церковных служб на весь год... О происхождении рукописи не позже означенного времени можно заключать и из того, что предписания Церкви, установленные после X века, не вошли в эту рукопись. Признаки её глубокой старины не трудно усматривать между прочим в показаниях на службу Благовещению Пресвятой Богородицы; равно также в предписаниях на святую Четыредесятницу и на Страстную седмицу. В последних мы находим даже указания на то, какие церковные облачения должны надевать священнослу-
(Продолжение следует).
* * *
Т. е. имевшей ещё пребывание, существование, – ещё стоявшей.
Яже творю – автор. и Остр. Мар. Зогр. Гал. но нек. прид. аз – тепер. Слав. Асс. Ал. Вм. более Ал: вяще. Сам – αυτος одни и Ал. а др. εϰεινος, древне – сл: тъ, Асс: и тъ, Гал. оп. Вм. свидетельствова автор. и древнесл. в D и Зогр: свидетельствует.
Собств. опустошивший.
Иигдеже слышасте соотв. автор. Остр. Мар, Зогр. но Асс: никтоже слышит. Гал: никтоже не слышит. Карп. никтоже слыша. Св. Ап: ни гласа же (ουδε) его слышасте когда (соотв. нек), ниже (ουδε) вида (лучше чем древн: видения) Его видесте. Св. Ал: не веровасте – точнее, но время не то, – соб: не веруете. Также точнее Св. Ал: посла Он вм. тъ посла древн. и тепер.
Букв: постелькой, кроваткой.
Т. е. был чудесно создан Богом.
Возможен другой перевод: и Сам Дух Христа, через пророка Иеремию говорящего к ним.
Св. Ал. и Юр: пытайте, – Конст. Ал. и поздн: писания (или писаний) вм. древн: книги. Автор. и слав: яко вы мните в них. Вм. живот и живота у ев. Ал: жизнь.
Барт (Религии Индии, перев. под ред. кн. С. Трубецкого, Μ. 1897, стр. 53) придаёт этому обстоятельству преимущественное значение. „...Между причинами, которые способствовали остановке развития индийской религии (древнейшего периода)“, – пишет он, – “и ограничению её той формой, которой мы даём имя брахманизма, одна из самых действительных была причина лингвистическая – изменение языка“.
Л. И. Мечников: Цивилизация и великие исторические реки, перев. с фр. Μ. Д. Гродецкого. Киев. 1899, стр. 264.
Prof. dr. S. Lefmann: Geschichte des alten Indiens, Berlin, 1890, S. 404–5. Подобно Лефману, и Гарди (Edmund Hardy: Die Vedischbrahmanische Periode der Religion des alten Indiens, Münster, 1893) справедливо придаёт очень большое значение изменению, в эпоху возникновения браманизма, климатогеографических условий жизни индийцев. Zur Zeit, – пишет Гарди (207, passim), – als auf indischem Boden die ersten spekulativen Versuche gemacht wurden, hatte das vedische Volk der arischen Inder sich bereits im Stromgebiet des Ganges, seiner nunmehrigen Heimat niedergelassen. Ein tropisches Klima wartete ihrer hier an Stelle des gemäßigten, unter dem sie zuvor gelebt und jene Götterwelt geschaffen hatten, mit welcher uns die R V. – Lieder bekannt machen... Der Ganges-Inder fühlte sich in dieser Welt, in die ihn sein zeitliches Dasein versetzt hatte, nicht heimisch (ugl. Maitri-up. 1, 4), und sehnsüchtig richtete er sein Auge auf eine andere, vor welcher aller Erdenglanz verblasste... Unbekümmert um den Zusammenhang mit Natur und Wirklichkeit ging das Denken seine eigenen Wege träumte Träume und gestaltete Gestalten ohne Blut und Leben... Einmütig mit allen im Glauben an die Nichtigkeit ihres Daseins hienieden, durften indische Denker hoffen, aus aller Herzen zu sprechen, wenn sie beteten (Brh. – np. 1, 3, 30): „Aus dem Nichtseienden führe mich zum Seienden, aus dem Dunkel führe mich zum Lichte, aus dem Tode führe mich zur Unsterblichkeit!“ О климатогеографических условиях жизни в долине Ганга см. курсы географии. „В сохранившихся ещё девственных лесах Бенгалии, как называют равнину, прорезываемую Гангом“, – пишет наприм., Фридрих Гельвальд (Земля и её народы, т. II, стр. 146–147), – „деревья которых опутаны бесконечными ползучими растениями, живёт страшный королевский тигр, слон, носорог и другие звери. Климат чрезвычайно знойный и вредный для здоровья; здесь главное гнездо холеры... Тем не менее, в этих знойных и сырых низменностях сосредоточивается самое густое население, потому что здесь самый незначительный кусок земли является достаточным для прокормления целого семейства... Необыкновенное плодородие избавляет индусов от необходимости усиленного труда; поэтому жители отличаются леностью, доходящей часто до полной апатии. Несмотря на богатство природы, у людей нет богатства, потому что никто не старается приобрести, сберечь, скопить“. Именно эта беспечность в отношении к заботам о материальном существовании, развивая в индийце леность и апатию, с другой стороны приучала его к самоуглублению и рефлексии. „Жаркая, влажная атмосфера долины реки Ганга, с её пышной тропической растительностью, всё доставляющей человеку без труда, ослабила и разнежила доброго, энергичного индуса. Физическая бездеятельность, вызывавшаяся жарким климатом и лёгкостью услуги среди щедрой природы, давала простор самосозерцанию и рефлексии“ (Энциклопедический словарь Брокгауза: Индия, стр. 133–4). Несмотря на то, что английское правительство Индии очень многое делает для оздоровления долины Ганга, климат её и до сих пор остаётся ужасным. См. очень интересные иллюстрации к этому положению в книге проф. Краснова: „Из колыбели цивилизации, письма из кругосветного путешествия“, СПб. 1898, письма 5–11.
Зависимость образования в Индии каст (собственно судров) от экономических условий, а этих от климатических превосходно разъяснена Боклем („История Цивилизации в Англии“, перев. Буйницкого, СПб. 1895, стр. 27 и след.). Мечников (ор cit, стр. 257–258), высказываясь по этому вопросу в общем согласно с Боклем, с своей стороны очень уместно отмечает контраст между социальным состоянием Индии в Ведийскую эпоху и эпоху браманизма, „Контраст между идиллической анархией первобытной Ведийской эпохи,“ – пишет он, – „и ожесточённым деспотизмом кастического строя в браманический период индийской истории теснейшим образом соответствует различию географических условий, среди которых осуществились особенные фазы исторической эволюции Индии. Более древняя из этих фаз, – именно. – отмеченная характером идиллигической анархии, развилась на почве живописных и волшебно-плодородных долин Кашмира; вторая началась и протекла в стороне Madhya-desa (центральная часть Ганга-Индийской долины), огромной равнине, ограниченной с севера зачумлённой местностью „Тераи“, а на восток отделённой от бассейна Брамапутры и Бенгальского залива нездоровой, болотистой страной, где нераздельно царствует царица смерть...“ О культурных и социально-исторических условиях быта индийцев в эпоху возникновения браманизма ср. 1) Lefman, ор. cit.; 2) Deussen: allgemeine Geschichte der Philos., l-ег Bd., 1-te Abteilung, Ss 159–172; 3) Ленорман: руководство к древней истории Востока (тома 2-го выпуск 3-й – Индийцы), Киев, 1879.
Главным источником для документального ознакомления с историей развития Каст в Индии остаётся до сих пор замечательная монография Alfred'a Weber’a: Collectanea über die Kastenverhältnisse in den Brāhmaṇa und Sūtra (Indische Studien, X, 1–160). См. также собрание наиболее характерных текстов, касающихся происхождения Индийских каст у Muir’а: Original Sanskrit Texts on the origin and Progress of the religion and institutions of India. Part first, 1858 („The mythical and legendary accounts of caste“).
Cм. Lefmann, ор. cit., Ss. 412–415.
Paul Deussen, ор. cit, 1-ter B. 1-te Abteilung, S. 166: ... das Brahmanentum... eine Rolle im indischen Kulturleben zu spielen gewusst hat, neben der die des Papsthums im Mittelalter zahm und bescheiden erscheint...
Ibid, S. 171: Es lag in der Tendenz des Brahmanismus, das ganze Leben der Brāhmaṇa’s und womöglich aller Ärya’s zu einem solchen Açrama zu gestalten.
Генри Джордж, в своей популярной книге: „Прогресс и бедность“, перев. под ред. Шеллера (Михайлова), СПб., стр. 606–609, passim, пишет: „Когда приходится действовать совместно большим сборищам людей, личный выбор становится более трудным, более слепое повиновение становится необходимым и может быть вынужденным... Сохранение внутреннего порядка, отправление правосудия, постройка и уход за общественными зданиями и в особенности выполнение религиозных обрядов, всё стремится перейти в руки особых сословий, которые расположены преувеличивать свои функции и расширять свою власть... С ходом общественного развития стремится установиться неравенство... Этот главный факт делает понятным все явления окаменения и регресса... Общество, разделённое на класс, который управляет, и класс, которым управляют – на очень богатых и очень бедных – может воздвигать гигантские постройки и придавать своим произведениям законченность ювелирной работы, но это будут памятники беспощадной гордости, бесплодного тщеславия, или религии, уклонившейся от своего призвания возвысить человека в орудие его унижения. Изобретение может на время продолжаться в известной степени, но это будет изобретение произведений роскоши, а не изобретение, облегчающее труд и увеличивающее силу. В сени храмов, или в комнатах придворных врачей всё ещё можно искать знания; но его будут прятать, как тайну, или уже, если оно осмелится выступить, чтобы возвысить общественную мысль, или осветить обыденную жизнь, оно будет растоптано в качестве опасного новшества...“
С полнотой и обстоятельностью, не оставляющими желать бо́льшего, вопрос о составе и организации Вед разъяснён Дейсеном (Deussen) в целом ряду его, замечательных по отчётливости и точности, работ (к которым и отсылаем для ближайшего ознакомления с предметом), а именно: 1) Das System des Vedânta nach den Brahma-Sūtra’s des Bâdarâyana und dem Commentare des Çankara über dieselben als ein Compendium der Dogmatik des Brahmanismus vom Standpuncte des Çankara aus, Leipzig, 1883 (Ss. 1–47); 2) Die Sūtra’s des Vedânta oder die Çârîraka-Mîmânsâ des Bâdarâyana nebst dem vollständigen Commentare des Çankara, aus dem Sanskrit übersetzt, Leipzig, 1887 (Vorrede); 3) Allgemeine Geschichte der Philosophie mit besonderer Bérücksichtigung der Religionen: 1-ter B, 1-te Abt. – Leipz. 1894; 1-ter B., 2-te Abt. – Leipz., 1899; 4) Sechzig Upanishad"s des Veda aus dem Sanskrit übersetzt und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen, Leipzig, 1897 (Vorrede und Einleitung).
Наиболее заслуживают внимания два объяснения: 1) Upanishad, от Sad – сидеть, первоначально значит заседание, собрание и именно в интимном кружке (upa означает близость), а потом уже – цель и предмет, ради которых собираются, тайное учение о нём и т. д., подобно тому как лат. Collegium, тоже означающее собственно собрание, стало (в нем. университетах) обозначать и цель собрания, и предмет, которому оно посвящено („лекция“, „урок“ и „запись лекции“ студентами и т. д.) 2) Upanishad (первоначально тоже, что̀ Upâsanâ=почтение, благоговение) означает почтительное или благоговейное рассмотрение (изучение и т. д.) Брамы или Аммана. Первое объяснение есть объяснение традиционное. Второе недавно предложено Ольденбергом (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 50, 1896, S. 457 und folg.). Первое объяснение вероятнее, – уже по одному тому, что оно согласно с принятым в Индии (народным, – хотя Шанкара объяснял иначе) значением слова. Его же держится (вопреки Ольденбергу) и авторитетный Дейсен: Allgemeine Geschichte der Philosophie, 1-ter Bd., 2-te Abt., S. 11–16.
В трудах Дейсена, перечисленных нами выше, мы имеем, полный и незаменимый по обработке (повсюду индексы, синоптические таблицы и самые подробные конспекты, делающие пользование книгами, не смотря на их обширность, чрезвычайно удобным), компендиум для изучения философии браманизма: Упанишады и Веданты переведены им почти в полном составе, а из Браман и позднейших Вед (особенно Атарва-Веды), необходимых для изучения переходного периода от Ведийской религии к браманизму, сделаны в его Истории обширные извлечения, в которых приведено всё существенное и характерное для истории переходной индийской мысли (но не ритуала). После трудов Дейсена знаменитый в своё время перевод Упанишад, сделанный Максом Мюллером (Sasred Books of the East, voll. I и XV, 1879 и 1884 гг.), хотя и не потерял своей научной ценности, но несомненно в значительной мере утратит былую популярность, так как он несравненно менее удобен для пользования (вследствие отсутствия обозрений содержания, синоптических таблиц, индексов и проч., что̀, в таком обилии, имеется в трудах Дейсена).
Deussen: Allgemeine Geschichte der Philosophie, 1-er Bd. 1-te Abt., Ss. 181–239.
Ibid., 190.
Что концепция Праджапати держалась ещё существенно-мифологической почвы, это ясно видно уже и из того, каким языком говорят о нём Бра́маны: это всецело язык мифа, а не философской рефлексии, хотя последняя уже и пробивается через оболочку мифа. Чтобы дать понятие о языке этой своеобразной литературы, мы приведём здесь в переводе два отрывка – из двух разнохарактерных Бра́ман. – „У Праджапати явилось желание: „хочу разрастись и быть многократным (умножиться)“. И он разгорячил себя (через tapas). И после того, как он разгорячил себя (=погрузился в tapas), он сотворил эти миры: землю, воздушное пространство, небо. Над этими мирами распростёрся он, как наседка (букв.: стал высиживать их). Из них, после того как он распростёрся над ними, возникли три светила: Агни из земли, Вайю (ветер, представитель ясного воздушного пространства) из воздуха, Адитью – из неба. Тогда он распростёрся и над этими светилами (стал высиживать их) и из них, после этого, возникли три Веды: Виг-Веда из Агни, Яджур-Веда из Вайю, Сама-Веда – из Адитьи. Он распростёрся над этими Ведами (стал их высиживать) и в них, после этого, возникли три ясности: bhûr из Риг-Веды, bhuvar из Яджур-Веды, svar из Сама-Веды. Он распростёрся над этими ясностями (или: све́тами) и после этого, из них возникли три буквы, именно: а, и, т. Он сочетал их воедино и образовалось слово: От. По сему и бормочет (summt – жужжит) брамин: От! От! Ибо От есть небесный мир. От есть тот, кто горит и светит там (солнце). Тогда уготовал Праджапати жертву, взял её и вознёс. С Риг-Ведой совершил он служение hatar’a, с Яджур-Ведой – служение adhvaryu с Самаведой – udyâtar’a. И что в этой троякой науке есть ясного (из той ясности, какая есть в них), – из этого он сделал служение Брама̀на (то есть главного брамина)“ и т. д. Aitareya-brâkmanam 5, 32 – у Дейсена, стр. 183. – Кроме интересного объяснения происхождения таинственного слога От, приведённый отрывок характерен ещё в том отношении, что он показывает, как настойчиво брамины возводили свои ритуальные функции, в их четырёх основных различиях, к самому верховному Божеству. Другой отрывок, который мы сейчас приводим, также мифологичен по своему характеру, но в истории „создания“ мира представляет значительное отступление от приведённой (господствующей) редакции этого сказания. „Праджапати“. – читаем мы в Çatapatha-brâhmanam 7, 5, 2, 6 у Дейсена, 189, – „был этот мир в начале, только один. В нём явилось желание: „создам пищу, разрастусь (умножусь)“. Тогда создал он из дыхания своей жизни животных, именно: из manas (решение, размышление, рассудок, голова) – человека, из глаза – лошадь, из дыхания – корову, из уха – овцу, из речи – козу. И так как он создал их из дыханий жизни, то и говорят: животные суть существа одушевлённые (дыхания жизни, дышащие жизии=Lebenshauche). Manas есть первое из дыханий жизни“ и т. д. – В этих отрывках, как и повсюду в Бра́манах, мы видим борьбу едва зародившейся рефлексии с хаосом мифологической о́бразности. И вот на такой-то именно почве и взросла концепция Праджапати, которую мы рассматриваем, как первую, слишком ещё неудачную, попытку подняться над мифологическим миросозерцанием к философскому пониманию Единого.
Ср. характерное извлечение из Çatapatha-brâhmanam (6, 1, 1) у Deussen’a ibid, 199.
Ibid., 208–209.
Ср. Eduard von Hartmann: Das religiöse Bewusstsein der Menschheit, Berlin, 1882, s. 275. – Darum gebe ich ja, – так рассуждает Гартман, становясь на точку зрения индийца эпохи возникновения браманизма, – Surya, Indra und Agni als Götter auf, weil in ihnen der eigentliche Gott sich nicht als Gott in seinem höchsten und eigentlichsten Sinne, sondern als Nichtgott offenbart etc.
У индологов ведётся спор о том, развивались-ли концепции Аммана и Брамы параллельно (как думает Ольденберг), или одна развилась из другой (как думает Дейсен, ibid., 282–5, признающий, что именно Атман развился из Брамы). Но так как бесспорных текстуальных данных для решения этого вопроса в том или другом смысле нет, а с отвлечённо-философской точки зрения (ср. Hartmann, ор. cit., 276–7) вероятнее, что Брама, как субъективное истолкование объективно-космического (очевидно, уже существовавшего) Атмана, определился позднее, – то мы изменяем, в этом пункте, порядок изложения Дейсена (который истории Брамы предпосылает историю Атмана). Впрочем, это изменение порядка не влечёт за собой изменения существа, ибо и у Дейсена Атман толкуется как объективно-космический принцип, а Браман – как субъективное откровение Божества.
От an = дышать; at = идти, av = vâ = дуть, веять и т. д. Дейсен (ibid., 285 und folg.) находит в слове atman оригинальное (и даже исключительное) сочетание двух местоименных корней: a+ta=это я = самость. Во всяком случае, как справедливо пишет Гартман (ор. cit., 276), im Sanscrit das Wort Atma oder Atman verliert die Bedeutung von Athem, Hauch, Seele oder Geist viel früher als etwa das Wort πνεῦμα im Griechischen und geht in die Bedeutung von Selbst, αὐτός, ipse über; aber es geht auch weit über die Bedeutung des Pronomen reflexivum hinaus, und schwingt sich zur Bezeichnung der höchsten metaphysischen Abstraktion empor welche wir nur durch die Worte Wesen oder Absolutes wiedergeben können. Mit dieser Abstraktion ist das Atma doch zunächst nur negativ bestimmt als Nicht-Ich und Nicht-du und Nichtdieses.
Deussen, ор. cit., 287.
Подобно понятиям позднейшей философии: substantia, Ding-an-sich etc.
Deussen, ibid., 293.
Braman (существит. отвлечённое, от barh-farcire – напрягаться, вздыматься) озн. напряжение или подъём духа, характеризующий молитву, отсюда – молитва. Следует строго различать бра́ман (сущ. среди, р.) от брама́н (сущ. муж. рода): бра́ман, как сказано значит молитва, и потом, позднее, открытая молитвенному духу Веда (вообще Веды – откровение): брама́н же значит, во-первых, брамин (священнослужитель, жрец, как преимущественный совершитель бра́мана и провозвестник Вед), а потом (позднее) Брама́н – Брама – открывающееся молитвенному духу верховное Божество. Ср. Барт, ор, cit., 96.
Риг-Веда, 1, 164, 45. см. у Дейсена, ор. eit., Ss. 118 и 243.
Deusgen, ор. cit., 258–9.
Ibid, 257.
Çatapatha-brâhmanam 13, 7, 1, 1, см. у Дейсеиа, ibid., 261.
Deussen, ibid., 261–262.
Çatapatha-brâhmanam 11, 2, 3, у Дейсена, 259.
Deussen, ibid., 265–270.
Deussen, ibid., 264.
Deussen, ibid., 278.
См. Богосл. Вестн., Апрель, 1901, стр. 640–664.
Frid. Bouterwek: Geschichte d. Poesie und Beredsamkeit. B. II, 242 p.
Leop. Ranke. Zur Geschichte der italienischen Poesie, 66 p.
См. Е. Ruth: Geschichte d. italienischen Poesie. B. II, 412–415 p.
Leop. Ranke: Zur Geschichte d. italienischen Poesie. 69 p.
Торквато Тассо: „Освобождённый Иерусалим“, XI п. Перевод С.А. Раича. М. 1828 г.
Станс (муж. род; устар. станц, станса; мн. ч. стансы; станцы; фр. stance от итал. stanza, комната) – стихотворная строфа с законченным содержанием. – прим. эл. ред.
См. Leop. Ranke: Zur Geschichte d. italienischen Poesie 73 p.
Публичное богословское чтение, состоявшееся 5-го марта сего 1901 года в зале Синодального училища, в Москве на Никитской.
При изложении философии Ницше, автор имел под руками следующие сочинения: из произведений Ницше в русском переводе: 1) „Так говорил Заратустра“, перевод Арс. Введенского и Васильева. Москва 1900 г.; 2) „По ту сторону добра и зла“ перев. под редакцией А. Н. Е-ва. Москва 1900 г.; 3) „Помрачение кумиров“, изд. Ефимова. Москва 1900 г. – За неимением под руками прочих сочинений Ницше, автор пользовался выдержками из них на основании следующих статей: В. П. Преображенского, Фридрих Ницше. Критика морали альтруизма. Вопросы философии и психологии 1892 г. кн. 15. Людвига Штейна, Фридрих Ницше и его философия. Критико-биографический очерк. Перев. с немецкого Бердаева. Мир Божий 1898 г. №№ 9–11. Н. К. Михайловского, Литературные воспоминания и современная смута т. II. СПб. 1900 г.
Эта скоропалительная экскурсия в область первобытной истории человечества и разрешение вопросов о происхождении нравственных понятий одним взмахом пера, когда над исследованием их трудятся многие серьёзные учёные, есть плод фантазии и, по выражению некоторых отечественных критиков Ницше, представляет собой скорее ,,социологический роман“, чем что-либо научное. В самом деле, если мы возьмём эпоху доисторических времён, то мы должны признать, что, несмотря на совокупные усилия многих даровитых учёных, свет на эту эпоху не на столько разлит, чтобы тут можно было сказать много определённого и положительного: возможны разного рода гипотезы, догадки, которые однако же не дают учёному права утверждать что-нибудь со всей несомненностью. Что же касается времён исторических, то нужно признать, что настоящее состояние человечества, несмотря на всякого рода язвы, которые гноятся в его семейной, общественной и государственной жизни, сравнительно с давнопрошедшими временами, вовсе не находится в таком безнадёжном состоянии, как это думает Ницше, и желать возвращения человека в его первобытное состояние мы не имеем никакого основания, – не говоря уже об умственном и нравственном росте человечества, благодаря которому эпохи древних времён не могут выдержать никакого сравнения с современным его состоянием. Правда зверь в человеке далеко ещё не укрощён вполне и в отдельных случаях, – то здесь, то там, – проявляет свою разрушительную деятельность; но одно уже то, что эта последняя не встречает общего восторга и одобрения, – напротив в лучших представителях человечества возбуждает к себе отвращение и стыд за достоинство человеческой природы; равно как и то, что нынешние звероподобные люди уже боятся общественного сурового приговора и стараются всячески прикрыть и замаскировать свою неприглядную натуру, – всё это говорит за то, что в силу нравственного прогресса, человечество не может попятится назад, что оно хотя медленно, но неуклонно движется вперёд. Рекомендовать попятное возвращение к первобытному состоянию, – это такой абсурд, который не находит себе никакого оправдания ни в теории, ни в практике. Сам Ницше это понимает очень хорошо. „На ухо консерваторам он говорит, что ещё и теперь существуют партии, для которых самым желательным было бы, чтобы все по-рачьи пятились назад. Но никто не может сделаться раком! Против этого ничего не поделаешь! – нужно идти вперёд!.. можно это движение приостановить и этим самым препятствием запрудить, скопить вырождение, обострить, ускорить его... Ничего другого сделать нельзя“ (Помрач. Кум. 114–115). Белокурая бестия Ницше есть миф. С тех пор как занялась заря исторической жизни, мы видим не бестию, а человека, хотя и сохранившего в себе много звериного. – Даже в физиологическом отношении, которое в настоящее время особенно подлежит разного рода сомнениям, человек, по заключению таких учёных, как напр. Спенсер, не вырождается, но прогрессирует, несмотря на то, что в прежнее время для поддержания расы в цветущем состоянии не щадили ни хилых детей, ни страдающих разными болезнями стариков, тогда как ныне те и другие составляют предмет особенных забот и попечений со стороны общества. В самом деле, разве нынешние дикари, напр. зулусы, готтентоты, лопари и др., не тронутые ещё современной цивилизацией, представляющие собой сохранившиеся остатки первобытных типов человечества, в отношении совершенства физической организации могут выдержать сравнение, с представителями цивилизованных рас? Вопреки господствующему в наше время мнению, будто в нашей расе замечается уменьшение человеческих размеров и силы, указанный учёный заявляет, что в действительности вообще наблюдается увеличение, чему доказательством являются кости, мумии, латы и наблюдения путешественников, близко соприкасавшихся с первобытными обитателями (М. Б. № 11 стр. 66).
Из лекций по пастырскому богословию Сергия Митрополита Московского.
Продолжение. См. Богосл. Вестник, Июнь стр. 311–348.
Против Хиоса, на твёрдой земле, находится город Чесма, где был при Екатерине Великой сожжён Русскими турецкий флот, а часах в 2-х пути от Чесмы находятся развалины знаменитого некогда города Ефеса, прославленного проповедью Ап. Павла, а также и пребыванием в нём Св. Иоанна Богослова, который провёл здесь последние дни своей жизни.
Против Родоса на берегах Анатолии находится город Патар, месторождение Св. Николая Чудотворца.
Правда, это печальное недоразумение старался потом выяснить заведующий школами, явившийся вечером на пароход представиться Преосвященному, но факт остался фактом: мы лишены были удовольствия посетить школы, не смотря на настоятельные приглашения учащих и детей школ, мимо которых мы проходили. Это – один из прискорбных инцидентов нашего путешествия...
Родился он в 1859 году, в одном из сёл Ливана, от благочестивых родителей; учился сначала дома в начальной школе, а затем – в Бейрутской Трёх-Святительской школе. В 1879 году он был посвящён в сан иеродиакона, а в 1880 году в сан иеромонаха и сделался одним из усерднейших помощников и сотрудников митрополита Бейрутского Гавриила, который ему покровительствовал. Своей неутомимой плодотворной деятельностью, благородством характера и примерною христианскою жизнью он стяжал себе общее уважение, так что, не смотря на молодость его, он уже в 1884 году был избран на кафедру Алеппского митрополита, от которой, впрочем, отказался, не желая расстаться с своим покровителем, митрополитом, тяжко болевшим в то время. Но в 1890-м году антиохийский собор епископов вторично избрал его уже на Триполийскую кафедру, которую он и принял по настойчивому убеждению самого митрополита Гавриила.
Тут, как и в Триполи, кафедральный собор во имя Великомученика Георгия Победоносца. Достойно замечания, что на Востоке широко распространено почитание св. Великомученика Георгия; там он так чтится, как у нас святитель Николай Чудотворец. В Бейруте же – особенные основания для прославления Святого. В версте от Бейрута находится то место, где св. Георгий, явившись царской дочери, выведенной на съедение змею, избавил её от смерти, поразив змея копьём. Там, где совершилось это чудесное избавление царской дочери, теперь магометанская мечеть, обсаженная лимонными деревьями. В мечети показывают круглый камень, на котором будто бы отдыхал после своей победы св. Георгий. Здесь находится и источник, изведённый, по преданию, св. Георгием, почувствовавшим жажду после поражения змея.
Теперь Преосвященный Гавриил мирно почил о Господе 7-го января, сего 1901 года. Царствие небесное ему!
Так, кроме университета, иезуиты имеют пять школ исключительно для беднейшего населения, капуцины – одну школу, католики – греки – три школы, другие общества тоже по нескольку школ, так что в общем католических школ для детей бедняков насчитывается пятнадцать, не считая школ при женских монашеских общинах.
Абурус – отец, почётнейшее лицо в Бейруте, скончался за неделю до приезда своего сына, которого с нетерпением ожидал, но не дождался, и сын ничего не знал о смерти своего отца до самого последнего момента.
Путеш. по Святой Земле. Стр. 5.
Земля, где жил Иисус Христос (162 стр.).
На Яффской дороге существуют только 2 класса: 1 и 2-й. Вагоны – маленькие, тесные, как у нас – на узкоколейных дорогах.
Марко – Иерусалимский старожил. Уже десятки лет прошли с тех пор, как он оставил родину – Черногорию и живёт в Иерусалиме, всюду сопутствуя паломникам в своём оригинальном, национальном костюме с хаджаром (хаджар – нечто среднее между кинжалом и шашкой). Марко говорит на шести языках, если и неосновательно, то по крайней мере настолько, что может быть полезен паломникам всех национальностей. Русских любит, как и все Черногорцы, всей душой.
По пути Преосвященный с профессорами зашли с визитом к г. консулу Яковлеву, но не имели удовольствия застать его дома.
Патриарх Дамиан – родом из Самоса; в молодости прибыл в Иерусалим, где и закончил своё образование. Вступив затем в Святогробское братство и зарекомендовав себя честным и просвещённым исполнением лежавших на нём обязанностей, Дамиан при патр. Иерофее I был послан в качестве епитропа св. Гроба в Грузию, где с ревностью и честью служил несколько лет в пользу Святогробского братства. Потом, при патр. Никодиме I, он был определён епитропом Гроба Господня в Константинополе и здесь приобрёл общее расположение и уважение. Отозванный однако через два года патр. Никодимом в Иерусалим, он долгое время находился на покое. При патр. Герасиме I, Дамиан сделался деятельным членом Святогробского братства, потом был возведён в сан митр. Филадельфии и назначен наместником Иерусалимского Патриарха в монастыре Вифлеемском, После смерти патриарха Герасима, († 1897 г.) 10-го июня того же года был призван на престол Иакова, брата Господня, митр. Дамиан. В бытность свою митрополитом Филадельфийским, он был на коронационных торжествах 1896 года в Москве, в качестве представителя патр. Герасима. Патриарху Дамиану теперь около 50 лет.
Окончание. См. Богосл. Вестн., май, стр. 144–162.
Голечек. Na Сегпоѵ Horu. Praha 1899, стр. 20.
Jan V. Lego. Slov. Prehl. 1899 г. стр. 110–111.
Корресп. в Slav. Prehl.
Составлено на основании сведений И. Голечка в его книге „Na Сегпоѵ Horu“.
Составлено по корреспонденциям журнала „Slovansky Prehled“.
Составлено по корреспонденциям в Siovansky Prehled.
Стефан Павлович. Србски народни собор. У Новом саду, 1870 г. стр. I–2.
Исторические сведения о хорвато-сербах составлены по книге И. Голечка „Na Cernou Horu“ и корреспонденциям журнала „Sl. prehl“.
Она была издана даже на русском языке З. Ф. Леонтьевским, но только в первой своей части.
Более подробные сведения по истории этой несторианской церкви см. А. Спасского. „Сиро-халдейские несториане“, Богосл. Вестн. 1898. Май, 202–243.
При изложении статьи г. Слуцкого мы будем делать некоторые поправки и дополнения, руководясь исследованием об этой надписи Asseman'a в его „Biblioth. Orient.“, III, 2, 538–552.
У Ассемана оно передаётся так: „памятник, воздвигнутый в похвалу и память закона света и истины, принесенного, из Та-цина (Сирии) и возвещённого в Шине (Китае)“.
Elohim.
Второй император 13-й фамилии Тань, царствовавший в 627–650 г.
Слуцкий предполагает: не Альбин ли? Но латинское имя едва-ли могло встретиться у жителя Сирии. Ассеман предполагает, что Alo-pen есть искажение сирского Iab-allaha-богоданный (Феодор, Богдан).
636 г. по Р. X.
Надпись цитирует: „Описание западных стран“ и историков Хан’ов и Вей'ев.
У Assem. сан блюстителя великого закона управляющего (т. е. закона) царством.
У Assem. „провинциям“.
У Assem. „все“.
У Assem. „privati homines“ т. е. „низшие, невежественные люди“.
У Ассем. „восстановлял“.
Эстампа́ж – техника оттискивания рельефных изображений на бумагу, а также собственно оттиск, полученный наложением бумаги или ткани на рельефную поверхность, покрытую каким-либо красящим веществом. – прим. эл. ред.
См. выше, стр. 159.
Вероятно, имеются в виду горячие и резкие прения на съезде по поводу разных рефератов. См. статью: „Археологический съезд в Москве“. Современная Летопись. Воскресные Прибавления к „Московским Ведомостям“ 1869 г. № 12, 30-го марта, стр. 1–3.
Беседы в кафедральном соборе в последние дни великого поста 1868 г. Из „Смоленских Епарх. Ведомостей“ 1869 г.
Состоявшего в то время в распоряжении Виленского Генерал-Губернатора.
Аркадий Федоров, см. о нём т. I и II Хроники по указателям.
Митр. Иннокентий.
Имеется в виду статья: О предположении учредить в Москве „Братство для содействия ослаблению раскола и воссоединению раскольников с православною церковью“. Современная Летопись. Воскресные Приб., к „Моск. Вед.“ № 14 и 15.
Не раз выше упоминаемый.
Архим. Сергий Спасский, ныне архиеп. Владимирский.
Выше упоминаемый.
Николая Васильевича, ныне протоиерея, настоятеля Верхоспасского придворного собора в Москве.
Свящ. Ал. Мих. Добрадина, ныне Анастасия, еп. Воронежского.
Ср. выше, стр. 109 и прим. 3.
Ср. выше, стр. 199.
Григорий Петрович, см. о нём тома I и II Хроники по указателям.
Орлинкова, ректора Костромской семинарии, см. о нём т. II Хроники, стр. 575, прим. 2.
Вышли в Киеве, в 1869 г.
Амфитеатрова, не раз выше упоминаемого.
Сокращённый календарь на тысячу лет (900–1900) для поверки годов в летописи. СПб. 1868.
Не раз выше упоминаемый.
О Вербиловском монастыре ср. т. III. Хроники, стр. 485–491.
См. о нём т. II и III Хроники по указателям.
Ф. Гр., см. о нём т. III Хроники по указателю.
Толстой, обер-прокурор Св. Синода и в то же время министр народного Просвещения.
Толстой, см. о нём т. III Хроники, стр. 803–805.
Архим. Михаил Лузин, не раз выше упоминаемый.
Местечко Гродненской губ. и уезда, известное минеральными водами.
Впрочем, этот приём Царских Особ сопровождался для Преосвященного Леонида не весьма благоприятными последствиями. Он вздумал встретить Императрицу во вратах своей обители речью, которая под палящими лучами июльского солнца оказалась очень неуместной. Императрица жаловалась Государю, а Государь через Товарища Обер-Прокурора Св. Синода (Ю. В. Толстого) сделал замечание оратору. Об этом я слышал в марте 1870 г. из уст Н. А. Сергиевского.
См. о ней выше, стр. 6 и прим. 3. а также том III Хроники, стр. 787 и прим. 1.
Александра Александровича, в Бозе почившего Государя Императора.
Ныне здравствующей Государыней Императрицей Марией Феодоровной.
Ср. выше, стр. 9 и прим. 2.
Булгаков, не раз выше упоминаемый.
Еп. Можайский, не раз выше упоминаемый.
Туда приглашал преосвящ. Игнатия преосвящ. Исидор митр. Новгородский письмом от 2-го июля (1869 г,).
Платон Городецкий, см. о нём т. II и III Хроники по указателям.
Не раз выше упоминаемого.
Как здесь, так и ниже, имеется ввиду Высочайше утверждённое 16 апреля 1869 г. Положение о составе приходов и церковных причтов. См. его в „Полном Собрании Законов Рос. Империи“, собрание 2-е, том XLIV, отделение 1-е, 1869, № 46974, стр. 321–325, СПб. 1873, и в „Извлечении из отчёта Обер-Прокурора Св. Синода“ за 1869 г., СПб. 1870, стр. 219–240.
Ржаницын, архиеп. Рязанский, см. о нём предшествующие тома Хроники по указателям.
Спасский, ныне архиеп. Владимирский.
См. о нём выше, стр. 199, прим. 4.
См. о нём т. I Хроники по указателю.
См. о нём т. III Хроники по указателю.
Протоиерея А.В. Горского.
Митр. Михаил, выше упоминаемый.
Архиеп. Макария, ср. выше, стр. 220–221.
Начальнице училища.
† 14 апреля 1886 г.
Ср. выше, стр. 223.
См. выше, стр. 92 и прим. 2.
История царствования Императора Александра I и России в его время. Тома I–VI. СПб. 1869–187).
Три тома. Москва. 1883–1843.
Игуменья Владычнего монастыря, ср. о ней т. III Хроники, стр. 273.
Митр. Иннокентий.
Митрополит Михаил, выше упоминаемый. О его пребывании в Москве в 1869 г. см. Московские Епархиальные Ведомости 1869 г., № 41, стр. 5–6, и № 42, стр. 10–11.
Устройство Сербской церкви примечательно и достойно подражания во многом, ибо очень близко к древним образцам и канонам. (Примечание преосв. Леонида).
Ср. о нём т. III. Хроники, стр. 359.
1000 руб. на улучшение содержания воспитанников Семинарии и 120 шерстяных одеял на сумму 400 руб.
Не раз выше упоминаемый.
Не раз выше упоминаемого.
Панфил Данилович, профессор философии в Московском Университете, † 4 октября 1874 г.
Вениаминов, см. о нём выше, стр. 67 и прим. 4.
От власти Виленского генерал-губернатора.
Ср. выше, стр. 115 и прим. 1.
От власти Виленского генерал-губернатора, см. выше, стр. 235–236.
Димитрию Феодоровичу, профессору Академии, ныне протоиерею церкви Свят. Николая в Толмачах и редактору журнала „Душеполезное Чтение“. Статья его, под заглавием: „Должна ли оставаться Московская Духовная Академия и на будущее время в Сергиевском посаде?“ была помещена в „Современной Летописи“ (Воскресные Прибавления к Московским Ведомостям), № 37, (5-го октября 1869 г.), стр. 7–11.
Имеется в виду статья: „О переводе Московской Духовной Академии из Сергиевой Лавры в Москву“. Московские Епархиальные Ведомости 1869 г., № 46, стр. 10–12. Статья эта принадлежит П. С. Казанскому, см. ниже.
См. о нём выше, а также том III Хроники по указателю.
Ср. т. III Хроники, стр. 621.
См. о нём выше, стр. 166, прим. 2.
Прот. Н. В. Благоразумова.
Место Токарева в Витебске занял гр. Ростовцев, ср. выше, стр. 139 и прим. 1.
т. е. от Петра Симоновича Казанского, профессора Академии, близко знакомого с семейством Давыдовых, из которого происходила жена бывшего Витебского Губернатора Токарева Вера Дмитриевна.
См. о нём т. III Хроники по указателю.
Имеется в виду Описание славянских рукописей Московской Синодальной Библиотеки. Отдел третий, Книги богослужебные. (Часть первая). Москва. 1869.
Ср. выше, стр. 231.
Рыбальского, см. о нём т. I и II Хроники по указателям.
Новоселова, бывшего епископом Томским лишь один год и 21 августа 1868 г. переведённого в Екатеринослав, см. о нём т. II и III Хроники по указателям.
Ростовцевым, см. выше, стр. 139 и прим. 1.
Православная вера. Книга для религиозно-нравственного чтения. В трёх частях. Издание Общества распространения полезных книг. Москва. 1868.
Соловьева, см. о нём предшествующие тома Хроники по указателям.
См. о ней т. III Хроники, стр. 276 и прим. 2. † 1 января 1878 г. Московские Ведомости 1878 г. № 62.
Ср. т. III Хроники, стр. 276–278 и 291.
См. о нём предшествующие тома Хроники по указателям.
СПб. 1869.
См т. II Хроники, стр. 628–631.
Убитых более 6-ти, и много раненых.
См. о нём т. II и III Хроники по указателям.
Филаретову, † еп. Рижским 23 февраля 1882 г.
Ср. т. III Хроники, стр. 272.
Иосиф Васильевич, см. о нём т. II и III Хроники по указателям.
Подробнее о сём в „Сборнике, изданном по случаю столетия Вифанской Духовной Семинарии. (1800–1900 г. г.) Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1900. Стр. 37–39.
Платонову, Н. П., основателю газеты „Современные Известия“, см. о нём предшествующие тома Хроники по указателям.
Архим. Сергия, ныне Архиепископа Владимирского.
Ср. выше, стр. 249, прим. 2.
Губернаторе Ростовцеве, не раз выше упоминаемом.
Иакову, не раз выше упоминаемому.
Московским купцом.
Выше упоминаемого.
Николай Яковлевич, Бакалавр математических наук с ноября 1864 года; ныне протоиерей, законоучитель в 3-м кадетском корпусе, в Москве.
Прот. А.В. Горский.
Содержание слова из текста: „Дому Твоему подобает Святыня, Господи, в долготу дний“ (Пс.92:6) см. в Душеп. Чтении, 1870 г., ч. I, стр. 93–94 „Известий и заметок“ и в выше упоминаемой (стр. 191, прим. 1) статье проф. И. Н. Корсунского, стр. 16–17.
Кроткову, не раз выше упоминаемому.
Антоний Павлинский, см. о нем т. II и III Хроники по указателям.
Прусский, не раз выше упоминаемый.
См. выше, стр. 155 и прим. 3.
О. Иоанну Григорьевичу, ныне протоиерею Московской Сергиевской, в Рогожской слободе, церкви.
См. о нем выше, стр. 194–195 и 197.
Под словом церковные нужно разуметь православных христиан.
См. Всеподданнейшую Докладную Записку Обер-Прокурора Св. Синода о деятельности Православного Дух. Ведомства с июля 1855 г. по январь 1866 г., стр. 21., СПб. 1866 г.
Выше упоминаемый.
Выше упомииаемой.
Герод. История, I, 105; II. 106; III, 55; VII, 89.
Первые следы упоминания Иудеев у Клеарха (пр. Апп. I, 22), Гекатея (id), Феофраста и Мегасфена (у Евсевия, praer. ev. IX, 2).
Любопытнейший образчик невежества, до упрёков в поклонении ослу включительно. Тацит. Ист. V.
Dio Cass. XXXVII, § 171.
Едва ли не впервые упоминание Греков находим у пр. Иоиля, Иоил.3:6 – где говорится, что финикияне своих пленников „сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов“.
Да и то пока лишь с ближайшими соседями – Финикиянами.
Главным образом (после Пятокнижия и след.) книги Царств, Паралип., Ездры с Неем., Маккав., прор. и др.
Употребление этих книг для исследователя Ветхозаветной истории не несущественно затрудняется тем, что в настоящем своём виде они иногда представляют из себя уже не непосредственные записи самих очевидцев событий, но продукт своего рода учёной историографии, причём требуется доказывать не только более или менее дословное пользование письменными первоисточниками, но и то, насколько таковыми первоисточниками служили действительно свидетельства очевидцев (Köhler, Lehrbuch der Biblisch. Gesch. Alt. Test, 1/1, стр. 5 и д.). Здесь, по нашему мнению, одно из главных оправданий необходимости исторической критики при пользовании историческими книгами, которая должна направляться к определению их происхождения, большей или меньшей современности, степени тенденциозности и вообще исторического достоинства и к выяснению естественных и др. разногласий и противоречий. Само собой разумеется только, что лишь при полном беспристрастии, при полном же отсутствии произвола и недоказуемых точно утверждений, критика эта может иметь оправдание и цену; в противном случае она будет грехом не просто против истины, но священной истины, и против законнейших прав самого исследователя, печальных примеров чего даёт такое обилие западная самоуверенно-рационалистическая критика.
Сравн. о том же „Ездру“ с „Неемией“.
Кн. Неемии, по мнению позднейших её критиков, была гораздо полнее; особенного сожаления достойно то, что мы не имеем более её окончания.
Во всяком случае писана во время Маккавеев, вероятно, по смерти Симова, 135 г. до Хр.
Должна быть написана в начале последнего столетия до Хр., – события повествуются до 124 г. до Хр.
Lengerke. Kenaan, 350, 431. В виду отрывочности этих указаний, мы лишены возможности дать понятие об их значении отдельными образчиками, см. канд. сочинение. Об остальных светских авторах будет речь при отчёте в изучении Иосифа.
Умыслом в данном случае могло быть просто одно только „подражание“.
Арх. XV, 6, 3.
В дополнение материалу, взятому Иосифом из Страбона и Николая Д., служили несколько легендарных повествований, из ходячего устного предания, и для истории Ирода также „собственные Иродовы записки“, впрочем, последние едва ли не через Николая Д.
Вебер, Всеобщ. Истор. IV, 76 стр. – 140 книг, а не 80; Атеней (у Müllerus'a) – 144 книги. Ошибка Suidas’a очевидна (Νιϰόλαος).
Арх. XII, 3. 2; срв. XVI, 2, 2–5.
Арх. VII, 5, 2.
ϰατὰ Ἀπιῶν. II. 7.
X, 1, 75.
ϰατὰ Ἀπ. II, 7.
Арх. ХIII. 11, 3.
Арх. ХIII, 12, 5.
По мнению Вебера (92 г. IV, 361) автор этот был ритор, живший в первые десятилетия нашей эры. По Шлоссеру (69 г. II, 153) он жил во время Веспасиана.
т. е. отечественной библейско-исторической литературы.
Как ни странно сказать, но нельзя и смолчать: с раввинистической литературой Schüler плохо знаком, и в этой области уступает своё значение другим.
