II. Библейская картина мира в Септуагинте
1. Теология
1.1. Сущий и творение из ничего
Понятие о Сущем (ὁ ὤν) и представление о творении мира из ничего (ἐξ οὐκ ὄντων) связаны между собой как онтологической тематикой, так и тем, что они оба впервые появляются в каноне Септуагинты. Мы предполагаем, что связаны они и логически. Рассмотрим их происхождение, значение и отношение к эллинизму, а также следующие вопросы: есть ли между ними логическая связь, или она мнима; как они соотносятся с другими именами Бога в греческом тексте Ветхого Завета; какие следствия для постановки дальнейших вопросов из них производятся.
а) Имя Ο ΩΝ
Словом ὁ ὤν переведена в книге Исход глагольная форма היהא, со значением «буду» или «есмь»656. По контексту этот перевод представляет собой интерпретацию откровения Бога о Его собственном имени, данного Моисею на горе Хорив при горевшем и не сгоравшем терновом кусте. Процитируем весь фрагмент по Синодальному тексту, который следует в этом случае переводу Семидесяти:
И сказал Моисей Богу, вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (ἐγώ εἰμι ὁ ὤν). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род (Исх 3:13–15).
Мнения древних переводчиков относительного того, как лучше передать откровение Бога о Своем имени היהא רשא היהא, разделились. В Пешитте просто сохранена еврейская форма, переданная сирийскими буквами.
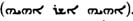
Блж. Иероним переводит: Ego sum qui sum {Я есмь, кто есмь}. Акила и Феодотион согласно друг с другом передали буквальный смысл в залоге будущего времени: ἔσομαι ὡς ἔσομαι {буду, кем буду}.
Септуагинта изначально не стремится здесь к дословному переводу и предлагает интерпретацию. То, что ее версия сознательно интерпретативна, видно из передачи одной и той же глагольной формы в пределах короткой фразы двумя принципиально разными способами: ἐγώ εἰμι и ὁ ὤν. Немецкий исследователь первой половины XIX в. А. Дэне, сделавший значительный вклад в изучение философии александрийского иудаизма, считал ὁ ὤν полноценным именем, которое в перспективе дальнейшего развития данной традиции мысли «выражает познаваемое человеком в Боге – а именно, то, что Он есть, но без объяснения того, чтó Он есть»657. Это верно, если за основу истолкования имени взять учение Филона Иудея, который писал о Боге в связи с сотворением мира, «что Он один есть Сущий по существу (ὁ ὤν ὄντως) и что Он сотворил мир и сотворил его единым... по единственности уподобив Себе» (Сотворен. 172)658. Филон эксплицирует признак «существования по существу», который, как будет видно, действительно содержится в библейском имени Бога, и противопоставляет его всякой множественности, на этом основании выдвигая важный для всего дальнейшего развития теологии тезис о единстве и единственности мира659. В другом трактате философ определяет Бога как «Сущее» (τὸ ὄν) и подчеркивает, что Сущее не имеет «лица», поскольку оно находится повсюду: так начинается толкование слов «И пошел Каин от лица Господня» (Быт 4:16). Сущее, по Филону, ни в чем не нуждается и не имеет никаких отдельных частей или органов (Потомств. I. 1:4). Отсюда делается вывод: «Бог, в отношении того, как Он существует, непостижим для всех» (Там же. V. 15)660.
Септуагинта является источником этих размышлений Филона, однако не случайно в ней отдано предпочтение имени ὁ ὤν перед понятием τὸ ὄν, которое Филон использует значительно чаще первого. «Сущий» становится здесь именем по той самой причине, по которой александрийский философ избегает его употребления: из-за своей аномальности для греческого языка, где причастие ὤν, как правило, требует определения: «будучи» или «бывши» – кем, чем? Если аналогичная форма среднего рода τὸ ὄν была превращена в философское понятие в классический период661, то явно указывающей на Божественное лицо, а не на сущность форме мужского рода предстояло стать понятием богословским: и самое существенное, что вносит Септуагинта в историю европейской мысли о Боге, заключается именно в том, что существовать в качестве чистого субъекта, ὁ ὤν, – это и значит существовать вообще, преимущественно перед всяким иным существованием. Бог, мыслимый без всяких предикатов как сы́й, может быть мыслим после этого с любыми предикатами, поскольку существование оказывается Его собственным свойством и уже от Него уделяется всем сущим.
Отсюда понятна приемлемость для ортодоксального иудея, каким был переводчик Премудрости Сираха, столь необычноговыражения о библейском Боге: τὸ πᾶν ἐστιν αὐτóς {Он есть всё} (Сир 43:29)662. Этому «пантеистическому» изречению предшествует описание различных величественных явлений природы, субъектом которых оказывается Бог. Автор суммирует свой обзор словами: «Чрез Него все успешно достигает своего назначения, и все держится словом Его» (ст. 28). Далее, однако, устанавливается различие между описанием дел Бога и познанием Его Самого: «Многое можем мы сказать, и, однако же, не постигнем Его» (ст. 29). Именно поэтому высказывание «Он есть всё» представляет собой «скончание слов» (συντέλεια λóγων), т.е. их истощение, прекращение, а также сумму всего сказанного перед этим; таким образом, подразумевается, что Бог есть все только в силу того, что ни одна вещь, ни все они в совокупности не только не суть Бог, но даже нимало не приближаются к этому.
Дочерние традиции перевода Библии поддерживают Септуагинту в ее онтологическом истолковании Божественного имени, называя Господа в Исх 3:14 «Существующим» (Boh), «Богом, что существует» (Арм), «Тем Кто есть» (Eth), «Сущим» (Слав)663. Все эти имена производны от глаголов со значением «быть». Можно утверждать, что греческий библейский текст вызвал к жизни в различных христианских культурах новое понятие, незнакомое философии прошлого и ключевое для философского теизма, – понятие абсолютного субъекта.
Собственным источником перевода-толкования Семидесяти, по-видимому, был контекст фрагмента. Толковники, со свойственным им подходом к Писанию, при котором больше внимания уделяется целому, чем частям, должны были обратить внимание на раздвоенность ответа, данного Богом пророку: вначале это формула היהא רשא היהא {есмь, кто есмь}, которая выглядит простой тавтологией, но затем следует уточнение: «Господь (הוהי), Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова... вот имя Мое на веки». Относятся ли слова «вот Мое имя» к известному еще из книги Бытия имени הוהי и его истолкованиюкак предмета веры праотцев? Трудно утверждать обратное, особенно ввиду того, что эта часть ответа на вопрос Моисея специально отделена от предыдущей посредством слов: «и сказал еще Бог Моисею». Но если на один вопрос («как Тебе имя?») даны последовательно два ответа, то можно думать, что один из них уточняет, расширяет или помогает истолковать другой. Ситуация осложняется тем, что оба слова (היהא и הוהי), являясь однокоренными, трудны для истолкования и в особенности для перевода. Какое из них должно было быть принято за отправную точку в интерпретации? Здесь, вероятно, толковники прибегли к более широкому контексту. В той же книге Исход по греческой версии читается: «Я Господь, и являлся Аврааму, Исааку и Иакову, будучи Богом их, а имени Моего, Господь, не открыл им» (Исх 6:3). Перевод этого стиха у Семидесяти обладает одной важной особенностью. Еврейский текст в современных переводах гласит: «Я Господь, и являлся Аврааму, Исааку и Иакову в [имени] Бог Шаддай, но именем Моим, הוהי, не познался им». Кажется, что такое нарочитое противопоставление имен противоречит книге Бытия, где Авраам и другие патриархи знают имя Бога הוהי как имя собственное. Но в Септуагинте этого противоречия нет, поскольку фраза ידש לאב {досл.: в Боге Шаддай} истолкована в том смысле, что Бог являлся патриархам, будучи «Богом их» (вероятно, היהש לאב), а имени Своего, – в котором заключается онтологическая безусловность, – не прояснил664. Это соответствует двойной семантике הוהי в Библии: с одной стороны, Сущий как присутствующий, являющийся, сопровождающий Свой народ в его странствиях665, с другой стороны, Сущий как неизменный и пребывающий повсюду. Актуализация второго значения в условиях Исхода из Египта понятна: если раньше речь шла о смысле существования отдельного человека, который обретает его в своем потомстве, то теперь – о смысле исторического бытия целого народа, который должен обрести его за пределами одного роста популяции, потому что народ и так представляет собой постоянно растущую популяцию.
Этот смысл объясняется так: «Вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх 19:6), что само собой подразумевает разделение всего мира на сакральное и профанное и мыслимо только при том условии, что этот Бог есть Бог всего мира. Итак, греческий текст говорит именно о явлении Божественного имени, которое уже употреблялось в эпоху патриархов, однако тогда еще не было понято в полном смысле666. Тем самым получает особое значение эпизод из 3-й главы, т.е. онтологическое истолкование имени сы́й на горе Хорив, где в переводе соответствующих стихов толковники дают интерпретацию имени הוהי.
Будучи толкованием для обоих, имя ὁ ὤν проясняет значение имени הוהי через слово היהא. Исходя из собственного, т.е. известного до откровения на горе Хорив, значения первого, Бог опознается потомками как Тот, кто являлся их предкам, т.е. в определенные моменты присутствовал, тогда как боги язычников полагаются Библией как отсутствующие: их идолы не видят, не внемлют, не передвигаются и не сопротивляются, когда их уничтожают. Истинный Господь ходит вместе со Своим народом, поэтому Илия пророк, насмехаясь над Ваалом, спрашивает у его жрецов, не в отлучке ли он. В связи с этим имя הוהי, которое везде в Септуагинте переводится как Господь (κύριος), может выражать идею не бытия вообще, но бытия-здесь, т.е. присутствия, и возможности опознать это присутствие через явление. Но если таков собственный смысл имени הוהי, который должен был быть известен еще прежде данного Моисею разъяснения, то посредством ὁ ὤν переводчики должны были попытаться выразить нечто более общее.
Как было показано, ὁ ὤν и стоящее за ним היהא רשא היהא – не разъяснение незнакомого термина, а углубление понимания знакомого. Такое углубление, судя по избранному переводчиками LXX способу передачи, контрастно отличающемуся от версии Акилы и Феодотиона, было предпринято в онтологическом направлении: от бытия как присутствия мысль переходит здесь к бытию как обладанию существованием. То, что последнее наличествует в семантике греческого имени, несомненно. Во-первых, ὁ ὤν представляет собой аналог τὸ ὄν, и относится к последнему как производное имя собственное (сын) к абстрактной категории (сущее), которая имела, как выше уже отмечалось, употребление в философском контексте. Во-вторых, в Септуагинте имеются другие места, где ὤν выражает существование вообще, безотносительно к качеству, месту или времени существования, т.е. чисто онтологически. Так, Иов (ст. 10:19) сравнивает младенца, умершего во чреве матери, с «не существующим», причем речь идет именно не об отождествлении, а об условном сопоставлении души, не увидевшей света, с душой, которой вовсе никогда не было – «я был бы как несуществующий» (ὥοπερ οὐκ ὢν ἐγενόμην)667; в молитве царицы Есфирь, которая содержится только в греческом варианте одноименной книги, сказано по поводу языческих богов: «Не предай, Господи, скипетра Твоего несуществующим» (τοῖς μὴ οὖσιν, Есф 4:17q); ср. у пророка Исайи: «Народ этот... курит на плинфах демонам, которых нет» (ἃ οὐκ ἔστιν, Ис 65:3); «Будут как не сущие (ὡς οὐκ όντες), погибнут все соперники твои; поищешь их, и не найдешь... будут как не бывшие (ἔσονται ὡς οὐκ ἔσονται) те, кто нападают на тебя» (Ис 41:11–12). Представление о всех «богах народов» как о не существующих – или существующих, но не в собственном качестве, а в качестве идолов, демонов (Вар 4:7, Пс 95:5 LXX) или ангелов, которое апостол Павел обобщит в утверждении (Гал 4:8), что язычники «служили не по естеству сущим богам» (τοῖς μὴ φύσει οὖοιν θεοῖς), т.е. выдуманным, ненастоящим, предполагает наличие представления о едином Боге как Сущем единственным в Своем собственном качестве, а тем самым и о Божественной природе, не допускающей участия в себе иных и полагающей всякую другую природу вне себя. Так, благочестие, которому обучали юношей, определяется тем, ὥστε μόνον τὸν ὄντα θεὸν σέβιν {чтобы чтить единого сущего Бога] (4 Макк 5:24).
Приведенные соображения делают онтологический смысл термина ὤν, стоящего с артиклем без всяких дополнительных определений, первичным и естественным для него. При этом, однако, не следует упускать из виду то обстоятельство, что причиной появления данной категории в 3-й главе книги Исход был не абстрактный интерес к онтологии, а потребность истолковать собственное имя Бога, на еврейском языке производное от глагола «быть» (היה), а на греческий переведенное как κύριος (об этом ниже будет рассказано подробнее). По-видимому, истолкование это выстраивалось исходя из следующей цепи представлений: Господь соприсутствует Своему народу всегда и во всяком месте – потому что Ему вообще свойственно присутствовать повсеместно – потому что Он есть Сущий в собственном смысле, т.е. все прочее, что существует в пространстве и времени, как бы проходит на Его фоне. Таков смысл имени ὁ ὤν в кн. пророка Иеремии, где оно встречается трижды как перевод слова היהא: первый раз в контексте речи о предведении Бога (ст. 1:6), вторично при описании лжепророков, суетное знание которых противопоставляется истинным будущим событиям (ст. 14:13), третий раз – в прославлении Бога как Творца, от которого «ничто не утаится» (ст. 32:17)668.
б) Небытие субстрата вещей
Если один Бог определяется как присутствующий, опознаваемый и, в конце концов, просто существующий в собственном смысле, – ибо сы́й есть Его имя собственное, – то можно вывести отсюда, что не только ложные боги, но и все вещи не присутствуют, не опознаются и не существуют. В самом деле, они не присутствуют, потому что постоянно меняются, срок их бытия истекает, они исчезают; не опознаются, так как их нельзя помыслить самих по себе, безотносительно к другим; не существуют, – в том смысле, в котором говорится о том, что существует Бог, – потому что их субстрат есть ничто. Подобный вывод мог быть сделан из учения о существовании как собственном качестве Божества. Но было ли произведено в действительности такое умозаключение? Положительный ответ на этот вопрос предполагает, что также был найден, категориально или хотя бы в качестве интуитивной предпосылки, переход от одного бытия к другому – от истинного бытия Бога к неистинному, однако достоверному для повседневного человеческого опыта бытию вещей. А именно, творение всех вещей, известное из книги Бытия как создание «неба и земли и всего воинства их» (Быт 2:1), должно было быть понято как творение из ничего, из пустоты. В противном случае требовал бы разъяснения или, по меньшей мере, предпонимания трудный и противоречивый вопрос о первоматерии. Такого предпонимания, как будет показано ниже, мы в основе греческой Библии не находим.
Напротив, идею перехода к бытию вещей как творения из ничего поддерживает уже заглавие первой книги Моисеевой в традиции LXX – Бытие (γένεσις), которым указывается на происхождение, подобное рождению (от γίγνομαι, рождаться), т.е. на появление нового, прежде не бывшего. Максимально ясное и определенное выражение эта идея должна была получить при столкновении с эллинской системой взглядов, которая допускала любой способ организации материи, кроме творения из ничего, и любую форму продолжения жизни после смерти, кроме воскресения в прежнем теле. Поскольку именно такое столкновение, со всем возможным драматизмом, передано во 2-й книге Маккавеев (стт. 7:28–29), можно не удивляться тому, что именно в ней тезис о несуществующем как основе творения впервые сформулирован в той форме, которую он сохранит на все последующие времена. Сделано это, впрочем, не от лица иудейского философа или ритора, но устами женщины – матери семи отроков, приговоренных греческим царем к мучительной казни за отказ нарушить предписания Моисеева Закона:
Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего (ἐξ οὐκ ὄντων), и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я по милости [Божией] опять приобрела тебя с братьями твоими.
Существенным обстоятельством является то, что 2-я книга Маккавеев не философское произведение, в отличие, например, от 4-й книги под тем же названием, представляющей собой своеобразную религиозно-философскую проповедь и содержащей намного больше собственно философских элементов. 2-я относится, скорее, к области чистой агиографии, становясь одним из первых прообразов для христианских мученических актов позднейшего времени. Ввиду этого употребление в данной книге такой концепции, как сотворение мира из ничего, имеет особую ценность: оно, по всей видимости, должно представлять собой не учительскую новацию, едва ли уместную в высказывании от лица женщины, хотя бы и благочестивой, но ссылку на устоявшийся взгляд. Призыв «познай» (γνῶναι), обращенный женщиной к своему сыну, может рассматриваться как родительское наставление, т.е. передача нормативного знания, и совсем не обязательно вводит какую-то новую для своего времени богословскую доктрину.
Вопрос о толковании отдельно взятой фразы ἐξ οὐκ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ θεὸς, конечно, является проблематичным. Термин ὄντα {сущее, реальное} обладает широким спектром значений: можно существовать субстанциально, а можно и феноменально, на иной субстанциальной основе, которая обладает независимым и несводимым к данной вещи бытием. Другими словами, главный вопрос здесь заключается не в значении отрицания ουκ (часто указывают на то, что оно, в отличие от μὴ|, всегда является полным отрицанием), а в значении того, что им отрицается: идет ли речь о том, чтобы «быть» вообще или же «быть» в определенной форме? Второй вариант ответа подразумевает, что мир создан ἐξ ἀμόρφου ὕλης {из бесформенного вещества} (Прем 11:18), но вопрос о том, откуда получила свое начало сама эта ὕλη, при этом остается открытым. В кн. Премудрости утверждается, что она способна «изменяться во всё» (ст. 16:25) или, что то же самое, переменять типосы (διατυπόω, ст. 19:6). Таким образом, свойства материи во всяком случае не вечны. При описании чудесных событий Исхода из Египта и перехода через пустыню отмечается, что «самые стихии изменились, как в арфе звуки изменяют свой характер, оставаясь теми же звуками» (ст. 19:17). Отсюда можно заключить, принимая во внимание двойную семантику гpeческого термина «стихия», что мудрец рассматривает мир как текст – набор букв (στοιχεῖα), которые располагаются Творцом в каких угодно комбинациях. Сотворены ли сами «буквы» или нет, в этом контексте не уточняется.
Традиционно в греческой мифологии, а затем и философии считалось, что материя как субстрат существует сама по себе, не имея начала или источника своего бытия. С точки зрения античной философской теодицеи ее пассивным сопротивлением божественному началу, т.е. стремлением вернуться в состояние слитности, можно было без противоречий объяснить происхождение мирового зла669, что автоматически означало, впрочем, ограничение божественного всемогущества и обнаружение на целом здании мира роковой печати несовершенства (подлунный мир Аристотеля) или вырождения (смена поколений в «Государстве» Платона). В греческой библейской традиции мысль о вечности материи, по крайней мере, не выражена. Книга Премудрости Соломона только сообщает, что «всемогущая рука» Божия «создала (κτίσασα) мир из бесформенного вещества». Бог сравнивается с искусным мастером, который «все расположил мерою, числом и весом» (Прем 11:21). Но все же Он больше чем демиург, сила которого вполне соотносится с веществом, к которому прилагается. «Весь мир пред Тобою, как колебание чашки весов, или как капля утренней росы, сходящей на землю» (Там же). Сопоставляемый по мощности с Богом, космос оказывается феноменально ничтожным; заключить из этого, что и материя ничтожна онтологически, легче, нежели предположить ее субстанциальную совечность Богу. Впрочем, составители книги Премудрости могли вовсе не задаваться этим вопросом670.
По-видимому, во 2-й Маккавейской книге специальный смысл творения «из ничего» придается конкретно глаголу ποιέω {творить}, употребленному в первом стихе греческой книги Бытия: «сотворил Бог небо и землю» (ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν). Сам этот перевод многие авторы, включая современных671, считают указанием на то, что переводчики книги Бытия, в отличие от представителей иудео-эллинистической традиции более позднего времени, допускали существование первоматерии, поскольку глагол жнею часто употребляется в значении «сотворить из чего». Такая интерпретация восходит к сообщению Прокопия Газского: «Поскольку ἐποίησεν говорится и о том, что произведено (γινόμενος) из чего-то другого, как, например, “кузнец сотворил серп из железа”, и прочее в этом роде, то некоторые взяли отсюда повод утверждать, что Моисей, наученный египтянами, правильно сделал [Писание] говорящим, что из предсуществующей материи все пришло в бытие»672. Обратим внимание на то, что Прокопий – хороший знаток греческого языка, возглавлявший риторическую школу, – делает оговорки: творение из чего-либо было лишь одним из возможных значений слова ἐποίησεν. Ц. Франкель замечает, что в греческом языке и не было глагола, означающего творение из ничего. Но если мы хотим установить, что имели в виду переводчики книги Бытия, следует принять во внимание ст. 2:3, в котором выражение תושעל םיהלא ארב רשא передано как ὧν ἤρξατο ὁ θεὸς ποιῆσαι {...которые начал Бог творить}. Буквально перевести еврейский текст в этом случае было бы трудно, так как его подстрочник звучит следующим образом: «...которые сотворил Бог, [чтобы] создать». Син интерпретирует его в смысле простого удвоения: «...которые Бог творил и созидал». Но Септуагинта в данном случае выбирает дословный способ перевода, лексический состав которого указывает на то, что слова ארב и ποιέω во всяком случае не понимаются ими как подразумевающие предпосылочность творения, а скорее всего указывают на начало иного бытия по отношению к Богу, т.е. творения из ничего673.
В 7-й главе 2 Макк о «космосе», который, как известно, представляет собой бытие оформленное, «украшенное», говорится, что Бог – его «создатель» (ὁ τοῦ κόσμου κτίστης). Глагол κτίζω может выражать значения: «создавать», «основывать», «устраивать», «населять». Он обычно употребляется для описания сотворения идеальных объектов: например, основания и восстановления городов и стран. В классических текстах учредитель подобных организованных множеств нередко называется κτίστης. Человек, создающий нечто силой мысли, – поэт, художник, изобретатель, законодатель – чаще всего ποιτής. Платон называет Бога «творцом» вселенной, в данном контексте абстрагируясь от проблемы существования материи, обращая внимание только на то, что небо было не всегда, но «вышло из некоего начала» (Тимей 28 с). В книге Маккавеев используются еще два различных термина, относящихся к творению: автор называет Бога «образователем человеческого рода» (ὁ πλάσας ἀνθρώπου γένεσιν) и «изобретателем всяческих родов» (πάντων ἐξευρὼν γένεσιν). В первом случае глагол πλάσσν {букв.: лепить} указывает на придание формы человеку, в полном соответствии с 2-й главой книги Бытия: «и сотворил (ἔπλασεν) Бог человека, [взяв] прах от земли» (Быт 2:7). Во втором определении создание классов живых существ трактуется как «изобретение» – параллелей в Септуагйнте этому слову множество, например, когда говорится о том, что Бог «изобрел» (ἐξεῦρεν) Свою собственную Премудрость Своим собственным разумом (Вар 3:32). В свете учения о Премудрости в греческой Библии (см. раздел III. 1.2) становится понятно, что умопостигаемое, – а сюда относятся и «роды» существ, – «изобретается» библейским Богом не при обращении к заранее готовым образцам, как это имеет место в «Тимее», а посредством разумного усмотрения средств, позволяющих достигнуть одному Ему известных целей творения.
Наконец, только про «небо и землю и все, что в них» (τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα) сказано в собственном смысле, что Бог «сотворил их» (ἐποίησεν αὐτὰ). Но эта формулировка, несомненно, связана с началом книги Бытия, где утверждается, что первоначально земля была «невидима и не устроена» (ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος). В силу этой связи, зависимости одного текста от другого слова ἐξ οὐκ ὄντων получают особенное значение: они подчеркивают, что речь идет не об оформлении неба и земли, т.е. не об их превращении в благоустроенное человеческое жилище (тогда уместнее было бы написать ἐξ ἀοράτων или ἐξ ἀκατασκεύαστων), а о творении самих этих категорий пространства и о насаждении в них предметов, также сотворенных либо из ничего, либо из них самих (напр., травы – из земли) в течение последующих шести дней. Такой же смысл, видимо, выражает обращение к Богу из молитвы Манассии (Оды 12:2): «Сотворивший небо и землю со всем украшением их» (ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν σύν παντί τώ κόσμω αυτών). Небо и земля здесь являются измерениями пространства, космос – их содержимым. Какую роль играет «бездна», облекавшая первозданную землю, мы рассмотрим ниже.
в) Эллинистический контекст
Мнение, согласно которому ץרא {земля}, т.е. первоначальная бесформенная материя, предшествовала творению, имевшее место в средневековой еврейской экзегезе674, несомненно, лучше могло бы быть опосредовано эллинскими влияниями, чем имеющееся в Септуагинте чтение. Но именно перевод Семидесяти – «В начале сотворил Бог» – стал нормативным для большинства последующих, которые обычно воспроизводят его слово в слово. Акила исправил этот перевод по-своему, а именно, буквально так: «В главном создал Бог небо с землею» (ἐν κεφαλαίῳ ἔκτισεν ὁ θεὸς σὺν τὸν οὐρανὸν σὺν τὴν γῆν). Трудно установить с полной уверенностью, было ли такое своеобразие связано только с представлениями Акилы о нормах перевода отдельных слов, или же оно несло какую-то особенную смысловую нагрузку675. Следуя своему принципу однозначного соответствия оригинальных и переводных терминов, Акила употребляет глагол ποιέω для передачи еврейского слова השע (делать), тогда как эквивалентом ארב у него является κτίζω. Значит ли это, что Акила считает мир скорее «основанным», нежели «созданным», тем более – созданным из ничего, и что ἐν κεφαλαίῳ можно понять как выражение «в общем», относящееся к последующему рассказу книги Бытия о преобразовательной деятельности Бога: разделению воды и воды и т.д.? Такое предположение правомерно в силу ряда соображений: во-первых, Акила был достаточно компетентен в греческом языке, чтобы учитывать собственный, привычный для этого языка смысл слов, которые он выбирал для перевода; во-вторых, Быт 1:1 – это начало перевода наиболее авторитетной части Библии, которое проблематично истолковывать исходя из других библейских контекстов – оно само задает норматив словоупотребления; в-третьих, раввинская экзегеза, под влиянием которой находился Акила, действительно нигде не акцентирует внимания на сотворении мира из ничего, но скорее поддерживает некоторые тенденции к противоположному решению онтологического вопроса676.
Учет вероятной позиции той школы истолкования Торы, что оказывала воздействие на перевод Акилы, не обязательно должен подталкивать к поиску эллинских влияний, и даже скорее наоборот. Наставник переводчика р. Акива, с определенного времени ставший бесспорным предводителем законоучителей, был первоначально связан преимущественно с вавилонской, а не со средиземноморской традицией иудаизма. Община в Междуречье заслуженно признавалась самой древней, потому что после переселения иудеев при Навуходоносоре и до возвращения переселенцев при Ксерксе религия и обычаи на земле Израиля пребывали в упадке, а оставшиеся там евреи смешались с язычниками. Благодаря своей древности, вавилонская община славилась также определенным консерватизмом; оттуда выходили крупнейшие учители: Шемайя и Автолион – потомки ассирийского царя Сенаххериба, Гиллель и др. Однако все это не гарантировало богословские взгляды от проникновения в них определенных идей «халдейской мудрости», тем паче, что сам праотец еврейского народа был халдеем и, как сказывали, успел обучиться на родине звездочетству и другим наукам. Естественный обмен идеями мог идти здесь таким же путем, как и в трудах Филона Александрийского, т.е. на основе теории «воровства язычников», которые, согласно этому взгляду, не по праву владеют тем, что принадлежало предкам избранного народа. Отсюда возможность проникновения в библейскую веру, которая изначально не задается вопросом о первоматерии творения, концепции предсуществования субстрата. В свою очередь, эта концепция потенциально содержала в себе развертывание синкретистских учений, приспособляющих трансцендентализм откровения к имманентизму и эманативизму великих систем языческой философии, как в средневековой каббале677.
Говоря о возможном влиянии языческой мысли на иудейскую, мы подразумеваем не терминологические заимствования, а восприятие самого образа мыслей, которым Бог ограничивается в Своем суверенитете над материей, отдаляясь от непосредственного воздействия на нее либо сложной и многоступенчатой системой сил-посредников, либо премудрым и неведомым промыслом, который имеет здесь характер не столько проведения в жизнь Божественной воли, сколько рассчета множества последовательных комбинаций для поддержания своего рода «предустановленной гармонии». Катастрофа 70-х гг., видимо, предрасполагала к такой переоценке роли Бога в истории, которая бы оправдывала Его невмешательство не только грехами избранного народа, но и причинами более безличного и постоянного характера. Так, Иосиф Флавий приходит к выводу, что Бог предназначил на данном историческом этапе римлянам править миром, и непонимание этого объективного обстоятельства, с его точки зрения, привело евреев к горькому поражению в войне. Они шли, тем самым, против воли Бога. Однако Иосиф не сосредотачивается на нравственных недостатках народа, напротив, подчеркивает его достоинства. Это понятно: таков способ апологии, который он избрал и, видимо, сам в него верил. Основнойпричиной катастрофы оказывается заблуждение, а не испорченность; народ заслуживает уважения даже от врагов за свою стойкость и принципиальность в этом заблуждении, в то время как три «философские» школы, сформировавшиеся в преддверии катастрофы, – фарисеи, ессеи, саддукеи, – демонстрируют высоту нравственного настроя и глубину интеллектуальных запросов. Бог у Иосифа вообще напоминает Бога философов, за исключением того, что некогда Он открывал Свою волю пророкам. Он дает миру Закон и постигается путем исполнения Закона; не исключена также возможность мистических озарений; но как Бог истории Он непостижим и открывается только в самом ходе вещей, который надо понять и предвидеть путем правильного наблюдения событий, чего сподобился сам Иосиф, сидя в пещере с последними защитниками Иотапаты. Подобные тенденции наблюдаются также у Филона, но со значительно меньшим вниманием к истории, которое уступает его заинтересованности в разработке категориальных схем и создании образа идеального мудреца. В предании раввинов суверенность Бога истории как будто сохранена, однако с исчезновением пророков и царей она фактически так же, как и у Иосифа, легла основной своей массой на течение реальных исторических событий, без непосредственного ведéния Богом народа к исторической цели. В связи с этим постепенно так же, как и у Филона, у наследников таннаев развилось оторванное от священной истории умозрение.
Перевод Септуагинты в идейном плане представляется вполне самостоятельным от философских тенденций, хотя до некоторой степени он может быть истолкован исходя из античного терминологического контекста. Глагол ποιέω, например, употребляет Платон в «Софисте», рассуждая о приведении в бытие из небытия: «По поводу всего, что в начале не существовало, а затем было приведено в бытие, мы говорим, что приведший сотворил это, а приведенное сотворено» (Софист 219b)678. Здесь же философ говорит и о несуществующем (μὴ ὄν), имея в виду небытие конкретной вещи. Но логически небытие конкретной вещи может быть небытием любой вещи, т.е. оно ничем не отличается от небытия вообще, если рассуждать, абстрагируясь от вопроса о субстрате, из которого новая, прежде никогда не бывшая вещь делается. В данном диалоге персонаж по имени Чужеземец рассуждает об искусстве, которое, в отличие от ремесла, производит нечто из ничего, хотя оно и состоит в подражании образцам. Для Платона важно, что подражание не является воспроизведением, напротив, им создается нечто, не имеющее места в природе. Такое искусство Платон определяет как «творческое» (ποιητική), в отличие от «приобретающего» (κτητική), которое занимается присвоением и видоизменением уже существующих вещей.
Авторитет Платона как мастера оценки античного словоупотребления не подлежит сомнению. Однако уже Аристотель определяет «творческие дисциплины» (ποιητικά ἐπιστῆμαι) как «начала, обуславливающие изменение в другом или в том, что делается как другое» (Мет. 1046b 3). Итак, вопрос о месте производства и его субстрате – именно это подразумевает вопрос о «другом» – не мог быть обойден в греческой мысли. Существовало ли в ней какое-либо понятие о несуществующем, кроме того «ничто» (μηδείς), на несуществование которого, как на речевую очевидность, указывал Парменид679, и той пустоты, которую, именно в качестве места, дающего быть изменениям в композиции вечно существующего, признавали Демокрит и Эпикур?
Несомненно, да. Так, софист Горгий использовал спекуляции на тему положительного небытия для создания одной из своих апорий: «Если оно [т.е. сущее] имеет происхождение, то оно имеет происхождение или из сущего (ἐκ τοῦ ὄντος), или из несущего (ἐκ τοῦ μὴ ὄντος). Но оно не имеет происхождения ни из сущего, так как если оно сущее, то оно не произошло, но уже существует, ни из не-сущего, так как не-сущее не в состоянии что-нибудь породить ввиду того, что порождающее начало по необходимости (ἐξ ἀνάγκης) нуждается в причастии к какому-нибудь существованию» (Секст Эмп. Пр. ученых VII. 71). Платон противопоставлял друг другу τὸ μὴ εἶναι {небытие} и ouafa {сущность} (Теэтет 185с). Это важно потому, что бытие не является антитезой небытия, так как последнее просто служит обозначением того, чего нет, а нет именно того, что не обладает сущностью. Конечно, сущности, по Платону, не сотворены. В приписывавшемся Аристотелю трактате «О Ксенофане, Зеноне и Горгии» специально разбирается вопрос о происхождении хаоса «из не сущих» (ἐξ οὐκ ὄντων) в связи со словами Гесиода: «Первым хаос возник». Однако такая постановка вопроса является скорее логической, чем онтологической, ибо ею не выражается сомнение в «необходимости» (ἀνἀγκῃ) порядка происхождения, характера и меры бытия, но выясняется только наилучший способ помыслить эту необходимость. Мнение, согласно которому бытие возникло из небытия, отметается как наивное (пп. I. 14–15). Сам Аристотель придерживался такого же мнения. Он писал, что «Платон был в известной степени прав, признав небытие областью софистики... очевидно ведь, что случайно данное есть нечто близкое к небытию» и что «причиной случайного будет материя, имеющая возможность быть иначе» (Мет. 1026b 15, 1027а 14). Признавая наличие в мире случайности, Стагирит указывал на логическую несообразность науки о случайном. То «небытие» в относительном смысле, о котором говорит Аристотель, не предшествует материи, а, наоборот, основано на ее изменчивых свойствах. Добавим, что Прокл противопоставляет «блуждание вокруг несущего» исследованию «науки сущих» (Парм. I. 617:10), не допуская тем самым, чтобы сущее было как-нибудь причастно и не сущему.
Парменидовский вопрос, который во многом лежит в основе античной философии, есть вопрос не о субстанции, а о мыслимости. По существу, отрицая существование «ничто», Парменид утверждал: нет ничего из того, что не было бы чем-то. Этим, в свою очередь, задавалась проблема Единого. Если Единое, по необходимости, тоже есть нечто, то что оно есть? Выходило так, что Единое отрицает другие вещи, а вещи отрицают Единое. Отсюда два рода познания: чувственное и рациональное, из которых первым постигается множественность, а вторым – единство. Началом всякой множественности, по учению элейцев, является изменение. Впрочем, то, что движение есть начало формы, – общее место всей греческой философии уже начиная с Фалеса680. И вопрос о природе изменений всегда оставался одним из самых чувствительных, учитывая, что целью философской жизни было достижение состояния мудреца – человека, чей внутренний мир не подвержен влиянию превратностей судьбы и, некоторым образом, неподвижен. Элейская школа отрицает изменения, низводя всякое движение на уровень иллюзии. Платон и представители стоической школы заставляют их двигаться по кругу, реализуя вечное возвращение. Круговая символика присутствует у Платона в целом ряде случаев, пусть он эксплицитно и не утверждает этой доктрины, а в диалоге «Государство» смена общественного строя в конце концов объясняется своего рода круговоротом «золотой примеси» в человеческих душах, то прибывающей, то убывающей. У стоиков круг реализуется в палингенесии. Аристотель отдает изменениям подлунный мир, не позволяя им вторгаться в нерушимый строй и порядок вселенной, управляемой Божественным умом в соответствии с наилучшими, а потому нерушимыми и несменяемыми принципами. Эпикур описывает мир вечных превращений, у которого нет и не может быть истории, а есть лишь призрак ее, и советует мудрецу, по возможности, уклониться от участия в розыгрыше.
В истории мысли существует согласие относительно противопоставления линейной концепции времени в христианстве и циклической в античном язычестве. То, что христианская концепция происходит еще из Ветхого Завета, также общеизвестно. В самом деле, направленность исторического процесса в Библии, начиная с книги Бытия, обусловлена непрерывным счислением лет от сотворения мира. Подобное понимание истории как целенаправленного движения из всех древних религий встречается еще только в зороастризме. Но есть существенная разница между персидской и древнеизраильской верой в конечность исторического времени. В зороастризме конец истории является результатом победы доброго мирового начала над злым и возможен только тогда, когда на стороне сил одного из них окажется решительный перевес. Тем, что между ними еще продолжает сохраняться паритет, объясняется господство злого начала над целым рядом областей бытия, в первую очередь, конечно, над смертью и темнотой, причем то и другое понимается в буквальном, физическом смысле. В Библии с самого начала Бог выступает как абсолютно суверенный Правитель мира. Он полагает начало творения в темноте и в дальнейшем также «соизволяет пребывать во мгле» (3Цар 8:53). Он есть Господь смерти в не меньшей степени, чем жизни, что особенно ярко проявляется в момент исхода из Египта, когда только знаки, нанесенные кровью на входах в жилища, спасают еврейских первенцев от обрушившегося на страну истребителя. Ввиду этой феноменальной амбивалентности Бога681, не затрагивающей только нравственного момента и тем именно выделяющей его с предельной ясностью, – момента нерушимой верности Завету, противопоставленной вероломству как универсальному началу порочности, – священная история всегда сохраняет определенную долю непредсказуемости, а ее подотчетность зодиакальному кругу и другим природным началам вовсе исключается. Конец истории не только неопределенно удален от настоящего времени, он равным образом и неопределенно приближен, может наступить вскоре, «теперь» или «после тех дней». Точное определение срока того или иного исторического периода, – например, вавилонского плена, – предсказывается только как постановление Божественной воли, а не как объективная смена обстоятельств. Сроки могут уменьшаться и увеличиваться. В пророческой литературе фактически оформляется феномен отложенных ожиданий, касающихся наступления эсхатологической эры и пришествия Мессии682.
Все это имеет непосредственное отношение к онтологическому вопросу. Тема времени завязана на онтологию в силу того, что время не существует само по себе: оно выявляется при соотнесении меняющихся предметов друг с другом, измеряется чередой наступающих событий. Поэтому от характера изменений – их причины, протекания, исхода – зависит характер течения времени, его ритм и направленность. Качественно новое (или просто иное), что вносит Библия в онтологию Древнего мира, состоит в идее произвольного, непринужденного и личного сотворения всего из ничего. Как следствие, постулируется возможность сотворения нового, и она связывается в дальнейшем с наступлением мессианской эры. В связи с этим выясняется и значение того, что Бог «почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал» (Быт 2:2). На уровне буквального смысла речь идет об обосновании празднования субботы, и то, что Бог «почил» в этот день, не означает Его устранения от дел творения навсегда. Однако в дальнейшем никакие дни пребывания в раю больше не указываются, в связи с чем древние экзегеты приходили к выводу, что «седьмым днем» является вся земная история после грехопадения. В каком смысле тогда Бог «почил от дел»? Очевидно, что читатели книги Бытия не могли бы понять это в смысле полного самоустранения, поскольку немного далее сообщается, что Бог создал Адаму и Еве «ризы кожаные», дал Еве родить сыновей и прочее. Таким образом, если мысль о субботствовании Бога протягивалась во всю земную историю, то под субботствованием Бога должно было подразумеваться прекращение творения видов и родов сущего, а не конкретных вещей683.
Что касается конкретных вещей, здесь необходимо различать два аспекта. Во-первых, Бог расценивается в Библии как непосредственный источник изменений, происходящих в природе: «Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу... Все от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им – принимают, отверзаешь руку Твою – насыщаются благом; скроешь лице Твое – мятутся, отнимешь дух их – умирают и в персть свою возвращаются; пошлешь Духа Своего – созидаются, и Ты обновляешь лице земли» (Пс. 103:13–14:28–30). Таких фрагментов можно процитировать множество. Здесь Бог Израилев предстает в той же природной роли, что и боги «народов», особенно Ваалы, но с одним существенным отличием. Он тоже устанавливает сезоны и следует их установлению в природообразующей деятельности, однако Сам, в отличие от языческих богов, совершенно независим от каких-либо условий. Это наиболее ярко продемонстрировано в состязании пророка Илии со жрецами Ваала. Примечательно, что Илия перед началом испытания произносит: «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте» (3Цар 18:21). Прекращать засуху и подавать земле дождь – прерогатива Бога. В то же время причина засухи в хананейских мифах совершенна иная, чем в истории с Илией: там она является результатом временной победы бога засухи над богом дождя684, здесь же вызвана решением Господа наказать Свой народ. Сколь бы много параллелей хананейским сказаниям ни находили в Библии, нигде мы не встречаем упоминаний о зависимости Бога от каких-либо объективных обстоятельств. Наоборот, свидетельства о всеобщей зависимости от Него встречаются часто. Это и делает Его творческой Причиной не только как инициатора, но и как продолжателя творения.
Второй аспект творческой активности – способность создания нового, но не по родам и видам, а в индивидуальном порядке. В книге Премудрости Соломона источником для такого представления выступает учение о Боге как о Творце всех форм: «Не невозможно было бы для всемогущей руки Твоей, создавшей мир из необразного вещества, наслать на них [т.е. египтян] множество медведей, или свирепых львов, или неизвестных новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или извергающих клубы дыма, или бросающих из глаз ужасные искры, которые не только повреждением могли истребить их, но и ужасающим видом погубить». Но сила Бога этой способностью не ограничена: «Они могли погибнуть от одного дуновения, преследуемые правосудием и рассеиваемые духом силы Твоей; но Ты все расположил мерою, числом и весом. Ибо великая сила всегда присуща Тебе, и кто противостанет силе мышцы Твоей?» (Прем 11:18–22). Отметим, чем объясняется здесь умеренность в использовании чудес, – разумным планом творения, которое обеспечивается, в свою очередь, непревзойденным потенциалом творческой силы Создателя.
Подобные идеи можно проследить и в составе канонических текстов. Например, неспособность египетских чародеев повторить одно из чудес Аарона выглядит не случайным, а вполне закономерным поражением ложной религии перед лицом истинной, если учесть, что до этого они лишь манипулировали материей (например, вызывали жаб из реки), а теперь им надо было совершить нечто требующее творческой мощи – превращение праха земного в мошек, – на что способен был один Бог (Исх 8:18). Так же и то, что жезл Аарона, ставший змеей, пожрал жезлы чародеев, хотя они тоже стали змеями (Исх 7:12), показывает иллюзорность их чар по сравнению с его чудотворением. Более того – из факта исчезновения жезлов (только жезл Аарона вернулся к нему в руки) можно заключить, что Бог способен возвращать материальные вещи в ничтожное состояние, т.е. фактически уже в книге Исход мы встречаем понятие о «ничто» как о подлинном субстрате творения.
Во всяком случае ясно, что идея произвольного и не ограниченного в своем потенциале творчества Бога, так сказать, когерентна теории творения из ничего. Данная идея чужда не только эллинскому мировосприятию с его устойчивой ориентацией на «необходимость» и повторение, но и ближневосточному с его традиционным религиозным возбуждением. Новый Завет весь пронизывается ею: бессеменное зачатие Сына (не богиней, а человеческой дочерью), чудесная ловля рыб, исцеление слепорожденного, умножение хлебов, наконец, воскрешение мертвых и «облечение» тленного в нетленное – все понятия одного ряда, который продолжится в богословии позднейших веков. Приведем для примера лишь одно характерное высказывание: по утверждению римского апостольского мужа Ерма, жившего во II в., Господь κτίσας ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὰ ὄντα καὶ πληθύνας καὶ αὐξήσας ἕνεκεν τῆς ἁγίας ἐκκλησίας αὐτοῦ {создал из не сущего сущее и умножил и возрастил ради святой Церкви Своей} (Пастырь. Видение первое, I. 6). Здесь одновременно представлены три концепции: творения из ничего, наличия исторической цели творения и, что наиболее важно, возможности прибавлять к творению нечто новое в процессе исторического движения к заданной цели. Церковь оказывается энтелехией, ради которой мир не только приведен от небытия в бытие, но и получил заложенную в него потенцию роста, развертывания, умножения, конца которому не усматривается.
Классическую формулу творения «из ничего» в ее точной латинской формулировке создал неизвестный переводчик 2 Мак в составе Вульгаты, когда перевел выражение ἐξ οὐκ ὄντων как ех nihilo. Такой перевод не оставлял сомнений в том, что речь идет именно о «ничто», т.е. о первоначальном небытии всей совокупной реальности (τα ὄντα), вызванной к бытию сказавшим о Себе: ego sum qui sum. Никакого специфического влияния эллинизма здесь не просматривается, хотя подобная фраза была известна из трудов Оригена. Руфин Аквилейский, переводивший на латынь его книгу «О началах», в прологе (п. 4) с несохранившегося греческого оригинала передает слова дидаскала: unus Deus est qui omnia creavit atque composit, quique, cum nihil esset, esse fecit universa {един Бог, всяческая сотворивший и создавший, Который из ничтожества все сделал существующим}. Вероятно, за esse в этом тексте стоит ὄντα, а за nihil esset – οὐκ ὄντα. Вероятно, переводчик Вульгаты исходил из уже сложившейся традиции, для которой прежде всего несомненным и фундаментальным фактом была абсолютная бессубстратность начала творения, а все ограничения произвольности его акта являлись уже привходящими философскими элементами. В составе старолатинских текстов, по-видимому, было несколько подобных чтений. Так, блж. Августину эта формула известна в иной редакции, поскольку он использует ее с другим предлогом и притом как выражение не новой истины, а несомненного знания: de nihilo enim а te, non de te facta sunt, non de aliqua non tua vel quae antea fuerit, sed de concreata, id est simul a te creata materia {из ничего ведь Тобой, но не из Тебя создана [тварь], и не из другой, хотя не Твоей, но предшествующей материи, а из со-сотворенной, то есть одновременно Тобою сотворенной} (Августин. Исповедь VIII. 48).
г) Логическая взаимосвязь
Логическая взаимосвязь между определением Бога как Сущего в собственном смысле (тот-кто-есть) и учением о творении мира из ничего, определенно, имеется. Но для установления различия между Богом как Сущим и предпосылкой творения как несущей требуется и само по себе различение существующего с несуществующим. Наличествует ли оно в Библии? Это не праздный вопрос, так как не одно и то же – понимать, что человек может ошибаться как в чувстве, так и в мысли, принимая нечто иллюзорное за нечто реальное, и признавать, что одна и та же вещь может как быть, так и не быть в действительности. (В таком случае существование или несуществование вещи принимается на веру.) Понимание возможности ошибки присуще человеку изначально, поэтому далеко не все, что ему представляется, он сразу же воспринимает как действительно сущее. Различение действительного и мнимого возникает, например, тогда, когда человек думает о том, кого он видел на другой стороне реки –своего друга или похожего на него незнакомца. Если он решит, что видел друга, тогда «похожий» на него «незнакомец», мысль о котором занимала вторую лемму, как бы перестает «существовать». Но противопоставление сущего и несущего как таковое мышлению древних несвойственно. Потому и вера в мифологии, как правило, не эксплицирована: она задействуется в качестве психической способности, но только включенной в состав мифического знания. Ни в эпосе о Гильгамеше, ни в обеих поэмах Гомера, ни в реалистичных «Трудах и днях» нет класса мнимых существ, т.е. таких, о которых у большинства бытовало бы устойчивое мнение, что они есть, в то время как автор знает, что на самом деле их нет. Именно в неразличении мнимого и действительного на уровне онтологии состоит один из неустранимых элементов природы мифа. В силу этого мифологическое мышление не обладает основаниями для того, чтобы отвергать содержание «чужих» мифов. Оно может либо игнорировать их, либо интегрировать: отсюда естественный, непринужденный и даже, по-видимому, вовсе не приметный для их носителей синкретизм т.н. «примитивных» религий685.
Онтологический вопрос на Западе впервые появляется как философский, и философы первыми стали высказываться о не-существовании как мифических, зачастую уже практически «сказочных» для образованного человека, персонажей народных верований, так и самих богов. «Протагор, – утверждает Цицерон, – сомневался в этом, а Диагор Мелосский и Феодор Киренейский полагали, что совершенно нет никаких богов» (О природе богов 1.2). Само название Цицеронова трактата, «О природе богов», подразумевает два вопроса: их существование и то, как они существуют. Хотя первый вопрос решается посредством такого доказательства, которое вряд ли можно считать философски основательным, – автор фактически ссылается на consensus gentium (Там же, II. 4), а затем сам опровергает его (Там же, I. 62), – именно этот вопрос, после исчерпывающей критики взаимоисключающих концепций эпикурейского и стоического теизмов, оказывается на переднем плане: «Спрашивается не о том, есть ли какие люди, верящие в существование богов, а вопрос в том, существуют ли боги или нет» (Там же, III. 17). Мнение эпикурейцев, сводящее все к субстрату, отвергается исходя из своего же критерия: атомы, возражает им скептик Котта, «есть ничто, ибо то, что не имеет тела, есть ничто» (Там же, I. 65). Пантеизм стоиков доводится тем же персонажем до нелепости в безудержном умножении богов, которое он за собой влечет, вплоть до самых баснословных и курьезных, вроде пса Цербера. В результате позиция самого Цицерона остается неясной, – о чем он и предупреждает в предисловии к трактату, – однако не возникает сомнений в том, что проблема качества бытия богов является чисто иллюстративной для главного и, по существу, единственного вопроса об их природе.
Различение богов на существующих и «вовсе не существующих» знакомо также другим античным авторам686. Есть ли что-либо подобное в Библии? Несомненно, как таковой онтологический вопрос проникает в библейский мир, по всей видимости, без посредства философии, – он изначально является вопросом о существовании Бога. В псалмах упоминается некий «безумец», который прямо утверждает, что «нет Бога» (Пс 13:1; 52:2). Конструкция этой фразы (םיהלא ןיא, οὐκ ἔστι θεός), учитывая другие употребления подобных конструкций, не оставляет сомнений в том, что речь идет именно о небытии, а не, например, об отсутствии в данном месте, невмешательстве в жизнь людей, пребывании в ином качестве и т.п. Более того, именно то, что слово беос; лишено артикля, здесь может указывать, с довольно большой долей вероятности, на отрицание самого понятия о Боге. Иными словами, «безумец» думает, что вообще не существует того, кто наблюдал бы за земными делами, карал беззаконных и награждал праведных. Поэтому все «развратились, совершили гнусные дела» и прочее. Эта точка зрения отличается от другой, при которой уже не «безумец», а «нечестивец» полагает, что «забыл Бог, закрыл лице Свое, не увидит никогда» (Пс 9:32). Хотя здесь тоже употреблена формула םיהלא ןיא {нет Бога}, к ней прибавлено ויתומזמ לכ {[таковы] все замыслы его}, что переведено Септуагинтой интерпретативно: οὐκ ἔστιν ὁ θεός ἐνώπιον αὐτοῦ {нет Бога пред ним}. Заметим, что в этом случае переводчики поставили определенный артикль в соответствии с контекстом: «нечестивец» знает о Боге, что это Господь (в том же стихе кирюс; без артикля, как имя собственное), но в его глазах Бог представляется как бы не существующим.
То, что о не-существовании Бога в Псалтири может быть сказано именно в онтологическом смысле, подтверждается и обратным примером, который демонстрирует умозаключение о Его бытии: «Тогда скажет человек: раз есть плод у праведника, значит, есть Бог, Который судит их на земле» (Пс 57:12)687. Понятно, что в этом случае речь может идти не о переходе из атеизма (о котором в Библии не упоминается как о доктрине) в веру, а скорее о том, что человек замечает Бога, о котором прежде не думал, или признает Того, в чьем существовании до этого сомневался – не на уровне теории, а именно так, как сомневаются в том, каков находящийся на другом берегу реки. Однако Бог в Библии обладает существенным отличием от всех других предметов, относительно которых можно заблуждаться: Он существует в единственном числе. Именно поэтому сомнение в Его бытии, хотя оно и не является доктринальным атеизмом, а бывает всего лишь «безумием», все же предстает сомнением онтологическим. Если нет этого Бога, то нет вообще Бога, потому что другие боги – не боги. Последнее утверждение уже демонстрировалось выше и еще затребуется несколько ниже, когда мы будем рассматривать само имя «Бог» как понятие. Процитируем здесь только характерные слова из Послания Иеремии, которое, как сохранившееся только в греческой версии, является вкладом Септуагинты в хранилище библейской мысли: «Язык их выстроган художником, и сами они оправлены в золото и серебро; но они ложные, и не могут говорить... Они как бревно в доме; сердца их, говорят, точат черви земляные, и съедают их самих и одежду их, – а они не чувствуют... За большую цену они куплены, а духа нет в них (ἐν οἷς οὐκ ἔστι πνεῦμα)...» (Посл Иер 7,19:24). Отсутствие духа в идолах означает их несуществование как богов: они есть, «но они ложные» (ψευδῆ δ᾽ ἐστίν), т.е. ненастоящие. Отсюда ясно, что Бог в собственном смысле, т.е. именно как Бог, един. Поэтому Его отрицание – не выявление ошибки в определении {«это не есть Бог»), а отрицание целого класса существ, а именно – того уникального класса, который имеет единственного представителя {«Бог не есть»).
Итак, в Ветхом Завете определенно наличествует представление о том, что один и тот же предмет мысли допускает абсолютные высказывания о его бытии либо небытии. Этого достаточно для того, чтобы понятия «бытие» и «небытие» оформились как логические категории, на том же самом уровне, на котором их обнаруживает и Парменид, хотя вопросы, которые задает себе человек в Библии, мало похожи на проблемы, актуальные для мыслителей Элейской школы. Наименование Бога «Сущим» (ὁ ὤν) могло быть понято и просто как удостоверение в том, что Он действительно существует, но правильнее было бы понять его как истолкование имени собственного688, в том смысле, что существование является Его собственным признаком. Прежде всего этот признак должен был, по всей видимости, отличить Бога от конкретного класса несуществующих объектов, а именно – египетских богов. Но боги в противостоянии Моисея и фараона не фигурируют. Отсюда можно заключить, что вообще всякая сила, хотя бы то было войско фараоново, значительно более реальное для беглых израильтян, чем его боги, релятивизируется по сравнению с Господом как Сущим, и в сообщении евреям, которые должны были совершить исход из Египта, этой обнадеживающей истины заключалась цель откровения на горе Хорив. Однако логически такой признак несуществования можно распространить и на прочие классы вещей, которые мыслятся как не бывшие когда-либо или еще только имеющие перестать быть. Именно это происходит, когда сознательно поставлен вопрос о том, из чего Бог сотворил небо и землю, – а такой вопрос мог возникнуть именно при встрече иудаизма с эллинизмом, хранившим учение о первоматерии как одно из важнейших в объяснении образа мира. В этой ситуации естественным, напрашивающимся ответом было: поскольку Бог есть Сущий (ὁ ὤν) и это Его собственный признак, выражающийся в соответствующем истолковании Его собственного имени, то, начав творение, Он сотворил все из ничего (ἐξ οὐκ ὄντων).
д) Прочие имена
ΘΕΟΣ
Слово «бог» (θεός), соответствующее нескольким терминам еврейской Библии, имеет несколько различных значений в Септуагинте. Рассмотрим эти значения в порядке возрастания их роли в контексте развития богословской мысли последующих веков.
1) Идол. У пророка Исайи (44:10) язычники называются «создающими бога» (לא רצי, οἱ πλάσσοντες θεόν). Изначально в этой фразе заложена ирония: согласно книге Бытия, Бог создал человека, т.е. буквально «слепил» его, и здесь тот же глагол выражает обратный порядок творения: человек «лепит» себе бога. Но в еврейском тексте это לא, т.е. «бог» в предельно широком смысле, а не םיהלא, о котором рассказывает книга Бытия. Септуагинта данного различия не отражает, и стих становится двусмысленным: согласно греческому тексту посрамятся как все те, кто делает идолов, так и все те, кто «создает» себе Бога, т.е. фактически все изобретатели религий. Мысль о том, что язычество есть ложная форма богопочитания и таким образом в интенции обращено к Богу, хотя вместе с тем отводит от Его правильного почитания, оставила следы также в других частях греческой Библии, о которых будет упомянуто ниже. Другой случай называния идола словом θεός – в Премудрости Соломона, где несовершенство языческих богов обосновывается их сравнением с человеком, который «по своему образу (αὐτῷ ὅμοιον) не может создать бога» (Прем 15:16), т.е. не может наделить чувствительностью того, кого создал. Этот мотив также несколько раз озвучивается в Послании пророка Иеремии.
2) Человек. В Ветхом Завете сохраняется антропологическое употребление слова «боги», восходящее, по-видимому, еще к эпохе родового строя, – это высокопоставленные члены общества, которым вверена судебная власть. К каким временам восходит подобное словоупотребление, вряд ли можно установить с достоверностью, но, судя по его редкости, оно было архаичным. Сюда относится загадочное постановление Исх 22:27 «богов не злословь» (ללקת אל םיהלא, θεοὺς οὐ κακολοήσεις)689; однако в двух других местах книги Исход (21:6 и 22:8–9), где слово םיהלא традиционно понимается в том же смысле, толковники склонны видеть в его употреблении указание на Божественный источник судопроизводства: «суд Божий» (κριτήριον τοῦ θεοῦ), «пред Богом произойдет суд» (ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐλεσεται ἡ κρίσις), «обвиненный Богом» (ὁ ἁλοὺς διὰ τοῦ θεοῦ). Тем самым они, с одной стороны, поддерживают версию таргумов, так как усматривают во всех этих случаях ситуацию судебного разбирательства, с другой же стороны, очищают от антропологических коннотаций сам термин «θεός», хотя последняя тенденция и не приведена в систему. В 81-м псалме, который может служить обоснованием правильности таргумической традиции, так как в нем именно «сонму богов» (לא תדע), или вообще «богам» (םיהלא), вверяется ответственность за праведный суд, Септуагинта переводит соответственно: συναγωγῇ θεῶν, θεοί. Таким образом, антропологический смысл термина все-таки сохраняется. Использует ли Септуагинта термин θεός; в тех случаях, когда речь идет об ангеле, – спорный вопрос. В Псалтири встречается выражение «Бог богов» (ὁ θεός τῶν θεῶν), но в таких контекстах, которые могут подразумевать не ангельские, а человеческие существа (Пс 49:1, 83:8)690.
3) «Бог» (понятие). С этого пункта мы обратимся к различению идеи Бога и понятий о Боге, введенному русским философом В.И. Несмеловым в конце XIX в. Идея Бога, согласно Несмелову, представляет собой результат самопонимания человека как проекции в мире условном, подчиненном закону необходимости и по природе своей исключающем свободу, а равно самоценность отдельных частей, «реального бытия живой Личности, обладающей могуществом свободной причины и достоинством подлинной цели»691. Таким образом, в зависимости от ясности самосознания человека, т.е. выявления им противоречивости собственного бытия, как «свободно-разумной личности» и «простой вещи этого мира», стоит ясность идеи Бога – Творца мира, человека и его свободы, которая подвергается испытанию в ситуации относительной необходимости. В конкретных культурно-исторических условиях человеческого мышления идея Бога порождает множество понятий о Боге, которые объединяются вокруг представления о свободной и разумной личности, дифференцируются же по уровням понимания ее безусловности. Библейский текст содержит множество разных понятий о Боге и богах, при наличии в нем также выражений идеи Бога как таковой. Базовое понятие, безотносительное к степени осознания идеи Бога, составляет «бог» как предмет благоговения, нечто священное, чтимое человеком692.
В этом смысле говорится, например, в укор израильтянам: «Переменили ли язычники своих богов? – а они не суть боги; народ же мой переменил славу свою на то, что не приносит пользы» (Иер 2:11). Боги (евр. םיהלא) здесь выступают как предмет культа, вне зависимости от того, подлинные ли это боги, хотя подлинными они не могут быть по определению, поскольку Бог един. Таким образом, уже в еврейском тексте введено различение собственного и несобственного смысла слова «бог». Если так, то во всех перечисленных пунктах, включая настоящий, оно употребляется в несобственном смысле. Однако этот несобственный смысл не антонимичен, а все-таки причастен собственному: под «богом» в любом случае понимается нечто субъективно священное, даже если объективно оно не только не является священным, но воспринимается как тщетное или даже позорное. Такое субъективное восприятие зафиксировано, например, в книге Исход, где Моисей получает наказ: «Смотри, Я поставил тебя богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что Я повелю тебе; а Аарон, брат твой, будет говорить фараону» (Исх 7:1–2). Сюжет этот имеет несколько оснований: во-первых, читателю известно, что Моисей косноязычен, и поэтому Аарон сопровождает его для изъяснения; во-вторых, сам порядок речи перед фараоном напоминает практику прорицаний у многих древних народов, когда неясные высказывания пророка должен был истолковать специально подготовленный человек. У греков такие служители назывались «экзегетами» (ἐξηγητής) Существовала ли подобная практика в древнем Израиле? Свидетельств, позволяющих это предположить, немного, и они сводятся к трем следующим: у ряда пророков были сопровождающие лица, которые записывали их речи; апостол Павел решительно ввел для устранения беспорядка в Коринфской церкви институт экзегетов, причем они также должны были быть пророками; в Септуагинте есть перевод слова ןוזח (видение) через ἐξηγητής {толкователь} (Притч 29:18). Возможно, сотрудничество Моисея и Аарона стало архетипическим для идеального представления о союзе пророческого и священнического служений в границах левитского сословия. Но тем, что Моисей становится «богом» именно для фараона, по-своему характеризуется, видимо, прежде всего египетская религия, а именно, как сочетающая поклонение идолам с верой в оракулы.
Все это означает, что благоговение перед божеством, хотя бы оно и являлось ложным, в Библии рассматривается как важный фактор человеческой культуры. Например, когда из-за пророка Ионы поднялась буря, корабельщики начали молиться «каждый своему богу» и при пробуждении пророка просили его, чтобы он тоже молился своему богу. Даже узнав, что Иона прогневал «Господа Бога небес, сотворившего море и сушу», они не спешат бросить его за борт по его же совету, а еще пытаются бороться со стихией, видимо воспринимая имя «Господь» как имя одного из богов, а не как понятие, адекватно выражающее идею Бога в ее абсолютном понимании. Лишь осознав бесполезность своих усилий, они обращаются к Господу (используя только это имя, без употребления слова «Бог») с просьбой не погубить их «за душу человека сего», т.е. простить им убийство Его слуги, раз уж на него пал жребий и все обстоятельства сложились так. Во всех подобных контекстах θεός – это высшее руководящее начало, но не в абсолютном смысле, т.е. не по природе высшее, а именно в данном контексте: для отдельного человека, группы людей, народа или страны. Отсюда – возможность разотождествления «Бога» как понятия и «Господа» как личного имени в религиозных документах древнего Израиля. «Господа избрал ты сегодня, чтобы Он был тебе Богом... и Господь избрал вас сегодня, чтобы вы были Ему народом избранным» (Втор. 26:17,18 LXX). Если подходить к анализу этой фразы с формальной стороны, то как «Господь» относится к «ты», так «Бог» относится к «народу». Это не значит, что «Господь» выражает индивидуальный аспект поклонения, а «Бог» – общий. Но дело представлено так, как будто «Бог» и «народ» суть состояния сторон, оговоренные при заключении Завета между ними. Таков же смысл стиха одного из псалмов: «Блажен народ, которому Господь – Бог Его; люди, которых Он избрал в наследие Себе» (Пс 32:12).
Быть богом – значит быть богом для кого-то, избрать его себе в наследие. Поэтому за Богом можно ходить, как за путеводной звездой: «Я Господь Бог (ὁ θεός) твой... руки Которого создали все воинство небесное, и Я показал тебе их не для того, чтобы ты ходил вслед них (τοῦ πορεύσθαι ὀπίσω αὐτῶν), но Я вывел тебя из земли египетской, и бога (θεόν), кроме Меня, ты не должен знать» (Ос 13:4)693. С другой стороны, быть «богом» фараону – значит говорить с ним через посредника. Но и с народом Бог говорит через посредников, пророков. Принципиальная разница в том, что Свой народ Бог ведет, причем нередко угрожает: «не буду им Богом», и снова утешает: «Я буду их Богом, и они будут Моим народом». Не восходит ли внутренняя логика всех подобных речений к изначальному смыслу еврейских слов, которые переводились на греческий через Qeoq как указывающее на предков рода694 или еще здравствующих патриархов, но в любом случае старших в роду, к которым возводится вся социальная иерархия и которые были предводителями, вследствие чего связь их с народом ненарушима и жизненно важна? По нашему мнению, этого нельзя исключать. Но идея Бога, существующая и помимо терминологии, этим нисколько не умаляется в своей значимости.
4) Бог (идея). Точное сознание этой идеи выражено в таком термине из книги Премудрости Соломона, как «несообщимое имя» (ἀκοινώνητον ὄνομα, Прем. 14:21). В сравнении с обладателем имени «Бог», идолы не только не называются «богами», но и вовсе объявляются «безымянными» (ἀνώνυμοι, ст. 14:27). Когда пророк Илия обращается к народу со словами – «долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте» (3Цар 18:21), – здесь два теологических представления состязаются за право быть подлинным выражением идеи Бога. В сущности, таков смысл всякой настоящей религиозной полемики, всякого столкновения религий на собственно религиозной почве. «В тот день она [т.е. Израиль] назовет Меня “Муж мой”, говорит Господь, и больше не будет называть Меня “Ваалим”. И Я отторгну имена Ваалима от уст ее, и больше не вспомнятся имена их» (Ос 2:16). Здесь «Ваалим» (Βααλείμ) – еврейская форма мн.ч. (םילעב) Переводчик отдает себе отчет в том, что речь идет о множестве богов, так как Ваалы были богами разных местностей. Но для него ценна мысль, потерянная в МТ695, что именно Бог является настоящим, трансцендентным ориентиром даже для ложного богопочитания696. Исторически так и было: государственное язычество в Северном царстве, согласно книгам Царств, начало развиваться после установления здесь альтернативного культа Йахве. Следовательно, рассматривая идею Бога в Ветхом Завете, никогда нельзя упускать из виду то, что Его абсолютная уникальность постулируется в истории. Привязка к месту, времени, слову, лицам – не ограничивает ее, а является единственно возможной при отношении к Богу как главному действующему лицу истории.
В споре Илии со жрецами оба представления, еврейское и языческое, подразумевают качества, внешние по отношению к идее, а именно, их объекты стоят в личном отношении к своим почитателям. Один является подлинным Царем Израиля, другой, – или другие, потому что речь идет то о Ваале, то о Ваалах, – тоже осуществляет властные полномочия, обеспечивает урожай, сражается со злом в лице других богов, требует себе принесения жертв. Идея Бога выступает как источник родовых определений или признаков, на обладание которыми здесь «претендуют» два имени, два объекта религиозного почитания.
Первым из таких признаков, с точки зрения пророка, является единственность: истинным Богом должен быть лишь один из двух. Данное положение Септуагинтой осознано и зафиксировано в интерпретативных переводах, например: «Кто Бог, кроме Господа, и кто Бог, кроме Бога нашего?» (Пс 17:32)697. В другой цитате «Бог» в собственном смысле, с определенным артиклем (ὁ θεός), отождествлен с «Богом нашим» (ὁ θεός ἡμῶν) и противопоставлен «богу чужому» (θεός ἀλλότριος), без артикля (Пс 43:21–22). Также артикль используется для утверждения: «Господь Бог – это и есть Бог, и Господу Богу, который есть Бог, известно...» (Нав 22:22), вслед за чем следует клятва, условия которой подразумевают всеведение и всемогущество Бога Израилева, иными словами, Его подлинную Божественность698. Фраза «Узнаешь, что нет такого, как (־כ ןיא) Господь Бог наш» переведена на греческий: «Узнаешь, что нет иного, кроме (οὐκ ἔστι ἄλλος πλὴν) Господа Бога нашего» (Исх 8:6).
Второй признак – бытие причиной. Речь идет о действенной причине изменений, вторгающихся в привычный порядок вещей, ради выявления которой пророк Илия предлагает жрецам Ваала сделать опыт с жертвоприношением без рукотворного огня: «И воскликните вы во имя богов ваших, а я призову во имя Господа, Бога моего; и будет, тот Бог, который ответит огнем, тот есть Бог» (3Цар 18:24 LXX). Септуагинта здесь противопоставляет Ваала как собирательное имя множества богов (θεῶν ὑμῶν) Господу как единственному Богу (τοῦ θεοῦ μου), также подчеркивая посредством определенного артикля идею единственности. После чудесного нисхождения огня на жертву Илии народ восклицает: ἀληῶς κύριος ὁ θεός, αὐτὸς ὁ θεός {поистине, Господь Бог – Он есть Бог} (ст. 39)699.
Третьим признаком является свобода: Бог требует призывания или молитвы, а не магического обряда, именно в силу того, что в Его власти находится откликнуться или не откликнуться. В отличие от жрецов Ваала, Илия не совершает никаких символических действий, связанных с мифом и воспроизводящих его сюжет, – для привлечения благосклонности своего Бога, он только молится.
Четвертый признак, устанавливаемый анализом этого сюжета, есть безусловность. Представление Илии о Боге исключает возможность того, над чем он «насмехается», говоря жрецам об их Ваале: «Кричите громким голосом, ведь он бог; может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется» (ст. 27). Слова «ведь он бог» применительно к Ваалу здесь указывают на языческое понятие о Боге, которое иллюстрируется как полностью не соответствующее идее Бога. Здесь легко заключить от противного, что истинный Бог не нуждается в сокращении расстояния для того, чтобы слышать, не переключает внимание, не осуществляет смены занятий, не перемещается, не засыпает. Это фактически означает, что Он вездесущ и, как выражается древнегреческий переводчик, ἀέναος – «присносущен» (Иов 19:25)700.
Безусловность означает также недоступность для восприятия, не только чувственного, но и интеллектуального, поскольку предмет, поставленный вне всяких условий, не может быть охвачен мыслью, всегда образующей понятия в определенном контексте. По нашему мнению, эта недоступность подразумевается для переводчиков Септуагинты уже самой семантикой слова θεός (ср.: Платон. Теэтет 176 b), что выражается у них, в частности, в передаче этим словом библейской метафоры רוצ701.
Существительное רוצ по консонантной форме совпадает с глаголом, означающим «стеснять», «ограничивать», «сжимать», «осаждать» – отсюда получаются значения «твердыни», «скалы» и даже просто «камня» (πέτρα), лежащего на дороге и служащего камнем претыкания (ср.: Суд 6:20, Пс 26:5, 60:3, 80:17, Ис 8:14). Другой родственный глагол – רצי – систематически переводится в Септуагинте как πλάσσω {творить, создавать образ}. Например, Бог сотворил человека из праха земного (Быт 2:7), устроил жатву и весну (Пс 73:17), вылепил по одному, как штучный товар (κατὰ μόνας), сердца всех людей (Пс 32:15). В последнем случае оригинал употребляет существительное רצוי (создатель, мастер). Такой же смысл усваивается самому слову רוצ для 1Цар 2:2 иудейской экзегетической традицией, которая отождествляет его в этом месте с ריצ {делатель}702, однако это мало может помочь нам при анализе Септуагинты, которая в данном месте переводит искомое слово через δίκαιος {праведный}703. Зато в других местах, кроме тех, где רוצ отождествлен с θεός, его традиционным значением является βοηθός {помощник}. Обычно такой перевод имеет место в тех случаях, когда переводимое слово следует непосредственно за одним из имен Бога или является определением к нему: «Бог мой, помощник мой» (Пс 17:3), «Господи, помощник мой» (Пс 18:15), «и вспомнили, что Бог помощник их» (Пс 77:35), «[был] Бог мой надежным помощником мне» (Пс 93:22). Иногда вместо βοηθός ставится ἀντιλήπτωρ {защитник}: «Бог мой и защитник...» (Пс 88:27). Еще один вариант – φύλαξ {хранитель}.
Можно заметить, что при переводе термина רוצ толковники сознательно избегают удвоения как слова θεός, так и двух других: βοηθός, ἀντιλήπτωρ. В паре с одним из последних, или с их синонимами (напр., ὐπερασπιστής), когда они соответствуют иным еврейским терминам, всегда появляется θεός в качестве эквивалента רוצ. Отсюда уместно сделать вывод, что переводчики рассматривали для последнего слова оба значения – «Бог» и «помощник» (или заступник) – как эквивалентные. Но в точной семантике термина רוצ не содержится ни одного из них. Почему же не был избран более близкий по смыслу термин? Боялся ли переводчик переводить через πλάσσων {мастер}, потому что языческий читатель, ориентируясь на традицию «Тимея», мог воспринять наименование Бога «Создатель мой» как обращенное к одному из младших богов, создавших по поручению демиурга род человеческий? Такого «полемического» мотива нельзя исключить, однако было бы трудно доказать, что во всех этих случаях толковники усматривали за רוצ близкие, но отнюдь не тождественные ему ריצ и רצוי. Им было, несомненно, известно основное значение слова – «камень». Может быть, они опасались того, что иудеев примут за поклоняющихся камням, если Богу будет усвоен эпитет πέτρα? Это резонное соображение, особенно учитывая то, что сирийцы говорили о Нем: «Бог их есть Бог гор, а не Бог долин» (3Цар 20:23).
Однако это не есть ответ на вопрос, почему רוצ переводится именно как θεός при описании характеристик Бога или Господа, так что нередко два слова «Бог» оказываются стоящими хотя и не подряд, но близко друг к другу в пределах одной фразы или одного периода, будучи переводами, соответственно, традиционного названия םיהלא и более редкого – רוצ. Неправильно думать, будто толковники вообще избегают символически называть Бога именами неодушевленных предметов: они, следуя своему оригиналу, называют Бога «твердью» (στερέωμα), «светом» (φωτισμός), «башней» (πύργος), «прикрытием» (σκέπη). Напротив, правильнее говорить не об уместности или неуместности данной метафоры, а об универсальности слова θεός, которое используется и как перевод метафор, представляющих собой одушевленные предметы. Например, слово ריבא в Пс 131:5 передано не буквально – «Сильный», а иносказательно – «Бог». Имя לא, которое Акила местами переводит, например, как ἰσχυρός (Пс 88:8), в Септуагинте всегда – «Бог», и так же לא ינב – обычно «сыны Бога», а не «сыны силы»704. Возможно также, что еще одно родственное слово – ריצ, означающее нечто вырезанное и единожды употребленное в Библии со значением «истукан», переводчики имели в виду, когда переводили эпитет רוצ на греческий; в этом случае «быть богом» – значило бы «быть изображением бога», и смысл заключается в том, что для еврея сам Бог служит ориентиром, который другими народами полагается в их идолах. Однако редкость употребления этого термина в еврейском тексте позволяет предположить лишь то, что переводчики смешали его содержание с понятием о «скале», но не то, что во всех интересующих нас случаях они читали слово «изображение», благочестиво заменяя его при переводе именем Бог.
Итак, для Септуагинты характерна унификация перевода терминов, напрямую относящихся к сказываемому о Боге, и все те признаки, которые вообще ими предполагаются, вбирает в себя понятие θεός. Остается спросить, какое Божественное свойство усматривали толковники за словом רוצ? По всей видимости, это свойство оказывать помощь, ибо есть места, где רוצ переводится таким образом вне теологического контекста. Например, в Пс 46:15, где речь идет о собственной силе нечестивых людей, на которую они надеются: «помощь (ἡ βοήθεια) их назначена к уничтожению»705. Или в Пс 88:44, где то, что современные переводы называют «острием меча», греческий толковник разъясняеткак «помощь меча» (βόηθεια τῆς ῥομφαίας), тем самым показывая, что семантика еврейского корня, связанная с представлением о «скале», здесь подразумевает не заострение кверху, а мощь, крепость, устойчивость, «поддержку». Подтверждение этому находим в Ам 4:13, где רצוי переводится как «утверждающий» (στερεῶν), причем речь идет в греческом тексте об «утверждении грома», т.е. распространении его по высоте небесной (ср. Ос 13:4: axepetov относится к небу). Соответственно, понятие רוצ ближе всего по смыслу к представлению о высокой твердыне; если это «скала», то такая, на которой можно держать оборону вследствие ее неприступности, стеснения со всех сторон ее собственной инаковостью в окружающем мире, высоты и монолитности. В частности, «путь» (ὁδός) змеи на такой скале остается непонятным даже премудрому Соломону, подобно пути корабля в море и следу орла в небе (Притч 30:19).
Контексты, в которых переводчики делают свой выбор в пользу «θεός», иногда кажутся трудными для понимания: «Боже мой, не безмолвствуй для меня» (Пс 27:1); «Стань мне Богом, защитником» (Пс 70:3); «Не воздвигайте на высоту рога вашего, и не говорите на Бога неправды» (Пс 74:6)706. Во всех этих случаях рационально объяснить предпочтение слова «Бог» другим возможным вариантам – «защитник», «утверждающий» и т.п. – можно только при допущении, что мысль толковников работала на теологическом уровне. Именно так и было: они понимали слово רוצ в этих контекстах не только по буквальному смыслу, как «скала», но и символически – как метафору отделенности, высоты и удаленности самого Бога, причем в этих Своих качествах Он выступает и как прибежище для человека, и как искомая всеми недостижимая вершина. Для сознания язычников перевод этой метафоры словом ттётра, очевидно, был бы снижающим707. Наоборот, слово θεός в традициях эллинской этимологии предполагало то, чего не выражали его главные древнееврейские эквиваленты – «бегство», неуловимость, неудержимость. Призыв «стань мне Богом, защитником и местом прибежища, чтобы спасти меня» выходил не обедненным, а более содержательным в сравнении со «стань мне скалой...» или «стань мне помощником...», потому что слово «Бог» подразумевало здесь абсолютный статус всего далее перечисляемого (по природе высшее, в отличие от 3-го значения того же слова), возводило праведника на недосягаемую высоту провиденциальной заботы о нем. Несомненно, что решающее влияние на такую практику перевода оказали прецеденты из Пятикнижия, прежде всего такого влиятельного литургического текста, как песнь Моисея. Во Втор 32:4 выражение ולעפ םימת רוצה действительно трудно перевести буквально. Синодальная редакция предлагает вариант: «Он твердыня; совершенны дела Его». Греческие толковники написали: «Бог – истинны дела Его» (θεός, ἀληθινὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ). Отметим, что вообще в Септуагинте истина (ἀλήθειὰ) предстает одним из качеств Бога наряду с милостью (ἕλεος), причем этими качествами Он владеет и распоряжается, а не ограничивается708.
Всем вышесказанным подтверждается для нас теория русского философа Несмелова, согласно которой собственным содержанием идеи Бога является «реальное бытие живой Личности, обладающей могуществом свободной причины и достоинством подлинной цели»709, причем в Библии эта идея достигла максимально ясного выражения уже на еврейском языке, а Септуагинта исходит из нее в некоторых интерпретативных переводах. Несмелов показывает, что в идее Бога человек возводит к идеальному прообразу ему самому присущее от природы духовное, т.е. свободное и разумное начало. Свобода проявляется в необусловленности выбора чем-либо, кроме собственного суждения, как правило притязающего на разумность710. Именно поэтому беспримесное выражение идеи Бога в религии, – т.е. при фундаментальном допущении возможности установления связи (religio) между Богом и человечеством, – возможно лишь в форме откровения о Его суверенной воле, которая должна быть разумной по определению711. Нетрудно заметить, что все свойства Бога Израилева, которые делают Его описание конкретным воплощением идеи, связаны с Его самоопределением именно как Бога, вступающего в личные отношения с установленным кругом лиц: здесь и личное отношение к избранному народу, и свобода в заключении Завета, и непостижимость заповедей, данных в Законе, так что они сами по себе могут быть истолкованы как частные определения воли без всякого дополнительного смысла. В таких конкретно-исторических религиозных условиях идея Бога вообще вновь предстает в форме понятия о конкретном Боге, и это понятие выражается в исторически данном, исторически разъясненном и онтологически перетолкованном (как было показано выше) конкретном имени Господь.
KϒΡIOΣ
Обычно это слово стоит без артикля, как будто оно служит заменой имени собственного712. Когда говорится об «имени славном Его» (τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ), т.е. Бога, чаще всего из контекста ясно, что подразумевается оно. «Благословен Господь (κύριος), Бог Израилев (ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ), единый творящий чудеса, и благословенно славное имя Его, и да исполнится славы Его вся земля: да будет, да будет» (Пс 71:18–19). Прежде всего с именем «Господь» Бог стоит в личном отношении к верующим как заключившим Завет, что часто уподобляется вступлению в брак. «Господь Бог – это ревнивое имя, Он есть Бог Ревнитель» (Исх34:14)713.
Однако это имя одновременно является понятием, выражающим именно тот смысл, который присущ ему семантически. Так, в одном из псалмов словосочетание תואבצ הוהי переведено как κύριος τῶν δυνάμεων (господин сил). Причем в этом же псалме дается истолкование имени: «По имени Твоему, Боже, такова и хвала Твоя на концах земли: правосудия исполнена десница Твоя. Да возрадуется гора Сион, да возвеселятся дщери Иудейские из-за судов Твоих, Господи» (Пс 47:11–12)714. Правосудие как сущность господства – тема, появляющаяся в разных контекстах (ср. Иов 34:17), а представление о небесном Судии входит составной частью в библейское понятие о Боге: «И возвестят небеса правду Его, что Бог есть Судия» (Пс 49:6). Характеристика Бога как «Господа сил» означает как то, что Он имеет довольно средств для осуществления неминуемого суда над всем миром, так и то, что Им через Его силы осуществляется руководство вселенной, справедливо устроенной. Последняя точка зрения вытекает, в частности, из финала книги Иова, однако доктринальной определенности она достигает в эллинистическое время, по всей видимости, не без связи с философским представлением о справедливости как интегральной добродетели; во всяком случае, элемент теодицеи всегда присутствовал в подобного рода рассуждениях (ср. Сир 33).
То, что собственное имя Бога Израилева – הוהי или «тетраграмматон»715, везде переводится в Септуагинте словом κύριος ближайшим образом объясняется из существовавшего в ветхозаветные времена запрета на произнесение этого имени. Запрет не был немотивированным и вряд ли был связан с каким-то магическим страхом перед силой имени, как объясняют это позднейшие агадические источники716. Сохранилось предание, согласно которому «в Храме произносили имя так, как оно пишется, а вне Храма произносили его видоизменение» (Талмуд. Сота VII. 6). Тем самым, очевидно, должна была ограждаться от посягательств единственность иерусалимского Храма как места поклонения и подтверждаться аутентичная древность этого установления, – ведь уже самаритяне, составившие особую религиозную группу в V в. до н.э.717 и владевшие собственным текстом Пятикнижия, по-видимому, не знали, как произносится имя. Его «видоизменением», упомянутым в трактате Сота, должно быть, уже с самого начала было ינדא718, переводом которого и является греческое слово κύριος (хозяин, господин). Постепенно в среде храмового священства тоже было утрачено знание правил произнесения имени. Предание повествует об этом так: «В тот год, когда умер Симон Праведный, он сказал им: в этом году я умру. Они спросили его: откуда ты это знаешь? Он отвечал: ежегодно в день очищения мне встречался старец в белых одеждах, как нижних, так и верхних; он входил со мною [в Святое святых] и выходил со мною, а в этом году он вошел со мною, но не вышел со мною. После регела он проболел семь дней и умер, а его товарищи (букв, братья: ויחא) перестали в благоговении произносить Имя» (Сота, Тосефта 13. 8). Стоит отметить, впрочем, что в предании речь идет не об утрате, а о прекращении устного произнесения, т.е. о переходе имени как бы из внешнего плана во внутренний, что, по-видимому, символически связано с исчезновением таинственного старца во Святом святых.
Со смертью Симона Праведного традиция связывает начало заката иерусалимского храмового культа. Представляется также не лишенным символизма то, что Симон узнал о своей смерти в день очищения (или покрытия грехов), т.е. в тот день, когда культ на храмовой горе более всего соответствовал своему предназначению. Это позволяет связать утраченное имя с открытостью Бога для принятия жертв и прощения грехов. Само имя, которое ставится здесь в параллель со старцем-священником, привидевшимся Симону, оказывается как бы священнодействующим в Храме719. Здесь имя Бога выступает в той роли, которая традицией таргумов усваивается Его слову (мемра)720, и это может послужить объяснением отождествления уже в ранней христианской экзегезе ветхозаветного имени «Господь» (κύριος) со «Словом» (λόγος) Евангелия от Иоанна721.
В древнейших из найденных археологами рукописях Септуагинты обнаружено, что имя первоначально вписывалось как тетраграмматон, еврейскими буквами722. Акила в своем переводе шифрует его знаками, напоминающими буквы палеоеврейского алфавита, которые соответствовали бы тетраграмме היהי

723. Оба способа передачи отражают синагогальную практику замены имени словом ינדא только во время чтения и служат аргументом в пользу того, что и Септуагинта, и перевод Акилы вначале создавались для богослужебных целей. Неизвестно, произносилось ли греческое κύριος в самом начале александрийской литургической практики, или предпочтение отдавалось все еще слову ינדא724. В кумранских фрагментах греческой книги Левит тетраграмма заменена словом iao, которое представляет собой звук, а не термин725. Вероятно, это такая же условность, как и Jehovah – имя, образованное наложением огласовок слова ינדא на буквенный состав слова הוהי Однако из примеров употребления текста Септуагинты в Новом Завете ясно, что к началу христианской эры традиция писать на месте священного имени его перевод, κύριος, получила широкое распространение, сам же термин приобрел не только молитвенное, но и богословское значение. Последнее видно из того, что в некоторых текстах он перестал быть способом произнесения имени собственного, фактически сделавшись понятием. Речь идет о тех переводах из пророческого корпуса, где Бог называется «Господь Саваоф» (κύριος Σαβαωθ) и «Адонаи Господь» (Αδωναι κύριος), а также «Господь сил» (κύριος τῶν δυνάμεων) и т.п. Сами по себе термины Σαβαωθ и Αδωναι, в некоторых случаях оставленные без перевода, по своей распространенности не могли составлять какой-либо тайны для переводчика, даже неопытного. Вполне возможно, что и грекоговорящие иудеи диаспоры знали, что они означают буквально. Решение передать их посредством транслитерации выглядит как относящееся к области стиля: в их лице чуждое греческому слуху «варварское» слово вторгается в греческий текст и представляет в нем имя собственное726. Тем самым подчеркивается персональный характер Бога, потому что имя есть принадлежность лица727. Стилистическое влияние этого решения на последующее культурное развитие прослеживается вплоть до русской культуры начала XX в.728 Таким образом, имя собственное и понятие, относящееся к этому имени, поменялись местами: если понятия «Саваоф» и «Адонай» сделались именами, то имя «Господь» (κύριος) стало понятием-определением при них.
Впрочем, насколько сознательным был этот процесс, мы не знаем: в таких обращениях, как αδωναι κύριε ελωαι σαβαωθ (1Цар 1:11), слово κύριος выступает скорее как имя в ряду других имен, чем как понятие, определяющее носителя этих имен. Ясно только, что буквальное значение термина было прозрачным и не могло не влиять на сознание читателя, который воспринимал Бога преимущественно как Господа – хозяина жизни, мудрости, стихий, пространства, времени, самого бытия. Важен здесь переход от литургического употребления текста к его теологическому чтению и осмыслению, которыми во многом обеспечивалось развитие религиозной мысли. Участвовавшие в богослужении знали, что словом ינדא или κύριος заменяется непроизносимое имя Бога, которое выражает Его сущность согласно откровению, полученному Моисеем, оставшимся наедине с Ним. Божественная сущность была для них тайной, и, как Господь, Бог был также хозяином и этой тайны. Тема таинственности, сокрытости собственного имени Бога начинается не в «устной Торе» раввинов, она проходит через всю библейскую традицию, от единоборства Иакова с ангелом до Апокалипсиса Иоанна (Откр 19:12). Библейский ответ на вопрошание человека о Божественном имени: вску́ю сiе́ вопроша́еши ты́ и́мене Моего́? Е́же чу́дно е́сть (Быт 32:29)729. Случаи употребления непереведенных имен Бога, видимо, следует отнести сюда же: они, как и не имеющие явной этимологии человеческие имена, создают впечатление таинственности, сокрытости личного бытия.
Другую тему, существующую параллельно с первой и в противоположность ей, представляет собой имя как предмет откровения, в котором выясняется самая реальность, за именем скрывающаяся. Выше мы рассматривали перевод определения היהא רשא היהא и связанное с ним объяснение имени הוהי в книге Исход. Само наличие этой интерпретации говорит против восприятия имени Бога как тайны, которая не должна быть раскрыта. Если это человеческое слово, состоящее из знаков и наделенное смыслом, оно должно подлежать и переложению на другие языки. Однако подобный взгляд в самом начале работы Семидесяти толковников, по-видимому, не касался богослужебной традиции. Они сами не проводили различия между «вселением» имени Бога в Сионе и его «призыванием» там. Судить об этом позволяет греческий перевод известной заповеди Второзакония: «И будет, [на] место, которое изберет Господь Бог ваш, чтобы призывалось имя Его там, вы принесете все, что Я заповедую вам сегодня: всесожжения ваши и жертвы ваши, и десятины ваши и начатки труда вашего, и всякий избранный дар ваш, какой вы дадите по обету Господу, Богу вашему» (Втор 12:11). Различие с еврейским текстом наблюдается здесь в одном, но существенном пункте: оригинал говорит о том, что Бог избирает место, «чтобы вселить» (ןכשל) имя Свое там, а греческий перевод утверждает: «чтобы призывать» (ἐπικληθῆναι). А. Эймелеус видит в этом пример переводческой интерпретации, которая вовсе не лишена логики: «Присутствие имени выявляется его призыванием»730. Но Эймелеус также полагает, что такая интерпретация существенно меняет акцент всего предписания: «Хотя было бы слишком смело утверждать, что перевод здесь проявляет тенденцию к универсализму, он, по крайней мере, делает возможным иное толкование, по которому не только Иерусалим будет пониматься как избранный град, но и любое место, где призывается Бог Израилев»731. Мы позволим себе не согласиться с этой точкой зрения. Изначально в контексте признания единственности Сиона как центра религиозного культа, которое никем, кроме сектантов-пустынников, не оспаривалось до самого времени разрушения Храма, отождествление «вселения» и «призывания» могло только закреплять мысль о том, что имя Бога нигде больше не призывается по-настоящему, кроме как там, где оно вселяется. Возможно, переводчики желали уклониться от антропоморфизма и давали понять, что «вселяется» имя, собственно говоря, в прообразе Храма на небесах (см. раздел II. 2.3), а в его земном слепке оно лишь «призывается». Однако единственность земного центра богопочитания этим нимало, даже потенциально, не ставилась под сомнение.
Известно, что в египетском Леонтополе в 160 г. при Птолемее Филометоре первосвященником Онией IV был основан храм по образу иерусалимского, в чем проявилась, несомненно, все та же концепция небесного Храма и его земной репрезентации, которая может, как это и засвидетельстовано в каноне (Пс 77:60), перемещаться с одного места на другое, пока Господь не найдет Себе «покоя». Статус этого храма, до самого его разрушения римлянами, остается для историков неясным. Источники отзываются о нем глухо732; есть сведения, что в нем приносились жертвы и что мудрецы наложили запрет на эту нечестивую практику733. Если последнее соответствует действительности, то следует принять во внимание, что Ония ушел из Иерусалима из-за несогласия с политикой правителей-эллинистов и, в его собственном представлении, унес наследственное право на священнодействие с собой в диаспору. Таким образом, Божественное имя как бы перешло с одного места на другое, и тем самым заповедь Второзакония формально не была нарушена, хотя должно было возникнуть противоречие с пророчеством псалма: «Господь вселится [в Сионе] до конца» (Пс 67:17). Последнее, однако, уравновешивалось тем, что пророки возвещали учреждение истинного богослужения в Египте (Ис 19 и др.). Ония мог думать, что эти слова сбываются в его время, сначала через оставление Иерусалима благодатью, что не исключало впоследствии воссоединения еврейского мира и возможности призывания имени тогда уже в нескольких местах. Нет оснований утверждать, что богослужение в этом египетском храме обязательно велось на греческом языке и в особенности что Бог призывался там под именем κύριος, а не ינדא. Но если богослужение, сообразно нуждам диаспоры, и было грекоязычным, то, возможно, списки Септуагинты, которые содержат еврейское написание имени, восходят еще к этой богослужебной традиции.
В Септуагинте мы наблюдаем, как возникает развилка между инклюзивистским и эксклюзивистским подходами к языку богопочитания в иудействе, причем возникает она органично, как расхождение двух функций текста: богослужебной и богословской, или вероучительной. Согласно преданию о том, как была переведена греческая Библия, это расхождение было заложено в самом начале, когда работа переводчиков была заказана царем Птолемеем для его государственной библиотеки, но тут же одобрена главами александрийской диаспоры для своих нужд. Недоверчивое отношение к преданию будет отодвигать эту дифференциацию ближе к началу новой эры и растягивать ее в эволюционный процесс. Так или иначе, она произошла: Септуагинта стала книгой для чтения, которой – и только ею как версией Писания евреев – пользовались историки и философы (Нумений)734, и она оставалась в то же время литургическим каноном грекоязычного иудейства. Но вслед за расхождением наступило воссоединение, когда навык произнесения священного имени был утрачен и своеобразие богослужебного текста, как ориентированного на Храм самой фигурой умолчания, перестало быть востребованным. Для первых христиан, молившихся словами Ветхого Завета, призывание имени «Господь» уже не было фигурой умолчания по целому ряду причин: они знали, что в самом Храме употребляется по-еврейски то же самое имя (ינדא); среди них были в меньшинстве представители священнического сословия, которые хотя бы хранили память о том, что раньше имя произносилось по-другому и означало иное; они были уверены, что живут в новое время, когда призывать имя Господне стало возможно на всей земле, поэтому утраченная на практике дифференциация теряла свой смысл и в теории. Христианские тексты I в. и сама воспринятая первыми христианами Септуагинта, в отличие от более позднего перевода Акилы, не содержат никаких следов тетраграмматона. Здесь надо заметить, что это не было нововведением самих христиан: по названным выше причинам слово «Господь» уже приобрело статус имени в контексте возникновения новозаветной литературы.
Итак, слово κύριος вошло в богослужебный обиход как «собственное имя Божье, принадлежащее Ему как истинному Богу»735, тем самым окончательно заменив слово הוהי, вышедшее из употребления, согласно традиции, в начале III в. н.э. Однако последнее не было совсем утрачено; греческий текст сохранил его в виде перевода определения היהא רשא היהא через ἐγώ εἰμι ὁ ὤν, причем исследователи тетрограмматона пришли к таким выводам, согласно которым можно считать, что собственно к היהא относится ἐγώ εἰμι, в то время как ὁ ὤν относится собственно к הוהי. И если в еврейском тексте Бог на вопрос о Своем имени отвечает «Я есмь, Кто есмь», удостоверяя народ в Своем неизменном пребывании с ним, то греческий текст «спасает» смысл непроизносимого имени как раз тем, что вместо этой обнадеживающей тавтологии вводит имя сы́й, которое уже не феноменально, а онтологически выражает «самобытность, вечность и неизменность существа Божиего как Личности; имя Того, Кто был, есть и будет»736. При этом феноменальный смысл, указывающий на бытие как присутствие, а именно на присутствие Бога со Своим народом и также, по экспликации, на Его присутствие во всей вселенной, где Он всякий раз предваряет и встречает Свой народ, высылаемый из обетованной земли, – также сохранен в греческом тексте, он как раз и стал выражаться в повсеместном призывании Бога под именем «Господь».
Обусловленная, на первый взгляд, случайными обстоятельствами связь между именами ὁ ὤν и κύριος, одно из которых строго онтологично, а другое строго феноменально в своих исходных значениях, на самом деле, судя по всем имеющимся в Библии определениям, была глубоко продуманной и традиционной. В силу того, что Господь есть Сущий, Его господство до противоположности отличается от земного. А именно, земное господство так или иначе является способом присвоения, но Божественное заключается в том, что сам Господь отдает Себя. «Сказал я Господу: Господь мой Ты, ибо в благах моих не имеешь нужды... Господь – часть наследия моего и чаши моей, Ты – возвращающий наследие мое мне» (Пс 15:2:5)737. Здесь полностью отвергнут языческий мотив «кормления» богов и жертвы как компенсации, а само жертвоприношение, намек на которое содержится в специальном термине «часть», объяснено как даяние Самого Бога, силы Которого неистощимы: «Поэтому возрадовалось сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя поселится с упованием, что ты не оставишь души моей в аду и не позволишь праведному Твоему видеть нетление. Ты дал мне знать пути жизни, преисполнил меня радостью с лицем Твоим, наслаждение в деснице Твоей до конца» (стт. 9–11).
Среди прочих определений важна сохраненная Септуагинтой интерпретация Иер 23:23, где Господь называет Себя «Богом приближающимся» (θεὸς ἐγγίζων), «а не Богом отстоящим» (θεὸς πόρρωθεν), при этом указывая на невозможность скрыться от Него, наполняющего небо и землю738. Этим указывается, по нашему мнению, на повсеместность присутствия Бога во вселенной, вплоть до имманентности, что приложимо к раскрытию смысла обоих имен: со стороны наличия повсюду, т.е. приближенности, равной прикосновенности к любой точке бытия – Он есть сы́й, а со стороны деятельного, не пассивного пребывания в таком качестве – Он есть Господь. Оба имени по отдельности не могли бы выразить этой мысли (но, возможно, ее как раз и выражало древнееврейское слово הוהי, так как семитским языкам несвойственны абстрактные понятия, которые нужны для выделения онтологии в самостоятельный дискурс)739, они выражают ее только в соотнесенности друг с другом.
Понятие о Господе как «близком» выражено и в других текстах, где Септуагинта не представляет особого интереса, но они могут подтвердить сказанное выше. Например, изречение пророка Иоиля: «И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я Господь Бог ваш, и нет другого» (Иоил 2:27). Оно содержит оба плана утверждений: феноменально Бог «посреди Израиля» (לארשי ברקב, ἐν μέσῳ τοῦ Ἰσραήλ), онтологически же «нет другого» – буквально «нет еще» (דוע ןיא) или, в расширенной греческой интерпретации, «не существует больше [никого], кроме Меня» (οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ). Они опосредуются напоминанием: «Я Господь Бог ваш», где «Господь» (הוהי) – имя (κύριος), а словосочетание «Бог ваш» (םכיהלא), как сочли переводчики, судя по употреблению ими артикля, представляет собой понятие (ὁ θεὸς ὑμῶν). Рассматриваемая фраза – это, по сути, очень содержательный богословский текст: «нет другого» – значит «у вас нет другого Бога», потому что «Я Бог ваш», но ведь ясно, что другого нет и не может быть в принципе, потому что Бог един; узнать это достоверно есть историческая цель бытия Израиля, который всегда бывает посрамлен, когда обращается к ложным богам; однако узнавание тем и обеспечивается, что «Я посреди Израиля», т.е. опять же «Бог ваш». Во всем этом сплетении смыслов слово «Господь» избыточно, фраза могла бы обойтись без него, если бы оно не было именем, которое характеризуется целой фразой, благодаря чему она может быть понята как определение. Если, таким образом, слова «Я Господь» (ἐγὼ κύριος) представляют смысловой центр стиха, то понимание «господства» в Септуагинте далеко выходит за пределы обычного, которое выражалось бы, например, глаголом δεσπόζω.
Выбор Семьюдесятью именно слова кирюс; для перевода собственного имени Бога выглядит не случайным. С одной стороны, это название использовалось в античной литературе. «Зевс всему владыка» (Ζεὺς ὁ πάντων κύριος) – пишет Пиндар в 53-й строфе 5-й Истмийской песни. Некоторые инскрипции начала нашей эры, носящие посвящения богам, также содержат этот эпитет, однако ни в классической античности, ни в эпоху эллинизма его употребление не носило преимущественного характера740. С другой стороны, для титулатуры богов использовался нередко термин δεσπότης, а в трагедии Еврипида «Ипполит», строфа 88, старый слуга называет царя «господином» (ἄναξ), мотивируя это тем, что «богов только подобает звать владыками» (θεοὺς γὰρ δεσπότας καλεῖν χρεών). Впрочем, слово ἄναξ, в свою очередь, тоже широко представлено в мифологии как героев, так и самих богов. На фоне этих и других наименований слово κύριος имеет важную смысловую особенность: оно выражает идею господства не только как внешнего отношения к объекту обладания, но и как определения самого субъекта, обладающего какими-то собственными качествами. Например, узкий смысл слова или особое свойство предмета могли быть их κυριότης (лат. proprietas). Господь в Ветхом Завете – Тот, Кто господствует и над миром, и в нем, оставаясь всегда «Богом вблизи», являясь конечной и непосредственной причиной всех происходящих в мире событий, но в то же самое время сохраняя Свою самобытность, несводимость к любому конкретному явлению, которая так же содержится в семантике слова «κύριος». Если все сказанное было верно для сознания толковников, то имена κύριος и ὁ ὤν фактически могли рассматриваться как синонимы.
Так идея всецелой наполненности мирового пространства «вéдением Господа» (Ис 11:9) получала в греческом имени Бога подходящий инструмент для своего выражения, а такие воззвания, как «Воскликните Господу, вся земля, пойте имени Его...» (Пс 65:1)741, побуждали усомниться в том, что произнесение священного имени должно было быть навечно привязанным к одному набору звуков и единственному месту на земле.
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ
Имя παντοκράτωρ {Вседержитель} является переводом с еврейского תואבצ (Цеваот: Сила, Войско, мн.ч. ж.р.) в целом ряде канонических книг (2–3 Цар, 1 Пар, Иов, Иер, Ам, Агг, Зах, Мал и др.). Дословный перевод – «Господь сил» (κύριος τῶν δυνάμεων) – встречается в некоторых частях канона, видимо, связанных с редакцией Оригена742. Местами, как уже отмечалось, имя оставлено в Септуагинте без перевода: Саваоф (Σαβαωθ). Другой источник такого перевода – слово ידש (напр., Иов 5:17)743.
Языческий эллинизм также знал этот эпитет. В одной из критских надписей на камнях женщина, просящая «душевных благ» для умершего супруга, призывая Гермеса, называет его παντοκράτωρ ἐριούνιος, (Вседержитель [и] Податель счастья)744. Надпись датируется II в., поэтому не может свидетельствовать о языческом влиянии на библейское словоупотребление; допустимо предположить обратное влияние. По контексту, слово «Вседержитель» указывает на способность «соблюсти» (φυλάσσω) человека во время загробного путешествия. В Септуагинте значение этого термина в большей степени онтологично:
Ты над всеми начальствуешь (ἄϱχεις), Господи, начальствующий (ἄϱχων) всякому началу (πάσης ἄϱχῆς), и в руке Твоей крепость и могущество, и в руке Твоей, Вседержитель (παντοκϱάτωϱ), [власть] возвеличить и укрепить все (1Пар. 29:12).
В еврейском оригинале этого фрагмента, каким он дошел до нас, имя תואבצ отстутствует745. Возможно, в основе перевода лежал более ранний вариант, но может быть и так, что Септуагинта включила в себя позднейшую глоссу или ввела ее уже на языке перевода. В таком случае эта глосса, скорее всего, была призвана установить соответствие между именами κύριος и παντοκράτωρ, дав определение каждому из них, так как подобный контекст, в котором имя обрамляется перечислением похожих свойств, по сути представляет собой определение, а именно, здесь наличествует параллель из двух славословий с одинаковой хиастической структурой:
Ты над всеми начальствуешь
Господь
Начальствующий всякому началу
В руке Твоей крепость и могущество
Вседержитель
В руке Твоей возвеличить и укрепить все.
Таким образом, имя Господь (κύριος) объясняется здесь в соответствии с тем, что уже рассматривалось выше относительно этого имени: Он господствует абсолютно (πάντων), и притом онтологически, будучи основанием для всякого возможного основания (ἄρχων πάσης ἀρχῆς). Соответственно, второе наименование выражает несколько иной аспект Божественных свойств, а именно, Вседержитель (παντοκράτωρ) есть Тот, Кто обладает «крепостью» (ἰσχὺς) и «могуществом» (δυναστεία), – обладает в том смысле, что как бы держит их «в руке», т.е. они представляют собой не просто качества, посредством которых Он может быть описан – они суть качества второго порядка, находящиеся в Его распоряжении, собственность, которой Он может наделять других, поэтому Он способен «возвеличивать» (μεγαλῦναι) всех и сообщать эту «крепость» (κατισχσαι) всякому частному существованию и всему в совокупности (τὰ πάντα)746.
Наличие такого определения в Септуагинте, учитывая, что имя παντοκράτωρ обычно является эквивалентом дополнения תואבצ, подтверждает понимание значения последнего у Н.Н. Глубоковского: это не принадлежность Господа как предводителя войска (будь то ангельского воинства или народа Израилева)747, – во всяком случае, не это подразумевается в первую очередь, – но прежде всего имя Саваоф «выражает беспредельное величие Господа Бога и Его владычество над всем сотворенным, всемогущество и славу»748. Так, из рук Вседержителя, говорит священник Елеазар, «не убежит ни живой, ни умерший» (2Мак. 6:26). К этому следует добавить, что собственный смысл имени состоит в обладании силами (κράτος), поддерживающими бытие и наделяющими каждую отдельную вещь ее особенной силой или мощностью бытия. «Воззрите на высоту очами вашими, и посмотрите: кто изобрел это все? Он выносит по счету убранство Свое, всех именами называет по обилию славы и в силе крепости Своей: ничто не утаится от Него» (Ис 40:26)749. Παντοκράτωρ есть устроитель и законодатель вселенной, назначающий функции каждому предмету (в особенности когда речь идет о больших вещах и масштабных явлениях) по его предназначению и расставляющий, подобно войску, все сотворенное750; Господь небесных светил и моря, давший им «законы» (םיקחה οἱ νόμοι) – солнцу светить днем, луне ночью и все прочее (Иер 38:36).
е) Следствия
Отождествление свойств Сущего и Господа, сделанное переводчиками на библейской основе, но в контексте греческой терминологии, дало значительные следствия для развития богословской мысли. Во-первых, произошло слияние двух, в античный период принципиально различных, планов бытия – онтологического и исторического. С одной стороны, история обрела всесильную причину каждого своего поворота, совпадающую с причиной появления всех вещей из ничего. С другой стороны, само сущее становилось историческим, потому что в нем не было больше ничего случайного или самостоятельного (включая первоматерию), но все было предусмотренным и заданным волей Творца. Во-вторых, ввиду того что Господь Вседержитель признавался не только разумным началом всего существующего, но и началом разумности во всем существующем, библейский волюнтаризм должен был искать ограничения для себя в учении о Божественной Премудрости. Для творения из ничего Премудрость не требуется, достаточно воли и воображения. Возникает она при определении родов и видов сущего, но еще только как человеческая мудрость, постигающая то, что Бог положил Своей властью. Говорить о Премудрости как собственном свойстве самого Бога можно тогда, когда речь идет о разумности как всеобщем свойстве бытия. В Библии это задается не столько онтологическим, сколько историческим порядком: не столько тем, что Бог есть Сущий, а все прочее произведено из несущих, сколько тем, что Он есть Господь, направляющий все к определенной цели. Премудрость, как будет видно (см. раздел III. 1.2), является определением самой этой цели, хода ее воплощения и, наконец, самого этого воплощения как суммарного результата истории.
1.2. Описание Божества
После выделения онтологии в отдельную область библейской мысли разнообразные явления Божества, составляющие своего рода религиозную канву древнееврейского исторического повествования, предстают как феноменология, которая, в свою очередь, тоже требует герменевтического подхода для своей систематизации. Она позволяет описать свойства библейского Бога, несводимые к основной идее о Нем, составляющие, по замыслу и композиции, характер Его как субъекта, самопроизвольно проявляющегося в истории. Но в основе этих свойств лежит Божественная трансцендентность, которая выражается через ряд отрицательных положений или предикатов. Только на ее фоне могут быть правильно (с точки зрения холистского анализа) расположены положительные свойства.
Мы рассмотрим исключительно те описания и концепты Богоявлений, в которых текст Септуагинты представляет какое-либо своеобразие.
1.2.1. Отрицательные свойства
а) Непостижимость
В ходе развития александрийской мысли положение о непостижимости Бога заняло ключевую позицию при построении богословских систем, и для его иллюстрации авторы, начиная с Филона Иудея, пользовались различными символами, среди которых большую популярность приобрел рассказ о получении откровения на горе Синай: «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог» (Исх 20:21; ср.: Филон. Жизн. 1.158). Традиция эта узнаваема и в «Божественном мраке» Ареопагитик, и во множестве других святоотеческих творений.
Но есть места, где мысль о непостижимости выражена ясно – не в предполагаемых образах или аллегориях, а в прямых высказываниях. Например, в речи Софара Наамитянина (Иов 11:7) – «след Господа найдешь ли ты?» (ἦ ἴχνος κυρίου εὑρήσεις;)751. Слово רקח, переданное здесь как «след», означает буквально «проникновение», по экспликации же «изучение», «исследование». Согласно большинству современных переводов речь идет о невозможности постичь Бога исследованием752, достаточно очевидной из общего контекста Ветхого Завета. Но толковники, по-видимому, подозревали здесь более тонкий смысл: человек не может не только «проникнуть» в Бога, но и «найти», т.е. зафиксировать, Его собственное «проникновение» в себе и повсюду753: говоря об этом, Софар иллюстрирует свой тезис, ранее высказанный в адрес Иова: «Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению» (ст. 6). В качестве аналога такого рассуждения можно привести одну известную цитату из новозаветного корпуса: «слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр 4:12).
Если же Бог непостижим в Своих «следах», т.е. в Своем повсеместном присутствии, то всякое богоявление совершается Им по собственному усмотрению; и в то же время непроявленность Божества не означает Его отсутствия.
б) Нелокализуемость
Что Бога нельзя «уловить» – понятно из базовых признаков религиозного опыта, не случайно греки уже в древности этимологию слово θεός производили от глг. θέω {бежать}754. Принципиальное нахождение вне пространства, как и вне времени, есть уже богословская категория, образующаяся в результате такойрефлексии над данными Откровения, которая возбуждается постановкой вопросов на философском уровне мысли.
В качестве признака вовлеченности переводчиков Септуагинты в философский процесс или, во всяком случае, их заинтересованности в очищении своего текста от случайных языческих коннотаций, уже в старое время указывали на прибавление в Исх 24:10, где МТ гласит, что Моисей и старейшины «видели Бога Израилева» (לארשי יהלא תא וארי), a LXX утверждает: «видели место, где стоял Бог Израилев» (εἶδον τὸν τὸπον, οὗ εἱστήκει ὁ θεός τοῦ ἰσραήλ). Такое прибавление во многих отношениях интересно755. Во-первых, оно связано с контекстом: если Моисей беседовал с Богом во мраке, то ясно, что самого Бога никто, включая Моисея, не мог видеть (ср. тж. Исх 33:18–23). Во-вторых, за ним стоит целая традиция, восходящая к книге пророка Иезекииля и еще более ранним религиозным практикам756, которая позднее нашла завершение в т.н. «мистике колесницы», – традиция созерцания богоявлений как проявлений духовной стороны места или предмета, на котором почивает невидимое Божество. Септуагинта свидетельствует о том, что во время первого перевода Библии на греческий язык данная традиция вошла в экзегезу и ее применение к истолкованию конкретных мест не вызывало сомнений. Так, в Пс 131:7 фразу «поклонимся подножию ног Его» (לארשי יהלא תא וארי) толковники, казалось бы, без нужды переводят с усложнением: «поклонимся на место, где остановились ноги Его» (προσκυνήσομεν εἰς τὸν τὸπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ). Это усложнение имеет, однако, первостепенную религиоведческую значимость: оно говорит о том, что пребывание Бога в «селениях Его», т.е. в Иерусалиме, мыслилось во время перевода не только как актуально статическое, но и как потенциально динамическое: это конечный пункт Его путешествия, место, на котором Он остановился. Тем самым еще раз подчеркивается принципиальная несвязанность Бога по природе Его с каким-либо местом.
Стоит отметить перевод глагола בשי {сидеть, жить} посредством глагола μένω {пребывать} в Пс 101:13, где говорится о вечном существовании Бога, – здесь видна все та же наклонность замечать онтологию там, где контекст не вынуждает к дословному переводу. Другая фраза с употреблением того же глагола (Пс 28:10) – «Господь восседал над потопом» (בשי לובמל הוהי) – вообще понята толковниками в ином смысле: «Господь потоп населяет» (κύριος τὸν κατακλυσμὸν κατοικιεῖ), т.е. речь, как и действительно далее в этом псалме, идет о продуктивности Божественной животворящей силы, а не о «сидении» на высоте. Наряду с этим, нередко Бог означается как «обитающий» (ὁ κατοικῶν) на небе, в Храме или в Иерусалиме. Однако, видимо, в эпоху толковников это не понималось буквально: так, в переводе 4Цар 2:1,11 они выражаются о пророке Илии, которого унесла огненная колесница, что он был взят Богом «как бы на небо» (ὡς εἰς τὸν οὐρανόν)757, т.е. небо не считается «местом» действительного пребывания Бога. Согласно переводу Притчей Господь поставил Свой престол «на ветрах» (Притч 8:27), т.е. на «пространстве» без определенных ограничений758. В книге пророка Варуха отмечается, что «дом Божий (или Храм: ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ)... не имеет конца, высок и неизмерим» (Вар 3:24–25). Положительные характеристики: величие, пространность, высота – соседствуют с отрицательными: бесконечностью (οὐκ ἔχει τελευτήν) и неизмеримостью (ἀμέτρητος).
Метафорические отсылки к «высоте», «небу», «Храму» и другим локусам наличествуют как в еврейской, так и в греческой Библии наряду с большим количеством антропоморфизмов. Сама несистематичность устранения или коррекции последних, широкие возможности для чего, казалось бы, предоставлял акт перевода, означает, что переводчики не вели какой-то целенаправленной реформы слова Священного Писания в более философском, идеалистическом духе. Скорее, они просто переводили так, как мыслили759. Отсюда можно заключить, что многочисленные уподобления Бога человеку, согласно которым Он сидит, воцаряется, облачается, встает, препоясывается оружием и т.п., сами по себе не требовали адаптации к сознанию эллинизированного читателя. Они могли уже пониматься метафорически, как в «Исагоге» Адриана, но могли еще связываться и с иерусалимским культом, с пребыванием священного имени κύριος в единственном истинном Храме, который еще стоял и действовал в эпоху перевода, обращая на себя взоры всех правоверных иудеев рассеяния760. Из сказанного видно, что положительные свойства Божества, или Богоявления, для исследования которых Септуагинта предоставляет обильный материал (речь о них последует ниже), диалектически органично связаны с отрицательными свойствами.
в) Вневременность
В Септуагинте (Пс 54:20) Бог именуется «существующим прежде веков» (ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων)761, а Его Премудрость – произведенной «прежде века (πρὸ τοῦ αἰῶνος), от начала» (Сир 24:10)762.
Само понятие времени предполагает начало, середину и конец (Прем 7:17–21). Поскольку Бог прежде начала времени, либо Сам является его «началом», в котором и возникла Премудрость763, Он также подводит итоги в конце времен: согласно Екклесиасту, «там» (םש, ἐκεῖ), т.е. у Бога, «срок всякого дела и [отчета] о всяком деянии» (Екк. 3:17). Годы угодного Ему царя Он продлит ἕως ἡμέρας γενεᾶς καὶ γενεᾶς {до дня рода и рода} (Пс 60:7)764, т.е. до некоего эсхатологического предела, в котором различие между «днем» как наличным временем и «родом» как временем, исчисляемым сменой поколений, теряет смысл. Все это говорит о вневременности Бога как хронологическом, а не теологическом понятии: еще нельзя заключить отсюда о равной и неизменяемой прикосновенности Бога к каждому моменту времени, но можно вывести, что бытие Бога объемлет время и пребывает помимо времени как исчислимой длительности. Возможно, именно положение вне времени мыслилось как то, что позволяет Богу слышать «молитву умерших Израиля» (Вар 3:4), тогда как сам народ является «памятником (μνημόσυνον) Израиля», т.е. напоминанием о данных ему обетованиях – в пределах временного протяжения (Вар 4:5). Тем самым, посредством наследования священного имени патриарха Иакова, устанавливается символическая связь между историей и ее началом, инициированным вневременной Причиной.
Похожая логика в псалме, озаглавленном «Молитва Моисея»:
Господи! Прибежищем Ты сделался нам в род и род.
Прежде, чем стали горы, и образовалась земля и вселенная,
и от века и до века – Ты еси (Пс 89:1–2)765.
Здесь Бог провозглашается существующим (σὺ εἶ) до начала творения, затем – в промежутке между двумя вечностями, одна из которых устремлена в прошлое, а другая в будущее, и этим обеспечивается Его способность быть защитником Своего народа в историческом времени, на всем его протяжении без конца – «в род и род».
1.2.2. Положительные свойства
а) Вечность
Бог называется «вечным» (םלוע, αἰώνιος) уже в канонических книгах766, но особенно часто в греческой книге пророка Варуха, где это прилагательное практически превращается в имя собственное (Вар 4). О том, что Бог – Царь веков, сказано во многих местах Писания, но нигде это не выражено посредством такой строгой формулы обратного взаимного соответствия, как в той же книге Варуха (ст. 3:3) – σὺ καθήμενος τὸν αἰῶνα, καὶ ἡμεῖς ἀπολλύμενοι τὸν αἰῶνα {Ты пребываешь ввек, а мы погибаем ввек}767. Замечательно усмотрение двойного действия «века», т.е. всей совокупности времени: он убивает человека, и он же представляет собой длительность, в которой пребывает неподвластный времени Бог. Потому фактор времени воспринимается и как целительный: «Не вспоминай неправд отцов наших, но вспомни руку Твою и имя Твое в сие время (ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ)» (ст. 5). Будучи одним и тем же в любой момент времени, Бог именно поэтому может «забыть» грех народа, чтобы «вспомнить» о Своем благоволении к нему. Соответственно, пребывание с Богом, в Его Законе преодолевает фактор времени. Так, Израиль «обветшал в чужой земле» и «причислен к находящимся в аду» (стт. 10–11), а если бы он ходил по путям Божиим, то «жил бы в мире ввек (τὸν αἰῶνα)» (ст. 13). Таким образом, Господь характеризуется как владыка времени, Который управляет им, – как видно из дальнейшего рассуждения в той же 3-й главе, – посредством Премудрости. Она, возможно, здесь отождествляется с «Законом» (ὁ νόμος), который также «пребывает вовек» (ст. 4:1).
б) Открытость познанию
Господь, согласно Септуагинте, «познался» (ἐγνώσθη) человеку (Пс 143:3)768 более того – «на земле явился и с людьми обращался» (Вар 3:38)769. Хотя здесь не утверждается ничего, что не было бы известно израильтянам ранее, потому что Бог и «являлся» Моисею, и предупреждал народ о соблюдении святости, «ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего» (Втор 23:14); возможно, та непосредственность, с которой это здесь высказано, стала причиной исключения книги Варуха из иудейского канона, так как она вошла в формальное противоречие со сказанным Соломоном при освящении Храма: «Поистине, Богу ли жить с человеками на земле?» (2Пар 6:18).
В действительности «Александрийский канон» с бóльшим пониманием относится к таким высказываниям, которые предполагают, что Бога можно и познать, и «узнать» в лицо. Вероятно, это должно говорить о наличии в каноне более сильной мистической составляющей, чем в МТ. Однако известно, что раввинскому иудаизму мистика также присуща в высокой степени, причем основные идеи, по-видимому, восходят как раз к эпохе Второго Храма и оформляются еще долгое время, одновременно с работой масоретов770. Поэтому вернее будет говорить не об усилении в Септуагинте, на фоне иудаизма, мистического начала как такового, а о различном отношении к природе мистических озарений. В зрелом иудаизме мистика интеллектуализируется и обезличивается, поэтому требует более схоластического восприятия священного текста. В греческой библейской традиции это восприятие, вопреки позднейшим философским влияниям, остается еще пророческим, и богоявления рассматриваются как явления «лица» Живого Бога. Последний тезис подтверждает для нас перевод из Аввакума.
| κύριε, εἰσακήκοα τήν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην· | יתארי ךעמש יתעמש הוהי |
| Господи, услышал я слух Твой, и убоялся, | Господи, услышал я слух Твой, [и] убоялся. |
| κύριε, κατενόησα τὰ ἔργα σου καὶ ἐξέστην. | ךלעפ הוהי |
| Господи, уразумел я дела твои, и ужаснулся771. | Господи, дело Твое |
| ἐν μέσῳ δύο ζῴων γνωσθήσῃ, | והייח םינש ברקב |
| посреди двух животных познан будешь772, | в средине лет соверши, |
| ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ, | עידות םינש ברקב |
| когда приблизятся773 лета, узнан будешь774, | в средине лет яви. |
| ἐν τῷ παρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδειχθήσῃ, | ... |
| когда придет время, объявишься | |
| ἐν τῷ ταραχθῆναι τὴν ψυχήν μου, | ... |
| когда смятется душа моя, | |
| ἐν ὀργῇ ἐλέους μνησθήσῃ. | רוכזת םחר זגרב |
| во гневе милость помянешь. | во гневе вспомни о милости. |
| ὁ θεὸς ἀπὸ θαιμὰν ἥξει, | אובי ןמיתמ הולא |
| Бог от Фемана придет, | Бог от Фемана придет, |
| καὶ ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος. | ןראפ רהמ שודקו |
| и Святый – от горы тенистой дубравы. | и Святый – от горы Фаран. |
Мотив явления «посреди двух животных», скорее всего, должен быть возведен к изображениям херувимов на крышке ковчега и у входа во Святая святых в Иерусалимском Храме, где и должен был проповедовать Аввакум775. Херувимы называются «животными» у пророка Иезекииля. Но ковчег с херувимами в ходе исторических катаклизмов был утрачен, как и старого Храма ко времени перевода не существовало. Значит, здесь ожидается или возрождение пророческого дара Моисея, или непосредственное открытие на земле небесной реальности. Во всяком случае важно то, что это связано с временем, а потому исторично, – в отличие от позднейшей мистической традиции в иудаизме, которая клонится к радикальному аисторизму.
Называние гор Феман и Фаран, из которых первая в пределах Идумеи, а вторая на Синайском полуострове, ставит это пророчество в ряд с одним из гимнов Исайи – «Кто Сей, приходящий из Едома?» (Ис 63:1) – как выражающее перспективу уникального события богоявления. Путь, пролегающий через Идумею, с одной стороны, обуславливается тем, что эта страна лежит между Синаем, где был заключен Завет, и землей обетования; с другой стороны, этимология названия «Едом» (םודא), указывающая на красный цвет, позволяет символически увязать его с жертвоприношением, а созвучие с именем Адам (םדא) выводит на общечеловеческое, антропологическое значение богоявления. Перевод LXX слова «Фаран» («гора тенистой дубравы») объясняется из ремарки Н.Н. Глубоковского: «Страна, изобилующая лиственными деревьями и пещерами... В углублениях долин растут кусты можжевельника с мелкими ягодами, иногда достигающие большой высоты и потому избираемые для стоянки караванов»776. Феман тоже находился на торговых путях, причем его купцы упоминаются в числе «исследователей знания» (Вар 3:23).
Богоявления многочисленны и разнообразны в Ветхом Завете. Употребляемое в псалмах понятие «являться» (עיפוה) связано с сиянием, свечением (עפי), и действительно, Бог столь же часто описывается являющимся в огне и свете, как в облаке и мгле: все это завесы Его живого присутствия. Можно воспринять их в качестве метафор наряду с прочими метафорами – антропоморфными, зооморфными, вещественными, метеорологическими и т.д. Однако древний перевод Библии располагает к тому, чтобы найти в них некоторые начатки мистического богословия. А именно, здесь говорится, что человек не просто призывается Богом: «Ищите лица Мого», – но что само лице человека ищет лица Божия (Пс 26:8)777. Подобные выражения встречаются еще в ряде мест, что позволяет увидеть в них некоторую логику, хотя она и совершенно непривычна для современного человека. Логика эта состоит в том, что увидеть и быть увиденным, познать и быть познанным, – в сущности, одно и то же, а потому желающий видеть лик Божий должен прежде явить Ему свой лик.
Между памятью о Боге и памятью Бога, видением Бога и нахождением в поле видимости Бога существует взаимное соответствие. Поэтому они взаимозаменяются, даже путаются. Так, в одном из псалмов после вступления – «Утром я предстану пред Тобою» (Пс 5:4) – некоторые списки LXX продолжают: «и увижу [Тебя]» (ἐπόψομαι), тогда как другие: «и увидишь меня» (ἐπόψῃ με)778. Может быть, во втором случае редактор позаботился об устранении философски некорректного представления о видимости Бога? Но в перспективе библейских представлений о зрении779 обе версии греческого текста не противоречат друг другу, а дополняют друг друга, причем эта корреляция выстраивается в целую теологию мистического видения, подобную той, которая известна из посланий апостола Павла: «Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1Кор 13:12); «Ныне же познав Бога, или, скорее, познанные Богом...» (Гал 4:9); «Стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус» (Флп 3:12). В Ветхом Завете подобные идеи содержатся, как правило, скорее имплицитно: так, надежда Иова увидеть Бога во плоти своей действительно сбылась, хотя как раз визуальное явление Бога не только не описывается, но и отрицается: Бог отвечал Иову «сквозь бурю и облако», перед ним одна за другой прошли только картины могущества Творца. На каком основании он говорит, что раньше лишь слышал о Боге «слухом уха», тогда как теперь «глаза его видят» Бога (Иов 42:5)? Ведь практически все, что говорит Бог Иову, чем являет ему Свое могущество, проговаривалось и ранее, в том числе устами самого же Иова. Недоумение разрешается, если принять во внимание, что Иов получил именно то, чего добивался, ради чего испытывал Создателя своим отчаянием: Бог ответил ему, заговорил с ним, так сказать, «призрел» на него. Впервые став через это зримым для Бога, – т.е. впервые почувствовав на себе заботу Всевышнего, – Иов и сам впервые становится зрящим Бога, чем оправдываются его страдания.
Аналогичная картина в 73-м псалме: «Знаков их мы не видели: нет больше пророка, и нас больше не знает он» (ст. 9)780. Вне зависимости от того, идет ли речь о пророке или о Боге, как бы «не знающем» оказавшихся в беде израильтян, очевидна связь между отсутствием знаков («знамений») заставшего их врасплох вражеского нашествия и тем, что их самих не познал тот, кто мог бы дать им знание. «Не знаю вас» или «Я никогда не знал вас» – фразеологизмы, которые употребляет Иисус в Евангелиях, причем всегда в эсхатологическом контексте. У пророка Исайи в гл. 1-й «знать» отождествлено с «узнавать», как животное узнает хозяина, и поставлено в параллель понятию «признавать». Но именно Септуагинта сохранила понимание взаимозависимости между активным и пассивным залогами познания. В дальнейшем развитии александрийской традиции Филон Иудей будет говорить о «тысячах лучей», исходящих из Божьего ока, «из которых ни один не постижим чувством, но все – умом» (Херувим. 97).
Отчасти все это служит и для прояснения библейской феноменологии смерти. Мертвые отвержены в том смысле, что невидимы, а будучи невидимыми, они сами также не видят Бога; не имея возможности явить свою собственную «славу», они и не прославляют Его, потому что прославление совершается посредством того, что может быть поименовано славящим как «слава моя» (Пс 56:9 и др.)781. В связи с этим объясняется также описание ада как «земли забвения». В одном из псалмов оно сделано метафорой земных скорбей, но метафорой, так сказать, очень тесно переплетенной с действительностью, потому что в том состоянии, которое описывается, человек действительно близок к смерти: «Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, – как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну» (Пс 87:5–7). Несколько ниже забвение Бога увязывается с забвением о Боге: «Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? или во гробе будет возвещаема милость Твоя, и истина Твоя – в месте тления? разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения – правду Твою?» (стт. 11–13). И.В. Кирсберг в своем феноменологическом исследовании тонко подмечает связь, существующую между воспоминанием и воскресением из мертвых782. Однако, рассматривая до конца 86-й псалом, можно заметить и следующее: то, что псалмопевец выше делает общим правилом, приводя метафору ада, он сам же далее опровергает: «Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя» (ст. 14). Предварением утра называется встреча рассвета, т.е. человек взывает к Богу из сумрака, из ночи, которая естественно ассоциируется со смертью и шеолом. Сюжет псалма представляет собой парадокс: хотя в забвении не вспоминается Бог, забытый Им человек все же не забывает о Нем. Но этот парадокс позволяет придать еще большее значение содержанию данного пункта – открытости Бога познанию: библейскому человеку недостаточно помнить о Боге или верить в Него, ему необходимо Его увидеть, а для достижения этой цели он не знает другого способа, кроме как быть Им увиденным. Свет, особенно дневной свет, и даже солнце как конкретный материальный объект могут иногда отождествляться с оком Бога.
Ниже мы покажем, что и философское осмысление библейского монотеизма, предпринятое в рамках широкого состава канона, не только не отрицает свойств познаваемости у Бога и не сводит их к существам-посредникам, но и особым образом развивает эту тему.
в) Вселение в тварь
а) Солнце
Один из кумранских апокрифических псалмов утверждает, что в аду не светит солнце, «имеющее просветить лице праведника» (11QapPsa VI.10). В «Книге тайн», которая также носит название «Победа праведности», об эсхатологическом времени сказано: «Праведность явится как солнце, царящее над миром» (1Q27 6). В сборнике благословений священник, совершающий служение, сравнивается с солнцем (lQSb IV. 27), как и в книге Сираха, где это сравнение, применительно к первосвященнику Симону Праведному783, вырастает в целый художественный образ: «Как величествен был он среди народа, при выходе из завесы храма! Как утренняя звезда среди облаков, как луна полная во днях, как солнце, сияющее над храмом Всевышнего, и как радуга, сияющая в величественных облаках... Когда он принимал великолепную одежду и облекался во все величественное украшение, то, при восхождении к святому жертвеннику, освещал блеском окружность святилища» (Сир 50:6, 7:12). В ряду других символов, упоминающихся в этом фрагменте, часть которых (весенние цветы, уголь каждения, плодоносящая маслина, высокий кипарис и др.) мы выпустили для краткости, солнце является самым значительным, и только о нем сказано, что оно сияет «над храмом Всевышнего» (ἐπὶ ναὸν ὑψίστου). Автор использует здесь прием раздваивающегося смысла: «храмом Всевышнего» является, конечно, прежде всего небесный купол, как и «облаками славы» (букв.: νεφέλαι δόξης) – небесные облака; но вместе с тем под облаками разумеются клубы дыма, сквозь которые, как молния, блистают священные облачения, и равным образом «храм» – это собственно Иерусалимский Храм, во внутреннем дворе которого стоял жертвенник на возвышении, куда по «слегка подымающейся террасе» (Иосиф. Война V. 5. 6) восходил священник.
В это время, непосредственно перед жертвоприношением, священнослужитель, вышедший «из завесы», на которой был вышит «вид всего неба» (Там же, 4), т.е. как бы поднявшийся из-за горизонта, в одежде, которая, согласно другому произведению этого периода (Прем 18:24), сама по себе знаменует весь мир (ὅλος ὁ κόσμος) и одновременно род Израилев, освещает пространство Храма подобно тому, как солнце освещает поднебесную: «Когда он принимал великолепную одежду и облекался во все величественное украшение, то, при восхождении к святому жертвеннику, освещал блеском окружность святилища» (Сир 50:12). Заметим, что освещение посредством блеска, исходившего от одежды, «периметра святилища» (περιβολὴν ἁγιάσματος) представляет собой очевидную гиперболу: на символическом языке автора первосвященник становится как бы обладающим природным блеском784. Ритуал «увенчивало» возлияние «крови грозд» (αἵμα σταφυλῆς), т.е. виноградного сока или вина, к подножию жертвенника, наряду с возлиянием воды, о котором здесь не упоминается (ср. Сукка, Тосефта 3:15). Если вода символизировала или призывала на землю дождь, то красный сок, по-видимому, должен был символизировать или призывать иной дар небес, а именно тот, который наполнял «кровью» ягоды винограда, – солнечный свет. Одновременно с заключительным актом жертвоприношения прочие «сыны Аароновы восклицали, трубили коваными трубами и издавали громкий голос в напоминание пред Всевышним» (Сир 50:18). При этом народ совершал первый земной поклон. Что касается «напоминания» (μνημόσυνον), его смысл иллюстрируется примером «левитов-будителей» (см. Маасер Шени V. 15)785, т.е. крик народа был обращен к самому Богу и напоминал, должно быть, о Его супружеском завете с землей обетования. Далее слова о «сладостном пении в пространном храме» (ἐν πλείστῳ οἴκῳ ἐγλυκάνθη μέλος) вызывают ассоциацию, хотя и необязательную, с куполом неба и оглашающим его в солнечный день пением птиц. По окончании славословия первосвяенник спускался и совершал благословение «всего собрания», причем люди воспринимали его как исходящее непосредственно от Бога: «Народ повторял поклонение, чтобы принять благословение от Всевышнего» (Сир 50:23).
Обращает на себя внимание отождествление первосвященника и Господа, – разумеется, ритуальное786, – которое, с учетом представленного выше образного ряда, отчасти проясняет смысл чтения Септуагинты: «В солнце положил селение Свое» (Пс 18:5)787. Само по себе такое откровенное утверждение о пребывании жилища Бога на солнце вызывает неизбежные языческие ассоциации. Прежде всего, с египетской религией, где одним из имен Амона-Ра было «Обитатель солнца»788. Но не только: вавилонский Мардук и хананейский Ваал, описания которых содержат немало типологических сходств с описаниями Господа789, также были солярными божествами. Можно идти дальше и заметить важность солнца в индийских памятниках. Примечательно, что в Атхарваведе светило непосредственно связывается с жертвоприношением, а бог солнца Савитар – с богом огня Агни. Огонь, устремляющий в небо дым жертвы, является связующим началом верхнего и нижнего мира:
Мы хотели бы возжечь, о бог Агни,
Тебя, сверкающего, нестареющего,
Чтоб этот твой удивительный
Костер запылал на небе.
(Похоронный гимн, 88)
В свою очередь, солнце само представляет собой небесный огонь, участвующий в циркуляции мировой жизни, где регулярная жертва является своего рода кровотоком, который обеспечивает обмен материей между землей и небом. В индийской традиции, как и в ближневосточных, представление о солнце накладывается на образ быка, причем то, что производится такое отождествление при описании бога Сомы (священного опьяняющего напитка), указывает, скорее всего, на экстатический исток подобного хода мыслей, что наиболее существенно для рассмотрения архетипической природы ряда религиозных феноменов:
Бык мыслей очищается, далеко смотрящий,
Солнце дней, распространитель зорь, неба.
Дыхание рек наполнило шумом сосуды...
(То же, 58)
В процитированном отрывке «бык мыслей» – Сома, который в виде напитка, сделанного из растений, также подается небом двояким образом, и сам является мысленным «солнцем» – как источник религиозных откровений в ведической традиции. «Быком» был и персидский бог солнца Митра. Один из эпитетов Бога Израилева, который прилагался также к начальникам народа, вообще к сильным мужам, – ריבא, что иногда переводится как «вол» или «жеребец». Нет ничего удивительного в том, что солнце является небесным быком, так как оно каждый день с неизменной силой распахивает ниву неба и земли, роняет в землю золотые семена, вообще являет собой непобедимую силу (ср. Пс 18:7), для выражения восторга перед которой человеку неурбанистической цивилизации всегда было свойственно подыскивать эпитеты из животного мира. Солнце выступает одушевленным, чтобы явилась возможность его сравнения с живым богом, а в этом сравнении оно или по-язычески обожествляется, или по-библейски превращается в иконический образ790.
О месте солнца в иудейской религиозности начала новой эры свидетельствует Иосиф Флавий, который без смущения описывает следующий обычай ессеев: «Перед восходом солнца они не говорят ничего мирского, но некие отеческие молитвы [обращают] на него (εἰς αὐτὸν), словно бы (ὥσπρ) испрашивая [его] восхождения» (Война. П. 8. 5). Ценность этой ремарки увеличивается тем, что вообще Иосиф не упускает случая отметить противоречия между ессейством и фарисейством: в другом месте он указывает на запрещение доступа к участию в иерусалимском культе для членов пустыннической общины и, как бы в их оправдание (или желая проявить широту собственного взгляда), отмечает нравственную безупречность общинников (Древн. XVIII. 1. 5). Что касается молитв перед рассветом, Иосиф явно не осуждает эти действия как языческие, и даже не опасается, что его читатели примут их за таковые, но только называет обычаи ессеев «своеобразными» (ἰδίως). Следовательно, для человека его круга, – Иосиф, как известно, был выходцем из среды иерусалимского священства, – сам факт молитвы, ориентированной на солнце791, не является чем-то вопиющим. Можно прибавить к этому еще ряд разрозненных свидетельств, например эпитет Господа из греческого перевода Плача Иеремии (3:22) – «Пребывающий на рассвете» (μῆνας εἰς τὰς πρωΐας)792; упоминание о конях и колеснице солнца, поставленных отпавшими в язычество царями в иерусалимском Храме (4Цар 23:11); указание в книге Премудрости Соломона – «Должно предупреждать солнце благодарением Тебе и обращаться к Тебе на восток света» (Прем 16:28); образное наименование самого Бога «солнцем» в МТ (Пс 83:12): ןתי דובבו ןח םיהלא הוהי ןגמו שמש {солнце и щит Господь Бог, милость и славу подаст}793; и, наконец, сравнения: «Кто как Бог возлюбленного? – ступающий по небу Защитник твой, великолепный на тверди» (Втор 33:26); «Он поднимается из облаков святых Своих» (Зах 2:13 LXX); «Солнце сияющее смотрит на все, и славы Его полно дело его» (Сир 42:16).
Широта – как ассоцитативная, так и географическая – всех приведенных и всяких мыслимых сопоставлений не говорит о единой религиозной картине, например, иудейского, хананейского и индо-иранского миров, но выявляет вполне оправданную универсальность солярного архетипа в сознании древних. Универсальность эта, аналогично чрезвычайной распространенности в представлениях о богах образов человека, быка, льва, крылатых существ и т.п., объясняется не заимствованиями, цепочки которых редко выстраиваются более прочно, чем ряд необязательных умозаключений по аналогии, а предпосылками формирования образного мышления, которые являются, по существу, предпосылками формирования мышления вообще и, наконец, абстрактного мышления, становящегося собственным языком развитой религиозной и философской мысли. В основе каждого понятия, которое представляет собой содержательную абстракцию (дух, материя, право и т.п.)794, лежат всегда «физические свойства» конкретного явления795, пригодного для того, чтобы считаться основополагающим в человеческой жизни. Помимо правого и левого, прямого и кривого, высокого и низкого, т.е. основных категорий человеческого восприятия и практики, это еще и предметы внешнего мира: огонь, ветер, вода, земля (как пространство и как humus), в более частных случаях – корова, верблюд, снег, река, море и вообще любые вещи, которые в данных жизненных условиях являются основополагающими, хотя с точки зрения другого региона или другой эпохи могут казатьсясугубо частными определениями человеческих возможностей восприятия или утилизации окружающего мира. «Свойство образа, – писал Ю.В. Рождественский, – формировать органическую связь некоторых сторон объекта и тем раскрывать его сущность, невидимую из-за бесконечной многосторонности объекта, – делает образ мощным средством познания»796. Понятия, сформированные на такой основе, впоследствии отрываются от нее и уже практически с нею не связываются (напр., ὕλη, materia, πνεῦμα, spiritus и т.п.). С этой точки зрения еще Джамбатиста Вико называл миф «умственным словарем», хотя в то же время не признавал в нем результата деятельности рассудка. (Ныне последний тезис представляется устаревшим797.)
Сказанное о древнейшем образном мышлении вообще имеет силу и в отношении библейской метафоры в частности. Так, все авторы опубликованного в 2005 г. сборника статей «Метафора в еврейской Библии» согласны между собой в том, что «метафоры выполняют концептуальную функцию, т.е. являются осмысленными суждениями о предмете речи. Этим убедительно доказывается, что бывший долгое время господствующим взгляд на стилистическую функцию метафоры как основную преодолен теперь таким подходом, который более ориентирован на содержание... Метафоры создают свой собственный смысл, т.е. такой смысл, который не был бы доступен в том же качестве без посредства метафоры... Одинаковые метафоры могут встречаться в разных местах Библии, тем самым образуя интертекстуальные связи, благодаря которым единый смысл текста может быть обнаружен. Верно и противоположное: конфликтующие метафоры могут соседствовать, порождая контрастность и ситуацию смены знака»798. Фактически любой библейский образ амбивалентен: так, солнце не только является источником жизни, но может и «обжечь» (Пс 120:6), вода порождает и потопляет, изваяние змеи, сделанное Моисеем в пустыне, спасало евреев от змеиного яда. Но это не мифологическая амбивалентность, потому что Господь – главное действующее лицо во всех этих случаях – оказывается выше противоположностей, заставляя мыслить их как инструментальные. «Так смотри и на все дела Всевышнего: их по два, одно напротив другого» (Сир 33:14). Это, как представляется, изначальное свойство библейского монотеистического сознания, во всяком случае, ученые не в состоянии достоверно проследить «предшествующие» формы в самих текстах.
Мнение, согласно которому небесные светила были в числе первых претендентов на поклонение со стороны человека, «не уразумевшего» Творца вселенной, восходит еще к книге Премудрости Соломона (ст. 13:2). Св. Афанасий Александрийский в «Слове против эллинов» исследует происхождение языческих верований философски – как процесс падения ума с высоты богосозерцания, в ходе которого последовательно происходит обожествление неба, светил, стихий, а затем уже обитателей подлунного мира. Современные исследователи предпочитают, наоборот, говорить о «языческом прошлом» еврейского монотеизма, но все доказательства этого выстраиваются как ряд умозаключений по аналогии. Очевидно только, что в некоторых религиях с определенного времени понятие о боге и представление о большом светиле полностью или частично накладываются друг на друга, но в религии древних евреев этого не произошло799. Здесь мы лишь наблюдаем, как на библейском образном языке представление о солнце превращается сначала в метафору, а затем эта метафора порождает абстрактное понятие800. Но особенность чувственно-наглядных представлений состоит в их способности быть источником не одного, а целого ряда понятий. Так, солнце в Библии не только выражает свойства Создателя в Его отношении к людям, но и, по превосхождению, дает знать о Его могуществе и творческом искусстве: «В полдень свой оно иссушает землю, и пред жаром его кто устоит? Распаляют горн для работ плавильных, но втрое сильнее солнце палит горы: дыша пламенем огня и блистая лучами, оно ослепляет глаза. Велик Господь, Который сотворил его, и по слову Его оно поспешно пробегает путь свой» (Сир 43:3–5). Другой аспект служения солнца еще более важен: оно выступает как начало зрения – само «смотрит на все» (κατὰ ἐπέβλεψε) и делает все зримым (Сир 42:16). Образ ока-солнца также архетипичен для многих культур; в Библии он выявляется неоднократно801. Сопоставляя это с отмеченной выше, в предыдущем пункте, особенностью библейской феноменологии зрения (увидеть – значит быть увиденным), находим вероятным, что солнце исполняет в физическом мире функцию проводника зрения, которое помещает человека в область Божественной видимости.
Эта догадка подтверждается еще несколькими свидетельствами. Свет вообще животворит и является «дыханием человеков» (Притч 20:27), «источником жизни» (Пс 35:10), ключом к ощущению полноты жизни (Иов 1:17). Разные тексты отождествляют «свет» и «веселье» (Пс 96:11), «живых» и «видящих солнце» (Екк 7:11); в лучах солнца люди получают исцеление (Мал 4:2). Наоборот, «помраченные [места] земли» (ץרא יכשחמ, οἱ ἐσκοτισμένοι τῆς γῆς), т.е. лишенные солнечного света, преисполняются «домами беззакония» (Пс 73:20). Поскольку же всякое усиление жизни в Библии естественно и прочно ассоциируется с приближением к Богу, причем без явной дифферециации символического и онтологического, в подаянии света проявляется забота Творца.
Возможно, у ессеев существовало учение об однородности субстанции света, которое могло бы служить прямым объяснением того, почему, обращаясь на солнце с молитвами, они тем не менее, очевидно, не считали его божеством. Во всяком случае, согласно одному из кумранских текстов, опубликованному исследователями под условным названием «Литургическое сочинение», свет Божественного ведения и свет небесных тел различаются только, так сказать, своей абсолютной и относительной интенсивностью: «Не для Себя разделил Он между светом и тьмой, ибо Он разделил их для сынов человеческих: свет во дни посредством солнца, в ночи – луны и звезд; непроницаемый свет пребывает с Ним, и Его знание без [конца]» (1Q392 5–7). Септуагинте и связанной с ней традиции мы не можем решительно приписать этих воззрений. Здесь трансцендентность Божественного Существа подчеркивается противопоставлением света и тьмы: «Тогда сказал Соломон о храме, завершив строительство его: Солнце сделал знаемым на небе Господь, [а Сам] изрек [намерение] обитать во мгле: Созижди Храм Мне! [Вот] храм превосходный для Тебя, чтобы обитать в обновлении» (3Цар 8:53)802.
Последняя цитата позволяет решить вопрос о статусе солнца в Библии путем введения концепции ветхозаветной иконичности. Образ («икона») и подобен, и неподобен своему прообразу: он несет на себе определенные черты последнего, тогда как в целом его природа или организация иная. Так, рассматриваемый нами 18-й псалом по переводу LXX содержит иконическое описание Божественной славы:
Небеса проповедуют славу Божию
и о творении рук Его возвещает твердь.
День дню передает слово
и ночь ночи возвещает знание...
В солнце поставил Он жилище Свое.
И оно, как жених, выходящий из чертога своего,
как исполин, с радостью стремится пройти свой путь.
От края неба исход его и заход его на краю неба,
и никто не укроется от теплоты его.
Закон Господень непорочен: обращает души;
откровение Господне верно: умудряет младенцев.
Оправдания Господни правы: веселят сердце;
заповедь Господня светла: просвещает очи.
Страх Господень чист: пребывает во век века;
суды Господни истинны, все они вместе праведны...
(пер. Юнгерова)
Цепь образов ясно просматривается: день – слово – солнце – закон – оправдание – заповедь – страх (т.е. благоговение, послушание). Во всех этих категориях, как они проиллюстрированы в параллелях, присутствует то, что характеризует общий настрой произведения: свет, тепло, ясность, веселье, неистощимость и непременяемость.
Почему же «в солнце поставил Он жилище Свое»? Этот вопрос удовлетворительно может быть решен на библейском материале с привлечением некоторых параллелей из истории религий.
1. Господь «одевается светом, как ризой» (Пс 103:2). Источник и как бы селение света, солнце по этой же логике может называться «жилищем» Бога.
2. Милость и истина – Божественные свойства, которые солнечный свет выражает полнее всех других вещей: «Бог будет с радостью предводить Израиля светом славы Своей, с милостью и правдою Своею» (Вар 5:9).
3. Солнце является также источником гнева: «Пал на них огонь, а солнца они не видели» (Пс 57:9 LXX)803.
4. Солнце соответствует Закону, оно царит на небе так же, как он в человеческом обществе. Поскольку «обитание» Бога в Израиле совместимо только с ритуальной чистотой, Его «обитание» на небе выражается чистой стихией света.
5. Если солнце связано с жертвоприношением, как отмечалось выше по ассоциации с подобными явлениями в других древних культурах, то имеется аналогия между ним и храмом, в котором «живет» Господь804. Следовательно, прославление солнца как места «селения» связано с идеей небесного Храма, о котором нам еще предстоит говорить подробно.
6. Священник сопоставляется с ангелом (Мал 2:7); светилами также традиционно символизируются ангельские силы; так как первосвященник при благословении ритуально отождествляется с Богом, то можно думать, что солнце играет роль небесного первосвященника, также ритуально отождествляемого с ангелом Господа и самим Богом.
7. Последнее не означает, что солнце персонифицировано как самостоятельное божество. Сам псалом называет его «творением» (ποίησις), а буквальное понимание одушевленности светил Септуагинтой нигде не подтверждается. Однако солнце может выступать и как образ будущего первосвященника, т.е. Мессии. Так, у пророков (Иер 23:5; Зах 3:8, 6:12) Мессия называется «Востоком» (ἀνατολή)805, у пророка Малахии большое светило сделано прообразом эсхатологического возрождения (Мал 4:2), вечность мессианского царства описывается словами «пребудет с солнцем» (Пс 71:5), в апокрифических псалмах Давид уподоблен солнечному свету (11QPsa XXVII. 1). Олицетворяясь в рассматриваемом псалме в образах «жениха» и «исполина», светило выражает свойства Бога (жениха земли, могучего воина) и, может быть, грядущего царя-первосвященника, в котором эти свойства реально воплотятся среди сынов Израилевых.
8. Мистика «колесницы», которая представляет собой духовную сущность (отсюда олицетворение), но полностью служебна по отношению к Богу (поэтому называется «селением»). «Стоит отметить, – пишет Г. Вермес, – что Мишна запрещает использование фрагмента о колеснице из книги пророка Иезекииля в качестве пророческого чтения в синагоге (Megillah IV, 10), а также частное обсуждение этого текста в отсутствии мудреца, знакомого с толкованием (Hagigah II, 1)»806. Не исключено, что стих Пс 18:5 исправлен в МТ по той же причине: он вызывал явные и почему-либо нежелательные ассоциации с небесной колесницей, на которой Господь совершает объезд неба.
Все приведенные пункты не исключают друг друга. Существенно то, что в каждом из них наличествует особая акцентуация присутствия Божества, которую допустимо рассматривать как подтверждение соответствующего толкования имени הוהי – сы́й повсеместно, в каждой точке пространства. Из иконичности солнца, которая позволяет переводчикам, – возможно, вслед за своим оригиналом, – говорить о вселении Бога в нем, выводится более широкое следствие: Бог может «вселиться» или «войти» не только в Свой народ (Втор 33:7 LXX) или на место Своего «покоя» в Сионе, но и в любой специально подготовленный для этого предмет, который становится конкретно-выразительным орудием самопроявления Божества. Это, как будет видно в дальнейшем, имеет важное значение для понимания мессианской идеи в традиции Септуагинты.
β) Земля
Рассмотренные аспекты взаимоотношений Бога и твари, которые регулируются не только трансцендентным удалением, но и, равным образом, имманентным приближением, обуславливают возможность вразумительного понимания одного неясного фрагмента, дважды одинаково переведенного в греческой Псалтири (Пс 59:9–10 и 107:9–10)
Мой Галаад, и Мой Манассия,
и Ефрем – защита главы Моей,
Иуда – царь Мой,
Моав – котел упования Моего,
на Идумею наложу сапог Мой,
Мне иноплеменники покорились.
Вопрос вызывает перевод фразы «Моав – котел упования Моего» (μωὰβ λέβης τῆς ἐλπίοδς μου) с еврейского יצחר ריס באומ. Глагол ץחר (рахац) обычно имеет значение «мыть», «очищать», о чем переводчики Псалтири хорошо знали (ср. Пс 25:6, 57:11, 72:13). Только в одном месте арамейская форма וצחרתה, производимая от слова с той же графикой, но другой огласовкой ץחר (рехац), без всякого сомнения переводится словом «надеялись» (Дан 3:95). Представляется убедительным мнение, согласно которому оба эти слова являются и родственными между собой, и независимыми друг от друга807. Это значит, что греческие переводчики выбирали сознательно, по-видимому, вообще не опираясь на двусмысленность, а только следуя какой-то традиции толкования данного места, которая без определенной герменевтической работы неясна. Что касается масоретского чтения, оно, по крайней мере, совершенно понятно как литературный образ: «Моав – умывальная чаша Моя»808. Однако эта формальная прозрачность не объясняет, почему пустынная область к востоку от Мертвого моря, которая населена язычниками, может быть умывальной чашей для Бога, будь то в природном (напр., возможно, как страна обильных дождей и рос) или в иносказательно-ритуальном смысле, который указывал бы на причастность к Божественной жизни храмовых священнодействий, включавших в себя обязательные обряды омовения809. Предположение, что «страна Моавитская в древние времена была, по-видимому, весьма плодородна»810, опирается на сообщение книги Руфь об уходе голодающих израильтян из Вифлеема (букв. «Дом хлеба») на «поля Моава», которое можно понять и в противоположном, а именно, ироническом смысле811.
Но независимо от того, была ли когда-либо Моавитская пустыня страной обильных рос, книга Руфь дает ключ также и к греческому чтению. Руфь-моавитянка, ставшая женой Вооза, была прабабкой Давида, на семя которого евреи возлагали самые непосредственные мессианские упования. Моав, языческая земля, становится в псалме «котлом упования», потому что из него, как из емкости, форма которой может ассоциироваться с животом или чреслами (ср. Песн 7:3), вышел сам Давид812. При допущении этого предположения логика процитированного фрагмента выстраивается как описание человеческого тела, если идти с севера на юг: область Галаад и земля части племени Манассии, расположенные к востоку и западу от Иордана, по отношению к Ефрему (главному племени Северного царства, т.е. Израиля), который назван «защитой главы», представляют собой плечи; сам Ефрем – голову; Иуда, «царь Мой», – грудь или сердце (средоточие духовных способностей человека в древнееврейской антропологии); Моав – бедра; Идумея – ноги813. Таким образом, Бог если не прямо «воплощается» в землю обетования, то, по крайней мере, «облекается» в нее как в доспехи (Ефрем – шлем и т.д.), включая такие части, отношение евреев к которым было амбивалентным: землю Моава, откуда произошел Давид, и землю Едома, откуда ожидалось пришествие Самого Бога (ср. Ис 63:1).
1.2.3. Богоявления
а) Жертва
Основной формой богоявлений в Библии служат феномены, которые можно было бы объединить под общим названием «чудеса». Ветхий Завет скуп на художественное описание чудесного, но сюжетным смыслом его почти всегда является определенная теофания.
Оттого и чудеса в Новом Завете вводятся как свидетельства о Божественном посланничестве Сына Человеческого, когда ради них призывается Отец, и о Его собственной Божественности, когда они просто происходят. Но это не единственная точка зрения, с которой – через призму дохристианской библейской традиции – может быть осмыслен евангельский образ Иисуса Христа. Сам догмат о боговоплощении, о явлении Бога во плоти имел вполне определенные ветхозаветные предпосылки, хотя это и не отнимает от него всей новизны, которой он обладает. Представленные выше рассуждения относительно вселения Бога в Его создание уже отчасти разъясняют переход между трансцендентным и имманентным, который удобнее всего можно понять в энергийной парадигме: Бог действует через тварь, прикасаясь к ней непосредственно, при этом тварь остается тварью, а прикосновения Божественными. От сошествия Господа на Синай плавится и дымится верх горы – одна из возможных реакций материи на подобное прикосновение. Другая – горение тернового куста, который не сгорает.
Учение об ангельском посредничестве таких деяний, принятое в раннем иудаизме и у отцов Церкви, достаточно амбивалетно. Перед ангелом-посредником человек падает ниц, как перед Богом, и восклицает: «Верно мы умрем, ибо видели мы Бога» (Суд 13:22). Следовательно, ангел есть не просто «ходатай», ограждающий от прямого соприкосновения, но и «посредник», это соприкосновение в той или иной степени обеспечивающий. Ангел в Ветхом Завете – носитель свойств Божества, доставляющий их в локус пространства в момент времени. Само представление об ангелах, как его впоследствии не без оснований будет интерпретировать Филон Александрийский, есть представление об отчуждении этих свойств от их онтологической основы, или о Божественных силах. Но не все богоявления совершаются при явном посредстве ангелов. Так, Моисей просит Господа показать σεατόν {Себя самого} (Исх 33:18), а в ответ слышит о невозможности для человека увидеть лицо Бога и остаться в живых (ст. 20). Вместо этого Бог обещает ему показать лишь та oniaco цои {то, что после Меня} (ст. 23), пройдя мимо него. Прохождение Господа мимо Моисея есть одновременно самый мистический и самый невообразимый момент Исхода. Получается, что богоявление может обладать как бы градацией мощности.
В позднейшем иудаизме библейские богоявления стали основанием для развития учения о шехине, а в христианской мистике – учения о благодати. Но человек библейского мира еще не задается вопросом о принципиальной возможности пересечения трансцендентного с имманентным, он отмечает лишь точки такого пересечения: «Истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!.. как страшно сие место!» (Быт 28:16–17).
В числе текстов, посвященных богоявлениям, особое место занимает Песнь песней. Вопрос о том, является ли этот текст сборником любовных песен или религиозной символической поэзией, решается уже полторы тысячи лет814, однако нет никаких сомнений в том, что традиция, включившая его в канон, рассматривала его как целостное произведение мистического характера815. Судя по всему, так обстояло дело уже для переводчиков Септуагинты. Те немногие места, где греческий текст Песни песней интерпретирует свой древнееврейский оригинал, как будет видно в дальнейшем, представляют особый интерес для рассматриваемой здесь темы.
С точки зрения символического толкования Песни песней общим местом является то, что герой (жених) олицетворяет Бога, а героиня (невеста) есть избранное создание, с которым Бог вступает в особенно близкую связь: согласно р. Акиве, это Израиль816; Ориген был склонен, кроме экклесиологического смысла, видеть за образом невесты также индивидуальную человеческую душу817; А.А. Олесницкий, считая произведение изначально символическим, обнаруживал подлинный прототип центрального женского образа поэмы в обетованной земле. Надо заметить, что три эти версии не противоречат друг другу, имеют основания в тексте и по существу согласны с древнееврейским миросозерцанием. Однако их внутреннюю взаимосвязь выявляет лишь образ жениха, относительно значения которого в традиционных интерпретациях нет разногласий.
При анализе поэтического произведения особенную важность имеют рефрены. Нас интересует их метафорика: прежде всего то, что жених предстает в образе серны или молодого оленя (стт. 2:17, 8:14), в то время как невеста – голубицы (стт. 5:2, 6:9). Оба рефрена имеют еще параллели в других стихах. Но центральный – и по смысловой насыщенности, и по экспрессии – рефрен всего произведения представляет собой заклятие (стт. 2:7, 3:5, 8:4, ср. ст. 5:8).
תא וררועת םאו וריעת םא הדשה תוליאב וא תואבצב םלשורי תונב םכתא יתעבשה
ץפחתש דע הבהאה
Заклинаю вас, дщери иерусалимские, сернами или полевыми ланями, разве пробудите или возбудите любовь, пока [не] захочет?
Исторических вариантов перевода этого трудного стиха существует множество, но все они касаются его последней трети, где частица םא способна выражать как вопрос, так и побуждение, а существительное הבהא можно перевести словами «любовь» и «возлюбленная». Предложенная нами рабочая версия лучше других согласуется с LXX и потому будет принята за основную818. Связь этого рефрена с другими, где упоминается самец серны (יבצ), вряд ли можно признать случайной. Однако в заклинаниях имена животных – женского рода.
Касательно уподобления жениха оленю причина, лежащая на поверхности, связана со скоростью бега: «Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических» (ст. 8:14). Объяснить образный язык заклятия труднее. Не связан ли он тоже как-нибудь с подвижностью? Не указывают ли на это глаголы «пробудить» (ריעה) и «возбудить» (ררוע), из которых второй усиливает экспрессию первого? Здесь потребуется небольшое отступление: «бегут», «стремятся» и «пробуждаются» в Песни песней не только жених с невестой и их спутники, но вообще вся природа. Тени «убегают»; ветры «поднимаются» и «грядут»; запахи сада «льются»; потоки низвергаются с Ливана, миро изливается и его запах разносится повсюду. Все это разнообразное движение входит в общую картину расцветающей природы: «Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» (Песн. 2:11–13)
Многие признаки в тексте поэмы указывают на то, что в ней описывается весна – время скорого роста растений, которые как бы «выскакивают» из земли (ср. англ. spring), подобно молодому оленю или утреннему солнцу819. Существует ли действительно в библейском образном языке связь между весной и оленем, аналогичная связи между прыжком, родником и весной в английском языке? Тому есть несколько подтверждений.
1. Блж. Иероним по другому поводу отмечает, что в иудейской экзегезе олень был образом «раннего времени созревания плодов»820.
2. Сосцы женские – источник молока и аналог «благословений» земли (ср. Быт 49:25) – сравниваются с «детенышами серны» (Песн 7:4), а также кистями винограда (ст. 7:8).
3. В Псалтири есть фраза: «Голос Господа, свершающий оленей» (Пс 28:9) – это часть описания грозы; согласно распространенному толкованию считалось, что самки оленей быстрее разрешаются от бремени в пору гроз. Это не единственное чтение такого рода: в другом псалме также описывается гроза, причем говорится, что Бог «препоясывает силой» праведника (ср. Пс 64:13) и «свершает» его ноги, «как оленя» (Пс 17:34, ср. Aвв 3:19)821. Глагол καταρτίζω {совершать} выражает одновременно идею быстрого роста и устойчивости, крепости (Пс 16:5, 67:10, 73:16, 79:16, 88:38)822. Всем этим приведенная блж. Иеронимом экзегеза подтверждается: видимо, существовала прочная ассоциация между оленем и пробуждением сил природы, в том числе в человеке.
4. Олень также выступает как положительный эсхатологический образ. В греческой кн. Исайи при описании окончательного запустения Идумеи, которая превратится в пустыню, вначале идет речь о нечистых минералах, растениях и животных (смола, совы, вороны, терновник, сирены, бесы, онокентавры, ежи), а затем об оленях: «Там олени встретились и увидели друг друга в лицо. Всем числом они перешли, ни один из них не погиб, друг друга не искали, но Господь повелел им, и Дух Его собрал их. Он кинет жребий, рука Его разделит пажити: на вечное время наследуете, в роды родов упокоитесь там» (Ис 34:15–17)823. Судя по контексту (а в следующей главе начинается описание процветшей пустыни), речь идет или о возвращении плененных, или о воскресении убитых израильтян после войн с Едомом; это связывается композиционно и с возрождением земли, а олени, символизирующие спасенных, возможно, являются образом-связкой. В апокрифических Заветах 12-ти патриархов олени, которые затем становятся агнцами и волами (т.е. переходят в разряд животных, имеющих ритуальное значение), также символизируют Израиль, причем животная и растительная символика тесно переплетены (Завет Иосифа, 19)824.
5. Олень, возможно, ассоциируется с солнцем, как метафора при описании жениха. «Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку» (Песн 2:9) – это узнаваемое описание дневного света. Невеста обретает его, миновав ночных стражей, т.е. после заутрени, на восходе (ст. 3:4). Одним из рефренов поэмы служит фраза: «Пока не повеет день и не двинутся тени» (ἕως οὗ διαπνεύσῃ ἡ ἡμέρα καὶ κινηθῶσιν αἱ σκιαί). Согласно греческому тексту до этого времени жених «пасет между лилиями», – которые растут в долинах, – а после того уподобится серне или молодому оленю на горной расселине, т.е. взойдет по склону гор. Солнце, восходя и нисходя, действительно инициирует движение теней. Невесте, олицетворяющей землю, к лицу чернота (μέλαινά εἰμι ἐγὼ καὶ καλή), потому что солнце «взглянуло» (תפזש, παρέβλεψε) на нее. Роль солнца в наступлении весны не требует комментариев. Наша догадка в высокой степени подтверждается двойной семантикой арам. הליא – одновременно «лань» и «первые лучи восходящего солнца», как бы карабкающиеся по горам825.
Исходя из сказанного, перевод рефрена-заклятия в LXX представляется не следствием случайного прочтения несогласованного еврейского текста, но закономерной интерпретацией, основанной, может быть, на изначальной двусмысленности оригинала:
ὥϱκισα ὑμᾶς, θυγατέϱς Ἱεϱουσαλήμ, ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν
ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγϱοῦ,
ἐὰν ἐγείϱητε καὶ ἐξεγείϱητε τὴν ἀγάπην, ἕως οὗ θελήσῃ
Заклинаю вас, дщери иерусалимские, силами и мощностями
полевыми,
о, если бы вы подвигли и воздвигли любовь, пока не возжелает!
С филологической точки зрения этот перевод, столь отличный от всех других826, объясняется тем, что תואבצ переводчики производили не от יבצ {газель}, а от אבצ {сила}, соответственно интерпретируя и תוליא как мн.ч. не от הליא {лань}, а от ליא {мощь}, или, может быть, читая какую-то форму от הלא {крепкое дерево}. Это не значит, что они не видели зоологических терминов, которые, с учетом сказанного выше, могли быть символами того же самого. С герменевтической точки зрения вероятность изначальной двусмысленности фразы усиливается тем, что это две пары однокоренных. Игра слов, корней, созвучий чрезвыйчайно характерна для библейской поэзии827. Но в переводе двусмысленность сохранить было бы трудно, поэтому толковники сделали выбор в пользу большей ясности. Что заклятие представляет собой именно призыв, а не сомнение («разве подвигнете, разве воздвигнете...») и тем более не запрет («не будите, не тревожьте»), следует из употребления союза ἕως οὗ (вариант: ἕως ἂν), который в Септуагинте означает «даже до...», в отличие от ἕως {пока не...}. Последнее слово заклятия (глагол «желать») в оригинале имеет форму женского рода и относится, несомненно, к слову הבהאה, под которым одни переводчики понимают «возлюбленную» (Vulg, современные переводы), а другие – саму «любовь» (LXX, Pesh). Понимание союза edv, обладающего сложной семантикой, в побудительном смысле (ср. старое употребление русск. «разве») засвидетельствовано в толкованиях Оригена и св. Григория Нисского.
Если в современных интерпретациях МТ заклятие выглядит лишь как поэтическая интерлюдия, то в LXX оно согласуется с целой композицией поэмы, которая вся строится на многоразличных образах созревания. «Силы» и «мощности» коррелируют с этими образами, причем преимущественно в описании невесты, которое содержит больше всего ассоциаций с характерным для роста растений вертикальным освоением пространства: это столб дыма (ст. 3:6), столп Давида (ст. 4:4), гора Ливан (ст. 4:11), столп из слоновой кости, сторожевая башня на дамасской дороге (ст. 7:5), пальма (ст. 7:8). Образом зрелости также выступает стена с надстройкой из серебра, дверь с инкрустацией из кедра и две башни, которым уподобляются поднявшиеся сосцы – признак обретения «мира» (םולש, εἰρήνην), т.е. остановки движения, насыщения роста. В связи с этим следует указать на то, что в греческом переводе книги пророка Аввакума слово ליא понято как συντέλεια – в смысле достижения совершенства. Еще ближе к рассматриваемому предмету стоит выражение пророка Иоиля: «Виноград и смоквы оказали свою силу (ליה)... Он пошлет вам дождь ранний и поздний» (Иоил 2:22). Хотя в еврейском тексте здесь употреблено другое слово со значением «силы», оно созвучно нашему и переведено на греческий при помощи того же понятия ἰσχύς {мощность}. В книге Екклесиаста «мужи силы» (ליחה ישנא, ἄνδρες τῆς δυνάμεως) – метафора человеческих ног, которые «согнутся» в старости (Екк 12:3), т.е. под «силой» разумеется то, что держит форму вещи.
Но источником всякой силы в мире является Бог; поэтому в заклинательный рефрен Песни песней «зашиты» три Божественных имени: תואבצ (Саваоф), לא (Эл) и ידש (Шаддай)828. Первое представлено в своей собственной форме, второе – в форме однокоренного слова с родственным значением «крепости», третье просматривается в неогласованном тексте сквозь сходное по графике слово הדש (садэ) {поле}829. Вероятность обнаружения в тексте Божественных имен древним интерпретатором, как и сознательного помещения их туда самим писателем, усиливает то, что по форме это – заклинание, для которого имя Бога особенно уместно, в то время как призывание в свидетели оленей может рассматриваться или как игровое (что в целом соответствует стилю поэмы), или как эвфемистическое (что соответствует ее многослойной организации). Таким образом, несмотря на женский род всех существительных в рассматриваемом предложении, Бог все же присутствует в нем: «силы и мощности поля» суть Его имена. О Боге как непосредственной причине плодородия в Библии говорится неоднократно: Он «дождит» на землю, чего не могут ни языческие идолы, ни само небо (Иер 14:22), «прозябает на горах траву и злак на пользу человеку» (Пс 146:8). Эти реалии могут описываться в терминах мистического брака: один из таких примеров будет рассмотрен несколько ниже в связи с храмовым культом.
Целостный смысл рефрена при помощи всех обнаруженных ассоциативных связей восстанавливается так: Бог, дающий земле силы роста, призывает жителей Иерусалима, т.е. Свой народ, «подвигнуть и воздвигнуть» их любовь «до желания» – перевести ее из потенциального состояния в актуальное, подобно тому, как прозябшие из семян злаки тянутся вверх, к источнику своих соков, солнцу.
Высказанная гипотеза является, на наш взгляд, очень важной с точки зрения библейской феноменологии богоявлений, так как из нее следует, что мистический текст большого уровня сложности подтверждает и обобщает разрозненные данные об имманентности миру Божественной творческой силы, которые по отдельности могли бы интерпретироваться как реликты языческих верований, обожествлявших силы самой природы830. Существенно здесь не только то, что указанные элементы получают свое место в библейском целом, тем самым избавляя дискурс от настоятельности реконструкций «языческого прошлого» древнего Израиля, но и то, что представления о самой библейской вере, во многом еще определяемые стандартами средневекового мировоззрения, как правило, строго разводящего трансцендентность (монотеизм иудейского калама) и имманентность (теургический эманативизм каббалы) Божества, получают более стереоскопическую форму. Ввиду такой значимости гипотеза нуждается в дополнительной проверке контекстом произведения, в рамках анализа которого она была высказана; такая проверка может быть осуществлена только методами холистского анализа, так как именно эти методы сохраняют контекст в неприкосновенности.
Особенность сюжета Песни песней, не позволяющая видеть в ней, как целом, ни легкомысленную пастораль в стиле «Буколик» Вергилия, ни торжественное свадебное поздравление, – это драматическое событие утраты жениха, которому невеста не поспешила открыть дверь, когда он постучался к ней ночью. При допущении, что поэма в целом имеет сюжетную линию, оно становится ее центральным системообразующим моментом, низшей точкой (кризисом) любви, которой испытывается ее прочность. Рассказ об утрате насыщен символикой жизни и смерти. Важно, что голова жениха при появлении вся покрыта росой831. Если невеста символизирует землю, то важно и то, что сама она увлажнена: «Я вымыла ноги мои... с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала» (стт. 5:3:5). Таким образом, эпизод ночного посещения перекликается с началом поэмы, описывающим пробуждение земли после сезона дождей: «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал» (стт. 2:10–11). Однако встречи не происходит: жених-солнце пришел слишком рано. Теперь символика жизни уступает символике смерти: девушка выходит из дома в ночь; зовет возлюбленного, но он не откликается832. Она встречает стражей, обходящих город, которые изранивают ее и снимают с нее верхнюю одежду833. Это вопиющее событие, не вписывающееся в рамки праздничного жанра любого рода, находится в одном ряду с другими образами мрака. Типологически то, что происходит с невестой, сходно с тем, что в пророческих речах происходит с Иерусалимом, когда он оставляет Господа и бывает оставлен Им. После этого возлюбленная заклинает дочерей Иерусалима, чтобы они передали любимому, если увидят его: «Я уязвлена любовью» (ינא הבהא תלוח) – в LXX τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ εἰμι, от глагола τιτρώσκω {пронзать, смертельно ранить}. Через славословие возлюбленного текст изящно выходит вновь к описанию взаимной любви, как будто ничего не произошло. Ночной эпизод остается внезапным, прерывным углублением, провалом в этой якобы свадебной песне, что и позволяет ему служить отметкой наиболее глубокого, по нашему мнению, системообразующего смысла ее как мистической поэмы.
Отчего возникает описанная в соответствующих символах утрата связи с Богом? Для ответа на этот вопрос необходимо еще раз воспринять уже истолкованный текст как метафору. Мы говорили о невесте, как будто бы она была землей обетованной. Но земля не отступает от Бога и не наказывается Им; она – сторона пострадавшая, и бедствия народа, при которых она «отдыхает», служат ей компенсацией за нарушение заповедных субботних лет: «Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои; во все дни запустения [своего] будет она покоиться» (Лев 26:34–35). Отступление всегда совершается человеком, а именно, тем, кто состоит в Завете, – Израилем, выступающим в качестве индивидуальной или коллективной личности. Следовательно, если земля в образе невесты на самом деле представляет собой Израиль и вообще всякого возможного верующего, то все отмеченные выше образы зрелости относятся к Израилю и вообще ко всякому верующему834. Именно с этой точки зрения становится понятно, что ночной драматический эпизод неизбежен, так как он связан по смыслу с метафорикой взросления и потому является не «провалом» в сюжете, а его необходимым структурным элементом.
Понять это позволяет обращение к древней экзегезе, о которой рассказывает со слов своего современника блж. Иероним: «Когда мы читали Екклесиаста, мой иудей... поведал мне слова Бар-Акивы, которым они восхищаются: “Лучше внутренний человек, который пробуждается в нас после достижения совершеннолетия в тринадцать лет, чем внешний человек, происходящий из чрева своей матери. Истинно, внешний человек не знает, как воздерживаться от греха”...»835 Апостол Павел описывает, по-видимому, то же самое, но с несколько иной точки зрения, в знаменитых строках послания к Римлянам: «Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом заповедь, [данная] для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею» (Рим 7:9–11). Речь идет о вхождении молодого человека в состояния бар-мицва (доcл.: сын заповеди) или бат-мицва (доcл.: дочь заповеди), о рубеже, после которого личность начинает отвечать за свои поступки перед Законом. Время этого жизненного события совпадает с достижением гражданской зрелости, около того возраста, когда становится возможным осуществление брака (12–14 лет). Предшествующее этому или совпадающее с этим физическое созревание традиционно ассоциируется с весной и первым плодоношением земли, что и составляет метафорический строй Песни песней.
В отличие от Бар-Акивы, который хвалит наступление подзаконного возраста, для апостола важнее амбивалентность нового состояния человека: «Закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть» (ст. 12–13). Однако в сущности речь идет об одном и том же: «внутренний человек» для Бар-Акивы потому и «лучше» внешнего, что приходит под сень Закона и должен, воздерживаясь от греха по мере сил, компенсировать недостающее тем, что повелевает в этих случаях Закон. Своеобразие в том, что во время жизни Бар-Акивы жертвоприношения уже не совершаются, и акцент сделан поэтому на внутреннем очищении; во время проповеди Павла жертвоприношения еще совершаются, но в его благовестии они уже отменены жертвой Христа; во время составления и перевода Песни песней они еще составляют центральный момент религии. В мистической поэме запечатлено переживание перехода, когда с обретением статуса бар- или бат-мицва наступает первое осознание греховности, которое психологически равносильно чувству оставленности Богом, причем человек, состоящий в Завете, понимает, что причиной этого является недостаток решимости. Соответственно, как и следует из литературного смысла ночного эпизода с утратой жениха, начиная с этого времени от человека требуется усердие для получения того, что, как любовь, изначально принадлежит ему как дар.
«Усердие» – значение имени Надав (בדנ), которое не встречается в современном еврейском тексте Песни, но дважды опознано в греческом переводе. Рассмотрим эти два случая сами по себе и в соотнесенности с целым:
בידנ ימע תובכרמ ינתמש ישפנ יתעדי אל
Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего (ст. 6:12).
οὐκ ἔγνω ἡ ψυχή μου· ἔθετό με ἅϱματα ἀμιναδάβ.
Не познала душа моя: вменила меня в колесницах Аминадава.
בידנ תב םילענב ךימעפ ופי המ םינחמה תלחמכ...
... что хороводы полков. Как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь знатного! (ст. 7:2)
ἡ ἐϱχομένη ὡς χοϱοὶ τῶνπαϱεμβολῶν. ὡϱαιώθησαν διαβήματα σου ἐν ὑποδήμασί σου, θύγατεϱ ναδάβ
Приходящая как хороводы стройные; прекрасны ноги твои в обуви твоей, дочь Надава!
В первом случае нельзя назвать прозрачным ни еврейское, ни греческое чтение836. Вульгата, по всей видимости основываясь на еврейском оригинале своего времени, в главном подтверждает вариант Септуагинты837. Последний обладает перед МТ одним важным преимуществом: он содержит поддающийся расшифровке символический смысл. Колесница Аминадава (Αμιναδαβ, по еврейскому чтению Авинадав: בדניבא) играет заметную роль в истории царя Давида, как ее передает хронист 1-й книги Паралипоменон: «Весь Израиль поднялся во град Давидов, что в Иудее, чтобы вознести ковчег Господа Бога, сидящего на Херувимах, там, где призвано имя Его: и поставил [Давид] ковчег Божий на колесницу новую из дома Аминадава; Оза же и братья его вели колесницу, а Давид и весь Израиль играли пред Богом изо всей силы, с пением, на гуслях, псалтири, тимпанах, кимвалах и трубах; и пришли на гумна Хидона, и простер Оза руку свою, чтобы поддержать ковчег, ибо вол наклонил его: и прогневался Господь гневом на Озу и поразил его там за то, что простер руку свою к ковчегу, и умер он там пред Богом. И опечалился Давид, что пресек Господь Озу пресечением, и назвал то место пресечением Озы, [как оно и называется] до сего дня. И убоялся Давид Бога в тот день, и сказал: как я внесу к себе ковчег Божий? И не возвратил Давид ковчега к себе во град Давидов» (1Пар 13:6–13).
Мы видим из процитированного фрагмента, что Давид не смог доставить ковчег в Иерусалим, когда попытался везти его на колеснице из дома Аминадава. Указана и причина: Оза, не будучи левитом, посмел коснуться святыни. Поэтому, оправившись от скорби, царь приходит к пониманию того, что «[никто] не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему во веки... И призвал Давид священников... и сказал им: вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на [место, которое] я приготовил для него; ибо как прежде не вы это [делали], то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно. И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах» (1Пар 15:2:11–15).
В истории с колесницей Аминадава очевидно противопоставление двух принципов: легкомыслия, которое проявлено в отправлении ковчега на волах, и благоговейного усердия, которое выражается в его ношении на руках838. Человек по имени Аминадав, по греческой версии, принимает участие в каждом случае: в гл. 15 он выступает как один из левитов. При толковании Песни песней перевод его имени (Народ мой усердие, или Отец мой усердие) оказывается как нельзя кстати. В собственном смысле בדנ означает добровольное приношение, конкретно – жертвоприношение. Слова невесты о том, что душа ее «не уразумела» и «вменила ее в колесницах Аминадава», звучат как сетование при новой встрече после ночного эпизода, когда она не поспешила встать и открыть возлюбленному дверь. В тексте мотив промедления отмечается особо: «Я вымыла ноги мои; как же мне марать их?» (Песн 5:3) Поэтому кажется, что второе вхождение слова בדנ в греческом тексте перекликается с первым: «Приходящая как хороводы стройные; прекрасны ноги твои в обуви твоей, дочь Надава!» Левиты несли ковчег обутые, подпоясанные и с пением в строю. Несомненно, что красота ног (а еще вернее, походки839) может быть элементом описания человеческой красоты в таком богатом на художественные элементы тексте, как Песнь песней. Однако библейскую параллель этой конкретной похвале мы встречаем совсем в другом контексте; случайно или нет, но она также перекликается с историей о колеснице: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: “воцарился Бог твой!” Голос стражей твоих – они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ Свой, искупил Иерусалим» (Ис 52:7–9). Все рассматриваемые эпизоды объединяет одна общая тема: возвращение Бога к Его народу.
Но есть ли смысл в употреблении слова בדנ в греческом тексте, когда читатель не мог понять его значения? Здесь мы имеем основание предположить, что перевод создавался в рамках билингвальной еврейской общины и служил ей посредником для сохранения связи с отеческим языком. Если это верно в ситуации перевода Песни песней, в таком случае игра смыслов, которые выражаются то еврейскими именами собственными, то их греческими эквивалентами, не только не мешала читателю постигать глубинный смысл текста, но и способствовала тому, чтобы в «разломах» текста, где перевод (или его недостаток) представлялся странным, искать более глубокого истолкования с опорой на осведомленность в обоих языках.
Выяснив характер невесты и смысл обращенного к ней требования, можно вернуться теперь к теме жениха. В отличие от всех ветхозаветных эпизодов, где Бог обличает Израиль или вообще человека за отступление от Него, в Песни песней нет и, с жанровой точки зрения, не может быть никаких грозных запрещений или предостережений, кроме одного: «Если ты не узнаешь саму себя (ἐὰν μὴ γνῷς σεαυτήν), прекраснейшая из женщин, то ходи по следам стад и паси козлят твоих подле шатров пастушеских» (ст. 1:7). Этот стих служит ответом на вопрошание невесты: «Где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень?» – и такой ответ кажется асимметричным. Если, однако, предположить, что переводчики сознательно воспользовались известным изречением, некогда положенным Сократом в основу философских исканий840, то все становится на свои места: познание себя представляет кратчайший путь к Богу, особенно тогда, когда ты сам являешься препятствием на этом пути, а это и есть основной сюжет драмы религиозного миросозерцания.
«Господь вышний страшен» (Пс 46:3) – таким оставалось общее место всего Ветхого Завета, начиная уже с призвания Авраама (см. Быт 15:12). Но в драме Песни песней стороны меняются ролями. Жених здесь воплощение кротости. Невеста же описывается в терминах грозных метафор. Она уподоблена коню в колеснице фараона, полку в развернутом строе, столпу с трофеями убитых воинов, сторожевой башне, крепостной стене. Похоже на то, что невеста – охотница. Возлюбленный зовет ее спуститься «с Ливана... из начала веры... от логовищ львиных, от гор барсовых» (ст. 4:8)841, сам представая в образе оленя, который для этих горных хищников является жертвой. Действительно, упоминание оленей в заклятии раввины ассоциировали с темой заклания842, а цепочка «Ливан» – «вера» – «логовище» наводит на мысль об иерусалимском Храме843. Сравнение невесты со столбом дыма и пальмой также имеет параллель в традиции, относящуюся к символике жертвенника844. Жених восхищен возлюбленной в буквальном смысле, т.е. как бы похищен в небо: «Отврати очи твои от меня, потому что они воскрылили (ἀνεπτέρωσαν) меня» (ст. 6:5). Очи девушки, как отмечается неоднократно, подобны голубям, – впрочем, как и очи жениха. Взгляд встретился со взглядом и «воскрылил» его, ибо взгляд возлюбленной не оставляет спокойным. Опять возможным решением исходя из целей холистского анализа будет ассоциация с жертвой, потому что пара птенцов голубя была минимальной единицей приношения в Храм, и алтарь образно наименован в LXX «гнездом» горлицы (Пс 83:4), а «всесожжение» (הלוע) – это «приношение, восходящее [в огне]» (הלע החנמ)845. Что огонь считался чистой, достойной субстанцией для истребления священных предметов, которое было вовсе не истреблением, а возвращением их Богу, видно из одного апокрифического предписания касательно храмового имущества в час разграбления Иерусалима: «Поспешите взять все вещи и бросить в огонь, который заберет их к Тому, Кто создал их, а пламя отправит их Тому, Кто сотворил их» (Сир. Вар. X. 19). Возвращаясь к метафорике Песни, заметим, что очи сами крылаты, но и «воскрыляют», – это непосредственно связано с представлением древних о природе зрения: глаз видит свет, потому что сам есть свет; здесь уместна параллель с метафорой «крылатого ока солнца» из ближневосточной поэзии846. Роль солнца, которое тоже может быть крылатым (ср. Мал 4:2), в ритуальном цикле уже отмечалась; если верно, что в образе олененка тоже присутствует солярная символика, то здесь, в мотиве восхождения на небо, вводится идея оборота солнечной энергии.
Аргументировать эти соображения можно не только с позитивной, но и с негативной точки зрения, а именно – указанием на то, что Храм, культ и вообще религия никак не упоминаются в Песни песней. Это более чем странно, принимая во внимание историческую контекстуализированность произведения, которое преподносит глазам читателя идеальную картину царства Соломона: его дворец в Иерусалиме, воинские успехи отца, народную любовь, коневодство, садоводство, счастливый брак и даже союз с Египтом; не упомянуто лишь главное деяние жизни Соломона – строительство Храма. Это явление того же порядка, что и отсутствие в тексте обращения к Богу, явного произнесения имени Бога, вообще каких-либо сведений о существовании Бога. Либо мы имеем дело с вполне светским произведением, беспрецедентно для древнего мира секуляризированным, либо, исходя из принципа негатива, вся поэма на самом деле посвящена Богу и Его Завету, о котором также не сказано ни слова. Соответственно, центральной темой сюжета всей поэмы является Храм – как место призывания имени, осуществления и возобновления Завета, как предмет обетовании и упований избранного народа. Метафорика солнца и земли опосредует метафорику жениха и невесты, возводя ее через подаваемые небом блага как предмет Завета к собственной теме произведения – мистическим отношениям Бога и человека.
Итак, если земля – символ человеческой души, грешащей и раскаивающейся, а солнце, соответственно, символ Бога, дающего душе прощение посредством жертвоприношений, приносимых от Его же щедрот, то жертва представляется не тягостной обязанностью, а угощением, свадебным пиром. Такие воззрения для Ветхого Завета на самом деле традиционны (ср. Притч 9:2), но особенно заметны в Септуагинте, например: «дождь усердный Ты отделишь, Боже, достоянию Твоему; изнемогло, а Ты совершил (κατηρτίσω) его; животные Твои живут в нем» (Пс 67:10). В еврейском тексте «дождь усердный» (תובדנ םשג) – от уже рассматривавшегося корня, с которым связано имя Надав. Но еще важнее употребление слова «отделить» (ἀφορίζω) как термина из жреческого лексикона847. Часто утверждаемая независимость Бога от жертвоприношений (напр., Пс 49:13) суммируется богословской формулой: «Сказал я Господу: Господь мой Ты, ибо в благах моих не нуждаешься» (Пс 15:2). Человек же, со своей стороны, не просто нуждается в дарах от Бога, но и представляет обладание этими дарами как причастие к некой циркуляции благ в мире: «Господь – доля наследства моего и чаши моей, Ты тот, кто возвращает (ὁ ἀποκαθιστῶν) достояние мое мне» (Пс 15:2:5). Поскольку достояние, отделенное в виде жертвы, возвращается обратно, утешительный 19-й псалом, еще только обещающий человеку помощь от Бога, призывает его быть щедрым к небесам: «И всесожжение твое да будет тучным (mavdtu))». Без этой идеи циркуляции, общей для всех жертвенных культов, трудно было бы понять жертвоприношение как праздник.
Связь между Храмом и плодородием, теоретически постулируемая Шифманом на основе хананейских аллюзий848, в одном из псалмов по греческому тексту просматривается непосредственно:
Свят храм Твой, дивен в правде; услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, препоясанный могуществом, смущающий глубину морскую, шум волн их. Смятутся народы и убоятся знамений Твоих живущие на пределах [земли]. Выходы утра и вечера Ты украшаешь. Ты посетил землю и упоил ее, обильно обогатил ее: поток Божий полон воды; приготовил пищу им, ибо это – приготовление. Борозды ее упои, умножь плоды ее, в каплях своих возвеселится она, сияя. Благословишь венец лета благости Твоей, и поля Твои наполнятся туком.
Два разных слова со значением «утолять жажду, орошать» (הקש הור) толковник передал при помощи глагола μεθύσκω {поить допьяна}849. Земля персонифицируется, она «опоена» щедростью Бога850. Наряду с этим вводится ряд образов, связанных с актом украшения. Так, переводчика больше привлекает возможное значение «сиять» в глаголе המצ, чем его прямое значение «произрастать»851, и это несмотря на контекст, в котором тема урожая повторяется на разные лады. Сияние земли «в каплях ее», возможно, напоминало молящимся о свадебном наряде невесты, украшенном пестротами (ср. Пс 44:14). Также благословение венца содержит в себе брако-церемониальные аллюзии (ср. Песн 3:11). Если в МТ Бог венчает год благостью, то в LXX венец представлен как отдельный предмет – «венец лета благости Твоей», –которым Бог увенчивает землю или же само «лето благости» как период ее плодоношения, возраст зрелости852. Вероятно, к этому следует отнести также «украшение» Востока и Запада: слово ןינרת переведено не буквально, «обрадуешь», а иносказательно – «украсишь» (τέρψεις).
Из контекста можно заключить, что псалом содержит мотив мистического царского бракосочетания Господа с Его страной, сакраментальным центром которой является Храм, так как по версии LXX упоминание Храма специально выделено как граница между предыдущим фрагментом, описывающим блаженство верующих, и настоящим, который посвящен благословению земли: «Свят храм Твой, дивен в правде...» и т.д.853 Апелляция к Храму как месту правды или «оправдания» (δικαιοσύνη), – что включает в себя понятие о ритуальных очищениях, – открывает слова молитвы о спасении, которая перетекает в перечисление свидетельств силы Бога и Его власти над природой, разрешаясь наконец гимном Его благотворению земле. Таким образом, «правда», как понятие ритуальное, является залогом уневещения земли, чему обнаруживаются параллели в речах пророков, указывавших на взаимозависимость между «благоволением» Бога к Храму и сошествием небесной росы, дающей земле силу родить (Агг 1:8–11). Потому и брак Бога со страной рисуется праздником одновременно воды, вина и тука: земля украшается влагой, но и опаивается ею, как вином (которое действительно выливалось в землю при жертвеннике), и производит тук – главную субстанцию для новых жертвоприношений854.
Универсальное объяснение жертвенного культа через представление о циркуляции материи посредством огня не противоречит идее творения из ничего, и это в особенности видно тогда, когда само жертвоприношение осмысляется скорее как дар Бога, нежели как удовлетворение требований со стороны Бога. На это указывает сюжетная линия Песни песней, допускающая целостную символическую интерпретацию. В то же время если через образ оленя Бог отождествляется с жертвой, то возникают некоторые аллюзии с хананейскими культами Ваала – весеннего божества, умирающего во время засухи и воскресающего после обильных дождей, буквально прорастая сквозь землю (которая называется его сестрой и женой) новым урожаем. Применимость этих аллюзий к толкованию библейского текста, однако, имеет вполне определенные ограничения. Хананейская религия, основанная на персонификации природных циклов, не может объяснить исторического драматизма грехопадения, подчиняющего себе всю библейскую антропологию и выступающего системообразующим элементом в композиции Песни песней. Исчезновение жениха оплакивается здесь не так, как оплакана гибель Ваала в регулярно возобновляющейся войне с богом смерти: жених только уходит, а в руках смерти символически оказывается сама невеста, отправившаяся на поиски. Время умирания Ваала – начало засушливого сезона, время ухода жениха, судя по всему, окончание сезона дождей, а засуха в Песни песней вообще не представлена. Таким образом, если поэма, реконструированная через призму греческого текста, содержит параллели с хананейским культовым эпосом, то это лишь «полемические» параллели, рожденные в другой системе религиозной мысли855. Как известно, боги Ханаана «оспаривали» у Господа роль Владыки неба с его стихиями, причем этот спор дважды решался у потока Киссон.
Подводя итоги, можно утверждать, что смысловая структура Песни песней с точки зрения холистского анализа содержит три слоя, символически описывающие богоявление: первый, сюжетный слой представляет Бога в образе жениха; второй, природный представляет Его подателем производящих сил земли; третий, ритуальный представляет Его инициатором жертвенного культа, вступающим посредством этого в общение с человеком. Последний уровень смысла, связанный с идеей Завета, характеризует Бога Израилева как Бога истории. Но история присутствует в Песни песней также на антропологическом уровне – как история личности, вступившей в драматическую полосу жизни – период ответственности за свои поступки.
б) Премудрость
В парадигме Завета подлежит осмыслению не только история в целом, но и каждое историческое событие в отдельности. По мере того, как в Израиле нарастает обусловленное опытом политических катастроф мироощущение, в котором историческое переживается как трагическое, осмысление истории все больше приобретает характер теодицеи, а мысль о цели всего исторического пути, в принципе органичная для народа, у которого есть осознание своего предназначения в мире и наличествует идея истории как таковой, – для народа, считающего Исход началом своего исторического бытия, – выкристаллизовывается в понятие о конце истории, обогащающее религиозную картину мира целым комплексом эсхатологических представлений. Забота Бога о народе в целом с точки зрения отдельного страдающего поколения не только не снимает вопроса о цели страданий, но и требует, чтобы судьба части была осмыслена в связи с целым, ввиду целого, – аналогично тому, как забота о мире в целом предполагает осмысление страдания отдельного человека, т.е. вообще человека, что мы наблюдаем в книгах Иова и Екклесиаста. В последней тема страданий объективируется с осознанием того, что мыслить – это и значит страдать (Екк 1:18). Теодицея оказывается невозможной с точки зрения лишь общего промышления Бога о мире и человеке; попытки представить зло перманентно наказуемым, а добро перманентно вознаграждаемым заводят в тупик; судьба всякого поколения и всякого человека требует своего собственного смысла, который сокрыт в ней до времени подведения итогов, – только этим снимается трагическое, – и относится к ней как скрытый замысел притчи к ее сюжету. Понятие об этом сокровенном замысле раскрывается в категории «премудрости» (המכח, σοφία).
Поскольку тема Премудрости Божией, которая уже в книге Притчей Соломона получает олицетворение, чрезвычайно важна для понимания того, как формировались основные предпосылки новозаветной христологии856, основные рассуждения по поводу корпуса книг Премудрости отнесены к III-му разделу настоящей работы. Однако сама тема выходит далеко за пределы так называемого корпуса Премудрости, будучи широко представленной в «сектантской» литературе и неканонических произведениях различного жанра, вошедших в состав Септуагинты. Среди последних особое место занимает книга Иудифь – как описывающая символическими средствами опосредованное исторической действительностью богоявление, в котором Бог дает познать Себя как Премудрость.
Книга Иудифь замечательна тем, что в ней представлена конкретная историческая ситуация, которая, однако, воспринимается не как событие из истории, а скорее как архетип события857. Это связано с изначально заложенной в сюжет книги несообразностью исторических и географических подробностей, которые должны были быть более заметны ее первым читателям858, чем позднейшим апологетам, еще в XIX в. пытавшимся защититьподлинность рассказа859. Имя героини отчетливо символично (Ιουδιθ – תידוהי, Иудейка), с большей или меньшей степенью точности идентифицируются иносказательные значения и других персонажей860. Если верно, что это повествование изначально не воспринималось как отражающее реальные события, то тем самым акцентируется его метаисторический смысл861. Какую идею выражает победа вдовы над могущественным полководцем, одержанная при помощи красоты? Для описания победы слабого над сильным этот в высшей степени искусно построенный текст представляется даже слишком избыточным862. Феминистская трактовка также страдает односторонностью, ограничивая проблематику книги сексистским углом зрения863. Скорее, как высказывался Хааг, эта книга является одной из развернутых притчей об отношениях Бога и Его народа864.
Надо заметить, впрочем, что народ показан в этом произведении не с самой благоприятной стороны: он отступает от Бога и в лице толпы, которая заставляет старейшин «города-девы» Ветилуи сдать цитадель865, находящуюся под угрозой голода, на милость победителя, и в лице самих старейшин, которые уступают этому давлению, и – что наиболее существенно – в лице иерусалимского священства, которое позволило жителям столицы во время голода употребить в пищу начатки и десятины, посвященные Богу согласно заповеди. Закономерно, в связи с этим, что в конце книги сама Иудифь символически становится предводительницей народа: «Она шла впереди всего народа в хоре и вела за собою всех жен; за нею следовали все мужи Израильские, вооруженные, с венками и с торжественными песнями в своих устах» (ст. 15:13). Подобно первосвященнику, пророку или царю, Иудифь предстательствует перед Богом за народ и за его знать. При этом важно отметить, что Бог не появляется в рассказе как действующее лицо: не говорит с кем-либо, не ободряет, не угрожает, не посылает ангелов (как, например, в книге Товита). Это обстоятельство кажется композиционно значимым ввиду того, что есть еще одна персона, которая так же незримо присутствует, является предметом речи, но не выказывает себя непосредственно, а именно – Навуходоносор. Сделанный в книге Иудифи одним из ассирийских царей, которые, подобно ему, выступали походом «на всю землю» (4Цар 17:5), он обладает амбициозностью исторического разрушителя Первого Храма – вавилонского Навуходоносора, который, согласно книге Даниила, велел всем подвластным народам поклоняться себе как Богу.
За сюжетом эпической поэмы просматривается как в структурном866, так и в смысловом отношении почти зеркальная онтологическая схема, основанная на принципах самозванства и пародии. Если Навуходоносор пытается изображать из себя того, кем является один Господь, то и Олоферн должен быть нелепым передразниванием того, чем на самом деле является Иудифь. Поэтому, концентрируясь вокруг отношений последних двух героев, сюжет книги фактически представляет собой описание имманентного посредника трансцендентного субъекта.
| Трансцендентный Субъект | Имманентный Посредник | |
| Истинный | Господь | Иудифь |
| Самозванный | Навуходоносор | Олоферн |
Навуходоносор противопоставлен Богу не в рамках дуалистической модели, даже не в рамках пародии на нее – они оба игнорируют существование друг друга (ни один другого в речи не именует), и поэтому, в силу несомненного онтологического превосходства Бога, сам Навуходоносор есть жалкая и смешная пародия. В свою очередь, Олоферн вовсе не является прямой параллелью к Иудифи; различие между ними в силе и могуществе настолько велико, что уподобляется различию между Богом и Навуходоносором, только в обратном соотношении. Однако можно заметить, что сам Олоферн считает за честь появление красавицы в своем лагере, он польщен ее прибытием и тем почтением, которое, как он думает, оказано этим ему. Подчеркнутое уважение Олоферна к дорогой гостье, переходящее в свою комическую противоположность, – он засыпает в ее присутствии, – стоит военачальнику жизни. В определенном смысле между этими персонажами действительно оказывается знак равенства, и в чем-то они даже меняются местами867. Рассмотрим подробнее типические свойства всех образов повести.
Навуходоносор описывается в терминах и оборотах, которые характерны для высказываний о Боге, особенно в пророчествах, и обладает следующими «божественными» прерогативами.
1. Суд. Царь принимает решение «совершить... отмщение всей земле» (ст. 2:1).
2. Непостижимость. Он ни с кем не советуется, вместо этого открывая служителям и сановникам, словно пророкам, «тайну своего намерения» (ст. 2:2).
3. Господство. Как абсолютный владыка, он требует беспрекословного подчинения и велит «погубить всех, кто не повиновался слову уст его» (ст. 2:3); именуется «господином всей земли» (ст. 2:5).
4. Власть над стихиями. Народам приказано «приготовить землю и воду» перед его пришествием (ст. 2:7)868.
5. Власть над пространством. Он обещает расселить пленников «по концам всей земли» (ст. 2:9).
6. Промысел. Он откладывает наказание для некоторых и приказывает Олоферну сохранить их «до дня обличения их (εἰς ἡμέραν ἐλεγμοῦ αὐτῶν)» (ст. 2:10).
7. Жизнь. «Ибо жив я, и крепко царство мое: что сказал, то сделаю моею рукою» (ст. 2:12). В Библии «Живу Я» – формула клятвы, которую использует Бог (ср. Чис 14:28). Человек обычно клянется словами «Жив Господь».
8. Божественность. «Кто же Бог, как не Навуходоносор? Он пошлет силу свою и сотрет их с лица земли» (6:2). «Ибо он сказал – и не напрасны будут слова повелений его» (6:4). Один и тот же глагол еткаХео) {призывать} употребляется относительно Господа в ст. 8:17 и Навуходоносора в ст. 3:8 ἐπικαλέσωνται αὐτὸν εἰς θεόν {призвать его как Бога}869.
9. Единственность. «[Олоферн] разорил все высоты их и вырубил рощи их: ему приказано было истребить всех богов той земли, чтобы все народы служили одному Навуходоносору, и все языки и все племена их призывали его, как Бога» (3:7–8).
10. Благость. «Ты найдешь себе спасение; не бойся: ты будешь жива в эту ночь и после... всякий будет благодетельствовать тебе (εὖ σε ποιήσει), как бывает с рабами господина моего, царя Навуходоносора» (ст. 11:3–4). Это напоминает благословение Израиля (Быт 12:3, Числ 24:9).
Стоит отметить, что после гибели Олоферна и рассеяния его войска Навуходоносор как бы перестает существовать: ввиду этого все высказывания о нем в первой половине книги оказываются, фактически, фантомными. Он вполне определенно выполняет роль «несущего бога», для которого Олоферн принимает на себя роль посланника, в процессе осуществления своей миссии отождествляющегося с самим посылающим – поначалу в величии, а затем и в ничтожестве870.
1. По отношению к Навуходоносору – он «был вторым по нем» (ст. 2:4).
2. Посылая Олоферна, царь говорит: «Ты пойдешь от лица моего» (ст. 2:5).
3. Ему вверено господство над землей: «Предавай их смерти и разграблению по всей земле твоей (ἐν πάσῃ τῇ γῇ σου)» (ст. 2:11).
4. Филистимляне встречают его, как бога: «Они и вся окрестность их приняли его с венками, ликами и тимпанами» (3:7–8).
5. Его слово так же непреложно, как и слово его господина: «Я сказал, и ни одно из слов моих не пропадет» (6:9).
6. Выход военачальника к Иудифи описывается так, что напоминает храмовое действо: «Олоферн отдыхал на своей постели за занавесом, украшенным пурпуром, золотом, изумрудом и драгоценными камнями. [Когда] ему доложили о ней, он вышел в переднее отделение шатра, и перед ним несли серебряные лампады... Она, пав на лице, поклонилась ему, и служители его подняли ее» (10:21–23).
7. Олоферн представляется карающим жезлом, посланным «для исправления всякой души (εἰς κατόρθωσιν πάσης ψυχῆς)» (ст. 11:7). Как отмечает С. Гордон, «посохи и жезлы божественного происхождения, которые служат оружием для обеспечения победы, распространены в восточносредиземноморских мифах и сказаниях»871. С библейской метафорой жезла мы не раз еще будем иметь дело.
8. Он призван соединить со своим «Богом» всю тварь: «Не только люди чрез тебя будут служить ему, но и звери полевые, и скот, и птицы небесные чрез твою силу будут жить под властью Навуходоносора и всего дома его» (ст. 11:7). Приглашая Иудифь в шатер Олоферна, его евнух сулит ей «быть в этот день как одною из дочерей сынов Ассура, которые предстоят в доме Навуходоносора» (ст. 12:13), как бы не делая разницы между своим господином и самим царем.
9. Личные дарования Олоферна исключительны: «Мы слышали о твоей мудрости и хитрости (τὰ πανουργεύματα) ума твоего, и всей земле известно, что ты один добр (ἀγαθὸς) во всем царстве, силен в знании и дивен (θαυμαστὸς) в воинских подвигах» (ст. 11:8).
10. Олоферн наследует власть и пастырство над Израилем на горе Сионе: «Я поведу тебя чрез Иудею, доколе не дойдем до Иерусалима; поставлю среди его седалище твое (τὸν δίφρον σου ἐν μέσῳ αὐτῆς), и ты погонишь (ἄξεις) их, как овец, не имеющих пастуха... Это сказано мне по откровению и объявлено мне, и я послана возвестить тебе» (ст. 11:19).
11. Услуга, оказанная Олоферну, достойна быть целью человеческой жизни: «Поспешу исполнить все, что будет угодно господину моему, и это будет служить мне утешением до дня смерти моей» (ст. 12:14).
12. При разговоре с ним Иудифь отмечает и живительные качества этого общения: «Сегодня жизнь моя возвеличилась во мне больше, нежели во все дни от рождения моего» (ст. 12:18).
13. Число войска, которое ведет Олоферн, символизирует полноту: 120 тыс. пехоты и 12 тыс. всадников. «В целом, – резюмирует Лорейн, – есть существенные показатели для того, чтобы сопоставить метаисторические военные и религиозные действия Олоферна на службе у Навуходоносора с эсхатологическими политико-религиозными акциями антихриста на службе у сатаны»872.
Не нуждается в комментариях тот сатирический эффект, который производят слова, приведенные выше, на читателя, знакомого с общим замыслом книги, – в особенности это касается тех мест, где похвалы Олоферну доводит до последней степени сама Иудифь873. Однако следовало бы очистить их от отрицательного знака, которым они наделены в отношении к библейской действительности, чтобы, оценивая их с формальной стороны, увидеть в этих пародиях на богословские формулы своего рода негативную теологию, которая только и оправдывала бы слишком вольное обращение с библейским словом, допущенное в них как бы для создания насмешливой речи874.
Книга Иудифь – создана она до, после или во время Маккавейского восстания875 – относится к тому времени, когда мессианская идея, обнародованная пророками, занимала прочные позиции в историческом самосознании евреев. Олоферн имеет очевидные признаки Мессии, некоторые из которых известны по ветхозаветной, а некоторые – и по новозаветной литературе. Так, образ «овец, не имеющих пастуха», встречающийся у пророков (напр., Иез 34:11), полное развитие как образ именно мессианский получает в Евангелии (Мф 9:36). Здесь, в книге Иудифь, он связывается с престолом, поставленным «посреди» священной столицы, т.е., очевидно, на горе Сион. Отсюда можно видеть, что мессианские ожидания ассоциировались также с Храмом: и действительно, нашу мысль о том, что в описании шатра Олоферна с его двумя отделениями содержится намек на устройство иерусалимского Храма, подтверждает поступок Иудифи, которая «принесла все сосуды Олоферна... и занавес, который она взяла из спальни его, отдала в жертву Господу» (ст. 16:19). Обратная аналогия с расхищением сосудов Храма историческим Навуходоносором очевидна.
| Иерусалимский Храм | Шатер Олоферна |
| Святое святых отделено пурпурной завесой | Внутренняя часть отделена пурпурной завесой |
| Золотые и серебряные светильники | Серебряные светильники |
| Золотые и серебряные сосуды | Серебряные сосуды |
| Народ падает ниц перед первосвященником | Иудифь падает ниц перед Олоферном |
| Во дворе Храма возливается жертвенное вино | В передней части шатра Олоферн пьет вино |
| Здесь же приносятся кровавые жертвы | Здесь же Иудифь отрубает голову Олоферну |
Возвращаясь к преданию о смерти первосвященника Симона, рассказанному в тосефте к трактату Сота, можно сопоставить отношение Олоферна к Навуходоносору с аналогичным отношением олицетворенного имени Господа, пребывающего в иерусалимском Храме, к самому Господу. Близко к этому подходят богословские категории Мемры и Метатрона из семитоязычной литературы эллинистического времени876, а также образ архангела Михаила в некоторых кумранских произведениях877. Отдельно следует упомянуть Мелхиседека, которому кумраниты отводили роль эсхатологического судьи и который представляется прообразом Христа в Послании к Евреям. Именно Мелхиседек мог бы занять место на обновленном Сионе, обладая старшинством священства по отношению к Левию878. При этом Олоферн наделен и другими очевидно «мессианскими» качествами, которые приближают его образ к предмету ожиданий кумранитов: он полководец непобедимой армии своего «Бога», осуществляющий <далее текст двух страниц книги отсутствует – примечание эл.редакции>.
Дело здесь не в какой-то ревизии традиции: героиня не ставит под сомнение иерократическое устройство израильского общества, – но в определенной теологии, которая требует прозрачности действования Бога и одновременно признает необходимость посредства для этого действования в мире. Символом такой прозрачной опосредованности и становится сама Иудифь, которая низлагает Олоферна не военной силой, но исключительно красотой, а также «словом и хитростью» (ст. 9:13), т.е. проявлениями Божественной Премудрости. Красота Иудифи преисполнена достоинства, она подобна отполированному зеркалу, которое заставляет Олоферна обратить взоры на самого себя. Он хочет понравиться ей, ищет «обольстить» ее (ст. 12:16) – употребляется тот же глагол ἀπατῆσαι, которым Иудифь выражает свое намерение в отношении Олоферна, когда молится об успехе своего дела. По собственной легенде, Иудифь приходит к Олоферну не для того, чтобы отдаться ему, но для того, чтобы назвать время, когда иудеи отступят от Бога, чтобы он мог легко победить их, – а узнать об этом она должна в молитве. Здесь причина промедления Олоферна, который удивляется ее мудрости, начинает смотреть на себя ее глазами, пьет вино в ее присутствии, наконец засыпает и уже буквально «теряет голову»: «красота ее пленила душу его; меч прошел по шее его» (ст. 16:9).
Описание красоты Иудифи примечательно. В нем не так много элементов: лицо, чистота тела, миро, одежды веселия, сандалии, золотые украшения, наряды, головной убор, льняная одежда. Нельзя с уверенностью говорить о том, что Иудифь накладывала на лицо краски879. Что касается прочего, в ее одежде нет ничего такого, что невозможно было бы отождес169твить с элементами ритуальных одеяний. Так, носить одежду из льна были обязаны левиты; сандалии надевали сопровождавшие скинию; одежды веселия, в которые Иудифь раньше облекалась «для мужа своего», напоминают о праздничных, а золото и наряды – о ритуальных облачениях; головной убор и особенно миро ассоциируются с помазанием царей и священников. С собой во вражеский стан Иудифь также берет предметы, обладающие строго религиозным смыслом: «Дала служанке своей мех вина и сосуд масла, наполнила мешок мукою и сушеными плодами и чистыми хлебами» (ст. 10:5). Она и действительно пользуется ими для обоснования своей просьбы предоставить ей отдельное место в лагере ассирийцев: «Ибо раба твоя благочестива и день и ночь служит Богу Небесному... пусть раба твоя по ночам выходит на долину молиться Богу» (ст. 11:17). Олоферн в ответ не только проявляет неожиданную веротерпимость, но и с легкостью отождествляет предмет своей собственной веры с предметом упования Иудифи: «Хорошо Бог сделал, что вперед этого народа послал тебя, чтобы в руках наших была сила, а среди презревших Господа моего (τὸν κύριόν μου) – гибель. Прекрасна ты лицем, и добры речи твои. Если ты сделаешь, как сказала, то твой Бог будет мой Бог (ὁ θεός σου ἔσται μου θεός); ты будешь жить в доме царя Навуходоносора и будешь именита во всей земле» (ст. 11:22–23). На фоне подобных иронических превращений текста вырисовывается один вполне серьезный факт: Иудифь действительно выходит из Ветилуи для того, чтобы совершить род священнодействия.
Не праздны ли приведенные соображения, и не является ли случайной вся эта цепь ассоциаций? Общий смысл произведения побуждает считать иначе. Вернемся к параллели «негативной теологии» Навуходоносора и Олоферна с истинной теологией автора книги, в которой Иудифь является оппозицией ассирийскому полководцу. Как уже было отмечено, вдова из Ветилуи не примеряет на себя образ непобедимого воина, ее победа совершается «словом и хитростью». Более того: в книге вообще принижается роль мужчин, и ничто не указывает на то, что их малодушие, проявленное во время осады, в дальнейшем чем-либо будет компенсировано. У Иудифи, в отличие от Деворы, нет даже своего Барака; единственный мужчина, которому она принадлежит, покоится в гробнице, нося двусмысленное для еврейского исторического слуха имя Манассии. Эти обстоятельства используются в аргументации феминистского толкования книги, однако надо заметить, что выражения вроде «жена спасет мужа» (Иер 31:22) периодически встречаются в Библии, указывая на необычайное и поучительное. Вместе с тем противопоставление женщины полководцу не абсолютно. Хотя Иудифь не похожа на Олоферна, он сам делается похожим на нее, когда желает обольстить красавицу именно тем, чем она вскоре низложит его, – словом и хитростью. В свою очередь, она тоже уподобляется ему после своей духовной победы, когда берет в руки меч880.
Примечательно, что от начала до конца в нашей повести не выражается никаких специальных мессианских ожиданий. Наоборот, образ Иудифи, как олицетворение неожиданно поданной Богом помощи, противостоит всем знакам военной силы, вообще мужской силы, что наводит на мысль о чуждости автора книги тем кругам, которые ожидали Мессию как военачальника и завоевателя. Кого же представляет собой Иудифь? Характер ее поступка, возвышенно-иронический тон повествования в целом указывает на Премудрость Божию (םיהלא תמכח), которая в лице Иудифи достигает персонификации, хотя о ее собственной персональности, в отличие от книг корпуса Премудрости, данная повесть умалчивает. Как и Олоферн, Иудифь сама обладает мессианскими чертами, которые книга, что примечательно, не усваивает никому иному. Она и ее противник – оба личностные активные начала, которые не распадаются на множество сил, или операторов безусловного в мире условном. От лица к лицу им вручаются полномочия, чтобы самое важное совершалось их «рукою»; действуя «от имени», они прославляют и собственные имена. То, что героиня – человек, показывает ее нужда в молитве, упование на Бога, скромность в самооценке. Молится она и перед выходом из дома, и перед убийством спящего врага. То же, что наряду с человеческим в ней персонифицирована сама Премудрость, выявляется, в частности, тем, что после молитвы она не получает никакого извещения, но без тени неуверенности приступает к совершению задуманного. В словах, которыми она обличает старейшин, также на негативном фоне представлена тема Премудрости: «Вот, вы теперь испытуете Господа Вседержителя, но никогда ничего не узнаете; потому что вам не постигнуть глубины сердца у человека и не понять слов мысли его: как же испытаете вы Бога, сотворившего все это, и познаете ум Его, и поймете мысль Его?» (ст. 8:13–14). Иудифь уже намекает здесь на свой замысел, который, таким образом, она ставит в параллель Божьему; аналогичным образом соотносятся мудрость праведника и Премудрость Божия в книгах Соломонова корпуса.
«Премудрость» – существительное женского рода в еврейском и греческом языках, отчасти поэтому ее образы в Библии обычно являются женскими. Это наилучшее объяснение того, почему автор книги, которая говорит о победе мудрости над силой, делает ее центральное лицо женщиной. В еврейском и арамейском, но не греческом языке женского рода также слово «дух» (החור ,חור). Поскольку автор книги был, видимо, из билингвальной среды, он должен был хорошо знать это. В гимне, который после победы поет Иудифь, успех ее дела сравнивается с мироустрояющим действием Божественного Духа: «Ты послал Духа Твоего, – и устроилось (ᾡκοδόμησεν), – и нет [никого], кто противостал бы гласу Твоему» (ст. 16:14). Голос и дыхание (т.е. дух) взаимосвязаны, поэтому здесь наличествует параллель между одним из библейских олицетворений Бога881 и непосредственно совершаемым деянием Бога в мире. Таким образом, кроме явления Премудрости, можно приписать образу Иудифи еще явление Духа Божьего, что сближает его с образами древних пророков и пророчиц. Поскольку вера в пророчества в книге никак не отражена, весьма вероятно, что она создавалась как утешение израильтянам в пору утраты пророческого дара после возвращения из плена, когда все большее место в религиозной мысли занимала идея Премудрости.
в) Дух
Дух в ветхозаветном словоупотреблении – не просто ветер и не просто ангел, а дыхание Бога, понимаемое как «физически», так и «метафизически»882. Это показывается фразой из книги пророка Исайи, являющейся осмыслением события Исхода из Египта: «Не посредник, не ангел, но Сам Господь спас их... славная мышца Его разделила пред лицем Его воду, чтобы соделать Ему вечное имя... и сошел Дух от Господа и путеводил их» (Ис 63:9–14). В этом отрывке «Дух» может быть как ветром, так и ангелом, поскольку эпизод из второй книги Моисея, к которому он отсылает (Исх 14), повествует о разделении Красного моря посредством «сильного восточного ветра» (ст. 21) перед евреями, которых вел в столпе облачном и огненном «Ангел Божий» (ст. 19). Однако у Исайи специально оговаривается, что евреев спас «не посредник, не ангел, но Сам Господь». Каждое из упомянутых лиц имеет свое соответствие в тексте-источнике. «Посредником», по всей видимости, называется Моисей, которому было сказано: «Подними жезл твой и простри руку свою на море и раздели его» (ст. 16). «Ангел» соответствует «Ангелу Божию». Можно добавить, что жезл и рука Моисея изображают «славную мышцу» Господню, которая у Исайи поставлена в параллель Духу. Мышца разделяет море, Дух ведет сквозь него Израиль.
Если вновь обратиться к тексту-источнику, становится понятно, что пророческий текст отождествляет их: во-первых, «Господь шел перед ними днем в столпе облачном... и ночью в столпе огненном» (Исх 13:21), а во-вторых, как возглашает в своей хвалебной песне Моисей, «от дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря... Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море» (Исх 15:8:10). Что причиной необычайно сильного ветра считается дыхание Самого Бога, для сознания древних, в котором Бог опознается как повсюду присутствующий в мире, совершенно нормально. Ветер воспринимается в Библии как знамение присутствия Бога (2Цар 5:24, 1Пар 14:15)883. Примечательно то, что Исайя употребляет слово «Дух» для воспоминания о путеводстве, тем самым отождествляя силу, разделившую море, с мудростью, которая вела Израиль по пустыне, и это – «не посредник, не ангел, но Сам Господь». Поскольку мы говорим о тексте пророческой традиции, естественно предположить, что и основанием для такого отождествления было представление о «Духе пророчества». Тогда сюжет приобретает завершенные черты: Дух присутствует и в сильном ветре, и в ангеле, и в Моисее, и в целой цепи пророков, которые руководят Израилем на протяжении его истории. Этим «делается вечное имя» Господу, потому что «Дух от Господа».
В связи со сказанным представляется интересным следующий фрагмент в интерпретации переводчиков:
| LXX | МТ |
| ἰδοῦ ἐπὶ τὰ ὄρη οἱ πόδς εὐαγγελιζομένου Се, на горах ноги благовествующего καὶ ἀπαγγέλλοντος εἰρήνην· и возвещающего мир: ἐόρταζε, Ἰούδα, τὰς ἑορτάς σου, празднуй, Иуда, праздники твои, ἀπόδος τὰς εὐχάς σου, воздай обеты твои, διότι οὐ μὴ προσθήσωσιν ἔτι ибо не станут более τοῦ διελθεῖν διὰ σου εἰς παλαίωσν. проходить тобою во разорение884. Συντετέλεσται, ἐξῇρται Скончался, извергнут он. ἀνέβη ἐμφυσῶν εἰς πρόσωπόν σου Взошел вдыхающий в лице твое, ἐξαιρούμενος ἐκ θλίψεως· удаляющий от скорби: σκόπευσον ὁδόν, κράτησον ὀσφύος, воззри на путь, укрепи чресла, ἄνδρισαι τῇ ἰσχύϊ σφόδρα мужайся для великой силы. | רשבמ ילגר םירהה לע הנה Се, на горах ноги благовествующего, םולש עימש מ возвещающего мир: ךיגח הדוהי יגח празднуй, Иуда, праздники твои, ךירדנ ימלש воздай обеты твои, דוע ףיסוי אל יכ ибо не станет более לעילב ךב רבעל проходить тобою Велиар: תנכר הלכ он совсем уничтожен. ךינפ לע ץיפמ הלע Поднялся сокрушающий пред тобою: הרוצמ רוצנ утверждай твердыни, םינתמ קוח ךרד הפצ наблюдай путь, укрепляй чресла, דאמ חכ ץמא собирайся с силами. |
Этот отрывок представляет собой законченный текст, который может быть проанализирован исходя из параллелей в его структуре. Такие параллели, по нашему мнению, имеются, причем Септуагинта делает их более явными. В первую очередь обращает на себя внимание мотив подъема: сначала сообщается, что благовестник уже находится «на (לע) горах», и упоминание ног служит образом совершающегося или совершенного восхождения; затем – что некто «поднялся» (הלע) перед Иудой или, буквально, «на (לע) лице твое». Представление о «сокрушающем» (ץיפמ) может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, к чему готовит слушателей данный текст: к терпению скорбей или к исходу из плена, т.е. опять-таки восхождению (ср. Быт 46:4 LXX), в Иудею. Как той, так и другой перспективе может соответствовать призыв «укреплять чресла». Во втором случае параллелью к этому месту будет другой пророческий текст – «перед тобою пойдет стенорушитель» (Мих 2:13)885. Септуагинта, однако, вовсе по-другому читает само исходное для этой интерпретации выражение, вместо ץיפמ {молот} имея в своем оригинале, видимо, חיפמ {вдыхающий} – от глг. חפנ. Выражение «Вдыхающий в лице» самую очевидную ассоциацию имеет в рассказе из книги Бытия о сотворении Адама, которому Бог «вдунул (חפי) в лице его дыхание жизни». Не менее важная коннотация содержится в греч. переводе Плача Иеремии, где «дыханием лица нашего» назван Помазанник Израилев (Плач 4:20)886. Таким образом, в тексте LXX описывается пересоздание или возвращение к жизни народа иудейского силой эсхатологического героя, который, возможно, отождествляется с Мессией887. Соответственно этому слова «скончался, извергнут» (ед.ч.) относятся к народу, поскольку субъект предшествующей речи (разоритель) представлен во мн.ч.
Разорение, гибель, смерть оказываются центром композиции. Остальные мотивы образуют пары:
| Се, на горах ноги благовествующего и возвещающего мир: празднуй, Иуда, праздники твои, воздай обеты твои. | Взошел вдыхающий в лице твое, удаляющий от скорби: воззри на путь, укрепи чресла. мужайся для великой силы. |
Все эти соответствия довольно прозрачны: благовествование дает слушающим «присутствие духа» и как бы возрождает их к жизни; обещанный мир устраняет причину скорби; праздник, связанный с возвращением из ассирийского плена, соответствует исходу из Египта и совершению Пасхи, которая должна была съедаться стоя, в препоясании чресел и с дорожными посохами в руках; исполнение обетов, разумеется, требует силы и мужества. Существенно для нашей темы во всем этом то, что прямая параллель проводится между пророком-благовестником и тем животворящим дыханием888, Божественный источник которого прямо не называется, но самой торжественностью этого гимнического фрагмента подразумевается889.
Дух как субъект богоявлений сопровождает некоторые упоминания о Мессии. Это может быть связано с тем, что само помазание, главный признак Мессии как «помазанника», ставится в зависимость от предварительного пришествия Духа Господня (Ис 61:1). В качестве мессианского может быть истолкован фрагмент, в котором содержится фраза: «И ныне Господь послал Меня, [как] и Духа Своего» (Ис 48:16)890. Представляется важным, с нескольких точек зрения, также другой пророческий отрывок: «Господи! в скорби мы вспомнили о Тебе; в скорби малой – наставление Твое для нас. И как болящая приближается к родам и вопит от болей своих, такими были мы для Возлюбленного Твоего, ради страха Твоего, Господи. Во чреве приняли мы, и поболели, и родили: Дух спасения Твоего сотворили на земле. Мы не падем, но падут поселившиеся на земле» (Ис 26:16–18). Этот отрывок имеет признаки эсхатологического (речь идет о «падении» всех жителей земли, кроме верующих), мессианского (в связи с упоминанием Возлюбленного) и сотериологического (обещается прекращение страданий). Упоминание болей рождения в связи с Мессией известно из кумранских «Благодарственных гимнов», где наличествует следующий важный фрагмент: «Как город, укрепленный пред лиц[ом врага], я буду в тяготе, как женщина в родах, перворождающая... И чреватая Мужем стиснута своими болями... Вырвется из горнила чреватости Дивный Советник (ср. Ис 9:6) в своем могуществе... И чреватая аспидом (или: ничтожеством: חאפע, ср. Ис 41:24) [также] обречена острой муке» (1QH III. 7,9–10:12).
Кто оказывается рождаемым в Ис 26:16–18 по чтению LXX – Возлюбленный или Дух спасения – вопрос, не имеющий однозначного ответа. По-видимому, рождение Возлюбленного и «сотворение» Духа спасения «на земле» отождествляются или мыслятся как взаимосвязанные события, аналогично с Ис 48:16. Замечательно, что в итоге все сводится к отношениям непосредственно с Богом: зачатию соответствует страх Божий, мукам – воспоминание о Боге, а рождению – «наставление», полученное также от Бога. Как заключительная фаза родового цикла, и само рождение должно быть связано с Богом. Тогда упомянутый Дух спасения должен быть Божественным Духом, сродни пророческому вдохновению, а точнее, предметом и поводом всех пророчеств, так как их единственной целью было спасение Израиля. Слова «сотворили на земле» могут указывать на то, что Дух имеет неземное происхождение: не будучи творением рук человеческих (так характеризуются только языческие боги), Он «творится» рождением Возлюбленного, или Возлюбленному, т.е. делается через это пребывающим на земле, как на небе. Именно поэтому Он смертоносен для «поселившихся на земле», т.е. людей, сделавших землю своим единственным упованием, без обращения к небесному. Мотивы осуждения «земного» в этом смысле, т.е. в смысле жизни, лишенной страха или памяти о Боге, довольно широко представлены не только в греческом, но и в еврейскомтексте Библии. В книгах корпуса Премудрости они проработаны как целостное учение в связи с теологией и антропологией этих книг. Позднее мы к этому корпусу еще вернемся для установления более ясных отношений между понятиями о Премудрости, Духе и Помазаннике Божием.
2. Космология
2.1. Бездна и море
Выше было показано, что «земля», с точки зрения переводчиков Септуагинты, не является совечным Богу субстратом вещей. Однако в мифологии древнего мира на этот статус претендовала преимущественно водная стихия, которая осталась в стороне от нашего рассмотрения онтологического вопроса. Существенно то, что в Ветхом Завете водная стихия поэтизируется вплоть до того, что предстает образом сил, вступающих в противостояние с Богом. Исследователи находят этому множество параллелей в месопотамских и хананейских мифах, самые близкие – это борьба Мардука с Тиамат, в ходе которой осуществилось творение космоса, и борьба Ваала с морским божеством Йамму, а также драконом Лотану, в котором угадывают библейского Левиафана. После открытия в 1930-х гг. клинописной библиотеки города Угарит в Сирии (XIII в. до н.э.) хананейская версия стала преобладать над вавилонской. Признавая, что «угаритский миф не является прямым источником библейского», ученые, ориентированные на поиск в Библии реликтов «языческого прошлого» Израиля, считают несомненным, «что и в Угарите, и в Библии разрабатывается общий мифологический сюжет»891. Септуагинта – слишком позднее произведение для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу имеющимися в ней данными внутренней библейской экзегезы. Но на основании ее изучения можно, по крайней мере, уяснить, каким было понимание некоторых из этих поэтических фрагментов и метафор у евреев периода раннего эллинизма. Учитывая же, что в числе имеющихся у нас источников по интерпретации Септуагинта является одним из древнейших, ее вклад в полноту картины нельзя недооценивать.
Вопрос о бездне чрезвычайно важен, так как она мыслится лежащей в хронологическом и топологическом основании бытия892. Само существительное «бездна» (ἡ ἄβυσσος), видимо, библейского происхождения – в греческом языке это слово служило только прилагательным со значением «бездонный, глубокий, неизмеримый»893. Бездна служит универсальным символом глубины, неисследимости, даже смерти (Пс 70:20)894. Это связано со свойством воды – как в жидком (глубина), так и в газообразном (облако) состоянии скрывать свет, считающийся источником жизни. Черными тучами образуется תומלצ – σκιά θανάτου {тень смертная}. С другой стороны, зарождение жизни также происходит на глубине, ἐν τοῖς κατωτάτοις {в преисподних} (Пс 138:15)895. Вселенная стоит на морях и реках (Пс 23:2), но источники воды вообще сосредоточены в «основаниях вселенной» (Пс 17:16). Ассоциация бездны с жизнью и смертью, – взаимоотношения между которыми в представлении древних вообще амбивалентны, – ее положение в «начале» тварного бытия с точки зрения места и времени вызывает вопрос, является ли тварной сама бездна? Теоретически, в еврейском и греческом изводах этот вопрос мог решаться по-разному, с учетом как ближневосточного языческого контекста формирования Библии, так и богатой традиции эллинского мышления, не только мифологического, но и философского, относительно проблемы происхождения мира. Однако в действительности, как будет показано ниже, греческий текст отражает лишь определенное, и притом строго монотеистическое, решение вопроса.
Примечательно то, что в Септуагинте не получил никакого применения термин «хаос», для которого, видимо, у переводчиков не нашлось соответствующего концепта. Во многих случаях признаки библейской «бездны» позволяют сравнивать ее с древнегреческим «хаосом», и потому систематическое употребление термина «бедна» может служить признаком сознательно проведенной дистинкции между двумя этими понятиями.
а) Бездна тварна
То, что бездна сотворена, недвусмысленно утверждается уже в Притчах, где «безднам» предшествует творческая Премудрость Божия:
Притч 8:21а-31 LXX
21аЕсли я возвещаю вам бывающее ежедневно, не забуду исчислить и того, что от века896. 22Господь соделал897 меня началом путей Своих для дел Своих. 23Прежде века Он основал меня898: в начале, 24прежде нежели сотворил землю899, прежде нежели сотворил бездны900 и прежде нежели произошли источники вод901, 25прежде нежели были водружены горы, прежде всех холмов Он рождает меня902. 26Господь сотворил страны и необитаемые места и пределы обитаемые в поднебесной903. 27Когда Он уготовлял небо, я была с Ним, и когда помещал престол Свой на ветрах904, 28и когда вверху устроял мощные облака, и когда укреплял источники в поднебесной905, 29ø и когда назначил морю пределы его, чтобы воды не проходили мимо уст ero906, † и когда созидал твердые основания земли, 30я была при Нем устроительницею; я была для Него радостью, ежедневно и во все время веселилась пред лицом Его, 31Как и Он веселился, окончив творение вселенной, и веселился о сынах человеческих907.
Септуагинта отражает здесь традицию антропоцентрического истолкования акта творения в стт. 26 и 31; таким образом, создание бездн описано как служебное для более общего предназначения мира, в котором будет господствовать человек. Эта специфика задает свое особое русло для экспликации предмета нашего дальнейшего рассмотрения – враждебности бездны (но в особенности моря и некоторых его обитателей), которая в рамках ветхозаветной теодицеи должна будет рассматриваться не как прямой вызов Богу, а как результат грехопадения человека: вражда против него той изначальной реальности, которая для его же блага была вызвана к бытию908. Центральная фигура в этой теме – змей, или морское чудовище.
б) Бездна проходима
Сотворенность «источников вод» (πηγὰς ὑδάτων), которые отождествлены в Притчах с бездной, утверждается также в Новом Завете, причем в той его части, в которой «море» неоднократно описывается как место пребывания зла (Откр 14:7). Это важно, как будет показано в дальнейшем, ввиду вопроса о происхождении зла и его сущности. Одновременно в Евангелии «бездна» определяется как место наиболее отдаленное, из которого нет возврата (Лк 8:31). Последнее может указывать на представления о бесконечности бездны, что косвенно подтверждало бы ее онтологическую самостоятельность, соположенность Богу по внепространственному и вневременному бытию. Однако уже в Септуагинте мы находим, с одной стороны, соединение образа «бездны» с понятием о предельной негативной реальности (фактически, его превращение в метафору смерти), а с другой стороны, характеристики, позволяющие заключить о ее принципиальной исчерпаемости, по крайней мере – проницаемости для Бога.
Так, в книге пророка Ионы соединяется целый ряд важных для нашего рассмотрения тем: кит, море, бездна, основания гор, внутренность земли, ворота с «вечными засовами», ад и тление. Пребывание в «бездне последней» (ἄβυσσος ἐσχάτη) пророк переживает как заключение в темницу (Иона 2:6). Само выражение «последняя бездна» принадлежит Септуагинте и расходится с современным пониманием еврейского текста909. Возможно, на такой вариант перевода повлиял Пс 138:9, где псалмопевец рассматривает перспективу своего вселения «в последних [рубежах? глубинах?] моря» (εἰς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσης)910. Это место рассматривается как предел, дальше которого двигаться некуда, потому что речь идет о бегстве от Бога911; оно аналогично нашему сказочному «краю света», и для достижения его нужны крылья, что указывает на фактическую недосягаемость для простого смертного человека.
Но на Бога, по смыслу молитвы пророка Ионы и по признанию автора 138-го псалма, не распространяются ни метафоры недосягаемости, ни за ними стоящая реальность. Он равно прикосновенен к самому близкому и самому отдаленному, поэтому-то человеку некуда убежать от Него, и даже воображая себе переселение на край света или в царство мертвых (לואש, ᾄδης), он обнаруживает в них Его Дух. Уже говорилось о том, что повсеместность присутствия была одним из качеств, подразумеваемых именем «Господь», которое, наряду с этим, выражало также неограниченную силу бытия, знания и власти. Господь определяется в греческой Песне трех юношей как «видящий бездны» (ὁ ἐπιβλέπων βύσσους, Дан 3:54); это как-то связано с тем, что Он же есть и «сидящий на херувимах» (καθήμενος ἐπὶ χερουβὶμ, там же), т.е. здесь, по всей видимости, указывается на положение Бога над обеими областями вод – нижней, что под землей, и верхней, что «на тверди небесной» (ст. 55), – и Его способность «присматривать» (ἐπιβλέπων) за ними (ср. Иов 28:24). В греческой книге Иова соединяются мотивы «следа Господня», «последнего [предела]», неба и преисподней: «След Господень обретешь ли, или проникнешь в последнее (τὰ ἔσχατα), что сотворил Вседержитель? Высоко небо, и что ты сделаешь? А глубже преисподней (βαθύτερα τῶν ἐν ᾅδου) что ты знаешь?» (Иов 11:7–8)
Упоминание «следа Господня» в греческом тексте служит переходом в речи Софара Минейского между основным ее предметом – предполагаемой неправедностью Иова – и темой середины речи – абсолютностью Бога. Параллелью для лучшего уяснения данного высказывания может служить 20-й стих 76-го псалма: «В море пути Твои, и стези Твои – в водах многих, и следы Твои не будут узнаны». При буквальном понимании речь идет о шествовании Господа впереди народа при переходе через Красное море. Возможно, существовало предание о том, что ангел, путеводивший Израиля, не оставлял на песке следов человеческих ног. На такой смысл указывает следующая, и заключительная, фраза псалма: «Ты вел, как овец, народ Свой, рукою Моисея и Аарона». Но уже здесь, помимо предполагаемой истории с ангелом, содержится указание на невидимость Бога, действующего через посредников и еще и в этом смысле не оставляющего собственных «следов». Особенно ясно это видно из предшествующих стихов псалма:
14Боже, во Святом путь Твой; кто Бог великий, как Бог наш?
15Ты – Бог, творящий чудеса; явил в народах силу Твою,
16избавил мышцею Твоею народ Свой, сынов Иакова и Иосифа.
17Увидели Тебя воды, Боже, увидели Тебя воды, и убоялись: затрепетали бездны,
18великий шум вод, голос издали облака, ибо проходят стрелы Твои.
19Голос грома Твоего в вихре, осветили молнии Твои вселенную,
подвиглась и пришла в смятение земля.
Путь Бога «во Святом» (ἐν τῷ ἁγίῳ) – это, непосредственно, праздничная процессия в иерусалимском Храме (ср. Пс 67:25). При более общем понимании слова «путь» – это вообще храмовый культ и религия, сосредоточенная вокруг Храма9121. Далее, судя по контексту псалма, «путь» пролегает через историю, так как описываются события Исхода. Но наряду с ними в поэтическом переплетении вводятся какие-то другие события, перекликающиеся с другими псалмами, не относясь напрямую к описанному в книге Исход: это страх вод, трепет бездн (ἄβυσσος) и явление сильной грозы, которая сотрясает землю. Таким образом, «святое» здесь не только Храм, но и не что-то вовсе чуждое Храму – под ним подразумевается небо и, наконец, вообще явление или откровение Бога, которое всегда воспринимается человеком как чудо.
Явление Бога на водах – широко распространенный мотив в псалмах и в пророческой литературе. Вопрос о том, почему именно вода была субстанцией, восприимчивой к таким явлениям, и почему они нередко описываются как некоторое грозное прещение (наряду с другими местами, где вода «проторгается» весенними потоками как непосредственная Божья милость), еще будет рассматриваться. Теперь обратим внимание только на два обстоятельства. Во-первых, в рассматриваемом отрывке речь идет о водах нижних (Красное море) и верхних (грозовые облака). Возможно, само переплетение двух мотивов (Исхода и грозы) обязано этому сопоставлению двух явлений – природного и исторического: с одной стороны, разделения моря перед евреями, бежавшими от египтян, а с другой стороны, расторжению облачности, как бы порванной молниями, после «очищения» большой грозой, когда наступает ясная погода и светит солнце. Во-вторых, при всей красочности описания «чудес» все-таки «следы» Бога «не будут узнаны».
Отметим, что при анализе описаний воды в Библии всегда следует внимательно рассматривать вопрос о том, какая вода имеется в виду – верхняя, нижняя или, может быть, они обе. Это существенно ввиду того, что, например, в Апокалипсисе змей – главный противник человечества – после падения с неба поселяется в море. Верх и низ тварного бытия изоморфны друг другу, они в равной степени обладают глубиной и неисчерпаемостью (с точки зрения человека), что позволяет им носить на себе землю, которая «повешена ни на чем» (Иов 26:7). С этим связаны представления о хрупкости мира: средневековая иудейская традиция считает горы «висящими на волоске», почти то же самое говорится в книге Сираха об островах: «Помышлением Его укрощена бездна, и Он насадил на ней острова» (Сир 43:25). Морской остров – не самое актуальное для древних евреев географическое понятие, но в библейском словоупотреблении под «островами» могут пониматься и целые страны, континенты913. Вселенная утверждена «на водах» и «на потоках»914. Премудрость Сираха, таким образом, уточняет способ этого космического строительства: Бог посредством одной мысли (λογισμός) заставил бездну притихнуть, как бы «утомиться», после чего, как растения, насадил (ἐφύτευσεν) в ней обитаемые части суши – острова.
Употребление здесь глагола κοπάζω {букв.: утомляться} примечательно915. В нем явно заложена мысль о неустойчивости бездны, которая должна была быть остановлена в своем непрекращающемся движении, прежде чем стала служить почвой для образования вселенной. Не исключено, что на характер перевода внуком Сираха этого места книги деда повлияли философские взгляды на равномерное круговое движение как основную причину устойчивости мира (ср.: Арист. Физ. А. 5); напоминая укачивание ребенка916, такое движение действительно мыслится как «утомляющее», «успокаивающее» и позволяет объяснить, каким образом «твердь» одновременно является «ветрами» (ср.: Притч 8:27 LXX). В индийском эпосе сохранились аналогичные представления об океане, посредством движения взбитом для получения из него напитка бессмертия: боги «пахтали» океан в течение длительного времени, вместо веревки пользуясь для этого гигантским змеем (Махабхарата, I). В книге Сираха единственным инструментом, которым Бог приводит бездну в устойчивое состояние, является мысль (в евр. тексте: слово). Таким образом, здесь не предполагается ни усилия со стороны Творца, ни сопротивления со стороны материала. Однако необходимость «утомления» бездны косвенно указывает на то, что ей изначально присуще движение, которое само по себе было лишь неустойчивостью, изменчивостью, бесформенностью. «Я пролился, как вода», – жалуется Давид, и добавляет, что его сердце растаяло (Пс 21:15), т.е. потеряло твердость, форму.
Можно поставить вопрос о сходстве «бездны» греческого текста Библии с «хаосом» греческой космогонии. Слово «хаос» употребляется в Септуагинте только два раза (Мих 1:6, Зах 14:4) и в обоих случаях выражает идею «пропасти» как провала, куда что-то падает, но ни в коей мере не изначального топоса или первичного элемента бытия, хотя в таком значении это слово употреблено уже у Гесиода и неоднократно – в литературе классического периода. Философы рассуждали о беспредельности хаоса; о самом понятии беспредельного ясно выразился Аристотель, который и подверг сомнению его реальность: «Беспредельным называется то, чего нельзя исчерпать движением, потому что оно в силу своей природы не допускает такого движения, подобно тому, как голос нельзя видеть; или – таково то, в отношении к чему движение не может быть закончено» (Арист. Мет. 1066а 35). Сравнивая беспредельное с голосом, Аристотель разъясняет, что имеется в виду его неделимость; но не в этом смысле говорят о беспредельном древние философы, а во втором, т.е. подразумевая бесконечную пространственную протяженность. К анализу библейского понятия о бездне можно применить оба эти аспекта: во-первых, в Библии существует мотив разделения воды, которое позволило Богу создать пригодное для жизни мировое пространство; во-вторых, наличествует уже отмечавшееся выше представление о крайней удаленности «последних» пределов.
Кажется, отсутствие дискретности, непрерывность была тем свойством воды, которое побудило древних отождествлять ее с материей первичного хаоса (ср.: Арист. Мет. 983b 28). Материя не делится и не обособляется сама по себе, для этого нужны разделители, чуждые друг другу по природе. Самым первым, естественным таким разделителем, который действует в открытом море и в небе, где ничто не препятствует воде, собравшейся в тучи, заполнять пространство без всяких ограничений, является ветер. Дух Божий, носившийся выше воды в Быт 1:2, исходя из такого взгляда, был не просто сильным ветром, для чего-то полирующим поверхность океана, – Он был готовой к применению Божественной силой, которая еще носилась только «над водой», т.е. не проникла в толщу воды, чтобы разделить ее, наполнить изнутри воздушным пространством, зажечь в ней свет и сотворить обитаемый мир. Поскольку все это было сделано посредством слова, упомянутый в начале книги Бытия Дух можно понять как присущий этому Слову, еще не высказанному, – как силу голоса, которой обладал Бог для произнесения Слова. В начале творения Бог представляется дышащим над водой, как дышит человек, приготовившись говорить. Это дыхание имманентно и до говорения не оказывает воздействия на окружающее пространство, так как земля остается «безвидной и пустой». В книге Притчей на его место ставится «знание» (תעד) или, по переводу LXX, «чувство» (αἴσθησις), роль которого иллюстрируется повседневным природным явлением: «чувством [Его] бездны разверзлись, а облака источили росу» (Притч 3:20). Смысл аналогии достаточно ясен: как облака, спускающиеся с гор, производят росу (לט, δρόσος) на земле (ср. Пс 132:3), так и две бездны являются единым, но расщепленным (евр. עקבנ), или расколотым (греч. ῥήγνυμι), целым.
Мы уже обращали внимание на особую восприимчивость воды к звуку. Она не раз отмечается в Библии, возможно вливаясь на каком-то этапе в истолкование «верхних вод» как ангельских сил, «трепещущих» перед словом Вседержителя и готовых исполнять его917. Таким образом, первоначальная картина творения уже содержит «землю» в широком смысле (ниже мы увидим, что «земля» могла отождествляться с «бездной») и «небо» в широком смысле – как то измерение, в котором «Дух Божий носился выше воды». Горизонтальное и вертикальное строго обозначены. Не удивительно, что слова «В начале сотворил Бог небо и землю; земля же была невидима и неустроена» засвидетельствованное LXX экзегетическое предание, как уже отмечалось, интерпретировало в строго креационистском ключе. Следовательно, «бездна» и здесь мыслилась традицией как сотворенная, именно к ней, а также к пространству над ней, которое вскоре понадобится для того, чтобы разъять ее и повесить на «тверди» часть мировых вод, относятся слова «в начале сотворил Бог». Кроме того, Септуагинта свидетельствует о понимании «духа Божьего» (םיהלא חור) в начале кн. Бытия именно в качестве «дыхания-духа» (πνεῦμα), во множестве мест идентифицируемого как Дух Господень, охватывающий вдохновением и «помазующий» пророков, а не как обыкновенного «ветра» (ἄνεμος). Это понимание оказало значительное воздействие на традицию истолкования книги Бытия вплоть до настоящего времени918.
Рассматривая библейский образ «бездны» с точки зрения того понятия о беспредельном, которое с философской отчетливостью было эксплицировано Аристотелем, замечаем прежде всего ее проходимость для Божественного Слова, Духа и Премудрости, затем – прерывность и подверженность колебаниям, наконец – подчиненность Божественному замыслу и даже готовность откликнуться на него. Мысль о проходимости бездны довольно ясно выражается употреблением глагола περιεπατέω {прогуливаться, ходить взад-вперед}. Только Премудрость Божия, по словам Сираха, ἐν βάθει ἀβύσσων περιεπάτησα {по дну бездны прошлась} (Сир 24:5), и это служит как бы ответом на многочисленные библейские вопрошания о том, кто спускался в бездну. Еврейский текст этого места не сохранился. Но весьма важно, что оно пересекается с сообщением о Левиафане в греческой книге Иова, согласно которой морское чудовище ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς περίπατσν {считает бездну местом прогулки} (Иов 41:24). В связи с приведенным стихом из кн. Сираха данное чтение, кажущееся необычным919, проясняется: Левиафан так велик и мощен, что полагает себя способным пройти сквозь бездну в оба конца, подобно тому, как это делает Божественное Слово. Может быть, согласно замыслу книги, эти претензии не соответствуют истине, однако намерение Левиафана таким образом исчерпать глубины преисподней показательно как своего рода попытка присвоить себе Божественную прерогативу.
Концепт «бездны» обладает и теологическим значением, так как он служит выражением творческих потенций самого Бога: ее материальная неисчерпаемость, неисчислимость именно Его разумом всегда сохраняется в потенциальном состоянии, а Его чувством меры обустраивается в жилище, пригодное для обитания (Ср. Притч 3:20 LXX). Роль воды здесь принципиально та же самая, что и в космогонии Фалеса: она есть не столько узнаваемое влажное вещество, сколько само состояние слитности, неразличимости всего материального субстрата, в которое вещи возвращаются при своем уничтожении; из нее выходят первые живые существа, она же губит всех их во время потопа, будучи образом как жизни, так и смерти – утробой, темнотой920. Поэтому «вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою» (2Пет 3:5).
в) Бездна и земля
Конкретно власть над бездной ее Творца проявляется как способность инициировать и прекращать ее движение. Оба применения власти могут описываться то как исторически прецедентные, то как инвариантные, т.е. вообще природные и в частности проявившиеся в истории. К историческим надо будет обратиться отдельно, а среди типичных инвариантов – следующие две фразы из канона Септугинты.
1. «Господь... связавший море словом повеления Своего, заключивший бездну и запечатавший страшным и славным именем Своим» (Оды 12:3). Отметим, что «имя» служит ключом и печатью для бездны; она, таким образом, становится негативным выражением Божественного могущества, господства: если бы не Господь, бездна потопила бы все. Но связано это, как видно из первой главы книги Бытия, которая изначально рассматривает землю в затопленном состоянии, не с каким-то восстанием бездны или борьбой Бога против нее, а со свойством воды покрывать всякую поверхность, которую она своим обилием превосходит. Отсюда кажется вполне правдоподобным вывод, что пешее шествие через Красное море во время Исхода, когда вода «огустела» и даже встала «стеной», было для древних евреев архетипическим образом творения: как для организации вселенной нужно было согнать воду с поверхности суши, так и для вывода избранного народа в обетованную землю потребовалось «приподнять» море. К обоим событиям – доисторическому и историческому – относится изречение Сираха: «По слову Его стала вода, как стог, и по изречению уст Его [явились] вместилища вод» (Сир 39:23). Можно понять вторую часть стиха как в том смысле, что вместилища вод (ἀποδοχεῖα ὑδάτων) действительно явились, т.е. дно моря стало видимым для выходящих из Египта израильтян (ср. Пс 17:16), так и в том, что Бог сначала согнал воду с суши, а затем устроил для нее «места» (ср. Быт 1:9). Образ воды, поставленной подобно стогу, мог родиться из часто наблюдаемого свойства ее малых количеств собираться в капли на плоской поверхности.
2. «Небо и небо небес, бездна и земля колеблются от посещения Его» (Сир 16:18) – колеблются (σαλευθήσονται) вообще, без какой-либо конкретной причины, кроме самого «посещения» (ἐπισκοπή). Поскольку речь идет о явлении постоянного, т.е. природного, порядка, Бог предстает здесь как владыка землетрясений, бурь, гроз и т.п. Однако видно, что эта сила экстраполируется и на сферу, находящуюся превыше стихий, – «небо небес», область ангельского, духовного мира921. Параллелизм в данной фразе концентричен, и если небо противопоставлено земле, то небо небес – бездне.
Что представляет собой бездна в составе природы, как она мыслилась в древних натуралистических воззрениях? Например, в аккадской космогонии Тиамат – олицетворение стихии соленых вод, в то время как Апсу, ее супруг, – вод пресных922. В Библии различие между солеными («горькими») и пресными («сладкими») водами отмечается только локально. Бездна не тождественна морю – соленой мировой стихии, хотя, по-видимому, и является источником для него; не получается отождествить ее также с грунтовыми водами солончаков, которыми в древности была богата Месопотамия923. Ни то, ни другое не помогло бы понять ее сравнения с «ризой», которой Бог покрывает землю (Пс 103:6). Это сравнение должно быть отнесено не к океану, а к туману или росе924. Восходя, туман повисает на горах и разрастается в тучи (ст. 7). Затем первая бездна «призывает» вторую «голосом ливней Твоих [т.е. Господних]» (Пс41:8)925, и в таком «призывании» ясно звучит поэтический мотив родственности, разлуки. Исходя из этого Септуагинта с полным правом интерпретирует в Быт 49:25 «благословения бездны, лежащей долу» (תחת תצבר םוהת תכרב) как «благословения земли, имеющей все» (εὐλογίαν γῆς ἐχούσς πάντα). Представляется, что такое же понятие о влажном «лоне» земли лежит в основе сообщения о паре (דא), который до грехопадения «поднимался с земли и орошал все лице земли» (Быт 2:6). Септуагинта называет его «источником» (πηγή), видимо тем самым желая указать на место происхождения первой, естественной системы ирригации в недрах самой земли. Очевидно, что до грехопадения море вообще не участвует в орошении. Поэтому «воды», на которых «утверждена» вселенная согласно Псалтири, – это не только воды океана, но и подземные пресные воды.
Вообще земля как пространство (ץרא), в отличие от земли как почвы (המדא) и как суши (השבי), видимо, никогда не противопоставлялась водной стихии. Она определенно противополагалась небу – как нижнее измерение пространства верхнему. Ввиду этого нахождение воды на небе приписывалось особой силе, которая ее поддерживает и называется «твердью» или «сводом». В силу того что «земля» и «вода» в определенном отношении суть одно, вполне органично звучал во Пс 148:7 призыв «хвалить Господа от земли» у обращенный к морским чудищам (םינינת, δράκοντες) и самим безднам (תומהת לכ, πᾶσαι ἄβυσσοι). Здесь бездна вовсе не противопоставлена Божественной власти как враждебное начало, а выступает лишь первой в ряду мировых стихий, которые далее перечисляются в этом псалме. В другом тексте Псалтири, стт. 71:20–21, «бездны земли» (ץראה תומהת, ἄβυσσοι τῆς γῆς – это, со всей очевидностью, область пребывания умерших, так как псалмопевец прославляет Господа за то, что Он «оживотворил» (יניחת, ἐζωοποίησας) его, возведя оттуда.
Отождествление бездны и земли прослеживается также во внебиблейских источниках. К этой теме может быть отнесено, например, утверждение тайная II в. р. Йосе, что «отверстие шита доходило до бездны» (Сукка, Тосефта 3, 15; ср.: Миддот 3:1). В действительности «шит» был небольшой камерой, вырытой под землей на территории между уламом и жертвенником во дворе иерусалимского Храма. Через отверстие, находившееся рядом с жертвенником, первосвященник возливал воду и вино, которые, таким образом, уходили в землю, как бы испиваясь ею. Сообщение р. Йосе можно понять и буквально, т.е. что шит имел второе отверстие, которое связывало его с «бездной», и символически: получая жертвенную влагу, шит принимал ее как бы от лица самой «бездны». Второе толкование вероятнее, поскольку существовал обычай раз в шестьдесят или семьдесят лет вынимать из шита вино, спрессованное там «наподобие фиговой плитки», и сжигать его на чистом месте (Тосефта, там же). Поскольку вино, таким образом, в итоге все-таки оказывалось восходящим на небо в дыме, хотя это и не имело уже формы жертвоприношения, можно думать, что в землю оно возливалось не как жертва, приносимая бездне, а как символ Божественного дара, сопровождавший просьбу подать земле плодородие. Вероятно, на этом основании тот же р. Йосе относил к шиту слова пророка Исайи о «точиле», выкопанном в винограднике Возлюбленного, т.е. в Иерусалиме (см. Ис 5:1–2).
Но неправильно говорить, конечно, о взаимно-однозначном соответствии при отождествлении земли с бездной, поскольку, в отличие от земли, бездна имеет отношение и к верху, и к низу. Скорее всего, библейский термин «бездна» указывает на представление о материальном субстрате, лежащем в основе разнообразия земных форм, и этот субстрат ассоциировался вообще с влажным, слитным состоянием вещества. Поскольку он мыслился практически неисчерпаемым, слово «бездна» становилось метафорой Божественной силы, реализуемой в неисчерпаемом потенциале как самой материи, так и ее разнообразных произведений. Текучесть, изменчивость облаков на небе не меньше говорила библейскому миросозерцанию о быстроте творческого ума Бога, чем неодолимость моря – о силе небесной державы, заключившей его в пределы. Так метафора переносится с материальной реальности на духовную и нравственную. Премудрость Бога – «бездны бездна, кто обретет ее?» (Екк 7:24 LXX)926. Соответственно, и природные катаклизмы могут быть символами не только погибели, но, равным образом, и спасительных даров: «Благословение Его покрывает как река, и как наводнение (κατακλυσμός) сушу напояет» (Сир 39:28). Так же описывается непостижимость исторических событий: «Праведность Твоя – как горы Божий; суды Твои – как бездна великая» (Пс 35:7). В последней цитате заметную роль играет параллелизм: если праведность (ἡ δικαιοσύνη) уподобляется горам, которые как бы хорошо видны глазу, но на которые, как на «горы Божий», трудно взойти человеческому духу (ср. Пс 23:3), то суды (τὰ κρίματα), или решения Бога относительно судеб мира и человека, больше похожи на непроницаемую для человеческого разума «бездну великую» (ἄβυσσος πολλή). Достигая до последних пределов истории, промысел Бога воплощается здесь в понятии посредством конкретного человеческого представления о неисчерпаемом.
Возвращаясь к континуальности, которая усматривалась древними как неотъемлемый признак водной стихии, мы приходим к выводу, что бесконечность «бездны» в качестве «источника вод» имеет отношение и к человеку, и к Богу, но как бы с разных сторон. Для человека она означает возможность «катаклизма» – потопления, падения в бездну, обволакивания тьмой материи, в которую не проникает луч света, возвращения в «чрево» земли, крушения городов и царств, колебания самого неба и «превращения» стихий. Человек не может исследовать начала этих источников, «являющихся» тогда, когда «отрываются основания вселенной» (Пс 17:16), и для него «бездна» действительно представляет собой актуальную бесконечность – «отрицательные первоначала, которые не дают возможности для жизни»927; но для Бога она лишь потенциальная бесконечность Его неисчерпаемой творческой мощи. Бытие у Бога бьет ключом, однако мир исчислен и взвешен Им, подобно «капле», как вещество на аптекарских весах (Прем 11:23). Бог приводит вещи в бытие из некоторой тягучей, не поддающейся строгой рациональной дифференциации массы, подобной «первоматерии» античных и средневековых философов, с той разницей, что эта первоматерия и не совечна Ему, и не бесконечна в пространстве, но только создается Им без всякого конкретного ограничения, получая себе границу, предел уже в вещах. Самым наглядным примером таких представлений может служить умножение хлебов Иисусом Христом, которое описывается евангелистом не как появление новых целых хлебов, а как бесконечная делимость и постоянная восполняемость кусков одного и того же хлеба. Слова «и ели все, и насытились» характеризуют суть библейского «материализма»: у Бога нет недостатка ни в материи, ни в господстве над ней.
г) Море, змей, история
Рассмотрим теперь иную группу примеров, а именно ту, где стихия может представляться вместилищем, воплощением или символом враждебного Богу начала. Эти примеры, как правило, связаны с темой моря, и здесь, вероятно, главная причина того, что возвещает христианам Апокалипсис: при творении нового неба и новой земли «моря уже нет» (Откр 21:1).
Угроза приморскому городу Тиру – «подниму на тебя бездну (םוהת תא, τὴν ἄβυσσον), и покроет тебя вода большая» (Иез 26:19) – отражает узкое употребление термина «бездна» в отношении моря или его источников. Обитателем этой бездны, проходящим по ней взад-вперед, как уже отмечалось, является еврейский Левиафан или греческий «дракон», змей. По-видимому, он тождествен или подобен Рахаву (Рааву), имя которого буквально значит «гордость» или «возношение», что вызывает ассоциацию со вздымающимися морскими волнами. Некоторые источники представляют это существо вредоносным, отмечая, что ему была нанесена какая-то неисцельная рана, которой он укрощен (Пс 88:11; Иов 26:12).
МТ (РБО): 12Своей мощью Он вздымает море и разумом сокрушает Рахава. 13От дуновения Его проясняется небо, рука Его разит скользящего змея – 14и это лишь малая толика Его дел! Все наши речи о Нем – жалкий шепот, а могучий гром Его – кто поймет?
LXX: 12Силой укротил море, умением (ἐπιστήμῃ) поразил кита. 13Засовы же небесные вострепетали перед Ним, и повелением умертвил Он змея-отступника. 14ø Вот, это части пути Его, даже в капле слова прислушаемся к Нему, † А силу грома Его кто познает, когда Он сотворит?
В первой половине 12-го стиха имеет место лишь разность переводов, которая проистекает из двусмысленности глагола עַגַַָר (рага). По начертанию это слово тождественно существительному עַג﮷ר (рега), означающему «мигание», и принадлежит к одному с ним корню. Глагол עַגַַָר обладает широким полем значений, выражая монотонное движение, укачивание (например, ребенка), раскачивание, колебание, волнение, наконец, бурю. Здесь возможен взаимный переход противоположностей, а отсюда и различие интерпретаций. То, что именно Бог волнует море, т.е. инициирует бурю, нам уже хорошо известно928. Но переводчик книги Иова избрал в данном случае глагол καταπαύω {прекращать, укрощать}. Получается, что кит баламутит море, а Бог успокаивает его.
Существенно также следующее: глава является речью Иова, обращенной к Валдаду Савхеянину, она имеет вводную часть (стт. 1–4), смысл которой сводится к тому, что Бог велик и не нуждается в апологии со стороны Валдада; за вводной частью следует иллюстрация: «ø Не гиганты ли рождаются под водой и окрестностями ее? Наг ад пред Ним, и нет покрова у пагубы. Он простирает Север ни на чем, подвешивает землю ни на чем же; связывает воду в облаках Своих, и не расторгнется облак под нею; удерживает лице [т.е. сияние] престола, простирая под ним облак Свой; повеление описал Он кругом по лицу воды, до смены света и тьмы. Столпы неба простерлись и ужаснулись от определения Ero†». Весь этот фрагмент в Гекзаплах отмечен астериском, т.е. его не было в том сокращенном варианте кн. Иова LXX, который позднее дополнен из рецензии Феодотиона. Таким образом, в краткой версии возникает «стяжка»: за рассуждением о величии, непостижимости Бога в качестве иллюстрации непосредственно следует упоминание об укрощении моря и борьбе с китом. Прибавим к этому несколько деталей.
а) Оба глагола – «укрощать» (καταπαύω) и «уязвлять/пронзать» (τιτώσκω) – стоят в аористе, т.е. выражают однократно совершенное в прошлом действие; б) представление о повинующихся Богу «засовах небесных» имеет параллели в других библейских книгах929; в) способ убийства змея – «повеление» (πρόσταγμα) – соответствует способу описания круга, который, согласно космологии кн. Притчей (8:27), «проведен по лицу бездны»; г) змей в ст. 13 называется «отступником», причем это не позднейшее дополнение, а интерптерация еврейского текста930; д) отсутствие в краткой версии Иова LXX первой половины ст. 14 образует вторую «стяжку», привязывая тему грома к умерщвлению змея. Таким образом, вместо подробного описания мироустройства краткая версия LXX всю славу Бога полагает в укрощении моря и убийстве кита или змея, которое совершается через «пронзание», что перекликается с вопрошанием, обращенным впоследствии к Иову (40:20–21), – «Извлечешь ли ты змея удицей... пронзишь ли шилом челюсти его?» Совершается же оно благодаря превосходству Бога в обладании «умением» (знанием, хитростью: ἐπιστήμῃ) и «повелением» (властью). Таким образом, очевидно, что борьба с драконом и творение материального мира как-то связаны: традиция греческого перевода хорошо об этом знала и при необходимости готова была подчеркнуть это литературными средствами.
Ис 27:1 LХХ
В тот день прострет Господь меч святой, великий и крепкий, на дракона, змея бегущего, на дракона – змея коварного, и убьет дракона, живущего в море.
Литературная связь еврейского оригинала этого стиха с началом 1-го столбца поэмы о борьбе силача Ба‘лу и бога смерти Муту обнаруживается, если сравнить транскрипцию обоих текстов931:
| Угаритский текст | Еврейский текст |
| (l) ktmhç. ltn. btn. brḥ (2) tkly. btn. ‘qltn | ‘l lwytn nḥš brḥ w‘l lwytn nḥš ‘qltwn |
| (1) как ты поразил Латану – змея вредоносного, (2) прикончил змея извивающегося... | на Левиафана, змея бегущего, и на Левиафана, змея извивающегося... |
Отмеченная параллель не позволяет судить об истории текста, но наличествует на двух уровнях: лексическом и композиционном. Иными словами, в угаритском эпосе и еврейском пророчестве употреблена практически одна и та же устойчивая фигура речи932. Это позволяет, конечно до некоторой степени, говорить и об общности лежащих в основе предполагаемого читательского восприятия представлений. Так, можно думать, что внимавшие словам Исайи знали, о каком существе идет речь в этом предсказании, к тому же они обладали образом, обеспечивающим его «узнавание».
Прежде всего заметно изменение семантики лексической единицы brḥ в книге Исайи по сравнению с хананейской мифической поэмой: еврейское слово חרב, несомненно, значит «бегущий» и не указывает специально на вредоносность933. Септуагинта переводит его словом φεύγοντος {убегающий}. Параллельная лексема ‘qltwn (ןותלקע), тождественная угаритской ‘qltn со значением «извивающийся», переведена, соответственно, как σκόλιον. Это греческое слово обладает двойным значением: собственно «извивающийся» и «коварный», «хитрый». Имя Левиафан (угарит. Латану) интерпретируется в Септуагинте как синоним слова ןינת {чудище}, что ясно следует из перевода их обоих одним греческим термином δράκων. Таким образом, его смысл как имени собственного либо был утрачен ко времени перевода, либо изначально не предполагался.
Но существеннее то, что дает контекст. Угаритская поэма рассказывает о битве Ба‘лу с Муту, в интерпретации У Кассуто – борьбе жизни со смертью934. I-й столбец открывают слова Муту, обращенные к его противнику: он угрожает Ба‘лу поступить с ним так же, как тот некогда поступил со змеем Латану. Чем заслужил тот змей свою судьбу, установить в точности не удается, однако ясно, что это морское чудовище убито Ба́лу, вероятно, в связи с его войной против бога моря и «речного судьи» Йамму935, претендовавшего на мировое господство. Известно из другой поэмы, что в битве с Йамму Ба‘лу обращался в бегство, но наконец победил при помощи заговоренного оружия. В сражении же с Муту он погибает и воскресает лишь благодаря своей сестре и супруге-деве ‘Анату, которая убила Муту и «просеяла его». Поскольку Муту проглотил Ба‘лу, из останков Муту, просеянных в землю, которая и олицетворяется ‘Анату, Ба‘лу оживает.
Контекст пророчества Исайи также связан с темой смерти и воскресения. Его анализ имеет смысл начать с 1-го стиха 26-й главы. Вообще стт. Ис 26–27 представляют собой один сюжет, главную тему которого можно обозначить как «укрепленный город» (ср. стт. 26:1 и 27:3 LXX; ст. 27:10 МТ)936. Здесь предсказывается разрушение Иерусалима и его возрождение, причем, как часто бывает у пророков, композиция текста выстраивается вне связи с хронологией исторических событий: пророк возвращается к одним и тем же вопросам, как бы созерцая их с разных сторон, добавляет к их описанию новые штрихи. Святой город сравнивается с виноградником, его гибель – с сокрушением стен, пожаром и иссушением ветвей (стт. 27:4,5 LXX; 27:11). Все это хрестоматийные для Ветхого Завета образы смерти, которая захватывает целые поколения, роды937. При этом в текст Исайи введен мощный нравственный мотив – как ответ на вопрос о том, кто же наследует спасенный и возрожденный город: «Отворите ворота, да войдет народ, хранящий правду и хранящий истину» (ст. 26:2). Другие, вражеские укрепленные города будут разорены Богом – «и будут попирать их ноги кротких и смиренных» (ст. 6). Путь праведника прям и выровнен перед ним (ст. 7). Это путь правосудия и памяти о Боге (ст. 8). Все живущие на земле призываются к тому, чтобы «научиться правде» (ст. 9), потому что ревность и огонь приготовлены для «народа необразованного» (ст. 11)938, и наказанные просят Господа о заключении мира (стт. 26:12; 27:5). Это, так сказать, канва сюжета, в которую вставлено важное различение мертвых, которые «не увидят жизни» (ст. 26:14)939, и мертвых, которые «воскреснут» (ст. 19). Между этими двумя утверждениями находится поэтический фрагмент (стт. 16–18), в котором различия между LXX и МТ становятся уже слишком примечательными:
| LXX | МТ |
| Господи, в скорби мы вспомнили о Тебе, в скорби малой наказание Твое нам. И как болящая, при наступлении родов, в болезни своей кричит, так мы были Возлюбленному Твоему. Из-за страха Твоего, Господи, во чреве приняли мы, и поболели, и родили: Дух спасения Твоего мы сотворили на земле; не падем, но падут все живущие на земле. | Господи! в бедствии он искал Тебя; изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его. Как беременная женщина, при наступлении родов, мучится, вопит от болей своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились, и рождали как бы ветер; спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. |
Появление здесь Возлюбленного, который оплакивается, как умерший, и рождается, как Дух спасения, причем этот последний «творится на земле», важно для мессианской темы. Теперь отметим только, что все эти понятия, символы и ожидания связаны с историческим «мы» народа, от лица которого здесь вещает пророк. Потому кульминации – убийству змея – предшествует призыв: «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев; ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих» (ст. 26:20–21). Эти слова помещают всю ситуацию в исторический контекст, хотя, что естественно для пророческой литературы, это исторический контекст не прошедшего или настоящего, а будущего времени. Подытоживая сравнение с фрагментом угаритской поэмы, можно заметить следующее, что выделяет библейское мышление на фоне хананейского эпоса.
1. События угаритского мифа происходят в метаисторическом прошедшем времени (Urzeit)940, а предмет пророчества Исайи помещен в историческом будущем времени.
2. Ба‘лу сначала убивает змея, затем борется с богом смерти Муту; Господь сначала побеждает смерть, затем убивает змея.
3. В поэме о Ба‘лу действуют боги, а люди оказываются только жертвами обстоятельств; у Исайи действуют в основном люди, вся борьба ведется вокруг них.
4. Ба‘лу является причиной жизни, Муту – причиной смерти. Господь в Библии является причиной как жизни, так и смерти941.
Все эти различия не уничтожают имеющихся параллелей, к числу которых принадлежат: борьба со змеем, плач о Возлюбленном, тема победы над смертью, мотив умирающей и возрождающейся природы. Таким образом, в основе отличительных черт еврейской религии лежит отношение к Богу и человеку. Первый представляется в Библии безусловным Владыкой, второй – обрекается на нравственное самоопределение перед Ним. И эти две идеи тесно связаны между собой, если принять во внимание ту мысль, что именно власть Бога над любыми обстоятельствами, внешними для человека, превращает свободный нравственный выбор последнего в единственный способ отношения к Богу, так как физические, внешние «добро» и «зло» равным образом происходят от Него как первоисточника всякого бытия. Освобождение Бога от всякой скованности в обращении с материей, которое Библия приносит в свое языческое окружение, впервые делает отношение к Нему человека чисто нравственным, потому что Бог, – или как действующая в мире причина, или как всесильный Помощник, по неведомой причине остающийся безучастным, – оказывается единственным подлинным «виновником» всех происходящих с человеком злоключений, вплоть до самого страшного из них – того, что произошло с Иовом, т.е. отчаяния. Ниже у нас еще будет возможность коснуться этого подробнее.
Итак, абсолютное господство Бога над морем демонстрируется неоднократно. Наиболее интересный прецедент этого в Септуагинте – рассказ о споре пророка Илии со жрецами Ваала, где «ров» (הלעת), сделанный им вокруг жертвенника для наполнения водой, представлен по-гречески как «море» (θάλασσα)942. Приготовив жертвенник таким образом для призвания огня прямо с неба, без посредства рук человеческих и вопреки враждебной стихии огня сырости, пророк тем самым нарисовал символическую картину мира – сушу, возвышающуюся над морем, окружающим ее кольцом, подобно змею. Огонь, по его молитве истребляющий вместе с возложенной на алтарь жертвой и это символическое море (но не сушу)943, – демонстрирует власть Господа над водной стихией, т.е. именно ту власть, на которую «претендует» ложный бог Ваал, в силу которой или дается, или не дается на землю дождь, представляющий собой воду, извлекаемую солнечным теплом из моря и распределяемую по странам земли. Фактически вода принесена Илией в жертву вместе с тельцом, потому что после явления огня над алтарем вскоре начинают собираться долгожданные дождевые тучи. Засуха, которую символизирует само это жертвоприношение – истребление символического «моря», прекращается на земле после трех лет бездождия. Кровь казненных языческих жрецов стекает в поток Киссон, который некогда унес войско могущественного военачальника Сисары (Суд 5:21). Так она отправляется в море, а земля оказывается очищенной от «мерзостей», связанных с религиозным прелюбодеянием. За этим сразу следует обращение к царю Ахаву, ставшему свидетелем всего происшедшего: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя» (3Цар 18:41). Такими словами пророк, по всей видимости, разрешает пост, который должен был держать царь, своим нечестием наведший на землю засуху.
В контексте всего сказанного поведение жрецов Ваала во время жертвоприношения представляет собой отнюдь не условный литературный образ. «И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он бог; может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется! И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха» (3Цар 18:26–29). Здесь дано фактически одно из древнейших описаний языческого культа, – более древнее, чем аналогичные сообщения древнегреческих историков, – противопоставленное библейской вере944. Так, согласно поэме о борьбе Ба‘лу и Муту после гибели Ба‘лу его враг воцаряет вместо него на земле «‘Астару ужасного», бога засухи. В это время сестра и супруга Ба‘лу дева ‘Анату, символизирующая землю, оставленную силой плодородия, оплакивает брата и наносит себе увечья. Жрецы Ваала в истории с Илией ведут себя так, как будто ритуально воспроизводят подобный плач (не обязательно, конечно, в точности соответствующий именно мифу города Угарита). Оклик «Ваале, услышь нас», вполне возможно, является формулой призывания умершего бога, который должен был «воскреснуть» молнией, грозой и дождем. Но этого не происходит. Более того, огонь, попаляющий жертву Илии, даже не является молнией, так как в это время на небе нет еще ни единой тучи (ср. стт. 43–45).
Итак, в лице Йахве и Ваала сталкиваются не просто два имени, претендующие на исключительное божественное достоинство, не просто две разные религии, но и два разных воззрения на онтологию. Господство над водной стихией, которое «оспаривают» эти два имени, мыслится по-разному в религиях Ханаана и Израиля. В первом случае оно понято трагически, как превосхождение смерти, побеждающей Ваала всякий раз, но вновь и вновь отпускающей его на поверхность945. Поэтому засуха, причиной которой, как указывают авторы кн. Царств, на самом деле была молитва Илии, его противниками воспринимается не в этом качестве, т.е. не как наказание, а как закономерное природное явление, и чем сильнее свирепствует она, тем ближе должна быть ритуальная кульминация трагедии с ее обязательной катартической развязкой. В силу такого взгляда, видимо, Илия не добивается своих целей, т.е. событие засухи не отвращает народ от «Ваалов» и не приводит к покаянию ни народ, ни самого царя, потому что наступление дождя с этой точки зрения закономерно. Для самого же пророка все обстоит иначе: причина природной катастрофы – нравственная, и ее разрешение может быть только нравственным.
Можно было бы сомневаться в том, что θάλασσα в этой истории – действительно «море», а не термин, используемый Семьюдесятью для обозначения вместилища воды946, если бы тема господства над морем не была одной из часто встречающихся в Библии. Добавим к этому, что в Септуагинте мы находим определенную систему истолкования, в которой само по себе море, как стихия, систематически отделяется от враждебных Богу сил, связанных с ним символически либо топологически.
Пс 88:10–13 LXX
Ты владычествуешь над державой моря, воздымание же волн его Ты укрощаешь. Ты смирил, как бы ранив, гордого, мышцей силы Твоей расточил врагов Твоих. Твои небеса и Твоя – земля, вселенную и то, что наполняет ее, Ты основал. Север и море Ты создал, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются.
Устойчивое выражение κράτος τῆς θαλάσσης {держава моря} в древнегреческом языке означало военное господство на море947. Слово תואג, переданное греч. κράτος, в евр. указывает на нечто поднимающееся кверху, например, столб дыма (Ис 9:17), а также на моральное «величие» и «превозношение»948. Переводчик, по-видимому, намеренно выбрал слово, не допускающее персонифицирующих толкований: море не противопоставлено Богу, а просто поставлено Ему в подчинение. Равным образом во второй половине ст. 10 глагол καταπραΰνω (смягчать, умиротворять) тоже хотя и не обезличивает морские волны, но и не предполагает борьбы с ними; σάλος и его еврейский прототип אוש – стандартные термины для обозначения шторма, при этом объем содержания термина σάλος несколько шире: он выражает вообще колебание, волнение, тогда как אוש преимущественно бурю, а по импликации также погибель, опустошение949. Власть Бога над морем, проявляющаяся в укрощении его волн, есть мотив хвалы, повторящийся в Библии постоянно, причем в ряде мест эта власть несомненно понимается так, что и благотворное для человека, и угрожающее жизни равно инициируется Господом. Он и наводит бурю, и прекращает ее950.
В ст. 13, как бы окончательно закрепляя учение о Божественной власти над стихией, псалом по LXX напоминает еще о создании (глг. κτίζω) моря Богом951: такое чтение происходит, очевидно, от разности в одной букве между МТ и еврейским прототипом LXX: греческие переводчики читали не ןימי (йамин) {юг}952, a םימי (йамим) {моря}953. Противопоставление «севера» и «моря» не кажется странным, если учесть роль категории «север» в библейской топологии: это возвышенное место (Иов 26:7), которое может отождествляться со сферой, находящейся над твердью, «выше звезд Божиих» (Ис 14:13); само слово ןופצ (ср. глг. ןפצ {покрывать}) означает пространство, «покрытое» мглой954. В то же время море, по определению, находится внизу: вселенная положена «на морях» (Пс 23:2). Поэтому сочетание «север и море» может быть прочитано как «верх и низ», т.е. как противопоставление двух влажных бездн, – волнующейся морской и мглистой небесной, – и обе «создал», или «учредил» (ἔκτισας), Господь, когда положил между ними твердь, отделяющую «воду от воды» (ср. Быт 1:7). Также на вертикальное, а не горизонтальное пространственное измерение мысли псалмопевца указывает называние гор Фавор и Ермон, которые считались выдающимися вершинами в Израиле (ср. Иер 46:18; Пс 132:3). Таким образом, псалом полностью подтверждает единоличную власть Бога-Творца над миром верхним и нижним, однако в эту картину входит, как неотъемлемая часть сюжета, Его борьба с «врагами», персонифицированными в лице Раава, или «гордеца».
Синодальный текст и большинство современных переводов читают слово בהר {букв, гордость} как имя собственное – Раав. Эта традиция, которую древние переводы с МТ не поддерживают955, восходит, однако, к другому псалму Септуагинты (Пс 86:4), где в параллель Вавилону, представленному под своим собственным именем, Раав действительно выступает под собственным именем (Ρααβ), хотя, по-видимому, исходя из параллели с Вавилоном, за ним скрывается не какое-то мифическое существо, а Египет.
Символическая тема Египта была развита, главным образом, в пророческой литературе (что в дальнейшем будет изложено подробнее) и как отголосок появляется в святоотеческом толковании середины 73-го псалма:
Пс 73:12–20 LXX
Бог же Царь наш прежде века устроил спасение посреди земли! Ты утвердил силою Твоею море, Ты стер головы змиев в воде; Ты сокрушил голову змия, отдал его в пищу народу эфиопскому; Ты иссек источники и потоки, Ты иссушил реки Ифама. Твой день и Твоя ночь: Ты уготовал зарю и солнце; Ты установил все пределы земли, жатву и весну Ты учредил. Вспомни же: враг поносил Господа, и люди безумные похулили имя Твое. Не предай зверям душу, славящую Тебя; душ убогих Твоих не забудь навсегда. Призри на завет Твой; ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия.
Из толкования св. Афанасия Александрийского956: «В древности, удостаивая и Богом нашим именоваться, и Царем, такое нам соделал спасение, которое не утаилось ни от кого на земле. «Устроил спасение посреди земли»: отсюда некоторые утверждали, что Иерусалим есть око земли... И во-первых, [соделал спасение] тем, что утвердил (τὸ παγῆναι), как стену, воды моря, когда вышли они из Египта... во-вторых, тем, что сокрушил в водах головы египтян, которые и змеями называются за лукавство их языка; еще же вместе с ними и возглавлявшего их царя, которого также змеем именует [псалмопевец]... «Отдал его в пищу народу эфиопскому»: очевидно, самого фараона с его войском. Народом же называет обитающие близ индийских стран стаи птиц: они и поедали выброшенные морем на землю тела египтян. «Ты иссек источники и потоки»: говорит о тех, что в пустыни, когда напоил народ из камня. «Ты иссушил реки Ифамские». Ифам переводится как «юг», а на юге Иудеи протекает Иордан» (Афан. Толк, псал., ad loc, PG 27. 336–337).
Обращает на себя внимание в толковании св. Афанасия то, что Египет является главным, но не единственным планом интерпретации. В целом экзегет следует здесь антиохийской традиции экзегезы957, предпочитая исторически-назидательный уровень значений как основной и согласующийся со здравым смыслом при целостном и контекстуальном взгляде на природу разбираемого фрагмента. Но при этом не упускается из виду и духовное прочтение, которое представлено ремаркой об Иерусалиме – «оке земли». Хотя это отступление не противоречит «египетскому» объяснению последующих стихов, оно стягивает в то же время весь смысл отрывка к эсхатологической перспективе: Иерусалим, готовящийся стать священным городом лишь через несколько веков после Исхода, объявляется «спасением», которое Бог «прежде века... устроил посреди земли». Это, конечно, имеет прямое отношение к вопросам сакральной топологии. Хотя аористом, в котором стоит глагол (εἰργάσατο), вполне правомерно передается перфект еврейского слова לעפ), то, что переводчик выбрал именно форму, как правило указывающую на единовременное действие, опять же сообщает событию либо конкретно-исторический, либо сверхисторический, вневременной смысл. И, несмотря на то что принадлежность слов «прежде века» (πρὸ αἰῶνος) неясна, в любом случае получается эсхатологическая перспектива: или Бог был еще до сотворения мира Царем Израиля, или Он приготовил изначально спасение «посреди земли», или, что наиболее вероятно, то и другое подразумевается вместе.
Основной линией для св. Афанасия как экзегета остаются, однако, события Исхода. Значение глагола κραταιόω {утверждать, укреплять} он сужает, объясняя его употребление через глагол πήγνυμι {букв.: сбивать, сколачивать, т.е. делать монолитным}958. Змеиную символику египтян, в духе нравственного толкования, интерпретирует как обличение их лукавства и лицемерия (или злоязычия, хулы), не упоминая, но, по всей видимости, зная о том, что изображение змеи было неотъемлемой деталью короны фараонов Нижнего Египта: это хорошо видно на сохранившихся до наших дней статуях. Традиционно для эллинской географии объединяя Эфиопию с Индией, толкователь отождествляет образ дракона, брошенного на съедение, с не менее эпической, но как будто совсем лишенной предвечно-эсхатологического, вневременного плана картиной погибшего в море и вынесенного приливом на берег египетского войска, которое сделалось добычей птиц из прибрежных стран. Дальнейшее интерпретируется также исходя из сюжета книги Исход, вплоть до перехода через Иордан. К «египетской» линии толкования этого псалма также вполне предсказуемо примыкал видный представитель Антиохийской школы блж. Феодорит959.
В мистических интерпретациях, в том числе в приписанной тому же св. Афанасию960, змей отождествляется с диаволом. При этом существенно, что в целом ряде списков LXX, в частности таком авторитетном, как Ватиканский, ןתיול ישאר переведено или исправлено по еврейскому тексту во множественном числе: «главы змея» (τὰς κεφαλὰς τοῦ δράκοντος)961. Здесь опять возникает ассоциация с Тиамат из аккадской космогонической поэмы Энума элиш – олицетворенной стихией соленых вод, вознамерившейся уничтожить богов младшего поколения962. Тиамат, возможно, изображалась в виде семиголовой гидры963. В ярости она создала целое войско змеев, с которыми выступила против своих врагов с оружием, представлявшим собой ураган (Энума элиш I. 125–144). Однако ярость этой богини была вызвана вовсе не кровожадностью. Целью ее и других богов старшего поколения, выступивших на ее стороне, является возвращение в состояние покоя, сна (Там же, 116). В сущности, для сотворенных живых существ она представляет собой первобытную смерть и с космологической точки зрения полностью соответствует образу хаоса у древних греков, который только в своей реакции против порядка является чем-то бурным и неудержимым, а сам по себе выражает идею неразличимости, слитности, бесформенности. Потому его порождения и являются чудовищами, что они безобразны, т.е. он как бы питает отвращение к законченности форм.
В противоположность старшим богам, стремящимся к восстановлению безмятежного первобытного хаоса, путь к которому лежит через активное разрушение, хаотически носящийся ураган, – противник Тиамат, бог весеннего солнца Мардук, назначен обладателем четырех благотворных для природы ветров, которые своей созидательной активностью не дают покоя ни богам, ни самой Тиамат, чем и приводят их в ярость (Там же, 105–110).
Мардук охотится на Тиамат при помощи сети, которую держат ветры (То же. IV. 41–43). В связи с этим примечателен фрагмент гимна этому богу, цитируемый Ф. Деличем964:
Твое слово – огромная сеть, раскинутая над небом и землей!
Пронесется оно над морем – и море отступает перед ним;
Пронесется оно над лугами – и луга стонут;
Пронесется оно над течением Евфрата –
И твоим словом, о Мардук, омрачается русло реки.
Связь между словом и дыханием уст интуитивно понятна и уже отмечалась выше в связи с первыми строками книги Бытия. Если бы рассматриваемый нами псалом интерпретировался как фантастическое описание природных явлений, т.е. мифологически965, то вероятнее всего, что сокрушение змеиных голов было бы понято как описание попутного ветра, благотворного для мореходов и сглаживающего морские волны в противоположность возносящим их до самого неба буре и урагану. Кроме того, сама буря, особенно гроза, могла восприниматься как «усмирение» морской стихии богом-обладателем грома и молний. Так, в шумерской мифологии бог южного ветра Нинурта борется с драконом Асагом, который обитает в Куре – подземном царстве, наполненном непригодной для орошения земли соленой водой, – и к тому же является болезнетворным демоном966. Значение ветров для смены сезонов, которая в Пс 73 также упоминается в ст. 17, было хорошо известно древним (ср. Екк 11:4). Подобная роль – перворазделителя земли и неба, первоучредителя сезонов и осуществителя плодоносной силы растений – действительно приписывалась в шумеро-аккадской мифологии «Владыке ветра» Энлилю. Его имя, позднее отождествленное с аккад. «Бел» (аналог «Ваал»), было близко по значению к имени «Господь» (в смысле «господин»)967. Он считался в месопотамской мифологии главным инициатором всемирного потопа и в то же время богом плодородия, с чем связано, по всей вероятности, его схождение в подземный мир. Энлиль, впрочем, не только не воюет с Тиамат, но и сам считается драконом.
Можно, разумеется, устанавливать множество системных параллелей между Энлилем и библейским Йахве как владыкой ветра, хотя аналогичные параллели, например, между ним и японским Сусанноо, с нарративной точки зрения будут не менее убедительными (они, правда, мало что дадут гипотезе о ближневосточных влияниях). Однако, предавшись мифологическому формализму, мы рискуем упустить собственный драматизм библейского повествования, который всегда выражается в единстве исторического и символического. Так и в рассматриваемом псалме история продолжает преследовать рассказ, хотя он и представляется символическим метанарративом: согласно книге Исход – посредством «сильного восточного ветра» – Господь заставил воды Красного моря расступиться перед евреями (Исх 14:21).
Мистическая968, историческая и мифолого-символическая интерпретации данного фрагмента противостоят друг другу. Это не значит, что они взаимно друг друга исключают, однако в истории понимания текста они находятся в разных плоскостях: повествование о переходе через Красное море не выводится из сюжета о борьбе со змеем969, равно как и наоборот; идея войны Бога с диаволом соотносится с фактом Исхода из Египта только типологически970; отождествление диавола с какой-либо природной стихией в Библии встречается только как символическое. Ни одну из этих трех плоскостей религиоведческое исследование не вправе игнорировать – каждая из них обладает, как минимум, опосредованной ценностью: символическая описывает рецепцию и понимание текста живой религиозной традицией вплоть до наших дней, историческая проясняет некоторые особенности греческого перевода и стоящей за ним экзегезы, символическая позволяет произвести сопоставление с мифологией окружающих (и не только) народов, чтобы лучше понять значение библейской символики.
Рассмотрим эти уровни в самом тексте.
Мистический уровень. «Бог же Царь наш прежде века устроил...» Это именное предложение (с частицей δε)971, т.е. акцент сделан на слове «Бог». Можно прочесть: «Бог – Царь наш прежде века», или «Бог... прежде века устроил». Какой вариант предпочтительнее? По существу это ложная альтернатива: вообще говоря, если текст может читаться двусмысленно, то нет причин, заставляющих сомневаться в том, что он так и читался, тем более учитывая полисемантизм как семитского972, так и эллинистического мышления973. Значит, оба толкования нельзя исключать: Бог прежде века был «Царем нашим», т.е. уже при сотворении предызбрал Свой народ974, и Бог прежде века устроил для него спасение посреди земли. Здесь открываются сразу три темы, исключительно важные для истории религии: предвечность, спасение и сакральная топология.
Тема предвечности еще будет отдельно рассматриваться в связи с эсхатологией и мессианскими обетованиями. В данном конкретном случае Септуагинта следует системе контекстуального понимания некоторых временных категорий именно в предвечном и/или эсхатологическом смысле. Так, сложное слово םדקמ {букв, от начала} трактуется как πρὸ αἰῶνος {прежде века}975. Это не значит, что переводчик вносит изменение в текст: весь вопрос в том, как понимать само «начало» (םדק). С точки зрения предполагаемых «языческих» аллюзий речь должна идти о начале творения, которому воспротивился змей и был побежден, что находит себе соответствие, кроме угаритской976 и вавилонской мифологий (только после победы над Тиамат Мардук установил существующий порядок вещей), как мы уже отмечали, также в Талмуде. Но если бы такое отождествление имело место, слово «спасение» следовало бы трактовать в смыле «победы», как оно и трактуется в похожем контексте Ис 51:8977. В ином случае это слово должно пониматься в смысле собственно «спасения», т.е. избавления от рабства и смерти, которое «устроено» заранее для народа Божьего (иначе говоря, для тех, чей Царь есть Бог) на избранной земле, находящейся «посреди», – срединное положение Палестины между центрами силы древнего мира (Египет, Междуречье, Аравия, «народы моря») было хорошо понятно и во время создания псалма, и во время его перевода. Итак, откровенно мистическим в этом контексте является только статус Бога как Царя, промышляющего о Своем народе «прежде века». Сами события разворачиваются в историческом времени. Отсюда имеет смысл перейти к историческим аллюзиям псалма.
Исторический уровень. Упоминание «завета» (תירב, διαθήκη) в ст. 20 надежно помещает псалом в контекст Исхода: молящийся просит Бога вспомнить о данном народу обещании защищать его на Святой Земле. Септуагинта интерпретирует в этом направлении: загадочное выражение ам цийим (םייצ םע) переводится как «народ Эфиопский», а словосочетание нахарот итан (ןתיא תורהנ) понимается как географическое название – «реки Ифамские». В первом случае мы имеем дело с чистой интерпретацией: термин цийя (היצ) – прилагательное, означающее пустынную местность или землю978, одиноко стоящее во мн.ч., оно означает обитателей пустыни, будь то животные или демоны979. Очевидно, что в данном случае взято за основу первое значение, и под «эфиопами» греческий переводчик понимает обитателей прилежащей к Красному морю пустыни, т.е., как и Геродот, отождествляет их с нубийцами. Существовало ли предание о том, что жителям пустыни досталась амуниция войска фараона во время отлива, или же здесь имеются в виду птицы, как предполагает св. Афанасий (сам живший в Египте и, возможно, знавший какие-то предания об этом), не так уж и важно. Главное, что сам образ морского змея, разделенного в пищу «народам», не теряет при этом своего эпического веса, только здесь он является образом для воспоминания о событиях, имеющих для верующего еврея вполне историческую достоверность.
Для топонима Ифам объяснение имеется у Иосифа Флавия: «В расстоянии двух схойнов от Иерусалима находилось местечко Ифам, представлявшее, благодаря своим садам и обилию влаги, в одинаковой мере приятный и плодородный уголок. Местечко это служило целью утренних поездок царя» (Иудейские древности, VIII. 7. 3). Эта историческая справка дана в контексте рассказа о торжественных выездах Соломона из Иерусалима. Она позволяет объяснить тот факт, что греческий толковник оставил слово ןתיא {букв.: крепкий, твердый} без перевода. Что касается сюжета – «осушения» рек Ифама, он может отвечать как идее благоустройства земли, на которой, возможно, находились знаменитые сады Соломона, т.е., например, осушение болот и заливных лугов980, так и крушения царства самого Соломона в наказание за нечестие, – во всяком случае, во время перевода Септуагинты то и другое было уже историческим примером. Несомненной аллюзией на Исход являются слова, согласно которым Бог «утвердил силою Своею море»981; в них нет намека на войну с морем как таковым; наоборот, вода становится стихией, посредством которой стираются головы змиев. Псалмопевец просит Бога «вспомнить» о событиях Исхода из Египта и, как тогда, не предать «душу», т.е. жизнь славящих Его (а только ради славления Бога, согласно Ветхому Завету, и существует Израиль) врагу, который сравнивается со зверями. Неясно, зачем в связи с этим упоминаются такие сугубо мирные и постоянные явления, как день и ночь, заря и солнце, жатва и весна? Их присутствие наводит на мысль о том, что на заднем фоне псалма все-таки присутствует некая космогония, непосредственно не связанная с событиями Исхода. На нее-то делают упор сторонники обнаружения мифологических рудиментов.
Мифологический уровень. Интересная деталь для этого типа интерпретации – термин «помраченные [области] земли»: так буквально переводится на русский язык словосочетание ץרא יכשחמ и ему соответствующее в греческом тексте οἱ ἐσκοτισμένοι τῆς γῆς. Это hap. leg., смысл которого устанавливается контекстуально, причем в настоящем случае контекст псалма явно недостаточен для уверенного суждения. Пытаясь дать истолкование в более широком контексте, обнаруживаем, что образ земли, покрытой мрачными облаками, является одним из библейских символов богооставленности: «Ты смирил нас на месте бедствия, и покрыла нас тень смерти» (Пс 43:19); «Ты закрыл Себя облаком, чтобы не доходила молитва наша» (Плач 3:44); «Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный» (Иез 34:12); нашествие Гога описывается как «дождь и облак» (Иез 38:9 LXX); «Изглажу беззакония твои, как туман (LXX: как мрак, γνόφος), и грехи твои, как облако» (Ис 44:22). Все это говорит в пользу «метеорологической» гипотезы, а именно, что под «морем», которое умиротворяет Бог, может в равной степени подразумеваться небесная вода, собирающаяся в тучи, как и вода, бушующая в пределах земных берегов982. О том, что «Север и море» представляют собой «верх и низ», уже было сказано при разборе предыдущего фрагмента.
Отсюда понятно, как историческая ситуация, на которую сетует псалмопевец, перекликается с художественными образами: во-первых, «враг поносит Господа», как и змей хулил имя Господне; во-вторых, «исполнились помраченные места земли домов беззаконий» – поднявшийся против Бога был покровителем беззакония, которое расплодилось при нем и зажило целыми родами («домами»); не только в море, но и в воздухе шла борьба. В данном контексте утверждение принадлежности Господу дня и ночи звучит как преодоление страха перед тьмой: Господь победил тьму, возобладал над ее ночным царством, изначально, во время творения, освободил землю от безнадежно «помраченных» мест, где пытался угнездиться древний змей, позднее нашедший себе прибежище в историческом бытии. Знамениями Божьей славы являются светила, заря, солнце, освещающие как день, так и ночь. Отсутствие в тексте LXX упоминания светил даже драматизирует этот сюжет: власть Бога становится явной при появлении зари; хотя ночь тоже принадлежит Ему, все-таки заря «уготована» как начало дня, когда человек может безопасно действовать (ср. Пс 103:22). Установление «пределов» земли, которое на историческом уровне может быть истолковано как определение границ обетованной земли, здесь уместно связать с положением «пределов» морю (ср. Пс 103:9), т.е. – в целом – учреждением порядка, баланса между стихиями. Но в LXX эти «пределы» вообще понимаются не в пространственном, а во временном смысле (ὡραῖα, времена года), что опять-таки больше относится к теме метеорологических, нежели океанологических, явлений. Ничто не может помешать установленному Богом порядку смены сезонов, даже затянувшиеся монотонные дожди, которые могут быть не лучше засухи, – стало быть, Бог способен защитить и народ Свой от «людей безумных».
Рассмотрим, как проявляются три означенных уровня интерпретации в других текстах.
Пс 64:6–9 LXX
Услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, препоясанный могуществом, смущающий глубину морскую, шум волн ее. Смятутся народы и убоятся населяющие пределы знамений Твоих. Исходы утра и вечера Ты украшаешь.
В данном отрывке обращает на себя внимание эсхатологический момент. В обеих версиях текста власть, которую Бог демонстрирует в отношении моря, сопоставляется с властью над народами; в обеих интерпретациях имеет место параллелизм: укрощение шума волн / укрощение мятежа народов; смущение глубины морской / смятение народов983. В отличие от современных переводов, LXX делает акцент не на умиротворении моря, а, наоборот, на приведении его в волнение, – и делает вполне оправданно, так как употребленный в оригинале глагол חבש, «восклицать», «хвалить» (по импликации – «укрощать», «успокаивать»), стоит в породе hiph‘il, чаще всего выражающей каузативный смысл: иными словами, переводчик увидел здесь выражение «ты делаешь восклицающим» – кого? – весь объем (τὸ κῦτος) моря (τῆς θαλάσσης, в ед. числе в греч. тексте), т.е. весь мировой океан. Соответственно, волны тоже скорее рукоплещут Господу, нежели вздымаются на Него984. Такая неограниченная власть Бога над морской стихией соответствует господству Его над «пределами» земли, которое свидетельствуется («знаменуется») величественностью восходов и закатов, и это могущество ставится в параллель обладанию народами: они, подобно морю, тоже «смятутся» и «убоятся» небесных знамений. Сопоставление народов с водами моря проходит через всю Библию вплоть до Апокалипсиса (Откр 17:15).
Итак, в рассматриваемом тексте исторический смысл, отражающий существование в мире языческого большинства, оказывается доминирующим, а природный план, практически полностью лишенный черт мифологический персонализации (слово китос;, означающее геометрическую реальность – «объем», «выпуклость», окончательно деперсонализирует море, хотя, может быть, и не без намерения употреблено как созвучное слову κῆτος {кит}), символически указывает на неизбежность метаисторической судьбы всех без исключения обитателей вселенной: быть подвластными Богу. Эсхатологический характер псалма усиливается его надписанием, которое наличествует в греческом тексте и Вульгате: «Песнь Иеремии и Иезекииля, народа переселенного, когда хотели они выходить [из плена]». Сирийское надписание псалма сообщает, что Давид создал его во время перенесения ковчега на Сион, и в нем содержится духовное предзнаменование проповеди Евангелия народам985. Таким образом, исторический и мистический уровни в этом тексте переплетены, причем второй из них не представлен эксплицитно и выводится только путем герменевтической разработки элементов эсхатологии. Что касается переднеазиатского мифологического фона, только само сопоставление морского шторма и «мятежа народов» наводит на мысль о другом сюжете, в котором центральной темой могло быть восстание самого моря. Однако LXX, как интерпретация (в данном случае скорее филологическая, чем экзегетическая), эту мысль не поддерживает: море и народы здесь выступают объектами приложения Божественной силы, а не субъектами собственного действия.
Пс 92 LXX
В день предсубботний, когда населена земля986. Хвалебная песнь Давида. Господь воцарился, благолепием облекся, облекся Господь могуществом и препоясался: и вот, утвердил вселенную, сия не подвигнется. Готов престол Твой с тех пор, от века Ты еси. Воздвигли реки, Господи, воздвигли реки голоса свои, ø поднимут реки потоки свои† от голосов вод многих. Дивны восхождения морские, дивен в вышних Господь. Свидетельства Твои стали весьма достоверными. Дому Твоему, Господи, подобает святыня на долгие дни.
Мистический уровень. По Септуагинте, псалом описывает идеальный порядок во вселенной, установленный в шестой день творения. «Утверждение» мира накануне субботы, когда «Бог... почил от всех дел Своих... которые творил и созидал» (Быт 2:3), означает учреждение постоянных законов, управляющих мирозданием, и согласно этим-то законам водная стихия непрестанно славит Бога. Следов борьбы с морем на этом уровне не усматривается вообще. Отцы Церкви, толкуя этот псалом, окончательное «утверждение» вселенной относили ко дню распятия Иисуса Христа987.
Исторический уровень. Эксплицитное выражение этого уровня в рассматриваемом фрагменте отсутствует. Если под «домом» (здесь – תיב) понимать Храм Иерусалимский или вообще гору Сион, то псалом выражает надежду на неподвижность земного теократического царства по образу небесного. Идея проповеди Бога через «откровения» или «свидетельства» в красотах природы, которая нами была замечена и в предыдущем фрагменте, в связи с упоминанием «дома» здесь указывает на проповеднический характер древнееврейской религии; эта идея будет задействована еще апостолом Павлом (Рим 1:20).
Мифологический уровень. В религии Ханаана, как и во многих культах, связанных с сельскохозяйственными циклами, существовал обряд интронизации божества, соответствовавший его «возвращению» после временного торжества зла, которое олицетворяло процессы умирания в живой природе988. Настоящий псалом интерпретируется с этой точки зрения Шифманом как гимн «интронизации Йахве», племенного бога иудеев, связанного с культом плодородия989. На первый взгляд, Септуагинта представляет дополнительные основания для такой интерпретации, нарочито передавая перфект 3-го л. ךלמ, в отличие от современных переводов, не формой неопределенного времени («царствует»), а при помощи аориста: ἐβασίλευσεν{воцарился}; с ним согласуются и остальные глаголы 1-го ст., т.е. относящиеся к Господу. Кроме того, трудно поддающееся точному переводу слово זאמ толковники поняли как ἀπὸ τότε (слав. ѿто́лѣ); тем самым тоже подчеркивается статус интронизации как события, словно быть Царем несвойственно Богу по природе, как будет учить позднейшая теология, но Царем Он стал в результате каких-то изменений в миропорядке. Нас интересует в данном случае, однако, не сам вопрос о воцарении Йахве, который представляется довольно праздным, поскольку материала заведомо недостаточно для того чтобы вывести из этого эпизода статус Йахве как именно бога плодородия (при том что Бог Ветхого Завета, несомненно, является в том числе Богом и плодородия), но вопрос о связи описываемого события и взаимоотношений Бога с морем. Является ли воцарение Господа, подобно воцарению Баʻлу и Мардука, результатом победы над морем?
Псалом не дает права утверждать это, а по версии Септуагинты даже опровергает. Во-первых, нельзя не видеть прямой параллели, установленной между ἀπὸ τότε {с тех пор} и ἀπὸ τοῦ αἰῶος {от века}. Этим уже устраняется момент цикличности в событии воцарения – оно относится к началу времен. Если бы в иерусалимском Храме когда-либо существовал праздник интронизации Йахве, то, согласно этому псалму, в нем совершалось бы литургическое воспоминание о состоявшемся факте, а не магическое возобновление силы производящего начала, потерпевшего, как это было с Ваалом, очередное поражение в борьбе со смертью. (Впрочем, возможность сходства с двумя упомянутыми мифами тем самым нисколько не устраняется, потому что и в них, по всей видимости, описываемые события относятся к довременному плану990.) В-третьих, надписание псалма по LXX указывает на сотворение мира как на то самое событие, которые вспоминается в данном случае. Разумеется, отсутствие подобного надписания в МТ позволяет ветхозаветной науке, сосредоточенной на еврейской версии, с определенным правом его игнорировать, однако недооценивать его значение для внутренней экзегезы текста в эпоху создания греческого перевода было бы несправедливо. Надписание интересно тем, что акцентирует именно населенность земли: царствовать можно только над живыми существами, а они сотворены, включая человека, на шестой день. Тем самым этот псалом делается важным и для интерпретации значения собственного имени Бога в Ветхом Завете – Господь, или Сущий (κυριός, הוהי). Замечено, что это слово преимущественно выражает бытие в аспекте присутствия и отношения, т.е. Сущий изначально значит не вообще, абстрактно существующий, а Присутствующий. Пс 92, особенно если рассматривать его вместе с надписанием, которым он снабжен в греческой версии991, такое понимание собственного имени Бога подтверждает.
Исходя из вышесказанного не кажется странным, что вода в данном контексте выступает как выразительница присутствия Бога во вселенной. Это подтверждается и следующими примерами.
Наум 1:12 LXX
Так говорит Господь, обладающий водами многими: они расступятся, и слух о тебе более не будет слышан.
Этот стих принадлежит Септуагинте992. Определение κατάρχων ὑδάτων πολλῶν {обладающий водами многими} может относиться и к Господу, и к городу Ниневии, против которого обращено пророчество Наума. Во втором случае определение выступает как обращение: «О, обладающая водами многими! Но (καὶ) они расступятся...» Здесь Ниневия рисуется как столица, господствующая на водах; параллели этому представляли бы образ блудницы в Апокалипсисе апостола Иоанна и пророчество Иезекииля против города Тира: «За то, что вознеслось сердце твое и ты говоришь: «Я Бог, восседаю на седалище Божием, в сердце морей», и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим...» (Иез 28:2). Из последней цитаты видно, что именно ум Бога дает Ему господство на водах. Поэтому достаточно одного повеления от Бога, чтобы вода повела себя не так, как ожидает от нее человек. Что Ниневия будет разрушена наводнением, одинаково утверждается в МТ и LXX (Наум 1:8). Но версия Септуагинты более внимательно рассматривает эту мысль – как в процитированном ст. 1:12, так и в ст. 2:8, который представляет особый интерес для онтологического анализа: «И Ниневия – как водоем воды ее, но они [т.е. сокровища города] побежали и не остановились, и никто не уследил». Сокровища, награбленные Ниневией, ведут себя как вода, для которой характерно движение и непостоянство. Гибель города сравнивается с прорывом плотины. В связи с этим можно отметить, что обладание водами многими (Ниневия, Тир, Вавилон, апокалипсическая блудница) – это характеристика попытки удержать неудержимое, т.е. обогатиться сверх меры, забыв о потенциальной неисчерпаемости материи, лежащей в основе творения. Поэтому гибель обогащающихся описывается как внезапный катаклизм, прорыв –и҆стрѧсе́нїе и҆ вострѧсе́нїе, и҆ воскипѣ́нїе и҆ се́рдца сокрꙋше́нїе (Наум 2:10)993.
Соответственно, власть Бога над водой описывается не только как способность ее «умиротворения», но и как сила удержания, и не только удержания в каких-то пределах, но и собирания в какие-то емкости; так, в одном месте действие Бога сравнивается с кузнечным мехом: «Он собирает, как мех, воды морские и полагает их в сокровищницах бездны» (Пс 32:7). Бог способен также иссушить море и превратить реки в пустыню, а небеса, наоборот, облечь мраком и покрыть «вретищем» (Ис 50:2–3). В одном из текстов Бог Сам «возмущает глубину морскую» (Пс 64:8 LXX). Волнение моря (םער, σαλεύω) может описываться как выражение ликования, наряду с рукоплесканием рек, и ставиться в параллель такому же выражению чувств народов земли (Пс 97:7–8). Оно также может символически отображать реалии эсхатологического времени, как в молитве пророка Аввакума.
Авв 3:8–15 LXX
Не в реках ли прогневаешься ты, Господи, разве в реках ярость Твоя? Или в море борьба Твоя, что Ты всел на коней Твоих? Но конное шествие Твое – спасение. Ты непременно нацелишь лук Свой на скипетры. Говорит Господь: реками расторгается земля. Увидят тебя и восскорбят народы, расточающего воды шествия Своего. Подала бездна крик свой, высота [явила] красоты свои. Поднялось солнце, и луна стала в чине своем. Во свете стрелы Твои полетят, в блистании молний – оружий Твоих. Угрозой Ты унизишь землю, яростью низложишь племена. Ты вышел на спасение людей Твои, спасти помазанных Твоих. Вложил в головы беззаконных смерть, поднял путы до выи. Рассек в исступлении головы сильных, они потрясутся в нем, разорвут узды свои, как ест нищий, тайно. И навел Ты на море коней Своих, возмущающих воды многие.
На первый взгляд, речь здесь явно идет о войне Бога и моря, как будто пророк хорошо знает этот сюжет, впитал его, так сказать, с молоком матери, однако сам «переосмысляет» его в историческом смысле, выступая как реформатор архаических представлений. Особенно если перевести фразу עשר תיבמ שאר תצחמ ראוצ דע דוסי תורע (ст. 13) так, как это делают современные переводчики РБО: «Ты разобьешь главу рода злодеев, обнажишь его от хвоста до шеи». Это, как поясняет комментарий ad loc., «отголосок представлений о противнике Господа как о драконе». Однако слово דוסי {букв, основание} нигде больше в Библии не употребляется в значении «хвост», поэтому данная интерпретация и выглядит именно только как интерпретация. Возможны и другие, например: «Ты сокрушаешь верх нечестивого дома, обнажив основание его по шею [т.е. до верхнего яруса]» (Вен). Так же переводят Пешитта и Вульгата. Не вполне ясен, однако, смысл «обнажения от основания до шеи», будь то рода нечестивых, будь то их дома. Хотя угроза «поднять подол на лицо», т.е. опозорить, образному языку Библии знакома, почему здесь употреблены термины «основание» и «шея»? Возможно, ключ к пониманию дает псалом, где под воздействием сильного ветра – выразителя Божьего гнева – «открылись основания вселенной» (לבת תודסומ Пс 17:16).
Но анализ общего смысла молитвы Аввакума показывает, что ряду означающих соответствует здесь иной ряд означаемых: сюжетом фрагмента является буря, которая разразилась на язычников, угнетающих народ Божий. Странный перевод ст. 15 в Септуагинте, возможно, имеет исторический прототип в истории Валтасара, как она описана в книге Даниила: царь выпустил из рук бразды правления, предавшись безумному пиршеству; примечательно, что, согласно сообщению Ксенофонта, персидские войска вошли в Вавилон по руслу реки – факт, который мог быть известен переводчику. Поскольку же в пророческом видении Аввакума вся вода пришла в движение, у зрителя первоначально возникает вопрос: не на реки ли прогневался Господь и не на море ли направлена ярость Его? Нет, оказывается, объектом гнева на этот раз является земля. Именно ее пророк отождествляет с языческим миром (ст. 12), правящим землей своими «скиптрами», а против этого мира поднимается «бездна». Кара, которую Господь обрушивает на головы «сильных», изощренна – это безумие, которое не только здесь связывается с движением разыгравшейся бездны (ср. Пс 106:27).
Природные явления, давшие видению Аввакума свой образный ряд, вероятно, те же самые, что легли в основу мифа о борьбе небесного божества (т.е. бога плодородия, бога плодоносных дождей) с морем: гроза на большой воде (реке, озере, море) с бурным ветром и молниями, вздыманием волн и последующим успокоением стихии, нередко сопровождающимся появлением радуги, действительно создает впечатление войны стихий верхнего и нижнего мира. Однако пророк рассматривает мысль о том, что вода является целью военных действий Бога, только как впечатление.
Вопрос, который теперь правомерно будет поставить: что является содержанием всех подобных иносказаний? Рассматривая его с холистской точки зрения, мы видим, как образы змея периодически появляются на протяжении всей Библии, от первых страниц в книге Бытия до последних – в Апокалипсисе Иоанна. Во многих текстах, особенно рассматриваемых сквозь призму перевода Септуагинты, они подвергаются историзации, превращаются в метафору исторических противников Израиля. Архетипом для всех этих противников является фараон, потому что Исход из Египта и переход через Красное море для Израиля знаменует фактически начало истории, ставится в параллель самому творению. Это значит, что фараон сам по себе – целый пласт интерпретации, он тоже может быть метафорой исторически следующих за ним супостатов. Для фараона, в свою очередь, художественным прообразом является мифологический, или даже мифический, персонаж – змей, который, может быть, олицетворяет море, который проходит по бездне, измеряя ее своим туловищем, и внушает ужас человеку. Как он вписывается в план Божественного творения, насколько подконтролен Богу и для чего произведен, если должен быть убит, не очень понятно; средневековые иудейские предания делают его, наряду с «бегемотом», одним из мифических зверей, приготовленных для конца времен, когда они будут убиты на радость праведникам.
Все отмеченные уровни собраны в одном из текстов, лежащих вне расширенного состава канона, но некогда бывших к нему прикосновенными, а именно, во 2-м Псалме Соломона:
Пс Сад 2:25–31
Не медли, Боже, воздать им в головы,
Приговорить превозношение змея к бесчестию.
И не помедлил Бог, явив мне бесстыдство его
Пронзенным на горах Египетских,
Паче малейшего униженным на земле и море,
Тело его носимым волнами с полным бесстыдством,
И не было погребающего,
Ибо уничтожил его в бесчестности.
Не помыслил он [о себе], что есть человек,
И о том, что будет после, не помыслил,
Сказал: «Я Господом земли и моря буду»,
И не познал, что Бог велик,
Силен в крепости Своей великой,
Он Царь над небесами
И судитель царям и князьям;
Воздвигающий меня для славы
И полагающий возносящихся для погибели вечной в бесчестии,
Ибо не познали Его.
У загадочного персонажа, являющегося предметом описания в этом псалме, можно различить следующие признаки.
1. Выступает во множественном и единственном числе.
2. Называется змеем (δράκων).
3. Позволяет себе превозношение (ст. 25).
4. Претендует на исключительную власть, но только в горизонтальном измерении: «Я (ἐγώ) Господом земли и моря буду» (ст. 29).
5. Называется человеком: «Не помыслил он, что он человек, и Вышнего не уразумел» (ст. 28).
6. Ограничен в познании: «ибо он не познал Его [т.е. Бога]» (ст. 31).
7. Наказан поражением в голову (ст. 25).
8. Наказан сокрушением «на горах Египетских» (ст. 26).
9. Наказан лишением погребения и бросанием тела в море, которое как бы зеркально воздает ему за гордыню, бросая волнами труп «со всей дерзостью» (ст. 27).
10. Наказан «погибелью вечной в бесчестии» (ст. 31).
В действительности то историческое лицо, которое здесь подразумевается, хорошо известно: это римский полководец Помпеи Великий, в 63-м г. до н.э. осмелившийся войти в Храм и во Святое святых после взятия Иерусалима и убитый заговорщиками в Египте при сходе с корабля в 48-м г. до н.э. Вместе с тем образ Помпея не механически смешивается, а последовательно проводится через сюжет о войне со змеем, который, таким образом, впервые предстает перед нами в своем целостном виде.
Мы узнаем, во-первых, что змей не просто животное, убийство которого было богатырским подвигом (как трактуется победа Баʻлу над Лотану), но разумное существо, обладающее отрицательными моральными качествами: гордыней и «бесчестностью» (ἀτιμία, т.е. презрительность). Во-вторых, он является узурпатором, претендуя на единоличную власть (что подчеркивается употреблением личного местоимения) над землей и морем. Таким образом, область покушений змея не ограничивается одним только морем, и наказание он тоже принимает в обеих стихиях: «на горах египеских» и «на волнах морских». В-третьих, змей не оценивает трезво свои силы, ему неведомо, «что Бог велик, силен в крепости Своей великой, Он Царь над небесами, Судия царей и князей» (ст. 30). В-четвертых, сохраняется мотив поражения в голову, который обязан своим происхождением, очевидно, Быт 3:15, так что не остается сомнений: «дракон» – это не просто чудовище морское, но ядовитый змей, ибо именно с опасностью головы как единственного и притом смертоносного оружия змеи связан данный мотив. («Дракон» в этом псалме напрямую с морем не сопоставляется; стихия выступает как послушное орудие Бога.)
Отсюда можно предположить, что и «главы змиев», которые Бог «стер в воде» согласно Пс 73:13, не метафора морских волн, а именно ядовитые головы; и сам Левиафан лишь после сокрушения его ядовитой головы может быть употреблен в пищу (Пс 73:14). Поэма о Баʻлу подтверждает, что морское чудовище рассматривалось в хананейском фольклоре как ядовитая змея994.
Отсюда могут быть сделаны следующие выводы: а) змей не отождествляется с морем и вообще природной стихией, но может противопоставляться ей как желающий над ней править; б) змей восстает на Бога вследствие ослепления и переоценки собственных сил (здесь можно предположить, что слепота и глухота, как известные свойства змеи, могли быть стимулами для создания именно такого образа «богоборца»); в) он борется за власть в горизонтальном измерении земли и моря, видимо будучи не в силах покуситься на небо (в Апокалипсисе будет сказано, что борьбу за небо змей проиграл и потому «сошел в сильной ярости» к «живущим на земле и на море»); г) война со змеем заканчивается его вечным наказанием и бесчестием. Отметим также, что змею совсем не присущи творческие функции, которые позволили бы говорить здесь о каком-либо сходстве с иранскими дуалистическими представлениями.
Поскольку в других текстах змей систематически отождествляется именно с Египтом (а не, например, с Вавилоном), то и здесь его поражение «на горах Египетских» есть, несомненно, двойная аллюзия на судьбу Помпея и на судьбу самого Египта, причем последняя имеет как историческое (гибель в море фараонова войска), так и эсхатологическое (ср. Иез 29 и 32) значение. Таким образом, складывается многослойная метафорическая структура образа:
| Любой исторический враг |
| Помпеи |
| Фараон |
| Змей |
| ? |
Фараон, как историческое лицо, является прообразом Помпея, как исторического лица. В свою очередь, прообразом фараона является змей, о котором почти ничего неизвестно. Ясно только, что фигура морского чудовища – как животного и обитателя глубин, каким его делает «натуралистическое» предание в 3 Езд, Иов МТ и др. иудейских текстах, – представляет слишком узкий базис для дальнейшего развития темы. За Левиафаном или Раавом, описываемыми как представители животного мира, должно стоять существо, может быть, и принадлежащее к фауне, но во всяком случае не лишенное сознания и способное к намеренному противлению Богу или установленному Им порядку. Описывает ли сам библейский текст где-нибудь это существо, или весь ряд замыкается на известные нам отрывки хананейских и других, еще более отдаленных сказаний?
От ответа на этот вопрос зависит во многом наше понимание библейского мира: уходит ли он корнями в миф, представляющий собой только результат определенных воззрений на природную действительность, сумму страхов и догадок, детерминированных природными циклами региона, или ему, как и этому мифу, предшествует осмысление духовной реальности исходя из духовного опыта, который наука способна воспринять лишь как опыт исторический? Этот вопрос может рассматриваться с точки зрения как диахронии, так и синхронии, однако диахрония затруднена тем, что складывание библейского текста вообще само представляет собой область сплошных догадок и в той или иной степени произвольных реконструкций. Более точное, хотя и более скромное знание дает синхронический анализ. Он показывает, что змей как морское существо мог сам рассматриваться в качестве символа другого существа, разумного и не ограниченного определенной стихией. Для демонстрации этого обратимся к греческой книге Иова.
2.2. Мировое зло
Книга Иова есть развернутый, вполне ясно поставленный вопрос о происхождении зла995, и на этот вопрос в ее начале заранее дан читателю вполне ясный, недвусмысленный ответ: зло есть испытание человеческой воли в ее самоопределении по отношению к Богу. Однако есть ли такой ответ в финале, когда Бог является самому Иову? Получает ли сам страдалец ответ на свой вопрос, или «вместо всякого рационалистического ответа забрасывает Иова вопросами о непостижимом устройстве космического целого»996, тем самым создавая эзотерический разрыв между героем и читателем книги? Если так, неизбежно возникновение двусмысленности, поскольку читатель Иова ничем не отличается от него самого: такой же человек и тоже, может быть, невинно страдающий, и ему книга должна послужить утешением. Если Иов не должен узнать причину того, что с ним произошло, то и читатель этого знать не должен. Тем же, что это заранее известно, создается вопиющее противоречие в читательском восприятии книги. Можно предположить, конечно, что читатель знает больше Иова только в силу того, что является представителем избранного народа. И хотя Иов праведник, однако именно тем, что всякий еврейский читатель, даже и не особенно праведный, лучше Иова понимает его трагедию, как бы обеспечивается превосходство Завета над всякой возможной человеческой праведностью. Но если это и так для Масоретского текста, то Септуагинта, по крайней мере, подобного режима секретности совсем не поддерживает. В ее версии финал кн. Иова представляет собой художественное разоблачение зла.
Что же в действительности произошло с праведником? Первое, подготовительное объяснение дается в теодицее, развернутой наиболее загадочным участником разговора мудрецов, – это основная часть книги, – Элиу (евр. אוהילא, греч.Ἐλιούς), и наличествует оно только в редакции Феодотиона997:
Иов 36:16 LXX
К тому же Он избавил тебя из уст вражиих: [вот] бездна (ἄβυσσος), пролитие под нею, и сошла трапеза твоя, полная тука998.
Контекстом фразы являются с обеих сторон ее обрамляющие описания притеснений слабых и праведных со стороны сильных и нечестивых и заступления, оказываемого Богом невинно притесняемым. Тем самым трагедия Иова ставится в контекст борьбы добра и зла на земле, что очень важно с точки зрения интерпретации книги в целом. Если МТ вкладывает в уста Элиу дежурное ободрение – «и тебя Он вывел [бы] на простор...» – то в LXX дается некий элемент объяснения того, что произошло, и элемент этот не единственный, он встроен в логическую цепь. Но композиция книги в целом еще будет рассмотрена подробнее; здесь для нас важно только то, что бездна обозначена как «враг», «ненавистник» (ἐχθρός) Иова, поглощающий его «трапезу, полную тука», т.е. незаконно пожирающий нечто, подобное жертве (тук – чистая фракция вещества, отделяемого для жертвоприношения), и тем самым проявляющий практически божественную претензию. По отношению к жертве трапеза Иова совершила обратное движение: она не «взошла», как при всесожжении на жертвеннике, а «сошла», и не посредством огня, а посредством воды. Понятие о симметричной оппозиции бездны небу представлено здесь со всей той ясностью, на какую способно ассоциативное мышление.
Краткое, но экспрессивное описание врага, «уста» которого были готовы поглотить самого Иова, находится в ряду множества пространственных мотивов этой книги. Беда приходит на героя из пространства, она без-временна по своей сути: наступает и не вовремя, и не как неотвратимое возмездие (в отличие от удара судьбы в греческой трагедии), не как неизбежные старость, болезнь, смерть, а как ветер из пустыни, который «налег на четыре угла дома» и убил всех детей Иова; она погружает самого героя в состояние безвременья, в тяжкие раздумья об отдаленности, недостижимости его собственной смерти; жизнь Иова перестает делиться на время сна и бодрствования, как у обычного человека; переживания Иова не имеют во времени никакой перспективы, они суть нескончаемое «уже», а прелюдией к основной, приточной части книги служит семидневное молчание сострадающих друзей – образ недели, субботы, безвременья. Четыре мрачных вестника, приходящие один за одним как бы со всех сторон света; четыре угла дома, сокрушенные вихрем; открытость Иова, сидящего на гноище, всем взглядам, всем ветрам; заявление сатаны: «Я прошел вселенную и обошел ее всю, и се – здесь» (ст. 2:2) – выстраиваются в единый ряд зловещих образов приходящей на человека из внешнего мира беды. Пространство смещается, расползается и на теле самого Иова, обнажая его внутренность: он поражен проказой, кожа лопается, гной течет и «орошает комья земли» (ст. 7:5). Слова Элиу в этом контексте уже не просто риторическая фигура – речь идет о том, что герой как бы удержан над бездной, в которую он сам готов «пролиться». И это в точности соответствует смыслу завязки сюжета, неизвестной самому Иову, но изначально раскрытой читателю: тело Иова служит как бы выкупом за его душу, которой одной Бог запретил коснуться сатане (2:6).
Персонификация бездны в этом контексте для анализа мифологических влияний обманчива, так как нет стихии, с которой можно было бы надежно отождествить ее. Хотя она использует воду, чтобы вовлечь в себя богатства Иова, нельзя с уверенностью сказать, что и сама она есть вода. Более того, слова κατάχυσις ὑποκάτω αὐτῆς {пролитие под нею} могут указывать на «бездну» как нависшую над головой Иова, прежде чем разверзнуть уста под его ногами. О «метеорологическом», в противоположность «маринистическому», характере некоторых природных описаний зла в Библии уже упоминалось выше. Поскольку бездна может быть одновременно вверху и внизу, она как бы охватывает героя и «запирает» его (подобно челюстям), скрывает от него Бога – поэтому Господь в финале отвечает ему «через бурю и облако» (ст. 38:1 LXX)999. Можно включить этот образ «врага» в ряд упоминаний хтонического чудовища (кита, змея, зверя), который будет подробнее проанализирован ниже, особенно учитывая то, что слово בהר, переведенное в LXX как «бездна», созвучно имени Рахав (בהר).
В книге Иова наличествует и натуралистическое представление о бездне, которая связана с морем. Как и в море, в ней нет Премудрости Божией (ст. 28:14), – т.е. последняя много глубже их, неизмерима; однако и саму бездну трудно постичь, а «идти по следам» ее – значило бы выйти к «источнику моря» (ст. 38:16). Обладающий Премудростью Бог не ограничивается стихиями: «длиннее земли мера Его и шире моря» (ст. 11:9). О черте, проведенной «по лицу воды, до границ света с тьмою» (ст. 26:10), МТ и LXX говорят согласно1000, и подразумевается здесь, по всей видимости, горизонт, который не дает слиться воедино верхним и нижним водам, т.е. небесному и земному пространственным измерениям. При начале творения Господь «ветру полагал вес и располагал воду по мере» (ст. 28:25). Итак, бездна оказывается смертоносной не сама по себе, так как сама по себе она подчинена Богу, Им измерена. Но в бездне обитает чудовище, упоминания о котором так же «проходят» сквозь текст, как и оно само «проходит» бездну туда и обратно (ср. ст. 41:23 LXX).
| LXX | МТ |
| Иов 3:7–8 | |
| ἀλλὰ ἡ νὺξ ἐκείνη εἴη ὀδύνη, καὶ μὴ ἔλθοι ἐπ̓ αὐτὴν εὐφροσύνη μηδὲ χαρμονή· ἀλλὰ καταράσαιτο αὐτὴν ὁ καταρώμενος τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὁ μέλλων τὸ μέγα κῆτος χειρώσασθαι | וב הננר אובת לא דומלג יהי אוהה הלילה הנה ןתיול ררע םידיתעה םוי יררא והבקי |
| Но ночь эта да будет болезнью, и да не войдет в нее ни веселье, ни радость. Но да проклянет ее проклинающий день тот, имеющий победить великого кита. | Та ночь – да будет бесплодна, крика радости не узнает; пусть проклянут ее заклинатели дней, что могут разбудить Левиафана (РБО). |
| Иов 7:12 | |
| πότερον θάλασσά εἰμι ἢ δράκων, ὅτι κατέταξας ἐπʼ ἐμὲ φυλακήν; | רמשמ ילע םישת יכ ןינת םא ינא םיה |
| Разве я море или змей, что Ты поставил надо мною стражу? | Разве я море или морское чудовище, что Ты поставил надо мною стражу? (Син) |
| Иов 9:13 | |
| αὐτὸς γὰρ ἀπέστραπται ὀργήν, ὑπ̓ αὐοῦ ἐκάμφθησαν κήτη τὰ ὑπ̓ οὐρανόν | בהר ירזע וחחש ותחת ופא בישי אל הולא |
| Сам ведь отвращает гнев, под Ним согнулись киты, что под небом. | Бог во гневе не остановится, и служите ли Рахава перед Ним склонятся (РБО). |
| Иов 26:12–13 | |
| ἰσχύϊ κατέπυσε τὴν θάλασσαν, ἐπιστήμῃ δὲ ἔστρωσε τὸ κῆτος· κλεῖθρα δὲ οὐρανοῦ δεδοίκασιν αὐτόν, προστάγματι δὲ ἐθανάτωσε δράκοντα ἀποστάτην | בהר ץחמ (ותנובתבו) ותנבותבו םיה עגר וחכב חרב שחנ ודי הללח הרפש םימש וחורב |
| Силой укротил море, умением поразил кита. Засовы же небесные вострепетали перед Ним, повелением же умертвил Он змея-отступника. | Своей мощью Он вздымает море и разумом сокрушает Рахава. От дуновения Его проясняется небо, рука Его разит скользящего змея (РБО). |
| Иов 37:16 | |
| ἐπίσταται δὲ διάκρισιν νεφῶν, ἐξαίσια δὲ πτώματα πονηρῶν | םיעד םימת תואלפמ בע ישלפמ לע עדתה |
| Знает разделение облаков и безмерное падение злодеев. | Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело Совершеннейшего в знании? (Син) |
Что прибавляет версия Септуагинты к знанию читателя о морском чудовище?
1. Рахав и Левиафан – одно и то же, так как оба имени могут переводиться словом κῆτος {кит}. При этом параллелизм в стт. 26:12–13 показывает, что кит отождествляется со змеем.
2. «Великий кит» будет побежден1001, возможно, в определенный и «проклятый» (т.е. заклятый, освященный) день1002.
3. Выражение κήτη τὰ ὑπ’ οὐρανόν {киты, что под небом} может быть понято в том смысле, что все киты, т.е. все сильные и могущественные создания, находящееся в поднебесной, склонятся перед Богом1003. Но может быть и так, что LXX наряду с китами морскими подразумевают еще других китов, живущих под небом и служащих опорой Божественному престолу1004: в таком случае понятен статус «великого кита» как восставшего против изначального мирового порядка.
4. «Засовы небесные», которые «вострепетали» перед Господом, опять указывают на сопротивление в небе, подобное тому, что в море. Сюда же можно отнести «безмерное падение злодеев», которое связано с «разделением облаков»1005.
5. Змей называется «отступником» (ἀποστάης), что подразумевает или беглого раба, или мятежника.
Рассмотренные фрагменты открывают перед читателем две вещи. Во-первых, Иову известно о существовании некоего противника Бога, живущего в море, а также, возможно, в воздухе, и заведомо более слабого, чем Тот, Кто сокрушает его разумом и разит рукой. Это следует из МТ почти так же ясно, как из LXX. Во-вторых, данные представления выстраиваются в один ряд с финальным откровением о характере мирового зла, делая для Иова, наконец, понятным и оправданным его страдание как непримиримую нравственную борьбу со злом. Но этот ряд с очевидностью представлен только в греческом тексте, за счет отсутствия в нем слова «бегемот», которое через Вульгату (где оно транслитерировано как behemoth) пришло в европейские языки. Стандартный взгляд комментаторов еврейского текста состоит в том, что само еврейское имя תומהב есть «название гиппопотама»1006. Считается, что африканский зверь в 40-й главе выписан «очень подробно и сильно, и достоверность его [описания] подтверждается естественной историей»1007. Однако это широко распространенное мнение не более чем версия, наряду с другими подобными, согласно которым, например, библейский «бегемот» в действительности представляет собой слона. Все эти версии объединяет одно предположение: Бегемот и Левиафан в книге Иова – живые воплощения могущества Бога, описание которых выполнено в залоге благодушной фразы из книги Бытия: «се, все хорошо весьма»1008. Но более древняя, – отголоски которой слышны также в средневековых и принадлежащих Новому времени комментариях, – версия, традиционная для святоотеческой экзегезы, утверждает, что Зверь, как и следующий за ним Змей, – в данном случае не просто животные, а метафоры врага рода человеческого, диавола, который и служит главным зачинщиком всего сюжета книги Иова1009. Данная интерпретация вовсе не является аллегорическим наслоением, обременяющим и без того далеко не всегда ясный текст; в ее основании лежат альтернативные чтения, представленные древнегреческим переводом Септуагинты.
40:1И еще, отвечая, Господь сказал Иову из облака: 2Нет, но препояшь чресла свои, как муж, Я буду спрашивать тебя, а ты Мне отвечай. 3Не отвергай решения Моего. Думаешь ли, что Я иначе поступил с тобой, чем чтобы ты оказался оправданным? 4Или у тебя мышца, как у Господа? Или таким голосом, как у Него, ты гремишь? 5Так украсься величием и силою, в славу и честь облекись; 6так пошли вестников во гневе и всякого гордеца смири; 7высокомерного угаси, сгнои же нечестивых во мгновение; 8зарой всех их в землю вне [города], а лица их покрой бесчестием. 9Тогда Я признаю, что десница твоя спасает. 10Но вот, у тебя зверь траву, подобно быкам, поедает. 11Вот же, крепость его на чреслах, а сила на пупе чрева; и 12поставил хвост, как кипарис, а жилы сплетены воедино; 13ребра его – ребра медные, хребет его – литое железо. 14Вот, это начало творения Господа, созданное для того, чтобы быть осмеянным ангелами Его; 15взойдя на отвесную скалу, он доставил радость четвероногим в Тартаре. 16Под всяким деревом он спит, при осоке, тростнике и камыше, 17осеняют его древеса великие и ветвистые, отрасли священного [дерева]. 18Если будет наводнение, не заметит. 20Можешь ли удою вытащить змея, или обложить уздою ноздри его? 21Или вденешь кольцо в ноздри его? 22Обратится ли к тебе с мольбою, с миром, кротко? 23Заключит ли завет с тобою? Возьмешь ли его в рабство навеки? 24Позабавишься ли с ним, как с птичкой, или привяжешь его, как воробышка, для ребенка? 25Разве питаются ли им народы, разделяют его финикийские племена? 26Все плавающие, собравшись, не смогут поднять и чешуйки хвоста его, 27Возложишь ли на него руку, подумав о борьбе, что бывает в теле его? Но да не будет больше. 41:1Ты не видал его, а сказанному не подивился ли? Не испугалсяли, что приготовлен он Мне? Ибо кто Мне противник? Или кто противостанет Мне и стерпит, 2если вся поднебесная Моя есть? 4Кто откроет наружность одеяния его? В изгибы груди его кто войдет? Ворота наружности его кто отворит? вокруг зубов его страх; 6чрево его – медные щиты, связки его – как наждачный камень; воздух не пройдет сквозь него; 9При чихании его показывается свет, а глаза его – облик денницы. 10Из уст его исходят светильники горящие, разлетаются искры огненные; 11из ноздрей его исходит дым печи, горящей огнем от угля, 12а душа его уголь, пламя из уст его исходит. 13На вые у него почивает сила, перед ним разливается пагуба. 14Части тела его слитны друг с другом. 15Сердце у него жесткое, как камень, стоит как неподвижная наковальня. 16Повернется он – страх зверям четвероногим, по земле скачущим. 17Если встретят его копья, ничего не сделают ему: 18считает он железо шелухой, а медь гнилым деревом; не уязвит его лук медный, камнеметание он считает мякиной 20и смеется извержению огненному. 21Ложе его – камни острые, все золото морское под ним как прах неисчислимый. 22Он кипятит бездну, как медную печь, считает море как бы мироварницей, 24преисподнюю бездны как бы пленником. 25Нет никого подобного ему на земле, сотворенного для того, чтобы быть униженным Моими ангелами. 26На все высокое он смотрит: он сам – царь над всем, что в водах находится.
Эпизодическое возникновение морского чудовища на протяжении всей книги образует с этим его финальным исчерпывающим описанием единую композицию, замысел которой выясняется при сопоставлении этого мерцающего появления и последующего извлечения с мотивом охоты на левиафана. При этом в трагической повести об Иове такая «охота» носит характер уже не эпического деяния, а нравственного поединка между человеком и его искусителем. Иов становится как бы приманкой для персонализированного мирового зла: желая разоблачить Иова, его враг достигает саморазоблачения (извлечения себя на свет из «бездны», в которой обитает), причем происходит это фактически на уровне философской или, так сказать, предфилософской рефлексии, – недаром книга Иова причисляется к литературе Премудрости, – потому что зависть сатаны остается единственным разумным, с точки зрения теоцентрической картины мира, и не богохульным объяснением всего того, что произошло с Иовом. Заключительная речь, с которой к герою «из облака» обращается сам Бог, двухчастна. Вначале (глл. 38–39) описывается разумный порядок мира и Божественное промышление о всех созданиях, из числа которых, очевидно, не исключен и сам Иов. Часть вторая, как бы вопреки библейскому определению, согласно которому человек назначен господствовать над всей тварью, демонстрирует существование во вселенной опасного для него и непобедимого врага. Этот враг обладает следующими признаками.
1. Бык. Само слово המהב (beheма), мн.ч. от которого является תומהב (beheмот), обычно указывает на травоядное животное1011. Однако здесь описание дано таким образом, что с обыкновенным животным отождествить его невозможно, почему переводчик и выбрал форму мн.ч. θηρία {звери}, передав глагол в ед. ч. ἐσθίει {поедает}, что дает основание Юнгерову понять θηρία в значении pl. majest.: Зверь1012. Итак, этот Зверь сравнивается с быками (ἴσα βουσὶν) на том основании, что «поедает траву». Выражение «пожирать траву подобно быкам» является устойчивой метафорой со значением «истреблять все вокруг себя» (см. Чис 22:4). В самом деле, тотальное истребление постигло все, что было дорого Иову. Поэтому в сравнении с быком угадывается не простой зоологический образ, а мифологическая фигура небесного быка или буйвола, известная из месопотамских источников: он выступает орудием Инанны (она же Иштар, Астарта), которым та пыталась погубить Гильгамеша1013, в другом мифе – олицетворением Эрры, бога чумы и всякого рода опустошений1014. Есть еще одна библейская метафора, напоминающая описание Зверя в книге Иова. Она связана с историческими метафорами, но ее образная подоплека, видимо, глубже ситуативных сравнений: «Запрети зверям в тростнике, сонму быков среди телиц народов... расточи народы, желающие войны» (Пс 67:31). Здесь обращает на себя внимание то, что «быки», а именно воинственные и доминирующие народы, отождествляются – буквально – со «зверями тростниковыми» (הנק תיח, θηρία τοῦ καλάμου), что совпадает с описанием упомянутого Зверя в книге Иова: «Под всяким деревом он спит, при осоке, тростнике и камыше». Просьба псалмопевца «прикрикнуть» (רעג) соответствует представлениям о власти над водной стихией, которую Бог «окрикивает» (ср. Иер 10:13, 31:36, Наум 1:4 и др.). Отсюда ясно, что «бык», животное сухопутное, представляет собой вполне релятивный образ для описания захватчиков, приходящих, как известно, подобно потопу (ср. Дан 11:22, Ис 59:19). Им, по всей вероятности, наряду с грубой силой быков, приписывается также коварство «зверей тростниковых» (возможно, змей или крокодилов)1015, умение прятаться во время охоты, а значит, и хищничество. Таким образом, существовал мифологический, т.е. не связанный с реалиями живой природы, негативный, т.е. выражающий враждебное человеку начало, и устойчивый, т.е. встречающийся в разноплановых текстах, образ животного, среда обитания которого является средней между землей и водой1016. Это делает переход от Зверя к Змею (дракону, левиафану) естественным1017 и позволяет объединить их при допущении предположения, что этот чудовищный образ используется как метафорическая фигура для указания на враждебное человеку существо духовного порядка.
2. Змей и рыба. Особый интерес для нашей темы представляет арабская легенда о рыбе Ал-bahaмут

, на которой покоится мир1018. Корень этого названия, очевидно, связан со словом bahuмат

– араб, аналогом евр. beheма. Влияние на легенду сюжета об Иове предположить трудно, в том числе и потому, что в нем не сказано про положение Зверя в основании вселенной1019. Однако усматривается сходство с другим еврейским преданием о «князе моря», которому Бог велел подвинуться, когда захотел сотворить сушу, а в ответ на дерзкое возражение, – «и так тесно нам», – убил его. «Бегемот» и левиафан также встречаются в агаде, как две огромные твари, которые будут умерщвлены при конце света и отданы на съедение изральтянам1020. Но из всех книг Библии только неканоническая 3 Ездры упоминает бегемота как сухопутный аналог левиафана. Книга Еноха помещает его в пустыню, а левиафана в море (1 Ен 10.60). Еще одно соотнесение мы встречаем в Апокалипсисе, где после падения красного Змея с неба появляется багровый Зверь, выходящий из моря на сушу (Откр 12–13). Фактически это тот же Змей, но в другом обличье, растворившийся во враждующих против Бога народах и государствах. Что касается рыбы Ал-bahaмут, в одной из сказок тысячи и одной ночи она описывается как чрезвычайно длинное создание с рогатой головой – это дополняет аналогию с «быком», – т.е. как рогатый дракон, увидев которого герой сказки лишается чувств1021. Надо заметить, что текст о Змее в Септуагинте традиционен, следует в канве определенного восприятия образа. Так, в книге Иова над ним дважды намереваются «посмеяться» ангелы, а самому Иову предложено «позабавиться» с ним, как с птичкой. В одном из псалмов при упоминании обитателей моря также сказано: «Этот змей, которого Ты создал, чтобы посмеяться над ним» (Пс 103:26)1022. Риторическое вопрошание: «Питаются ли им народы?» – уравновешивается другой фразой из Псалтири: «Ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни» (Пс 73:4). Все эти образы отсылают к древнему переднеазиатскому эпосу, где «миф о борьбе со Змеем... был непосредственно связан с мифом о победе над морем»1023, и к попыткам связать эту борьбу с актом творения1024. Однако в Библии, хотя и используется метафора, художественное содержание которой вполне выясняется только в международном контексте, наличествует свой, вполне самостоятельный смысл. Змей здесь не помещается в основу мира, зато в качестве того, над кем будут смеяться ангелы, он совпадает с тем, кто в присутствии ангелов положил начало тяжким испытаниям Иова. Кроме того, этот Змей неподвластен человеку: только Бог может дать его на съедение людям. Тем самым он нарушает установленный Богом изначально антропоцентрический порядок во вселенной, как бы возглавляя восстание твари против человека1025. И здесь можно привести на память, что в начале книги Бытия рассказывается: «Змей был хитрее всех зверей на земле (τῶν ἐπὶ τῆς γῆς), поэтому Змей сказал жене...» (Быт 3:1). Давая совет Еве, Змей нарушил всемирную иерархию как бы от лица всех животных, которым Адам давал имена1026. Псалтирь, книга Иова, Откровение Иоанна Богослова дают как бы продолжение этой истории1027: в лице Змея на человека поднимается бурное море как олицетворение неподвластной ему стихии, похожей на смерть. Изгнание демона в книге Товит запахом сожженных рыбьих внутренностей, может быть, объясняется как раз тем, что хищная рыба, которая сама «хотела поглотить юношу» (Тов 6:3), рассматривалась как символ демонических сил, а запах ее плоти «намекал» на приготовленный для их наказания вечный огонь.
3. Ад. Огромная рыба, проглотившая пророка Иону и получившая в литургической традиции восточной Церкви символическую роль адской пропасти под именем ки́та всеѧ́дца, описывается как место «нетления», а пребывание в ее чреве – как предельное состояние отчаяния (Иона, гл. 2). Интерпретация «чрева китова» как метафоры преисподней по крайней мере не моложе Евангелий, так как она лежит, очевидно, в основе сравнения смерти Христа со «знамением Ионы пророка». В греческой книге Иова описание Зверя имеет целый ряд черт, сближающих его с представлением о вечной темнице или месте жестокой казни. Во-первых, Зверь неприступен, как цитадель: «Ребра его – ребра медные, хребет его – литое железо... Кто откроет наружность одеяния его? В изгибы груди его кто войдет? Ворота наружности его кто отворит? чрево его – медные щиты, связки его – как наждачный камень; воздух не пройдет сквозь него». Очевидно, что если бы морской Змей проглотил человека, то выбраться из его чрева, равно как и вызволить оттуда другого, было бы невозможно. Во-вторых, он несет погибель: «Вокруг зубов его страх... перед ним разливается пагуба»1028. В-третьих, он имеет черты инфернального и бесчувственного чудовища: «Душа его уголь, пламя из уст его исходит... Сердце у него жесткое, как камень». В-четвертых, выражение «считает преисподнюю бездны как бы пленником» вызывает ассоциацию с положением находящихся в преисподней умерших, с которым часто сравнивается положение пленных (напр., Пс 106:10). Животных переводчик делит на инфернальных («четвероногие в Тартаре») и обычных («четвероногие, по земле скачущие»)1029: первые радуются возвышению Зверя, тогда как последних Змей одним своим видом приводит в ужас. Описание врага Иова в LXX, несомненно, принадлежит к числу текстов, повлиявших на христианскую гимно- и иконографию ада.
4. Грех. Змей как символ грехопадения знаком библейской литературе (Прем 16:6,11; Сир 21:2; вероятно, тж. Быт 4:7 МТ)1030. В преамбуле процитированного выше отрывка Иову предлагается испробовать силы в справедливой борьбе: «Так пошли вестников во гневе, и всякого гордеца смири; высокомерного угаси, сгнои же нечестивых во мгновение; зарой всех их в землю вне [города], а лица их покрой бесчестием». Тем самым подчеркивается, что только Богу, Который и может посылать вестников (т.е. ангелов) во гневе, принадлежит окончательная победа над злом. Отсюда переход к теме Зверя закономерно воспринимается как продолжение развития темы мирового зла. И действительно, Бог «создал» его для того, чтобы унизить посредством ангелов, или, по МТ, «Создатель его приблизит [к нему] Свой меч» (וברח שגי ושעח, ст. 40:19, Ср. Ис 27:1)1031. Описание Зверя и Змея нарочито лишено метафизичности, оно кажется вполне зоологическим, хотя и неправдоподобно грозным. В то же время несколько чтений греческого текста как будто содержат нравственно-аскетические аллюзии. «Вот же, крепость его на чреслах, а сила на пупе чрева» – если читатель понимал, что речь идет о диаволе, то он легко мог понять это как наставление о двух основных страстях, посредством которых внутренний враг борется с человеком. «Поставил хвост, как кипарис» – образ дерзости; хвост как символ возношения против Бога упоминается в Апокалипсисе (ст. 12:4). Чернота души («душа его уголь») и каменная жесткость сердца также могут считаться метафорами греха, по крайней мере в контексте той эпохи, когда был сделан греческий перевод.
Подведем некоторые итоги. Большинство современных исследователей кн. Иова, основываясь на еврейском тексте в традиции переводов, идущих от блж. Иеронима, приходят примерно к таким выводам, как Р.Э. Мёрфи: «Роль речей Йахве состоит в создании впечатления прямой конфронтации с Богом, которой Иов так желал. Серия вопросов, иронических и неразрешимых, должна привести Иова к окончательной покорности... Никакой «ответ» не дан Иову; фактически его проблема проигнорирована»1032. Поскольку же «покорность» сама по себе явно не то разрешение вопроса, которого интуитивно ждет читатель, знающий содержание пролога книги, создается впечатление, что книга как бы умнее своего собственного автора и своей собственной композиции. Отсюда такие толкования, как у К.-Г. Юнга, который считает, что правда в этом произведении на стороне человека, но не на стороне Бога.
В тексте Септуагинты все совершенно иначе. Здесь Иову раскрыт смысл того, что с ним произошло, в финале, после пройденного им испытания, которое состояло в соблазне «похулить Бога», т.е. добровольно уйти из жизни. В сущности, весь вопрос книги состоит в самоценности благочестия, и на этот вопрос Иов дает положительный ответ: да, он не может похулить Бога, хотя это сулило бы ему столь желанную смерть. Иов долго ходит по самому краю хулы, но в конце концов замолкает, и делает он это до того, как непосредственно к нему обращается Господь. В этом и состоит смысл речи молодого Элиу – единственного в этой книге носителя теофорного имени, который появляется неизвестно откуда и решает вступиться за неведомость Божественных судеб: она кладет конец диалогу мудрецов1033, и обращение к Иову самого Бога с неба, если это не богоявление, выглядело бы после этого совсем бессмысленным. Но если это богоявление, то вряд ли оно должно было бы заключаться в демонстрации бегемота, левиафана и других диковинок мироздания, о существовании которых Иов, наверное, и сам был осведомлен. Тем более что рассказы о разнообразных животных, которые все подлежат заботе Творца, на фоне покинутого этой заботой Иова выглядят издевательством.
Смысл заключительных речей Господа, по чтению греческого текста, состоит в том, что Божественная забота распространяется и на самого Иова, но противник, от которого Бог оградил его, настолько силен и борьба настолько серьезна, что все потери героя в этой борьбе могут считаться оправданными. Со Своей стороны, Бог также подтверждает решимость оправдать Иова (ст. 40:3)1034. Он вовсе не меряется силами с человеком, но лишь показывает, что Иов сам не может победить мировое зло, а потому не должен отвергать определения (κρίμα, не κρίσις) Бога относительно своей судьбы (стт. 40:4–9). Только пройдя испытание, Иов оказывается вправе услышать об этом, так как условия спора между Богом и сатаной о его благочестии уже соблюдены и клеветник уже посрамлен. Человек в этих речах не противопоставляется Богу, хотя и сопоставляется с ним как слабый и нуждающийся в защите; здесь не решается, на чьей все-таки стороне была правда, поскольку это заведомо решено: Бог праведен по определению, и Он же засвидетельствовал праведность Иова, – но сам человек осмысляется как сторона Бога в нравственном противостоянии мировому злу, причем он способен осуществлять это противостояние только как перенесение искушения. Книга Иова не вопрос, а ответ, и не на историю праведного страдальца, но на историю грехопадения Адама. Искушение Иова было искушением решить, что есть благо и что есть зло, но Иов удержался на границе парадоксального, в его положении, признания Бога всесовершенным Благом1035.
2.3. Эсхатология: основные понятия
В программу познания «сущих» (τῶν ὄντων), намеченную в книге Премудрости Соломона (7:17–21), помимо «устройства мира» (σύστασις κόσμου) и «действия стихий» (ἐνέργεια στοιχείων), включая живую, неживую природу и человеческие мысли, а также «смены поворотов и перемены времен» (τρόποι ἀλλαγὰς καὶ μεταβολὰι καιρῶν), входят еще «начало, конец и середина времен» (ἀρχὴ καὶ τέλος καὶ μεσότης χρόνων).
Греческий язык различает «время» в значении наступившего или подходящего срока (καιρός) и «время» в значении отрезка или продолжительности (χρόνος). Первое из этих греческих слов имеет иное исходное значение: в собственном смысле καιρόσ указывает на нечто пропорциональное, соответствующее, надлежащее и может относиться не только ко времени, но также к месту и мере. В противоположность этому χρόνος – чистое время, которое длится, тянется, задерживается. Оно есть то, что находится между одним и другим моментом, чем заполнен промежуток между произвольно выбранными точками на линии времени, включая такие полярные, как рождение и смерть. Ввиду этого термин xpovot; пригоден как для выражения абстракции «времени» вообще, так и для обозначения конкретной идеи целокупного исторического времени. Но есть еще и представление о неопределенном объеме времени, как бы вмещающем в себя все χρόνοι и καιρόί: это αἰών {век, эон}, соотв. евр. םלוע. Последний термин выражал идею как «века», так и «мира»; с ним соединено понятие о бесконечном: «Все сотворил Он прекрасным в свое время (ἐν καιρῷ αὐτοῦ), и век (םלעה תא, τὸν αἰῶνα) дал на сердце им, так что не сможет обрести человек творение, которое сотворил Бог, от начала до самого конца» (Екк 3:11). Поэтому Премудрость Божия, которая, согласно кн. Сираха, произведена «прежде века, от начала», и не скончается «до века» (Сир 24:10), значит, признается предшествующей бытию мира и сопутствующей ему в нескончаемой длительности.
В книге Премудрости Соломона слово χρόνοι (мн.ч.) может означать в целом время жизни человека (ст. 4:13), тогда как «всякому надлежащему времени» (παντὶ καιρῷ) соответствует и «всякое место» (τόπος, ст. 19:22), т.е. «надлежащее время» равняется случаю. Знание «перемен», которое высоко ценили древние, было прежде всего знанием о превратностях случая, а тем самым и «времени» как смены метаморфоз. Идеал такого знания выражен, к примеру, в книге Екклесиаста, где неоднократно повторяется: «[свое] время всякой вещи» (ץפח לכל תע, καιρός τῷ παντὶ πράγματι). Это значит, что каждое дело или событие имеет подходящий для себя период, сезон и даже момент-исполнения; в конечном итоге выясняется, что настоящее вызревание всех их произойдет на суде Божием – «время всякой вещи там» (Екк 3:17). Открывает знаменитую главу о времени, однако, другой термин: ןמז לכל – τοῖς πᾶσιν χρόνος {всему время}. Кажется, его не совсем верно передавать так, как это сделано в Син: «Всему свое время». Такая интерпретация уничтожает различие между двумя видами времени, которое имеет место в подлиннике и поддержано греческими толковниками на уровне терминологии. Правильнее было бы перевести просто «Всему время» или «Всему свой срок» (РБО). В данном случае речь о том, что всякая вещь имеет срок годности – преходит, уступая место другой, и все они в совокупности преходят.
Ввиду этого «начало, конец (или цель, τέλος) и середина времен» представляются содержанием знания о времени вообще, т.е. о его происхождении, направленности, течении. Это, по существу, то же самое, что знание о мире10361. Возможно, в книге Премудрости речь идет лишь об истории как отрезке, эпохе. Но грекоязычному библейскому миру было, несомненно, известно «время» и как неопределенная продолжительность, которая, однако, имеет свои границы у Бога. Такое представление выражают, например, две фразы из книги пророка Исайи: ἰδοὺ τὸ ὄνομα κυρίου ἔρχεται διὰ χρόνου πολλοῦ {Вот, имя Господне грядет чрез время многое} (Ис 30:27) и διὰ χρόνου πολλοῦ στήσεται, λέγει κύριος. ἐκ κοιλίας μητρός μου ἐκάλεσε τὸ ὄνομά μου {Чрез время многое [это] настанет, говорит Господь: от чрева матери моей нарек имя мое} (Ис 49:1). Поскольку в обоих случаях значение отдаленного времени усваивается одному и тому же сложному слову קוחרמ {издалека}1037, речь не может идти о случайности: вероятно, язык и экзегеза одинаково допускали такой перевод. При этом, однако, следует обратить внимание и на контекст приведенных цитат: в обоих случаях речь идет о неопределенном будущем, которое воспринимается как эсхатологическая перспектива. И если гл. 49, как очевидно, важна для понимания мессианских ожиданий, то в гл. 30 возвещается грядущий суд над Израилем; оба события отложены на «время многое», и вместе с тем именно время есть то, через что они неотвратимо приближаются.
Вопрос об апокалиптике в эпоху перевода Септуагинты обычно рассматривается с привлечением богатого материала около библейской литературы междузаветной эпохи. Для религиозного творчества этого периода характерен высокий накал апокалиптических ожиданий, историческая сущность которых во многом продолжает считаться дискуссионной. «Бесконечно дебатировался, – пишет автор, с которым мы в данном случае солидарны, – вопрос о том, является ли апокалиптика «природным» порождением ветхозаветного пророчества, или она продукт эллинистически-восточного синкретизма, или заимствование из иранской религии... Подобные альтернативы извращают постановку вопроса и вводят в заблуждение. Апокалиптика не была «заимствована» из какого-либо источника, но является самостоятельным феноменом со множеством источников»1038. Рассматривая собственно иудейские истоки апокалиптической литературы, знаменитый библеист Г. фон Рад находил их в традиции премудрости1039. Ниже мы будем периодически говорить об этой генетической связи, которая действительно имела место, хотя она и не лежит на поверхности. Центральное произведение корпуса Премудрости в «Александрийском каноне», книгу Премудрости Соломона, ученые с 1930-х гг. стали разделять на «книгу эсхатологии» (1–5), «книгу премудрости» (6–9) и «книгу истории» (10–19)1040. Считается, что вообще традиция Септуагинты была более отзывчива к эсхатологическим чаяниям, нежели протораввинская, которая разрабатывала принципы передачи МТ, – для последней характерна скорее «подозрительность» к выражению этим чаяний, вплоть до ревизии соответствующих библейских текстов, когда речь идет об их воплощении в исторической плоскости1041. Но это полагает для нас важную границу также между Септуагинтной и собственно иудео-эллинистической, в особенности александрийской, интеллектуальной традицией, какой мы ее знаем из большинства грекоязычных произведений междузаветной эпохи, не вошедших в состав LXX, особенно философских и художественных. Они, как уже отмечалось, зачастую находились в прямой зависимости от LXX, но наряду с этим представляли другое направление развития религиозной мысли.
Сам термин «эсхатология» (от греч. ἔσχατος {предельный}) имеет определенные основания в тексте Септуагинты; тема же предела времени, а также связанные с ней представления о пространстве имеет в ней более широкие терминологические основания. Рассмотрим несколько примеров.
ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ
В древнегреческой литературе данный термин не имел специального «эсхатологического» смысла и, когда речь шла о времени, употреблялся обычно в ед.ч. в значении конца какого-либо действия: «держаться до последнего» (Геродот. VII. 107, Фукидид. III. 46:2), «в последний раз» (Софокл. Эдип в Колоне, 1550), или его цели: «конец есть начало действия» (τὸ ἔσχατον ἀρχὴ τῆς πράξεως: Арист. О душе, 433а 16).
В Септуагинте он становится апокалиптически насыщенным как перевод еврейского слова תירחא {будущее, тж. потомство}, в некоторых случаях означающего предел временного периода, и однокоренных с ним. Выражение םימיה תירחאב {в конце дней} переводилось как «в последние дни» вне зависимости от того, идет ли речь по контексту об апокалиптических событиях (Ис 2:2, Иер 30:24, Иез 38:16) или, может быть, лишь о конце текущего исторического периода, в связи с чем некоторые авторы настаивают на том, что «техническим» термином для выражения эсхатологических чаяний оно не было1042. Действительно, Септуагинта скорее объясняет нам, откуда взялся такой термин у позднейших авторов, нежели является интерпретирующим переводом со специальным интересом к эсхатологии. Однако это не значит, что прецеденты словоупотребления не складывались в определенный концепт. Напротив, именно в этом и состоит суть древнееврейской эсхатологии, что конец истории мыслится в ней по-своему ничуть не менее историчным, чем сама история. В нем есть все признаки, отличающие историю в ее библейском восприятии от обычного, неотрефлексированного течения времени, как и от вневременного, мистического или мифического ряда: действуют Бог и человек, открывается смысл прошедшего, происходят события, и для них предусмотрена хронология (см. раздел III. 1.3). В связи с эсхатологическими пассажами в Септуагинте, которые будут рассматриваться ниже, У Хорбери отмечает, что представление о «последних днях» «формировало тему (topic)», знакомую переводчикам, наряду с возвещением пришествия великого Царя в конце времен1043.
Иногда, впрочем, рассматриваемый нами термин использовался просто как ставший традиционным эквивалент корня רחא, например при характеристике исключительности чуда над Гаваоном: וירחאו וינפל – οὐδὲ τὸ πρότερον οὐδὲ τὸ ἔσχατον {ни до ни после}. Но и в этом случае, похоже, он был нагружен дополнительным смыслом, подразумевающим, что с тех пор ничего подобного не происходило до сих пор, т.е. до поддающегося наблюдению хрониста предела времени.
Употребляемое во мн.ч. (τὰ ἔσχατα), слово «предел» в отношении географии означает «края» земли, т.е. метафору максимальной отдаленности от Израиля, а в плане времени может указывать на конец жизни отдельного человека (Притч 5:11, Сир 7:39, Прем 2:16) или определенного рода людей – например, преступающих Закон, – как то, «чем они кончат» (Втор 32:20, Пс 72:17). Во втором случае Септуагинта связывает его с «исполненными днями» (ἡμέραι πλήρεις), которые наступят, когда народ Божий обратится вслед нечестивых и долготерпение Божие иссякнет (ст. 10)1044. Взятый в этом качестве, термин оказывается способным возвыситься до общего понятия, как в следующей цитате:
Пс 138:5 LXX
Ведь нет лести на языке моем: вот, Господи, Ты знаешь: все, последнее и первое (πάντα, τὰ ἔσχατα καὶ τὰ ἀϱχαῖα): Ты создал меня и положил на мне руку Твою.
Современные переводы с определенным отклонением следуют за Вульгатой: блж. Иероним написал retrorsum et ante formasti me {сзади и спереди Ты образовал меня}, тогда как в Син значится «Сзади и спереди Ты объемлешь меня», а в переводе РБО – «Со всех сторон Ты окружаешь меня»1045. Пешитта полностью поддерживает Септуагинту, причем дает такую же разбивку стиха, что и славянский текст:


ꙗкѡ нсть льстѝ въ ѧ҆зы́цѣ мое́м: се́, гдⷵи, ты̀ позна́лъ є҆сѝ всѧ̑ послѣ̑днѧѧ и҆ дрє́внѧѧ: и ты̀ созда́лъ є҆сѝ мѧ̀ и҆ положи́лъ є҆сѝ на мн р́к твою̀.
По всей видимости, древняя традиция, которая легла в основу такого перевода, относила слова «вот, Господи, Ты знаешь» одновременно к предыдущей и последующей частям стиха. Это можно было бы интерпретировать так: «Нет лести на языке моем – Ты, Господи, знаешь это, – как знаешь все, что будет и что было».
Первое появление рассматриваемого нами термина в эсхатологическом смысле – в начале благословения Иакова, который говорит сыновьям: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни» (Быт 49:1 Син). Последние два слова םימיה תירחאב можно буквально перевести как «в остаток дней» или «в конце дней». Греческие толковники, видимо, на основании явно эсхатологического пророчества Осии1046, следуют второму из этих вариантов, формулируя буквально так: «на пределах дней» (ἐπ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν). Такой способ перевода сообщает многое о восприятии священной истории в эпоху Семидесяти: судьбы двенадцати колен, которые предсказывает им их праотец Иаков (он же Израиль), относятся к последним пределам исторической реальности. Они не вынесены за эти пределы, порукой чему служит мн.ч. – речь не идет о «последнем дне», или «дне Господнем», но и не растворены в них, как растворились уже к тому времени десять колен, не вернувшиеся из ассирийского полниться на избранном народе в конечный период истории, «на пределах дней».
Второй раз это же выражение появляется в пророчестве Моисея о наказании еврейского народа рассеянием среди язычников: «И постигнет тебя все сказанное в последние дни, и обратишься ко Господу Богу твоему, и услышишь голос Его» (Втор 4:30). Сама разбивка текста указывает на то, что это событие рассматривалось как единичное, т.е. пребывание своего народа в рассеянии толковники рассматривали в качестве продолжения этой кары и события пророческих слов, может быть воспринимая свой собственный труд как то, что позволяет израильтянам, живущим среди народов, «услышать голос Его»1047. Далее словосочетание становится уже концептом, как явствует из его употребления для перевода фраз, в которых оно не содержится.
ךתירחאב ךבטיהל ךתסנ ןעמלו
... чтобы испытать тебя, а напоследок сделать тебе добро.
καὶ ἐκπειϱάσῃ σε καὶ εὖ σε ποιήσῃ ἐπ̓ ἐσχάτων τῶν ἡμε ρῶν.
... и испытает тебя, и благо тебе сотворит в последние дни.
Вероятно, интерпретация LXX здесь не просто экзегеза, но и определенное прочтение слова ךתירחאב с местоименным суффиксом 2-го лица, которое буквально означает «напоследок твой»1048. Тем важнее в качестве прецедента тот способ перевода, который толковники не усомнились употребить.
В книге Иисуса Навина искомое выражение вставлено вообще без еврейского эквивалента – при описании постановки памятного камня в Сихеме, где был прочитан Закон: «Вот, камень сей будет у вас для свидетельства, ибо он слышал все слова Господа, которые Он говорил к вам сегодня; он да будет свидетелем у вас в последние дни, если вы солжете Господу Богу моему» (Нав 24:27). Из контекста ясно, что имеется в виду вообще все время жизни народа после кончины Иисуса Навина, тем более что, уже начиная с эпохи судей, израильтяне лгали Богу постоянно. Тем не менее, учитывая все сказанное выше, есть основания полагать, что LXX здесь намеренно эсхатологизируют, обращая внимание своих читателей на Закон как исторический монумент, – поскольку камня в Сихеме, вероятно, тогда уже не существовало, – который сохраняет силу свидетельства до того самого момента, когда рассеяние соберется обратно в обетованную землю1049.
В пророческих текстах Ис 2:2 и Мих 4:1 «последние дни» описываются не просто как эсхатологическая реальность, но как явление иной, духовной реальности, «приготовленной» на уровне, высшем по отношению к реальности исторической. Между МТ и LXX в этом тексте наблюдается несоответствие. Вместо выражения םירהה שארב ןוכנ הוהי תיב רה {гора дома Господня, поставленная во главе гор} греческий текст имеет: τὸ ὄρος κυρίου, ἕτοιμον ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων {гора Господня, уготованная над верхами гор}. «Выпадение» слова תיב {дом} настолько странно, что уместнее было бы предположить его прибавление в еврейском тексте, чем внимание читателя привязывается к храмовой горе Сион, как имеющей стать «во главе» всех столиц мира. Смысл греческого текста иной: гора Господня представляет собой не земное, а небесное место, которое уже теперь готово «над верхами гор» (вероятно, םירהה ישארמ), а в последние дни оно только «явится» (ἐμφανὲς), т.е. вместо היהי{будет} переводчик читал הזהי{увидится}.
ΤΕΛOΣ
Часто употребляемое в Септуагинте, особенно в надписании псалмов, выражение ἐἰς τὸ τελoς {в конец}, как пишет в своем толковании св. Григорий Нисский, другие переводчики и толкователи понимали как посвящение: τῷ νικοποιῷ {творцу победы}, ἐἰς vῖκος {на победу}, или как описание жанра: ἐπινίκιον {победное [пение]}. Святитель полагает, что между этими словоупотреблениями нет противоречия: «Так как концом всякой борьбы бывает победа, имея в виду которую вступающие в подвиги начинают ратоборство, то кажется мне, что выражение «в конец» кратким речением возбуждает к усердию подвизающихся за добродетель на поприще жизни, чтобы, взирая на конец, т.е. на победу, надеждою получить венцы облегчали они труд подвижничества» (Надп. пс. П. 2). При этом в отдельную группу св. Григорий выделил псалмы, надписание которых имеет в виду конкретные исторические события: «Если же при выражении «в конец» надписывается что-либо историческое, то и сие к тому же клонится, а именно, чтобы мы историческими примерами паче укреплялись к борьбе» (Там же).
Выражение ἐἰς vῖκος, как перевод с еврейского חצנמל1050, встречается, в основном, в грекоязычной библейской традиции после Септуагинты. Например, надписание псалма 4-го благодаря Гекзаплам сохранилось в следующих вариантах:
| LXX | Феодотион | Симмах | Акила | МТ |
| ἐἰς τὸ τέλoς | ἐἰς τὸ vῖκος | ἐπινίκιος | τῷ νικοποιῷ | חצנמל |
Не только в переводах, но и в около библейской литературе на греческом языке отразилось «победное» понимание рассматриваемого еврейского термина1051. Что касается Септуагинты, она являет в этом вопросе два своих уровня: переводческий и толковательный. Ее традиции, в принципе, тоже знакомо выражение εἰς vῖκος как перевод еврейского חצנל. Например:
חצנל רמשי םא םלועל רטניה
μὴ διαμενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα ἢ ϕυλαχήσεται εἰς vῖκος;
Разве пребудет вовек, или сохранится до победы?
םהישעמ לכ חענל חכשא םא בקעי ןואגב הוהי עבשנ
ὀμνύει κύϱιος κατὰ τῆς ὑπεϱηϕανίας ἰακώβ, εἰ ἐπιλησθήσεται εἰς νῖκος πάντα τὰ ἔϱγα ὑμῶν;
Клянется Господь на гордыню Иакова: разве забудет Он в победу дела ваших?
Представляется очевидным, что слово vῖκος употреблено здесь как синоним τέλoς, причем едва ли удачнее, в особом значении «непрерывности, вечности, неизменности»1052. Вероятно, при переводе или редакции руководствовались почтением к буквальному смыслу текста, понимая חצנ {конец} как «победу». В истории Септуагинты на каком-то этапе (возможно, предшествовавшем переводу Больших и Малых пророков) буквальность перевода ценилась меньше, и вместо этого возник перевод-интерпретация εἰς τὸ τέλoς, по смыслу совпадающий с тем, что пишет о нем св. Григорий. Именно «победа» была истолкована как «цель» или «конец» не в видах стилистической благозвучности, – поскольку надписание музыкального произведения «на победу» само по себе понятнее, чем «в конец», – ас точки зрения теологического видения «победы» именно как окончательной. И эта победа, несомненно, усваивалась Богу или эсхатологическому праведнику (быть может, Мессии), потому что многие из озаглавленных так псалмов содержат сплошные сетования и никак не могут рассматриваться в жанре гимнов, посвященных уже свершившемуся одолению врага. Позднейшие по отношению к Септуагинте переводы, как и во многих других случаях, отражают уклон в сторону буквализма.
Что словосочетание «в конец» не является случайным феноменом Псалтири LXX, но принадлежит, как и «победные» посвящения, к некоторой традиции, видно из следующего примера, касающегося отношений между Богом и Его народом. Обращаясь к Иакову, который намерен переселиться в Египет, Господь говорит ему: «Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно» (Быт 46:4 Син). В оригинале фраза оканчивается словами הלע םג ךלעא {букв.: возведу тебя, даже возводя}, что современные комментаторы понимают как конструкцию infinitivus absolutus, «свободно» переведенную Семьюдесятью в следующей фразе: καὶ ἐγὼ καταβήσμαι μετὰ σοῦ εἰς τὸ τέλoς εἰς αἴγυπτον, καὶ ἐγὼ ἀναβιβάσν σε εἰς τέλoς {но Я сойду с тобою в Египет, и Я возведу тебя до конца}1053. Однако могло быть и так, что в прототипе LXX читалось הלכ {полностью} вместо הלע {восходить}1054. Взгляд на Египет как низинную землю, куда «сходят» из Иудеи, – тогда как в последнюю, наоборот, «восходят», – отражен в обеих древних версиях. Помимо этого, Септуагинта обещает Иакову возвести его до конца. Если будет слишком смело понимать под этим «концом» воскресение в эсхатологической эре, – тогда Египет является образом «страны мертвых», чревом левиафана, – то во всяком случае трудно было бы оспорить, что τέλoς здесь – окончательная победа над историей, простирающаяся в бесконечность. «Возвести до конца» избранный народ – означало навеки вывести его из рабства в обетованную землю.
Таким образом, расходясь как буквальное и иносказательное понимание одного и того же исходного выражения, словосочетания εἰς vῖκος и εἰς τὸ τέλoς в греческой библейской традиции все-таки образуют сущностное единство1055. Их общее смысловое содержание, вероятно, повлияло на употребление в Апокалипсисе рефрена «победитель» (ὁ vικῶν) по отношению к верующему, сохранившему заповеди Христа. Поскольку речь в контексте Нового Завета идет о победе над собственным грехом и соблазнами антихриста, «победа» здесь достигается терпением. Это в точности соответствует тому, что утверждается в другом апокалиптическом документе раннего христианства: «Претерпевший до конца (εἰς τέλoς), он спасется» (Мф 10:22).
Однокоренной термин συντέλεια {скончание} также используется для выражения вполне определенных эсхатологических чаяний. Так, в 58-м псалме с его помощью дано описание конца истории обетованной земли.
| LXX | МТ |
| μὴ ἀποκτείνῃς αὐτούς, μήποτε ἐπιλάθωνται τοῦ νόμου σου· διασκόρπισον αὐτοὺς ἐν τῇ δυνάμει σου καὶ κατάγαγε αὐτούς, ὁ ὑπερασπιστής μου, κύριε. ἁμαρτία στόματος αὐτῶν, λόγος χειλέων | ךליחב ומעינה ימע וחכשי ןפ םגרהת לא ומיתפש רבד ומיפ תאטח ינדא וננ גמ ומדירוהו הלכ ורפסי שחכמו הלאמו םנואגב ודכליו בקעיב לשמ םיהלא יכ ועדיו םניאו הלכ המחב ץראה יספאל |
| αὐτῶν, καὶ συλληφθήτωσαν ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν· καὶ ἐξ ἀρᾱς καὶ ψεύδους διαγγελήσονται ἐν συντελείᾳ, ἐν ὀργῇ συντελείας, καὶ οὐ μὴ ὑπάρξουσι· καὶ γνώσονται, ὅτι θεὸς δεσπόζει τοῦ ἰακὼβ τῶν περάτων τῆς γῆς. | |
| He умерщвляй их, чтобы не забыли закона Твоего: расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей, μμμи за проклятие и ложь будут обличены в конце, во гневе скончания, и не будет их больше. – И узнают, что Бог владычествует над Иаковом, над пределами земли. | Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой; расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было; и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. |
Псалом отвечает на один из самых болезненных вопросов древнееврейской истории: для чего некоторые языческие народы (ср. ст. 6) оставлены Богом на земле обетования? По-видимому, слова «чтобы не забыли закона Твоего» – уточняющее чтение толкователя, призванное разъяснить менее ясную фразу оригинала: «чтобы не забыл народ мой». Так, пусть это и парадоксально, язычники становятся для евреев напоминанием о необходимости тщательно соблюдать Закон. (В эпоху создания перевода их присутствие в Палестине воспринималось ортодоксальными иудеями именно так.) Однако за свои грехи они не уйдут от наказания, которое наступит, согласно Септуагинте, в самом конце (ἐν συντελείᾳ). Расхождения между древнегреческим переводом с еврейского текста и современными объясняется различным пониманием слова הלכ1056.
Подобного рода надежды относительно Святой земли целиком уходят в эсхатологическую перспективу, если принять во внимание слова русского дореволюционного ученого: «Путь жизни есть получение в наследство земли, на которой будут некогда обитать одни праведные. Палестина такой землей никогда не считалась: на ней были и предполагались беззаконники. Эта земля тождественна с... землей будущей блаженной жизни праведников»1057.
Действительно, тема идеального «рода праведников» непосредственно связана с комплексом эсхатологических представлений. Так, согласно 13-му псалму, который тоже озаглавлен εἰς τὸ τέλoς, нарушители Закона и лютые враги народа Божия ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ, οὖ οὐκ ἦν φόβος, ὅτι ὁ θεὸς ἐν γενεᾷ δικαίᾳ {там были объяты страхом, где не было страха, потому что Бог в роде праведном} (ст. 5). По смыслу здесь подразумевается будущее желательное состояние, которое переводчики нередко выражают в формах грамматического прошедшего времени, что соответствует и еврейской практике употребления времен. Возможно, слова «где не было страха» – это глосса греческого текста, которая поясняет, где именно «там» страх объял нечестивых1058. Дело представляется так, что в поколении праведников нет страха. Очевидно, речь идет не о современной реальности, так как в предыдущем стихе сообщалось, что «делающие беззаконие» съедают народ Божий, как хлеб. Если рассматривать псалом в перспективе соотнесения настоящего и будущего, то слова «Господа они не призвали», которыми заключается стих о злодеях, съедающих народ, относятся, скорее всего, к самому этому народу, еще не принадлежащему к «роду праведному», а потому боящемуся своих врагов и достающемуся им в пищу. Но это прекратится, когда придет поколение, в котором будет Бог.
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Одной из характерных особенностей междузаветной иудейской традиции было противопоставление эмпирического, земного Сиона идеальному и эсхатологическому. В сектантских кругах учение о небесном Храме, впоследствии практически вытесненное из официального иудаизма, приобрело важное значение как часть религиозной критики политических и культурных преобразований династии Хасмонеев. Местами оно приобретало форму отрицания иерусалимского культа – как претерпевшего неизбежные повреждения – перед лицом небесного богослужения, совершаемого ангелами. Так, для кумранитов оскверненность иерусалимского Храма была «одной из основных идей», а их цель состояла в том, чтобы «сохранить в нечестивом мире чистое священство, которое впоследствии очистит и освятит Храм»1059.
Такой ригоризм имел вполне определенные религиозно-исторические предпосылки: по возвращении народа из плена, согласно с буквальным пониманием пророчеств, ожидалось нравственное исправление народа; оно же вторично ожидалось после победы над армиями Антиоха, осквернившего иерусалимский Храм. Однако жизнь, полная обычных человеческих недостатков, каждый раз возобновлялась быстрее, чем успевали исполниться эсхатологические ожидания. Сектантство иудейской пустыни родилось из принципиального несогласия с таким поворотом событий, и первоначально его идейной основой была верность пророчествам, которые воспринимались как отложенные лишь ненадолго, для испытания. Возможно, толчком к его доктринальному и организационному оформлению послужил какой-то раскол в священнической среде, в результате которого часть наследников Садока вышла из Иерусалима1060. При этом трагическое чувство крушения привычных религиозных ориентиров из-за того, что Храмом завладели «нечестивые священники», компенсировалось памятью о его многократных осквернениях и очищениях. Вера в Храм как объект поклонения в сектантской среде оставалось нерушимой, что можно видеть на примере таких ее документов, как Храмовый свиток: «Я буду обитать с нимивсегда и освящу Мое [свя]тилище Моею славой. Я дам Моей славе пребывать на нем до дня сотворения, когда Я сотворю Свое святилище, устрою его для Себя на веки вечные, согласно завету, который Я заключил с Иаковом в Вефиле» (11 QT XXVIII. 8–10).
Даже оскверненный, Храм продолжал оставаться иконой небесной реальности, но акцент религиозной жизни был перенесен с иконы на саму эту реальность, метафорические и мистические описания которой теперь становились в фокус внимания. При этом, однако, существенно, что воззрение иудеев на духовный мир не было идеализмом, поэтому высший уровень бытия не мог просто пребывать на заднем плане своих несовершенных репрезентаций; он только ждал своего срока и был готов осуществиться, устраняя собою наличный строй бытия. В сирийском Апокалипсисе Варуха (2 Вар IV. 3) мы обнаруживаем это противопоставление образа и его прообраза как, соответственно, реалий исторического и эсхатологического плана:
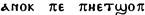
Это здание, что сейчас стоит у вас, не есть то, которое откроется у Меня, которое здесь от начала уготовано, с того времени, когда Мной замыслен был рай, и Я показал его Адаму, прежде чем он согрешил; когда же он преступил заповедь, утратил его вместе с раем.
В главе, которая содержит процитированный фрагмент, объясняется, что именно к этому предвечному строению относятся слова «вот, Я начертал тебя на дланях» (Ис 49:16); его видел Авраам во время ночного жертвоприношения (ср. Быт 15:10); оно было показано Моисею на горе Синай (ср. Исх 26:30). Поэтому-то Варух не должен плакать об Иерусалиме, который за грехи народа будет взят и разорен халдеями: на самом деле это не враги, но ангелы совершат суд над городом. После этого Святой город будет восстановлен уже навечно. Для объяснения связи между небесным прототипом и его несовершенным земным воплощением автор Апокалипсиса Варуха использует понятие «уготованного»

здания, тем самым подчеркивая, что речь идет не просто об идеальном или образцовом, но эсхатологическом, которое должно будет прийти на смену своему символу. По существу, роль символической реальности как единственной религиозной реальности в истории объясняется грехопадением Адама, после же конца истории должно наступить подлинное, задуманное от начала творения бытие1061. Поскольку это совершенное бытие приходит на место своего символа, сменяет его и вытесняет, предвечное здание Храма было «уготовано» на том же месте, что и эмпирический Сион, здесь

.
Пророк Варух был современником Иеремии, свидетелем разрушения Иерусалима и Первого Храма войсками Навуходоносора. Эти трагические события возобновились в памяти евреев особенно после того, как Иерусалим и Храм были вторично сожжены римлянами в 70 г. н.э. Ближайшими к этой дате годами датируется сирийский Апокалипсис Варуха1062. Данное в нем объяснение всего случившегося выглядит как теодицея и, одновременно, попытка укрепить в современниках сознание целесообразности всего исторического процесса, включая страшные катастрофы, через которые пролегает путь народа во времени. Однако в действительности концепт «уготованного» Иерусалима возник не post factum, и если надо возводить его появление к определенному историческому событию, то им будет не разрушение Храма при Тите и даже не осквернение того же Храма при Антиохе, а сама эпоха плена, последовавшая за взятием города халдеями. В этом удостоверяет нас то, что уже Пятикнижие Септуагинты, переводившееся до вторжения в Израиль войск Антиоха, говорит об «уготованном (ἕοιμος) жилище» Бога на Сионе.
В Септуагинте соответствующая терминология выстраивается в определенную систему, которая будет рассмотрена ниже. Но идейный фон, стоящий за употреблением слов и выражений, намного шире, и он реконструируется в контексте – в соотнесении с другими междузаветными учениями о новом Иерусалиме. Этот эсхатологический святой город, схождением которого с неба завершается новозаветное откровение, был описан в нескольких кумранских свитках (1Q32, 2Q24, 4Q554–555, 5Q15, 11Q18) как «земной город, построенный по планам ангельских архитекторов»10631. Еще ранее книга Еноха упоминала «жилище» Бога, из которого Он «выйдет» (1 Ен I. 1), и давала ему описание (стт. III. 14, XII. 71). Согласно этому апокрифическому источнику настоящее «Святое», оно же «Храм Господа, вечного Царя», находилось «на севере» (ст. V. 25), что можно понять как «в вышине», «в небесах» или вообще «вверху». Однако в книге Еноха небесный Храм не переходит непосредственно в земной город, как мы видим это в Библейских древностях, датируемых началом новой эры. В последнем произведении устанавливается отчетливая корреляция между земным и небесным, историческим и эсхатологическим, и все этапы земной истории еврейского народа выстраиваются в определенной логической последовательности.
1. Авраам называется тем, «кто поставит жилище свое на высоте» (Пс.-Филон. Древн. IV. 11). Это можно рассматривать как вариант учения об «уготованном жилище» на горе Сион.
2. Бог открывает Моисею место будущего Храма: «Я покажу тебе место, где народ будет служить Мне 850 лет, после чего впадет в руки врагов своих, и они разорят его... и будет тот день подобен дню, когда Я разбил скрижали завета, который заключил с тобой на горе Хорив... Будет это 17-го дня 4-го месяца» (гл. XIX. 7).
3. Ангел приносит 12 камней, имеющих «вид очей», с именами колен Израилевых. Они должны храниться вместе со скрижалями до тех пор, «пока не восстанет Йахэль и не построит дом имени Моему; он положит их передо Мной под двумя херувимами, и они будут перед Моими глазами в память о доме Израилевом» (гл.ХХVI. 9–12)1064.
4. По разрушении Первого Храма обещается период запустения и строительство нового, на сей раз вечного: «Я возьму эти камни и положу их там, где они были созданы от начала, и они пребудут там до тех пор, пока Я не помяну этот мир и не посещу живущих на земле. И тогда возьму их и многие другие, лучшие, чем они, с того места, которое око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не восходило» (гл. XXVI. 12).
Последняя фраза, дословно перекликающаяся с известным пассажем из Нового Завета, замечательна тем, что, согласно ей, святость земного Храма в эсхатологическом будущем как бы удваивается: он уже с самого начала содержал в себе камни неземного происхождения, а после восстановления будет иметь и «многие другие, лучшие». То, что эти камни имеют «вид очей», вероятно, связано с этимологией Израиля («Зрящий Бога»)1065, который мыслится здесь как проекция небесного мира на земле1066.
При этом всякий раз Храм возрождается на том же самом месте. Это позволяет выделить в его восприятии два отдельных аспекта: хронологический (ожидается наступление сакрального времени) и топологический (для этого часа уже приготовлено сакральное пространство). Вместе они образуют сакральный хронотоп, объясняющий позицию эвионитов, которые через век после разрушения Второго Храма римлянами еще «поклонялись Иерусалиму, как будто это дом Божий» (Ириней. Против ересей I. 5. 3). Еще десятилетия спустя о таких же настроениях свидетельствовал Ориген, адресуя утешение гипотетическому иудею: «Если ты находишь град земной разрушенным, не плачь, как вы плачете сейчас подобно людям с детским рассудком, не жалуйся, но ищи небесный град вместо земного. Посмотри ввысь и там ты увидишь небесный Иерусалим, матерь всех... Итак, по доброте Божией ваше земное наследство у вас отнято, чтобы вы искали наследства на небесах» (Гомилия на книгу Иисуса Навина. XVII. 1).
Плач евреев и представителей иудео-христианства о земном Иерусалиме указывает на отсутствие жесткого противопоставления его Иерусалиму небесному, на неспособность, как проницательно замечает Ориген, помыслить второй без первого. Но эта неспособность имела свои основания в традиции библейского исторического сознания, от которого в значительной степени оторвался александринизм вообще и оригенизм в частности. В Септуагинте, как мы увидим ниже, это сознание еще живо. Было живым оно и в раннем христианстве, причем не только среди эвионитов, но и в большинстве церквей, которые восприняли проповедь апостола Павла. Для них Святое святых сохранило свое физическое и земное присутствие, но уже не в виде камней и зданий, а в виде бессмертной плоти воскресшего Христа.
С другой стороны, еще прежде разрушения Храма иудейская традиция знала более жесткие противопоставления по линиям земное-небесное и настоящее-будущее, связанные с отрицанием святости существующего Храма, с уверенностью в его фатальном осквернении. Такие взгляды были преимущественно характерны для т.н. енохитской традиции, т.е. для протогностического иудаизма1067. Официальной иерусалимской ортодоксии, полностью ориентированной на реальный Сион, его метафоризация была в целом несвойственна1068. Может быть, поэтому после гибели Храма и утраты надежд на его скорое восстановление в связи с подавлением восстания Бар Кохбы некоторые упоминания об исключительном значении Храма вытесняются даже из библейского текста1069. В то же время из устной традиции было также вытеснено понятие об «уготованном» предвечном Храме. И это произошло не без причины. По мнению А. Аптовицера, «глубоко укоренившееся в иудаизме периода Второго Храма понятие «Небесный Храм» было отвергнуто [раввинами] по причине того, что его стали употреблять христиане»1070.
Предпосылки христианского восприятия этого понятия в большей степени содержатся в Септуагинте, нежели в кумранских рукописях, греческих или сирийских псевдоэпиграфах. Прежде всего на основании данных из «Александрийского канона» можно заметить, что само противопоставление земного и небесного святилищ не было равнозначно сомнению в святости эмпирического Иерусалима и построенного переселенцами второго Храма. В среде сторонников династии Хасмонеев само это противопоставление было значимо не меньше, чем в лагере непримиримых противников династии. «Хотя жилище (οἰκητήριόν) Твое, небо небес, недостижимо (ἀνέφικτος) для людей, – говорится в одной из Маккавейских книг, – но Ты, благоволив явить славу Твою народу Твоему, Израилю, освятил место сие» (3Мак 2:13). При этом возможность разрушения Храма не отрицается, – напротив, указана определенная причина, при действии которой следует ждать осуществления этой возможности. Такой причиной является профанация, осквернение. Описывая события, происходившие в связи с намерением Птолемея Филопатора войти во Святое святых, автор книги пишет: «От совокупного, напряженного и тяжкого народного вопля происходил невыразимый гул. Казалось, что не только люди, но и самые стены и все основания вопияли, как бы умирая уже (θάνατον ἀλλασσομένων) за осквернение священного места» (ст. 1:25). Желание верующих людей принять (ἀλλάσσω) смерть, спасая святыню, понятно; когда в таком же контексте речь идет о стенах и даже фундаменте (τὸ πᾶν ἔδαφος), то необходимо предположить, что святыня как таковая отличается от эмпирически постижимого Храма, который представляет собой ее «стены». При профанации святыни здание теряет свой смысл и подлежит гибели. Здесь явная аналогия с законом о разрушении оскверненного дома (Лев 14:45) – Храм есть «дом» (οἶκος) Бога, и автор книги предполагает, что враги, торжествуя, будут говорить: «Мы попрали дом святыни, как попираются дома скверны» (3Мак 2:14).
Возможно, сказалось на тексте 3-й книги Маккавейской и прямое влияние книги пророка Даниила, в которой возвещается об окончательном запустении святилища после утверждения на нем «мерзости». Однако написанная, видимо, в пору стабильности господства Хасмонеев, 3 Мак полна оптимизма по поводу судьбы Храма, который был избавлен Божественным заступничеством от осквернения греческим царем. Более определенно амбивалентность в отношении к эмпирическому Сиону выражена в книге Товита, в которой намечено явное противопоставление истинного сакрального хронотопа и его временного земного воплощения, каковым является Храм, восстановленный переселенцами при Зоровавеле, после возвращения из вавилонского плена. Как известно, этот Храм сильно уступал в роскоши и великолепии своему предшественнику, воздвигнутому Соломоном (1Езд 3:12, Агг 2:3). Но книга Товита, рисующая жизнь изгнанников еще до возвращения, описывает их чаяния совсем не так, как они реализовались в эмпирической действительности при Хасмонеях и их предшественниках во власти; она дает эсхатологическую картину в духе великих еврейских пророков, предметом которой является небесный, сокровенный, эсхатологический Иерусалим:
Иерусалим, город святый! Он накажет за дела сынов твоих и опять помилует сынов праведных. Славь Господа усердно и благословляй Царя веков, чтобы снова сооружена была скиния Его в тебе с радостью, чтобы Он возвеселил среди тебя пленных и возлюбил в тебе несчастных во все роды века. Многие народы издалека придут к имени Господа Бога с дарами в руках, с дарами Царю Небесному; роды родов восхвалят тебя с восклицаниями радостными. Прокляты все ненавидящие тебя, благословенны будут вовек все любящие тебя! Радуйся и веселись о сынах праведных, ибо они соберутся и будут благословлять Господа праведных. О, блаженны любящие тебя! они возрадуются о мире твоем. Блаженны скорбевшие о всех бедствиях твоих, ибо они возрадуются о тебе, когда увидят всю славу твою, и будут веселиться вечно. Да благословляет душа моя Бога, Царя великого, ибо Иерусалим отстроен будет из сапфира и смарагда и из дорогих камней; стены твои, башни и укрепления – из чистого золота; и площади Иерусалимские выстланы будут бериллом, анфраксом и камнем из Офира. На всех улицах его будет раздаваться: аллилуйя, и будут славословить, говоря: благословен Бог, Который превознес на все веки!
Обратим внимание на то, что, согласно процитированному фрагменту, святой город будет отстроен навечно. Таким образом, история прекратится, а наказание за грехи как основной двигатель ее катастрофизма (который с определенного момента становится для евреев сутью истории) перестанет действовать, поскольку все новые поколения будут праведными. Среди камней, из которых будут сложены городские сооружения, первым упоминается сапфир – символ Божественного присутствия, схождения неба на землю (см. Исх 24:10, Иез 1:26).
Что касается исторического Второго Храма, его существование книга Товит не игнорирует, но противопоставляет его тому, который воздвигнется вместе с Новым Иерусалимом, как временное – вечному и несовершенное – совершенному. В связи с этим даже возвращение из плена раздваивается:
Опять Бог помилует их и возвратит их в землю; и воздвигнут дом [Божий], не такой, как прежний, доколе не исполнятся времена века. И после того возвратятся из плена и построят Иерусалим великолепно, и дом Божий восстановлен будет в нем на все роды века, – здание величественное, как говорили о нем пророки. И все народы обратятся и будут истинно благоговеть пред Господом Богом, и ниспровергнут идолов своих; и все народы будут благословлять Господа. И Его народ будет прославлять Бога, и Господь вознесет народ Свой; и все, истинно и праведно любящие Господа Бога, будут радоваться, оказывая милость братьям нашим.
Если Товит – изначально произведение вавилонских евреев, то можно думать, что в нем выражено их отношение и к переселению, и к восстановлению города и Храма как не окончательным событиям, чем в их собственных глазах оправдывалось бы продолжение их пребывания в диаспоре. Эта логика, видимо, находила сочувствие и в более широких слоях рассеяния, в том числе грекоязычных. Именно для них было характерно амбивалентное отношение к тому отдаленному подобию Соломонова царства, которому предстояло возникнуть после эдиктов Кира и Артаксеркса, отпускавших евреев на родину, и ненадолго завоевать себе политическую независимость по итогам восстания Маккавеев. Александрийская традиция одухотворяет представление о Храме, тем самым снимая обвинение с несовершенного земного Храма и оставляя эсхатологическую – духовную – перспективу. Истинный Храм всегда был на небесах. Значит, отпадает необходимость в особом священнике-мессии, возобновителе левитского священства. Небесный Храм, когда откроется, будет Храмом священства Мелхиседекова (см. подробнее в разделе III. 2.1). Что касается самой Палестины, в ней нашлось больше места двум крайним точкам зрения: утверждению, что Второй Храм и есть окончательный, а обетованное государство Мессии будет построено с центром в существующем Иерусалиме, и отрицание святости Второго Храма вообще – как оскверненного «нечестивым священником», в связи с чем пришествие Мессии ожидалось как очищение сперва Израиля, потом же, согласно «Свитку войны», всей земли до края вселенной. Согласно с первой из названных точек зрения был казнен христианский первомученик Стефан, формулировка обвинения которого гласила: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон» (Деян 6:13). На суде перед своими обвинителями он проповедовал буквально следующее: «Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: Небо – престол Мой, и земля – подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего? Не Моя ли рука сотворила все сие?» (ст. 7:48–50)
Апелляция к пророку, приведенная в этой проповеди, говорит о том, что не одними только идейными процессами в диаспоре, касающимися осмысления собственной идентичности, определялась двойственность в отношении к историческому Храму. Когда он восстанавливался, пророчества Иезекииля об идеальном Иерусалиме, так же как слова Исайи о царстве Отрока Господня и предсказания Иеремии о Новом Завете, уже существовали, но их исполнение не могло рассматриваться иначе как отложенное на неопределенный срок1071. Дело в том, что различия между эсхатологическими прозрениями великих пророков и реальностью политического, социального, экономического устройства Иудеи, которые были показаны уже первыми послепленными пророками, на каждом новом этапе истории обозначались все резче. Поэтому не только в диаспоре, но и в самой Палестине многие из тех, кого называли «чающими Царствия Божия» или «ожидающими избавления в Иерусалиме» (ср. Лк 2:38), не могли считать существующее положение вещей требующим лишь улучшений, а не кардинальной, даже апокалиптической смены. В особенности влияло на рост недоверия к сложившемуся порядку планомерное усиление римского господства, несмотря на то что оно совпало с крупнейшей перестройкой Храма царем Иродом Великим, после которой это здание стало выглядеть едва ли не так же богато, как во времена Соломона. Ироды всегда знали, что не имеют сакральной легитимации, которую даже круг расположенных к ним религиозных учителей не мог им предоставить1072. На этом фоне то, что потомки Давида, согласно пророчествам предназначенные к вечному правлению, давно уже не представляли собой политической силы, обращало взоры верующих к эсхатологической эре, в которой сам порядок вещей должен будет перемениться.
Тем не менее, как известно из Евангелий, Христос и Его ученики чтили Храм, не переставая молиться в нем даже после обозначившегося противостояния с иерусалимским духовенством. Это, видимо, существенным образом отличало их от ессеев. Традиция, для которой авторитет Храма как места поклонения не прерывался никогда, запечатлена и в Септуагинте. Для ее разбора следует выделить несколько аспектов.
1. Святость места. Перевод книги пророка Исайи не приемлет мысли, что Бог может отвернуться от Храма, пока в нем еще совершаются законные службы (Ис 66:3)1073. Сакральный топос кажется непреложным: Сион притягивает к себе чаяния евреев диаспоры, которые уповают на окончательное и всеобщее возвращение, – «Он скоро помилует нас и соберет от поднебесной в место святое» (2Мак 2:18). Именно в Иерусалиме должны воздаваться обеты (Пс 64:2)1074. В то же время тезис о непреложности ограничивается одной принципиальной оговоркой: «Господь избрал не для места народ, а для народа это место» (2Мак 5:19). Следовательно, Храм создан ради освящения невидимой церкви – собрания верующих.
2. Спасительность обетовании. Предмет стольких многообещающих пророчеств и принцип собирания воедино народа Божия, Сион является залогом искупления грехов, «ради» которого (ἕνεκεν Σιὼν) приходит Избавитель, чтобы «отвратить нечестие от Иакова» (Ис 59:20).
3. Будущее обновление. Сам термин «обновление» используется в Ветхом Завете со значением ритуала восстановления жертвенного культа после того, как из-за нарушения Закона он бывал прекращаем. В перспективе конца земной истории весь Иерусалим получает обещание, что Бог «обновит его в любви Своей» (СофЗ:17)1075.
4. Признание существования небесного прототипа.
Последний пункт требует более подробного раскрытия. О «жилище» Бога на небесах говорят многие ветхозаветные тексты, начиная со Втор 26:15. Но наличие прямой корреляции между ним и земным святилищем известно нам из греческой версии, хотя это не означает, что именно в ней оно возникло. К переводамканонических книг в этом аспекте примыкают и книги «Александрийского канона», о которых достоверно известно, что они имели прототип на семитском языке, в особенности книга Премудрости Иисуса сына Сирахова. Противопоставление земного Сиона небесному в Септуагинте имеет признаки сопоставления вещи с ее идеей, причем последняя понимается и как целевая причина и в то же время как реальность, которая должна прийти на смену своему искаженному земному подобию в эсхатологической перспективе. В классификации А.Ф. Лосева символизм Септуагинты – не эллиниский и не восточный, а христианский символизм1076. С исторической точки зрения правильно будет назвать его протохристианским.
В книге Премудрости Сираха, которая в определенном смысле подводит итоги библейского ветхозаветного миросозерцания, введен образ кочующей Премудрости, которая еще в начале создания «поставила скинию на высоте» (Сир 24:4), потом во всяком народе «искала успокоения, и в чьем наследии водвориться» ей (ст. 7), пока, наконец, не нашла «покой в возлюбленном городе, и в Иерусалиме – власть» свою (ст. 12). Здесь она «укоренилась» и возросла, как «в наследственном уделе Господа» (ст. 13). Важно отметить два аспекта: во-первых, Премудрость еще до создания еврейского народа создает себе «скинию», т.е. прообраз Храма; во-вторых, «покойное жилище» на земле было ей указано Самим Господом: «поселись в Иакове и прими наследие в Израиле» (ст. 9). Таким образом, небесный прототип и земное воплощение заранее готовятся друг для друга, чтобы в историческом движении совпасть. Поэтому не совсем ясно, какой именно Храм, – небесный или земной, исторически существующий, – имеет в виду похвала Зоровавелю и первосвященнику Иисусу, которые «во дни свои соорудили Дом и возвысили Храм святый Господень, уготованный (ἡτοιμασμένον) для славы вечной» (стт. 49:11–12).
Идея небесного прототипа Храма восходит к повелению, данному Богом пророку Моисею согласно книге Исход (25:40), касательно сооружения скинии по образцу, который был показан ему на вершине горы. Различие греческого текста с еврейским в этом месте незначительно, однако имеет смысл упомянуть его в связи с дальнейшим развитием темы. А именно, в МТ сказано «сотвори по образцу их» (םתינבתב השעו), тогда как в LXX просто «сотвори по образцу» (ποιήσεις κατὰ τὸν τύπον). В первом случае говорится об элементах, из которых составлена скиния, и провозглашается Божественное происхождение конкретных предметов культа; во втором случае указывается на существование общего для всей скинии «образца»1077. Это представление получает дальнейшее развитие в рассказе о постройке царем Соломоном Храма в Иерусалиме. Здесь уже своеобразие у греческой версии значительное:
1Пар 28:19 МТ
תינבתה תוכאלמ לכ ליכשה ילע הוהי דימ בתכב לכה
Все это в записи от руки Господней, [говорил Давид, как] меня Он вразумил на все дела постройки.
1Пар 28:19 LXX
πάντα ἐν γϱαϕῇ χειϱὸς κυϱίου ἔδωκε Δαυίδ Σαλωμὼν κατὰ τὴν πεϱιγενηθεῖσαν αὐτῷ σύνεσιν τῆς κατεϱγασίας τοῦ παϱαδείγματος
Все, написанное рукою Господней, дал Давид Соломону ради преизбыточествующего в нем разума для осуществления плана.
Если еврейский текст допустимо понимать в том смысле, что план, составленный Давидом, – «от руки Господней», т.е. вдохновлен Богом, то, согласно греческому переводу, он дан Самим Господом, а Давид лишь передает своему сыну. Для понимания плана необходима особая мудрость, которой, как известно, прославился именно Соломон. Возможно, в силу такого представления о земном Храме как построенном по небесному образцу, которое мы, как думается, напрасно стали бы возводить к персидским или эллинским влияниям, ввиду всеобщей распространенности у древних народов идеи взаимосоответствия небесного и земного1078, первосвященник-эллинист Алким, взявшийся за перестройку храмовых сооружений, осуждается потомками за то, что «велел... разрушить дела пророков» (1Мак 9:54).
На небесах, видимо, представлялся существующим не просто «план» или «образец», но сам Храм, который был прообразом земного. Так, согласно книге Даниила LXX, Бог благословляется «в Храме святой славы Своей» в тот исторический момент, когда земной Храм лежит в руинах (Дан 3:53)1079. Это место прославления упоминается сразу после имени Господня, перед безднами, херувимами, престолом славы царства и твердью небесной. Оно есть источник неиссякаемой надежды для верующего, когда он переживает ощущение исторической катастрофы. Такой вывод позволяет сделать, в частности, анализ 10-го псалма:
В конец, псалом Давиду.
1На Господа я уповал, как же вы говорите душе моей:
улетай в горы, яко птица?
2Ибо вот, грешники натянули лук,
приготовили стрелы в колчане,
чтобы подстрелить в темноте правых сердцем.
3Ибо то, что Ты совершил (катцдтюсо), они разрушили:
а праведный что сотворил (inoir\ot)?
4Господь во Храме святом Своем.
Господь, на небе престол Его: очи Его на нищего взирают,
зеницы Его испытают сынов человеческих.
5Господь испытывает праведного и нечестивого:
а любящий неправду ненавидит свою душу.
6Одождит на грешники сети: огнь и сера,
и дух бурный – часть чаши их.
7Яко праведен Господь и праведность возлюбил Он:
справедливость видело лице Его.
Текст псалма обладает хиастической структурой, построенной таким образом, что центром композиции оказывается Храм (ст. 4). Темы пар соответствующих друг другу стихов следующие:
1/7 упование на Господа и Его справедливость;
2/6 грешники, оружие – применяемое ими и против них;
3/5 праведный человек и его отношения с неправедными.
Помимо концентрической структуры, псалом имеет еще и линейную развивающуюся тему, в которой каждый следующий этап вытекает из предыдущего: героя увещевают бежать в горы, подобно птице перелетая с места на место1080, – потому что злодеи начали охоту на правых сердцем, а доказательством тому – разрушения, ими произведенные, при отсутствии противодействия со стороны праведника. Здесь мы должны задержаться и обратить внимание на то, что разрушенное врагами было, по всей видимости, «совершено» Самим Господом: это дает предположить употребление глагола καταρτίζω {совершать}, о значении которого говорилось выше (см. пункт П. 1.2.3 а)1081. Существенным выглядит противопоставление того, что было Богом «совершено», т.е. как бы выращено, приведено к совершенству, и того, что праведником не было «сотворено» (гр. ποιέω, евр. לעפ). Таким образом, надежда на праведного (героя, царя или помазанника) еще не оправдалась. Отсюда переход к теме небесного Храма: Господь, пребывая в нем, не пренебрегает землей, но испытывает людей, и потому любящие неправду вредят самим себе1082, так как их ждет неминуемое уловление и наказание, – в результате чего праведность обязательно восторжествует. Посвящение псалма «в конец» (εἰς τὸ τέλος) вполне соответствует этим чаяниям: победа над злом, когда она состоится, будет окончательной.
При том что содержание этого псалма довольно типично и описанная в нем ситуация угнетения добра злом представляет собой одну из ключевых проблем библейского мира, апелляция к Храму здесь заслуживает особого внимания – как организующий момент. Можно предположить, что Храм не разрушен и автор псалма обосновывает свое намерение остаться на Сионе, вместо того чтобы «витать по горам», именно тем, что Господь пребывает в Храме (или скинии, так как автором считается Давид). В таком случае, однако, не теряет своего значения то, что Храм сразу же сопоставляется с престолом на небесах. Тем самым он делается связью между землей и небом, коль скоро Господь, сидя на престоле, вникает в человеческие дела.
Весьма существенной представляется еще одна деталь. Согласно греческой кн. Захарии в мессианское время Храм должен будет если не снова возвратиться на небо, то, во всяком случае, подняться над землей: «И Я подставлю (ὑποστήσομαι) Храму Моему возвышение (ἀνάστημα), чтобы не переходить, ни возвращаться, и больше не придет на них изгоняющий, ибо ныне видел Я очами Своими» (Зах 9:8). Употребленный здесь как перевод евр. הבצמ1083 термин ἀνάστημα всегда прилагается в Септуагинте к одушевленным созданиям, растущим, восходящим или поднимающимся (Быт 7:4, 1Цар 10:5, Соф 2:14). Таким образом, под Храмом как бы вырастает нечто такое, благодаря чему он становится недоступным для превратностей истории народов. Это совпадает, судя по контексту, с обращением народов к единому Богу и прибытием в Иерусалим кроткого Царя на осленке1084.
Что представляет собой изначальный Храм на небесах и как он соотносится с земным? Ответ на этот вопрос дает эсхатология. Жилище Господа «уготовано» и ждет своего часа, чтобы открыться. На систематическое употребление термина κατοικητήριον {готовое жилище}, за которым стоит, по-видимому, целое эсхатологическое понятие, указывает У. Хорбери1085. Первым прецедентом является стих из книги Исход:
ךידי וננוכ ינדא שדקמ הוהי תלעפ ךתבשל ןוכמ ךתלחנ רהב ומעטתו ומאבת
Введи его [т.е. народ Божий] и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем Себе, Господи, во святилище, [которое] создали руки Твои, Владыка! (Син)
εἰσαγαγὼν καταϕύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄϱος κληϱονομίας σου, εἰς ἕτοιμον καταικητήϱιόν σου, ὃ κατηϱτίσω, κύϱιε, ἁγίασμα, κύϱιε, ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖϱές σου.
Введи его и насади его на горе достояния Твоего, в готовом жилище Твоем, которое Ты совершил, Господи, во святилище, которое приготовили руки Твои, Господи!
Согласно Хорбери, «влияние Исх 15:17 заметно во многих местах греческого Писания»1086. Исследователь полагает, что в III в. до н.э. «этот стих уже интерпретировался как обетование явления предсуществующего, Богом созданного Храма»1087. Подтверждается это аналогичной интерпретацией еврейского текста в Иерусалимском Таргуме: ךשדק תניכש תיב ליבק ןמזומ … רתא {место... приготовленное в соответствии с Домом Шехины Святости Твоей}; есть подобное чтение и в Таргуме Неофити1088. Позднейшее иудейское толкование стиха, основанное на привычной для раввинов игре в двусмысленность слов, запечатлело продолжение той же темы: «Это одно из мест, где указано нижнее, находящееся напротив Вышнего, ибо престол нижний находится прямо (ןווכמ) напротив Вышнего» (Мехильта к кн. Исход, ad loc).
Септуагинта является, таким образом, древнейшим свидетелем определенной традиции толкования этого стиха. Но у греческих переводчиков были и филологические причины, которые могли побудить их акцентировать на теме «готовности» Божественного жилища: в разных книгах Септуагинты существительное ןוכמ {место, основание} регулярно отождествляется с однокоренным прилагательным ןוכנ {готовый}: оба термина переводятся через производные от глг. ἑτοιμάζω {готовить}. Приведем несколько таких примеров.
| 1. 3Цар 2:45 | היהי דוד אסכו דע הוהי ינפל ןוכנ םלוע | καὶ ὁ θρόνος δαυὶδ ἔσται ἕτοιμος ἐνώπιον κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα. | И трон Давидов будет готовым пред Господом вовеки. |
| 2. 3Цар 8:39, 43; 2Пар 6:30, 33, 39 | עמשת התאו ןוכמ םימשה ךתבש | καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου. | И Ты услышишь с небес, из готового жилища Твоего... |
| 3. 2Пар 6:2 | תיב יתינב ינאו ןוכמו ךל לבז םימלוע ךתבשל | καὶ ἐγὼ ᾠκοδόμηκα οἶκον τῷ ὀνόματί σου ἅγιόν σοι καὶ ἕτοιμον τοῦ κατασκηνῶσαι εἰς τοὺς αἰῶνας. | [Сказал Соломон:] а я создал дом имени Твоему, святое Твое, и готовое, чтобы вселиться вовеки1089. |
| 4. Пс 7:13–14 | הננוכיו ךרד ותשק תומ ילכ ןיכה ולו | τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε καὶ ἡτοίμασεν αὐτὸ· καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σκεύη θανάτου. | Лук Свой натянул и приготовил его, и в нем приготовил орудия смерти. |
| 5. Пс 9:8 | בשי םלועל הוהיו ואסכ טפשמל ןנוכ | καὶ ὁ κύριος εἰς τὸν αἰῶνα μένει. ἡτοίμασεν ἐν κρίσει τὸν θρόνον αὐτοῦ | А Господь вовек пребывает. Он приготовил для суда престол Свой. |
| 6. Пс 9:38 | תעמש םיונע תואת םבל ןיכת הוהי ךנזא בישקת | τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσε κύριος, τὴν ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν προσέσχε τὸ οὖς σου. | Желание смиренных услышал Господь, готовности сердца их вняло ухо Твое1090. |
| 7. Пс 23:2 | םימי לע אוה יכ תורהנ לעו הדסי הונוכי | αὐτὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ποταμῶν ἡτοίμασεν αὐτὴν. | Он на морях основал ее [т.е. вселенную] и на реках уготовал ее. |
| 8. Пс 64:10 | ץראה תדקפ תבר הקקשתו גלפ הנרשעת םימ אלמ םיהלא ןכ יכ םנגד ןיכת הניכת | ἐπεσκέψω τὴν γῆν καὶ ἐμέθυσας αὐτήν, ἐπλήθυνας τοῦ πλουτίσαι αὐτὴν· ὁ ποταμὸς τοῦ θεοῦ ἐπληρώθη ὑδάτων· ἡτοίμασας τὴν τροφὴν αὐτῶν, ὅτι οὕτως ἡ ἑτοιμασία. | Ты посетил землю и упоил ее, многократно обогатил ее: река Божия наполнилась водами: Ты приготовил пищу им [т.е. животным], ибо таково это приготовление. |
| 9. Пс 67:11 | הב ובשי ךתיח ינעל ךתבוטב ןיכת םיהלא | τὰ ζῷά σου κατοικοῦσιν ἐν αὐτῇ· ἡτοίμασας ἐν τῇ χρηστότητί σου τῷ πτωχῷ, ὁ θεός. | Животные Твои живут на ней [т.е. на земле]: Ты приготовил [их], по благости Твоей, для нищего, Боже! |
| 10. Пс 88:5 | ןיכת םלוע דע רדל יתינבו ךערז ךאסכ רודו | ἕως τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω τὸ σπέρμα σου καὶ οἰκοδομήσω εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τὸν θρόνον σου. | [Господь Давиду:] до века Я уготоваю семя твое, и созижду в род и род престол твой. |
| 11. Пс 88:15 | ןוכמ טפשמו קדצ תמאו דסח ךאסכ ךינפ ומדקי | δικαιοσύνη καὶ κρίμα ἑτοιμασία τοῦ θρόνου σου, ἕλεος καὶ ἀλήθεια προπορεύσονται πρὸ προσώπου σου. | Правда и суд – приготовление престола Твоего; милость и истина предходят лицу Твоему. |
| 12. Пс 102:19 | ןיכת םימשב חוהי לכב ותוכלמו ואסכ הלשמ | κύριος ἑν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. | Господь на небесах приготовил престол Свой, и царство Его над всеми господствует. |
| 13. Иов 28:27 | הרפסיו האר זא הרקח םגו הרקח הניכה | τότε εἶδεν αὐτὴν καὶ ἐξηγήσατο αὐτήν, ἑτοιμάσας ἐξιχνίασεν. | Тогда Он видел ее и изъяснил ее: приготовив, исследовал. |
| 14. Ос 6:3 | ואצמ ןוכנ רחשכ | ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν | Как утро готовое, мы найдем Его. |
| 15. Мих 4:1 | תירחאב היהו רה היהי םימיּה ןוכנ הוהי תיב םירהה שארב | καὶ ἔσται ἐπ̕ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμφανὲς τὸ ὄρος κυρίου, ἕτοιμον ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων | И будет в конце дней явлена гора Господня, уготованная над вершинами гор. |
| 16. Зах 5:11 | ךאלמה לא רמאו המה הנא יב רבדה הפיאה תא תוכלומ תונבל ילא רמאיו ץראב תיב הל ןכוהו רענש לע םש החינהו התנכמ | καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλαῦντα ἐν ἐμοί· ποῦ αὗται ἀποφέρουσιν τὸ μέτρον; καὶ εἶπε πρός με· οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἰκίαν ἐν γῇ βαβυλῶνος καὶ ἑτοιμάσαι, καὶ θήσουσιν αὐτὸ ἐκεῖ ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν ατοῦ. | И сказал я ангелу, говорившему во мне: куда они несут эту меру? И сказал мне: построить ей дом в земле Вавилонской, приготовить, и положат ее там на приготовленное [для] нее. |
Как видно, связанные с глг. ןוכ термины толковники стараются переводить словами, в греческом языке имеющими общий корень. Основной вопрос, который возникает в связи с этим, состоит в следующем: используют ли они ἑτοιμάζω в качестве гебраизма со значением «утвердить», «основать»1091, или же, наоборот, его исконно греческое значение – «готовить» – выступает как истолкование в определенных контекстах? Одна группа стихов поддерживает первую из этих версий (1, 3, 5, 7, 10, 12:16). Другая, наоборот, позволяет лишь понимать «готовность» именно как «готовность» (4, 6, 8:9). Прочие можно интерпретировать и в первом, и во втором смысле. В тех местах, где слова с интересующей нас основой являются переводами других еврейских слов, они также могут обладать различной семантикой:
«Разве все это не собрано у Меня и запечатано в сокровищницах Моих? В день отмщения воздам, в то время, когда преткнется нога их, ибо близок день погибели их, и ожидает приготовленное (תדתע, ἕτοιμα ὑμίν) вас» (Втор 32:34–35).
«Я приготовил (יתכרע, ἡτοίμασα) светильник для помазанника Моего» (Пс 131:17).
«Завет вечный он положил со мной, готовый (הכורע, ἑτοίμην) на всякое время, сохранный» (2Цар 23:5).
Есть и другие места, где определение понятию дано или параллелизмом, или надежным контекстом: так, во-первых, в п. 4 таблицы «приготовить» означает собственно «держать» наготове, как держат натянутый лук и положенные на тетиву стрелы; во-вторых, в п. 7 «приготовить», согласно параллели, значит практически то же, что и «основать», положить на твердое основание; в-третьих, в пп. 8 и 9 «приготовление» трактуется как создание условий для происхождения чего-либо (в данном случае пищи), т.е. «приготовление» – это предшествущий этап, который с точки зрения целесообразности объясняется исходя из последующего, как разлив реки исходя из того, что животные и человек нуждаются в пропитании. Рассмотрим также примеры из неканонической литературы, сохранившейся только на греческом языке. Помимо ряда мест, где речь идет об обыкновенных вещах (приготовить переправу через реку и т.п.), есть несколько существенных для темы настоящего раздела.
I. «Ты сотворил прежде сего бывшее, и сие и последующее за сим, и содержал в уме настоящее и грядущее, и, что помыслил Ты, то и совершилось; что определил, то и явилось и сказало: вот я. Ибо все пути Твои готовы (ἕτοιμοι), и суд Твой [Тобою] предвиден» (Иудифь 9:5–6). Здесь выражается идея вневременности Божественного плана бытия.
II. «Соломон царствовал в мирные дни, потому что Бог успокоил его со всех сторон, дабы он построил дом во имя Его и приготовил (ἑτοιμάσῃ) святилище навеки» (Сир 47:15). Поскольку автор живет после разрушения I Храма, очевидно, что под «приготовлением навеки» он подразумевает освящение места, где отныне должны были всегда приноситься жертвы, а не постройку самого здания.
III. «Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе Твоей и алтарь в городе обитания Твоего, по подобию (μίμημα) святой скинии, которую Ты предуготовил (προητοίμασας) от начала» (Прем 9:8).
Последнюю цитату достаточно соотнести с процитированным в начале фрагментом сирийского Апокалипсиса Варуха, чтобы понять, что «приготовление» стало в междузаветной литературе концептом, связанным с учением о Божественном промысле, который проявляет себя в истории1092. В таком виде оно было воспринято языком Нового Завета, как видно из послания апостола Петра: «[Нас,] силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться (ἑτοίμην ἀποκαλυφναι) в последнее время» (ст. 1:5), «Они дадут ответ Готовому (τῷ ἑτοίμως ἔχοντι) вскоре судить живых и мертвых» (ст. 4:5). С этой точки зрения смысловая многозначность однокоренных слов, представленных выше, вероятно, считалась преимуществом: «готовность» – это и надежное состояние вещи, достигшей соответствия своему замыслу, и способность предусмотренного открыться в любой момент, явиться из исторического небытия. Так, трон Давида «готов» для возвращения законного царя, а его семя «готово» дать росток «до века», т.е. до самого конца времен остается надежда. Господь, согласно пророку Осии, будет найден людьми «как утро готовое», т.е. Он ожидает их обращения и встреча совершится непременно, причем Осия говорит об этом в связи с воскресением мертвых и проливанием позднего дождя. Таким образом, любая «готовность» есть предварение, и это понятие о предсуществующем, несменяемом в силу своего положения в основе грядущей смены является общим для всех употреблений термина.
Поскольку Септуагинта переводилась в эпоху, когда не было ни престола Давида, ни сколько-нибудь заметной роли у его потомков, эсхатологическое осмысление тех или иных обетовании в ней ожидаемо. «Готовое жилище», на которое указывает молитва Моисея, не обязательно представляет собой «идею» или прообраз. Это жилище, которое Моисей видит уже готовым в силу того, что у Бога все осуществлено и для Него нет невозможного. То, что именно эта мысль руководила переводчиком, подтверждается ее сохранением и развитием в дальнейшей традиции, не только в литературе Премудрости, но и в Новом Завете: «Они стремились к лучшему, то есть, к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил (ἡτοίμασεν) им город» (Евр 11:16). Первым в ряду стремившихся поставлен Авраам – он «верою... повиновался приказанию идти в страну, которую имел получить в наследие, не зная, куда идет... обитал на земле обетованной, как на чужой... ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог» (стт. 11:8– 10). В этих словах одного из первых богословских произведений христианства отчетливо выражается эсхатологическое сознание, вбирающее в себя определенное понимание истории. Вера называется в нем «осуществлением ожидаемого» (ст. 11:1), поскольку видит будущее как уже осуществившееся. История становится процессом становления всего, что «имеет основание» у Бога.
Вся тематика эсхатологического сакрального места-времени будет переосмыслена в христианстве через идею воскресения, так что действительным первообразом всех материальных предметов библейского культа окажется Богочеловеческое тело. «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак мы всегда благодушествуем... ибо мы ходим верою, а не видением... и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными» (2Кор 5:1–9). С темой предвечного Храма перекликается весь этот ряд строительных метафор: οἰκία τοῦ σκήνους {Слав: храмина тела}, οἰκοδομή {здание}, οἰκία {дом}, οἰκητήριον {жилище}, οκηνή {шатер}. Последнее слово многозначно: это и палатка из тех, производством которых зарабатывал себе на жизнь апостол Павел, и «шалаш пастушеский», уносимый порывом ветра, с которым сравнивает свое тело царь Езекия во время тяжкой болезни (Ис 38:12), и Скиния – первый ветхозаветный храм, и небесный купол (Иов 36:29), и метафора человеческого тела. В Евангелии тело Господне также называется храмом (ναός). В терминологии апостола Павла «жилище на небесах», уготованное верным, – это страдавшее и воскресшее тело Христово, в которое они должны «облечься» (ср. Гал 3:27). Так в христианстве разрешается вечный вопрос о связи сакрального места, времени, Божественного промысла и череды исторических трагедий.
3. Антропология
3.1. Человеческая природа
а) Наследственность
Идея свободы выбора полагается в Библии одновременно с идеей наследования детьми последствий выбора отцов: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор 30:19). Персональная ответственность человека за его отношение к Богу не ставится под сомнение, на ней завязан вообще весь сюжет всемирной истории начиная с книги Бытия, однако эта ответственность реально функционирует как коллективная, и в процитированном обращении Моисея из книги Второзакония «ты» – это соборное «ты» всего израильского народа. В то же время это, несомненно, «ты» каждого слушателя, а в перспективе и каждого читающего.
Обе идеи продолжали сосуществовать и в эпоху складывания «Александрийского канона». Классический библейский взгляд на наследственность имеет место, например, в такой «эллинистической» по многим формальным признаком книге, как Премудрость Соломона: τέκνα μοιχῶν ἀτέλεστα ἔσται {дети прелюбодеев будут несовершенны} (Прем 3:16). Учитывая, что совершенство, согласно этому же произведению, дается стяжавшему премудрость (ст. 6:15), угроза вполне конкретна и недвусмысленна. В то же время уже тем, что с человека никогда не снимается индивидуальная ответственность, обусловлена невозможность считать кого-либо безнадежным. Так, в более «семитской», опять же по формальным признакам, кн. Премудрости Иисуса сына Сирахова утверждается, что Бог «от начала, сотворив человека, оставил его в руке произволения его... Он предложил тебе огонь и воду: на что хочешь, прострешь руку твою. Пред человеком жизнь и смерть, и что он пожелает, то и дастся ему... Никому не заповедал Он поступать нечестиво и никому не дал позволения грешить» (Сир 15:14–20). Обращенные к отдельному читателю, эти слова вводят ограничение на принцип наследственности: хотя наследование добродетели, как и греха, и последствий поступков, совершенных предками, не отрицается и многократно подтверждается, в то же время автор сознает, что дети праведного могут быть негодными (Сир 16:1). Обратные примеры в Ветхом Завете также хорошо известны: Иеффай был сыном блудницы, Соломон рожден женщиной, ради брака с которой Давид совершил убийство, и т.д. Поэтому принцип наследования никогда не был однозначным в юридическом смысле, но представлял собой механизм распределения тяжести расплаты за грех между поколениями, который действует уже в рассказе о жизни первых людей после грехопадения.
Мысль о распределении последствий греха не имела бы силы для теодицеи, к области которой она, несомненно, принадлежит как один из способов объяснения причин зла, если бы сама не была каким-то образом обоснована с точки зрения Божественного миропорядка. Здесь могли быть представлены обоснования двоякого рода: во-первых, что наследуется кара за грех в силу наследования самого греха, т.е. наказание передается вместе с виной; во-вторых, что наказание перекладывается с виновного на невиновного, потому что невинные страдания и смерть обладают очистительными свойствами. То и другое сложно понять с точки зрения современной антропологии, которая имеет дело с несводимыми друг к другу, взаимно непроницаемыми, а потому неспособными друг за друга отвечать индивидами. Согласно библейскому взгляду на вещи человек во многом, и в том числе содержательно, существует потому, что он чей-то сын1093. Получая дар жизни, он получает вместе с ним и весь тот груз ответственности, которым уже отягощен источник его происхождения.
Септуагинта не предоставляет принципиально новых сведений, по сравнению с еврейским текстом Библии, для исследования развития учения о наследственном грехе в дохристианское время. Но имеет смысл обратить внимание на один стих, обосновывающий необходимость принесения жертв за младенцев, и на те места, где рассматривается роль женщины как источника человеческой жизни.
О жертвоприношении «от [лица] младенца» (ἀπὸ νηπίου) сказано в переводе пророчества Иезекииля (45:20)1094, в котором устанавливается порядок освящения идеального Храма в будущем возрожденном Иерусалиме. Поскольку речь идет об эсхатологических реалиях и все описание представляет собой притчу, можно понять это иносказательно – в том смысле, что младенцы будут очищены от наследственного греха, так же как «неведущие» (ἀγνοοῦντος) – от грехов по неведению. Главное, что здесь имеет место представление о поврежденности человеческой природы с младенчества, которое достаточно прочно засвидетельствовано и ранней иудейской традицией. Наиболее яркий пример такого рода содержится в Авот де-р. Натан, где приведено рассуждение р. Реувена бен Истробилос о злом йецере1095: «Как человеку удалиться от дурного йецера, что внутри него, если первая капля, полагаемая человеком в женщину, приходит от злого йецера? Злой йецер находится у входа в сердце, как сказано: «У дверей грех лежит» [Быт 4:7]. Ребенок (תינוק) лежит в колыбели и кладет свою руку на змею или на скорпиона, и эти жалят его: это дело дурного йецера, что внутри него; он кладет свою руку на уголья и обжигается: это дело дурного йецера, что внутри него, ибо злой йецер властвует над ним. Теперь посмотри на козленка или ягненка: если он видит яму, он отступает назад, потому что скот не имеет злого йецера» (АН. I. XVI).
Злой йецер, отождествляемый с грехом на том основании, что берется как толкование фразы, обращенной к Каину, где назван именно грех (Быт 4:7), имеет три аспекта, важных для развития хамартиологии в том направлении, на котором позднее явится учение о «первородном грехе». Во-первых, он служит источником греховности. Во-вторых, он же служит и расплатой за нее, как показывают примеры, в которых младенец сравнивается с козленком. В этих примерах легко прочитывается отсылка к тексту пророка Исайи: «И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» (Ис 11:8). Исайя пророчествует о последних днях и мессианском царстве, следовательно, р. Реувен считает, что в это обетованное время действие злого йецера должно прекратиться. Наконец, в-третьих, злой йецер понимается как наследуемый от отца к сыну, причем механизм наследования иудейский источник описывает практически так же, как блж. Августин, использующий понятие concupiscentia {вожделение}.
В этой логике прочитывается также высказывание из книги Сираха: «От женщины начало греха, и через нее все мы умираем» (Сир 25:27). С одной стороны, здесь прямое указание на историю грехопадения в раю, которое началось с опрометчивого поступка Евы; с другой стороны, «начало греха» находится в женщине как месте зарождения младенца. Таким образом, высказывания об отчуждении, начиная с материнских ложесн, от Бога грешников, которые «заблудились от чрева» (Пс 57:4), находят здесь основание для вполне доктринального, а не только метафорического прочтения.
Что женщина осмыслялась как ближайшая «причина» греха именно в силу закона наследственности, подтверждается тем, что греческой Библии в целом совершенно чужды тенденции, – которые разовьются у Филона Александрийского под влиянием эллинской мысли, – представления женщины в качестве символического выражения плотского начала. Наоборот, к естественной для еврейского языка женской персонализации Премудрости1096 прибавляются сюжеты о целомудренных женщинах, которые могут рассматриваться как живые воплощения Премудрости: Сусанна, Иудифь, Сарра в книге Товит. Ассоциации с речью мудрецов вызывает молитва царицы Есфирь, наряду с другими прибавлениями в греческой версии одноименной книги. Описание силы женщин, вложенное в уста Зоровавеля во 2-й книге Ездры, при наличии в нем определенных иронических интонаций, в целом не только выдержано в серьезной и уважительной манере, но начинается с указания на всеобщее господство женщины как матери: «Жены родили царя и весь народ, который владеет морем и землею; и от них родились и ими вскормлены насаждающие виноград, из которого делается вино» (2Езд 4:1516). Отсюда делается вывод, что женщина сильнее двух самых могущественных на земле сил – царя и вина. Один является олицетворением порядка, другое – неистовства. Женское начало управляет и тем, и другим. Далее утверждается еще радикальнее, что οὐ δύναται οἱ ἄνθρωποι χωρὶς τῶν γυναικῶν εἶναι {люди не могут быть без жен} (ст. 17).
Речь Зоровавеля о женщине кончается многозначительным молчанием слушателей: «Тогда царь и вельможи взглянули друг на друга, а он начал говорить об истине» (ст. 33). Вводя эту новую категорию (ἀλήθεια), еврейский юноша тем самым резко меняет уровень дискуссии, релятивизируя все предыдущие темы. Объединяющим моментом для всего, о чем говорилось ранее, оказывается несоответствие истине (ἀδικία). «Неправедно вино, неправеден царь, неправедны женщины, несправедливы все сыны человеческие и все дела их таковы, и нет в них истины, и они погибнут в неправде своей» (ст. 37). Таким образом, как сильнейшее начало в мире, женщина оказывается противоположностью истине, однако связано это с ущербностью не женской природы, а самого миропорядка, который не может прийти в соответствие с требованиями Божественного Закона.
В канонических книгах Септуагинта тоже выдерживает невосприимчивость к, условно говоря, влияниям мисогинизма. Так, при переводе места из пророка Малахии, увещевающего мужей не оставлять своих жен под предлогом их малоплодия, из «темного» для изъяснения еврейского текста была произведена такая сентенция: «Она супруга твоя и жена завета твоего. Не другое что сотворил [Бог], но [это] остаток духа его [т.е. Адама]. Вы же говорите: чего еще, кроме потомства, ищет Бог? Но соблюдите [это] духом вашим: жену юности твоей не оставляй» (Мал 2:14–15)1097. Определяется как «остаток духа его» женщина ввиду того, что акт вдыхания духа жизни в человека, согласно книге Бытия, при сотворении жены не повторяется. Это значит, что часть тела Адама, взятая для создания Евы, сама по себе была одушевлена. Поскольку в мужчине и женщине один и тот же дух, Бог ищет от мужа не только его потомства, но и верности. Подчеркивая здесь наличие духовной связи между супругами, пророк призывает мужчину «соблюсти духом своим» эту заповедь.
Знаменитый «мисогинический» фрагмент Екклесиаста (стт. 7:25–29) в греческом переводе расшифрован таким образом, что не возникает сомнений: это рассуждение не о женщине, а о мудрости (חכמה, σοφία) и глупости (סכלות, ἀφροσύνη) которые обе уподобляются женам. Одну из них автор нашел – и окна оказалась хуже смерти1098, тогда как второй не нашел даже в тысячах человек1099.
Из вышеизложенного понятно, что не женская природа как таковая, но аспект наследственности является определяющим для развития ветхозаветной хамартиологии в Септуагинте. Особая роль женщины в греховности человека обусловлена только двумя соображениями: она есть организующий центр человеческого космоса, который весь поражен «неправдой», и она тождественна месту зарождения жизни, где с первым появлением человека его сопровождает испорченность. Во-первых, согласно 2 Езд, из-за женщины сходят с ума и решаются на преступление, а текст Авот де-рабби Натан делает злой йецер началом, руководящим при зачатии (ср. роль «concupiscentia» у Августина). Во-вторых, получив ли соответствующий импульс при зачатии через йецер отца, либо просто всеобщее Адамово наследство через его семя, юридически отягощенное виной и генетически неисправное, человек «от чрева матери» уже совращаетеся с правильного пути, т.е. нарушает Завет с Богом. Здесь можно вспомнить и уже приводившиеся по другому поводу процитированные бдж. Иеронимом слова Бар-Акивы о «внутреннем человеке», пробуждающемся только в том возрасте, когда начинает исполнять Закон, и «внешнем человеке», который рождается «из чрева своей матери».
Поскольку грех есть именно нарушение Завета с Богом, преодолеть его последствия – значило бы стать новым человеком, способным вновь заключить расторгнутый Завет. Здесь коренится понимание смысла страданий, всегда имеющих обновляющую силу. Однако грех против Бога предполагает, в сущности, единственное наказание – проклятие (Втор 27:26)1100. Пределом страданий проклятого или отверженного является смерть; нарушившие Завет с Богом тем самым уже заключили его со смертью (Ис 28:18). Единственный способ спастись отсюда – просто получить прощение, как будто никакого греха вовсе не было. Но в таком случае оценка греха начисто лишается смысла; если человек может быть прощен просто так, будто ничего и не было, то прежде всего он не должен быть осуждаем. В противном случае возможность бесконечного повторения одной и той же ситуации создает комический эффект, прямо противоположный абсолютному требованию возвышенного в отношениях с Богом. Отсюда рождается идея невинного страдания как жертвы, которая сохраняет в силе однозначную оценку греха, в то же время будучи не просто «выкупом» в значении «платы», но искуплением в том исконном смысле, которое предполагает еврейское слово גאל – выкуп собственности умершего по родственному праву. С моральной точки зрения, эта идея лежит в основе любого жертвоприношения1101. Убивая животное за свою вину, человек понимает, что акт, который осуществляется им, по справедливости должен был совершиться над ним. Когда искупительной жертвой вместо животного становится человек, в жертвоприношение вносится аспект интерсубъективности, благодаря которому виновный может приобщиться к страданиям жертвы, переживая их именно как невинные. Тем самым осуществляются оценка греха, прощение и очищение совести через посильное для человека, поскольку сострадание представляет собой «то же самое» страдание, но без невыносимости, которая доступна только непосредственно страдающему.
Невинный страдалец делается представителем виновных перед Богом, именно в его лице они перерождаются и фактически с этих пор уже не существуют без него, потому что их отдельное существование было грехом. Следующий вопрос, который должен здесь возникнуть, есть вопрос о природе самого невинного страдальца. В Ветхом Завете он решается таким образом: страдалец, делающийся искупительной жертвой, невинен именно в том, в чем виновны те, представителем которых он является. Сама по себе такая жертва является здесь еще скорее метафорой, чем реальной заменой установленного религиозного культа с жертвоприношениями животных, которые всецело невинны, но смерть которых не имеет интерсубъективного измерения и не очищает совесть. Мотив жертвоприношения, таким образом, разделяется на две линии: одна из них принадлежит невинной и неразумной смерти, а другая невинному и разумному страданию. Только в 53-й главе книги пророка Исайи они воссоединяются, но ее мы рассмотрим в своем месте. Теперь для нас важно увидеть, как в Септуагинте раскрывается искупительное значение личных страданий, которое в древнейших текстах уже предчувствовалось1102.
Согласно Септуагинте, когда три юноши – Анания, Азария и Мисаил – были брошены в печь царем Навуходоносором за отказ поклониться идолу, один из них посреди огня начал возглашать молитву. Эта молитва, которая без особенных различий содержится в обеих версиях греческого текста, описывает следствия разрушения иерусалимского храмового культа в период Плена:
Дан 3:37–40 LXX
Мы умалены, Господи, паче всех народов, и унижены ныне на всей земле за грехи наши, и нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе и обрести милость Твою. Но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты. Как при всесожжении овнов и тельцов и как при тысячах тучных агнцев, так да будет жертва наша пред Тобою ныне благоугодною Тебе; ибо нет стыда уповающим на Тебя.
Хотя в этой молитве использован мотив метафорического жертвоприношения, хорошо знакомый Ветхому Завету, т.е. жертвоприношения смиренного и сокрушенного сердца (ср. Пс 50:19)1103, которое принимается Богом вместо всесожжения, однако само место произнесения молитвы – пылающая печь, из которой без явного чуда невозможно было бы спастись и в которой юноши, не считая прямое вмешательство Бога непременным следствием своей веры, готовы были умереть (Дан 3:18), – очевидно, является аналогом жертвенника. Разумеется, речь здесь идет не о культовом жертвоприношении по всем правилам, записанным в Законе. Но именно поэтому возникает мотив замещающей жертвы, аналогично Ис 53:10. И если 53-я глава пророка Исайи, как повествующая об историческом лице, впоследствии могла трактоваться еврейскими экзегетами в смысле коллективной жертвы всего народа1104, то здесь, в Септуагинте, мы видим несомненное выражение личностного начала: в предыдущих главах Анания, Азария и Мисаил изображены как праведники, а в этой молитве они приносят от лица народа покаяние в грехах, которые лично не совершали (стт. 28–33). Не личность оказывается метафорой народа, но, скорее, народ реально присутствует в страдающей личности. Замечательно то, что выделение личности не противостоит архаическим коллективным представлениям, а поддерживает их: в силу сопричастности своему народу трое юношей берут на себя его прегрешения и утверждают, что «мы [т.е. наше поколение] сделались стыдом и поношением для рабов Твоих и чтущих Тебя» (ст. 33). Анания, Азария и Мисаил – не герои литературы эллинизма, отличающейся вниманием к судьбе частного человека и его специфическим, вынесенным за пределы всякой общности проблемам. У них нет личной судьбы, которая была бы отлична от судьбы «дома Израилева». Они служат знаком, «знамением» как наказания, так и помилования своего народа. Но в этой роли они выступают как праведники, мученики веры, пророки. Замечательно также, что свой благодарственный гимн после избавления от огня они поют «как бы одними устами» (ст. 51), но главную, условно говоря, «жертвенную формулу» произносит один Азария.
Другое свидетельство восприятия индивидуального страдания как имеющего искупительную силу для многих представляет собой жертвоприношение Иова в эпилоге одноименной книги. Согласно существующему еврейскому тексту Господь был согласен принять жертву друзей Иова, которые «говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов», только если Иов помолится о них:
Иов 42:8 МТ
Итак возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов.
По тексту Септуагинты этот фрагмент имеет два отличия: во-первых, вина друзей Иова состоит не в том, что они неправильно говорили о Боге, а в том, что возводили ложные обвинения на самого Иова; во-вторых, именно Иов должен не только помолиться о них, но и принести за них жертву.
Иов 42:8 LXX
Ныне же возьмите семь тельцов и семь овнов, и идите к рабу Моему, Иову, и он принесет о вас жертву; Иов же, раб Мой, помолится о вас, ø ибо только его лицо Я приму†, и если бы не ради него, то Я погубил бы вас, ибо вы не говорили истины о рабе Моем Иове.
Тем, что именно клевета против Иова является причиной гнева Божия на его друзей, подчеркивается праведность Иова1105. Восприятие праведного страдальца как жертвы, ради которой были прощены его друзья, помимо Септуагинты, подтверждает кумранский таргум на книгу Иова, ст. 42:9, где арамейский комментатор отмечает, что Бог простил грехи друзьям Иова «из-за него» (11QarJob XXXVIII 3). Замечательно также, что при переводе слова עבד (раб, работник) Иов называется в Септуагинте служителем (θεράπων), а не рабом (δοῦλος). Первое слово не обязательно указывает на невольника; при ясном сознании библейским человеком того факта, что человек всегда невольник перед абсолютной волей Бога, оно подчеркивает статус приближенности, как бы особой доверенности1106. Именно как θεράπων выступает Моисей в Септуагинте и в Послании к Евреям1107. Тем самым Иов наделяется как бы священническими, левитскими функциями, хотя переводчику хорошо известно, что герои этой библейской трагедии даже не являются евреями.
Следует обратить внимание также на число животных, которых велено принести в жертву: семь тельцов и семь овнов. За своих собственных семерых сыновей до их гибели Иов ежедневно «возносил всесожжения по числу всех их» и, как прибавляет Септуагинта, еще «одного тельца за грех о душах их» (Иов 1:5). Если установить точное соответствие, хотя для мышления человека библейской эпохи симметрия и не обязательна, то удвоение числа жертвенных животных (четырнадцать против семи) соответствует удвоению богатства Иова после возвращения ему милости Бога (ст. 42:10): жертва является ключом, открывающим новый этап жизни, который завершится уже безмятежной смертью: «И умер Иов в старости, насыщенный днями» (ст. 17). В таком случае тому единственному тельцу, который некогда приносился в жертву вместе с семью другими животными, теперь будет соответствовать сам Иов. Страдание наделяет его правом принести жертву за друзей, которые старше его по возрасту: среди них есть по крайней мере один, «днями превышающий отца» его (ст. 15:10). Возможно, именно эта несопоставимость возрастов – одна из причин, по которым еврейский текст не допускает, что Иов сам принес жертву. Но есть еще более существенная деталь, из-за которой жертвоприношение Иова выглядит нонсенсом: похоже, что он должен был совершить его в состоянии проказы. Так, по крайней мере, следует из контекста стиха: «И было, после того как Господь изрек все эти слова Иову, сказал Господь Елифазу Феманитянину: Ты согрешил и два друга твои, ибо вы не сказали предо Мною ничего истинного, как раб мой Иов. Ныне же возьмите семь тельцов и семь овнов, и идите к рабу моему, Иову, и он принесет о вас жертву» (42:7–8). Хотя далее следует путаная фраза1108, двусмысленность в этом случае не устраняет проблемы, которая встает перед читателем и разрешается единственным образом: речь идет не о жертве по Закону, а о священнодействии, право на которое Иов приобрел своими страданиями.
Идумеянин Иов, который, согласно греческому эпилогу, «восстанет с теми, кого воскресит Господь», своими страданиями разрушает преграду между еврейским народом и народами мира. Евреи страдают, но страдает и он, причем с ним без вины совершается именно то, чем Бог постоянно угрожает евреям за нарушение заповедей; евреи противостоят сатане, но противостоит и он; еврейские пророки ходят иногда по раю возмущения против Бога, как и он; евреи прославляют Бога своим существованием, и он прославляет Его тем же самым; как евреи познают смысл истории, так Иов познает в конце концов смысл своей истории. Мнимая бессмысленность страданий Иова оборачивается его участием в мировом целом: он – предмет удивления всех «сынов Божиих». При этом здесь, возможно, в скрытом виде наличествует известная перекличка имен אדום (Эдом) – אדם (Адам), т.е. в отнесении праведного Иова именно к идумейскому племени как бы зашифрован взгляд на него как на Человека в собственном смысле, на его трагедию – как на всечеловеческую трагедию.
Мы усматриваем развитие этой темы в корпусе литературы Премудрости, бóльшая часть которого принадлежит так называемому «Александрийскому канону»; подготавливается выход еврейской истории из своих пределов, исчезновение ее очертаний, возвращение к общечеловеческим истокам, иными словами – переход от Авраама к Адаму. Отношение Бога к миру через Премудрость понимается как отношение заботы, промысла: «Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния. Ты любишь все существующее (τὰ ὄντα πὰντα), и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел. И как могло бы пребывать что-либо, если бы Ты не восхотел? Или как сохранилось бы то, что не было призвано Тобою?» (Прем 11:24–27) Наряду с этим наличествует глубокий пессимизм, когда описывается праведник, который «объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа» (Прем 2:13). Такой человек, ставший живым воплощением Премудрости, непременно должен быть убит и взят «от среды», поскольку его присутствие изобличает грехи живущих. Напряжение пессимизма разрешается только в перспективе вечной жизни: «Праведник, умирая, осудит живых нечестивых... ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь... поставил его в безопасность» (Прем 4:16–17).
Если Филон Александрийский и Иосиф Флавий создают в своих произведениях образ народа-философа, к которому могут присоединиться и философы из других народов, а для этого производятся натяжки в аллегорической или этической рационализации Синайского законодательства, то Септуагинте чужды элитистские тенденции вообще и нарочитая рационализация в частности. Она выходит на общечеловеческую проблематику с другой стороны: человек есть возлюбленное творение Божие, и потому Премудрость, как забота о мире, порождаемая любовью, в эсхатологической перспективе охватывает все человечество. Апостол Павел дополнит эту интуицию своим учением о смысле исторического разделения человечества на две неравные части: «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим 11:32). Встреча Иудея и Еллина – это встреча, причем с обеих сторон, «чудес» и «мудрости», волюнтаризма и рационализма, из которых ни одно не может спастись без другого, и быть вместе они не могут без Христа.
Тыква Ионы
Эту в высшей степени характерную для древнегреческого перевода Библии открытость всему человеческому роду демонстрирует, по нашему мнению, даже «тыква», выросшая у пророка Ионы. По-еврейски растение, укрывшее Иону от палящего зноя, называется קקיון, что интерпретируется современными филологами как ricinus communis, т.е. клещевина – высокий кустарник, дающий обильную тень. Переводчик, однако, передал это по-гречески словом κολοκύνθη {тыква}1109. Может быть, ему не было известно точное значение слова, употребляемого из всех библейских произведений только здесь; но даже это произвольное предположение само по себе не объясняет сделанного им выбора.
Попытаться разгадать смысл этой «тыквы» – значит исследовать смысл произведения в целом. Оно посвящено сложным отношениям между Богом и Его пророком. По ходу рассказа выясняется причина бегства Ионы в Фарсис: «Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии» (Иона 4:2). Иона, таким образом, не равнодушен к Ниневии – он активно желает ее погибели. Но Ниневия, притеснявшая его народ и прославлявшая своих идолов, прощена. Почему же пророк не уходит восвояси, а садится напротив города в тени, «чтобы увидеть, что будет с городом»? Здесь нет никакого противоречия, если учесть, что Иона знает своего Бога как любящего, а не правосудного. Его слова: «возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить» (ст. 3), – не что иное, как шантаж любимого. Полученный ответ – «неужели это огорчило тебя так сильно?» (ст. 4) – ободряет его. Сев напротив города, Иона не просто проявляет непослушание: он, подобно ребенку, пытается как бы управлять чувствами своего Бога, давая понять, что он скорее умрет здесь от жажды, чем уйдет обратно, не увидев Ниневию разрушенной.
Дальше происходит следующее: показывая намерение надолго расположиться перед городом, Иона сооружает себе кущу, очевидно, из сухих веток. Взамен Господь повелевает живому, свежему растению вырасти над ним и дать ему тень. Пророк воспринимает это как ободрение, жест любви, «чтобы избавить его от огорчения его», и ждет уже окончательного исполнения своего желания. Но на другой день растение засыхает: «При появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» (стт. 8–11).
Удовлетворительно понять смысл этой концовки можно только с точки зрения сказанного выше о «детском» характере поведения Ионы. Заставляя Бога сострадать себе, пророк ставит Его на свое место, думая, что будет предпочтен языческому городу. В свою очередь, Господь по-родительски совершает воспитательный акт, заставляя Иону, наоборот, встать на Свое место: ведь Ниневия поставлена в параллель растению, которое дало Ионе свежую тень вместо тени от сухой кущи. То, что это растение подточил червь, – явный аналог змея, – как нельзя лучше характеризует судьбу человечества в целом, без изъятия из нее народа Божьего.
Бог уничтожает логику шантажа, призывая пророка как бы сострадать Себе: «ты сожалеешь... Мне ли не пожалеть?..» Представим теперь, что рядом с Ионой выросла не клещевина, как считают современные комментаторы, а именно тыква, как переведено в Септуагинте. Название κολοκύνθη в античности касалось одновременно двух рядов значений: оно указывало и на растение, способное быстро разрастаться до внушительных размеров, и на съедобный сочный плод. Исходя из этого, Иона имел основания вслед за быстрым ростом дерева ожидать быстрого появления плода, которым он мог бы утолить сразу и голод, и жажду1110. Однако его надежда была ниспровергнута червем. Если, как мы выяснили, по принципу перекрестного сострадания Иона ставит себя на место Бога и относится к своей тыкве так же, как Бог относится к Ниневии, то смысл притчи, заключенной переводчиками в слове κολοκύνθη, становится очевиден: Бог ждал от Ниневии, «города великого», не только роста, но и плодоношения. Тем самым Ниневия уподобляется Иерусалиму как «винограду избранному», а ревность Ионы к язычникам приобретает законченный характер. Сама идея, что язычники могут принести свой плод Богу, трактуется в рамках Ветхого Завета только в эсхатологической перспективе и, несомненно, перекликается с уже цитировавшимся пассажем из Премудрости Соломона о призванности Богом всего сотворенного.
Если бы она была отдельно стоящей, эта «тыква» пророка Ионы могла бы быть сочтена случайностью, пригодной лишь для увлеченного толкователя. Однако есть еще несколько пассажей, которые подтверждают сказанное. В одном из них возвещается, что народам будет возвращен их «родовой язык»:
Тогда возвращу в народах язык к роду его (γλῶσοαν εἰς γενεὰν αὐτῆς), чтобы призывать всем имя Господне, чтобы работать им под игом единым (Соф 3:9).
Поскольку «родами» языков называлось их разнообразие, отсылка к вавилонскому столпотворению здесь представляется очевидной, как и то, что в эсхатологической перспективе пророк предвидит устранение последствий этого события. В МТ отражены подобные чаяния, но выражаются они с несколько иной спецификой: речь идет о возвращении народам «уст чистых» (ברורה שפה), т.е. о нравственном очищении1111. Между тем греческий текст клонится к тому, что все народы вновь станут «одним языком», как во времена, предшествующие выходу Авраама из Междуречья. В связи с этим примечательно также описание причины путешествия в Иерусалим царицы Савской по версии Септуагинты: она «услышала имя Соломона и имя Господа» (3Цар 10:1). В еврейском тексте сказано иначе: «услышала слух о Соломоне во имя Господне»1112. Здесь может подразумеваться как то, что слух о Соломоне способствовал прославлению имени Господа, – и тогда смысл греческого текста довольно близок, – так и то, что это благодаря имени Господа, призываемому в Храме, к мудрому царю приезжали гости из дальних стран. В последнем случае религиозный мотив путешествия может быть потерян; между тем в Септуагинте он выражен совершенно недвусмысленно. Вероятно, перед глазами переводчика был не в точности тот же оригинал, который читается в МТ. Но важнее другое: он не усомнился в том, что царица Савская услышала Божественное имя, записанное тетраграмой יהוה. Возможно, память о публичном его произнесении в Храме, – который задумывался Соломоном как место молитвы даже для «иноплеменника, который не от народа Твоего, Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени Твоего великого» (2Пар 6:32), – еще была свежа, или же «услышать имя» понято здесь вполне эвфемистически; существенно то, что обращение к Богу Израилеву рассматривается не как часть еврейской идентичности, а как общечеловеческое и связанное с влечением к мудрости.
Но, бесспорно, самый яркий фрагмент представляет собой окончание песни Моисея в книге Второзакония:
Возвеселитесь, небеса, вместе с Ним,
И да поклонятся Ему все сыны Божий;
Возвеселитесь, племена, с народом Его,
И да укрепятся Им все ангелы Божий:
Ибо за кровь сынов Своих воздает,
и воздаст, и отмстит по правде врагам,
и ненавидящим отомстит,
и очистит Господь землю народа Своего.
В Синодальном переводе также имеется фраза «возвеселитесь, язычники, с народом Его», но еврейский текст удобнее понять несколько иначе: «Народы – прославьте Его народ!»1113 (РБО) Далее сразу следуют слова: «Ибо Он отмстит за кровь рабов Своих»; начало периода в МТ отсутствует1114. При сравнении с кумранской и масоретской версиями, греческая представляется наиболее осознанной. Она, прежде всего, представляет собой отклик на ст. 32:8: «Когда разделял Всевышний уделы племенам... поставил пределы народов по числу сынов Божиих»1115. Теперь, значит, Моисей призывает и этих сынов, и эти народы к общей радости. Но кто имеется в виду под «сынами»? Обычно их отождествляют с ангелами1116, а то и богами народов, – последнее в данном случае было бы вопиющим противоречием всему тому, что требовал от своих последователей Моисей, однако весьма вероятно, что в оригинале речь шла о главах поколений человеческого рода, т.е. о родоначальниках, которым историческое сознание всегда и приписывает первое освоение национальной территории.
Сыны Божий в первоначальном смысле – это те, которые наследуют землю1117. Вполне понятно, что для Израиля, выделенного на каком-то этапе из прочих народов как «удел Господа», была приготовлена «ничья» земля, ранее принадлежавшая Ханаану – проклятому потомку Хама, семя которого утратило право на обладание землей через ее осквернение грехом. Такова логика истории в Ветхом Завете от Пятикнижия до Премудрости Соломона. Рассматриваемый же нами фрагмент, помимо явного поэтического параллелизма, имеет еще такую логическую схему:
небеса
сыны
племена
ангелы
кровь сынов
месть
месть
очищение
В тексте разъяснен ветхозаветный смысл мести: она представляет собой очищение земли. В остальном же как на небе Богом приняты в общее ликование ангелы, так на земле – сыны вместе со всеми племенами. Причем весьма существенно, что «народ Его» занимает на земле такое же положение среди племен, какое Бог на небе среди ангелов, – это является для них источником радости.
б) Смерть и бессмертие
Танатология представляет собой один из наиболее проблемных разделов историко-религиозной интерпретации Библии. О бытии после смерти Пятикнижие, исторические писания и пророки говорят мало и темно. Встречаются отдельные высказывания, которые можно понять в положительном или отрицательном смысле, некоторые другие допускают неоднозначные интерпретации.
Молчание основополагающих текстов побуждает обратиться к засвидетельствованной в каноне религиозной практике. Так, забота евреев о костях умерших позволяет предположить, что с древнейших времен существовало не только представление о жизни за гробом, но и о воскресении1118. В греческом переводе Иеремии выбрасывание костей из могил однозначно ассоциируется со смертью и лишением жизни (Иер 8:1–3)1119. Хасмонейское время уже знало и жертвоприношение за умерших. Во 2-й книге Маккавеев засвидетельствован, видимо, первый прецедент подобной практики, поданный Иудой Маккавеем после битвы, в которой погибли воины, на чьих телах впоследствии были найдены языческие амулеты: «Сделав сбор по числу мужей до двух тысяч драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении; ибо, если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда, – какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешатся от греха» (2 Макк 12:43–45).
Для понимания подлинного значения этого фрагмента имеет смысл обратить внимание, за что именно автор хвалит полководца: не за веру в воскресение, а за мысль о соответствии благочестивой кончине «превосходной награды» после смерти, откуда следует вывод об утрате такой награды по причине совершенного перед смертью греха. Иуда считал, что должен позаботиться о павших воинах, которые согрешили непосредственно перед смертью. Заботу он проявляет в полном согласии с принципом Иерусалимского храмового культа, т.е. искупает грех закланием жертвенных животных, с той разницей от привычных и зафиксированных в Писании норм, что здесь плата вносится не живым человеком за самого себя, а как бы от лица умершего. Таким образом, вера в воскресение мертвых и праведный суд, подобная той, что выражена в книге Даниила, намного старше этого деяния Иуды и не рассматривается сама по себе как нечто новое и требующее обоснования.
Однако, вообще говоря, термин «бессмертие» для контекста библейской мысли в высшей степени несвойственен и встречается только в одном довольно сомнительном фрагменте канонической книги на еврейском языке1120. В неканонических книгах он появляется, но тоже как бы не в собственном смысле. Например, при характеристике юношей-мучеников: «Они все, как бы соревнуясь на пути бессмертия (ἀθανασίας), устремились к болезненной смерти» (4 Макк 14:5). Нигде не утверждается прямо, что душа бессмертна – потому, очевидно, что «жизнь» прочно ассоциируется с жизнью тела, а при смерти «возвратится дух к Богу, Который дал его» (Екк 12:7, ср. Сир 28:23). Специального слова, аналогичного славянскому «воскресение»1121, в еврейском языке также не было. С определенного момента в этом смысле стал интерпретироваться глагол «вставать» (קם), однако более древним было, вероятно, употребление понятий, связанных с прорастанием, прозябанием растений, что имеет аналоги в других ближневосточных культурах1122. Проблема смерти начинает обсуждаться в еврейской литературе Премудрости, но тут мы вместо ответа на недоумения, связанные с молчанием текстов менее рефлексивного характера, находим парадоксальную особенность: отношение таких книг, как Иов и Екклесиаст, к смерти амбивалентно. Круговое движение мысли в этих книгах иногда принимают за выражение скептицизма1123, однако, как будет показано далее на примере Премудрости Сираха, оно сохраняется и в тех произведениях корпуса, где явно наличествуют положительные воззрения. Септуагинта представляет интерес и для уточнения других из названных выше вопросов.
ΑΔΗΣ
Систематическая передача еврейского слова שאול {Шеол, пропасть} греческим ᾃδης {Аид, ад} указывает на определенную интерпретацию: Шеол в эпоху Семидесяти, вероятно, понимался как царство теней. Действительно, если пытаться представить себе это место, где нет никакой деятельности1124, допускающим все-таки наличие каких-то форм человеческого бытия1125, то древнегреческий Аид, каким он описан в «Одиссее», при посещении Улиссом тени Ахилла, будет наилучшим примером по сравнению с другими, либо менее хорошо известными, либо значительно менее сходными представлениями о посмертной участи человека в мировой культуре1126. С воззрениями народов Междуречья и Ханаана израильскую антропологию сближает почитание предков, хотя его культовый характер в древнем Израиле, который некоторые исследователи предполагают на основании весьма ограниченного круга текстов1127, как несовместимый с Синайским откровением, к собственно библейской религии в любом случае не относится. Вероятно, символами умерших предков были терафимы, похищенные Рахилью у ее отца Лавана (Быт 31:19), и в таком случае этот поступок имеет, по замыслу священного текста, определенное символическое значение, обеспечивая новому народу преемственность с отделившим его человечеством1128. Сохранившиеся в Септуагинте выражения вроде θεοὺς οὐ κακολογήσεις {богов не злословь} (Исх 22:27, ср. Пс 81:1) свидетельствуют если не о почитании умерших, то, во всяком случае, об особой роли, которая отводилась главам родов и поколений, а также о связи самого еврейского слова бог (אל) с идеей родового начала, – связи, которая неожиданно и как бы с другого конца будет актуализирована апостолом Павлом во время проповеди в Афинском ареопаге (Деян 17:28). Сюда же относится многократно засвидетельствованная, начиная с книги Бытия (50:25), забота о костях умерших: библейскому человеку важно не просто умереть, а «приложиться к отцам своим» или «к народу своему», т.е. по смерти вновь обрести свое родовое начало, утраченное на земле вследствие «отрезанности от основы» (Ис 38:12, ср. Пс 88:6 МТ; Наум 2:2) и других состояний, под которыми метафорически подразумевается смерть.
Погребение, судя по всему, имело самостоятельное значение наряду со смертью. Так, раскаявшийся в своем языческом нечестии царь Манассия «почил с отцами своими», но погребен был в саду при доме (4Цар 21:18). Само разделение этих топосов наводит на мысль о том, что слово «почить» в еврейском тексте имело несколько более идеальное значение, чем то, которым наделяется обычно физическая смерть. Можно «почить с отцами своими» (ישכב עם אבתיו), но не лечь с ними в одну могилу. Подобно Манассии, благочестивый царь Озия тоже «почил с отцами», даже «был похоронен с отцами его» (יקברו אתו עם אבתיו), однако фактически лег все-таки не с ними в гробницу, а «на поле царских гробниц», потому что был прокаженным (2Пар 26:23). Невозможность для костей больного проказой (которая в случае Озии воспринималась как явный признак Божьего гнева за злоупотребления второй половины его царствования) лечь с костями других покойников указывает на то, что сохранение костей не было просто преданием земле, но имело значение именно пребывания останков человека в течение неопределенного времени в могиле. В книге пророка Варуха состояние костей покойника увязывается со способом его смерти, как общая характеристика посмертной участи: «Ты исполнил слова Твои, которые говорил чрез рабов Твоих, пророков, что вынесены будут кости царей наших и кости отцов наших из места своего. И вот, они выброшены на дневной зной и ночной холод, а умерли они от злых болезней, от голода, от меча и изгнания» (Вар 2:24–25). Человек, сбившийся с пути справедливости, согласно греческой версии, «водворится» среди тех, которые первыми подали миру пример нечестия (ср. Быт 6:4–5) – ἐν συναγωγῇ γιγάντων {в собрании исполинов} (Притч 21:16)1129. Поскольку исполины считались находящимися под водой вследствие их истребления потопом (Иов 26:5), отсюда также можно заключить о некоей доле идеальности в трактовке посмертного «местопребывания».
Ад, как уже было показано, есть место безжизненности. Общее мнение в книгах Екклесиаста и Сираха – человек не должен быть скупым по отношению к себе, поскольку ад отнимет у него все утешения: «Не лишай себя доброго дня, и часть доброго желания да не пройдет мимо тебя. Не другим ли оставишь ты стяжания твои и плоды усилий твоих для раздела по жребию? Давай и принимай, и утешай душу твою, ибо в аде нельзя найти утех» (Сир 14:14–17). Но уже здесь заметна двойственность, о которой подробнее будет говориться ниже. Первый призыв – «давай» (δός) а не «принимай» (ср. Екк 11:1–2). Человек призывается быть первым при участии в жизненном обмене, а это наводит на мысль о том, что смерть и жизнь также обмениваются друг на друга. Все спускаются в ад, но все ли останутся в нем навсегда? В книге Товита недвусмысленно утверждается, что «милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму» (Тов 4:10). Упоминается также, в качестве примера из прошлого, что «Ахиахар спасен», а Аман «сошел во тьму» (Тов 14:10). В книге Сираха смерть названа судом, который никого не минует (Сир 28:22), а «пламень огненный» (φλὸξ πυρός) и «пропасть адова» (βόθρος ᾅδου) представляются наказаниями, постигающими грешников «в конце пути» (ἐπ᾽ ἐσχάτῳ αὐτῆς), т.е., очевидно, после смерти. Моральное зло считается здесь порождающим наказание из самого себя, ведущим к нему посредством своего собственного преуспеяния: «Сборище беззаконных – куча пакли, и конец их – пламень огненный. Путь грешников вымощен камнями, но на конце его – пропасть ада» (Сир 21:10–11). Соотнесение двух указанных видов наказания с «вечным огнем» и «тартаром» христианской эсхатологии напрашивается само собой.
Все это заслуживает внимания именно ввиду того, что ад описывается в Ветхом Завете как общая участь, которой избежать нельзя и которой каждый сподобляется в свое время. В греч. прибавлениях к Есфири враги угрожают евреям с горечью свести их в ад: μιᾷ βιαίως εἰς τὸν ᾅδην κατελθόντες, Есф. 3:13g. Даже в Маккавейской книге благочестивые иудеи перед истреблением, на которое их обрек царь Птолемей, «стоят при вратах ада» (πρὸς πύλαις ᾅδου, 3Мак 5:36). Неизбежность состояния безжизненности делает актуальным совет – успеть оказать благодеяние себе самому. «Сын мой! по состоянию твоему делай добро себе и приношения Господу достойно приноси. Помни, что смерть немедлит, и завет ада не открыт тебе: прежде, нежели умрешь, делай добро другу, и по силе твоей простирай твою руку и давай ему» (Сир 14:11–13). Процитированный текст имеет непростую структуру, которая требует анализа. Можно заметить смысловой параллелизм: делать добро себе / делать добро другу; приносить жертвы Господу / бескорыстно давать человеку. Формула καθὼς ἐὰν ἔχῃς {по состоянию; букв.: поскольку имеешь} вводит призыв не скупиться на «добро себе», но тратиться при всякой возможности. Понять это вразумительно можно в двух вариантах: либо речь идет о средствах развлечения, приобретение которых потребует сокращения хозяйственных трат и ограничения наследства, приготовляемого человеком для своих потомков; либо подразумевается будущая жизнь. Контект поддерживает вторую версию. Так как параллелизм обычно служит развитию одной и той же темы, т.е. подчиняет свои элементы закону тождества, исходя из структуры фрагмента можно построить цепочку отождествлений: делать добро себе Ò приносить жертвы Ò делать добро ближнему Ò оказывать милость. Понятно, что эти тождества не абсолютны, а сугубо контекстуальны, так как, в частности, Сирах не отрицает необходимости храмовых жертвоприношений как самодостаточных актов (ср. стт. 7:33–34). Но он, во-первых, фактически приравнивает к ним проявления милосердия, а во-вторых, то и другое считает важным в связи с приближением смерти. Смысл оказывается тем же, что и в сентенции о милостыне из книги Товита. При этом отношения человека с адом описываются в терминах «завета» (διαθήκη ᾅδου), т.е. человек как бы «завещан» аду и в свое время, для него самого неизвестное, должен быть ему отдан. Благочестие противополагается этой неизбежности, что наводит на мысль о другом «завете» – с Богом, Который, согласно одному из псалмов, «не оставит душу» Своего служителя «во аде» и не даст «преподобному Своему видеть тление» (Пс 15:10). На то, что из ада есть выход, косвенно указывает восхваление пророка Илии, который воскресил умершего ребенка: «Ты воздвиг мертвого от смерти и из ада словом Всевышнего» (Сир 48:5). Важно, что названо конкретное орудие воскрешения – «слово Всевышнего» (λόγος ὑψίστου), т.е. слово, которым был сотворен мир1130. В молитве автора книги приближение к смерти отождествляется с близостью к аду: «Душа моя близка была к смерти, и жизнь моя была близ ада преисподнего (греч. ᾅδου κάτω), евр. לשאול תחתיות)» (ст. 51:6).
ΘΑΝΑΤΟΣ
Выше мы говорили об амбивалентном отношении библейского человека к смерти. Теперь проиллюстрируем эту особенность конкретными примерами. В книге Екклесиаста смерть представляется последним рубежом человеческого существования; за ним ничего больше не предусмотрено, кроме одного – Божьего суда. В некоторых местах может показаться, что смерть и суд совпадают, что смерть и есть тот суд, на который человек, вне зависимости от того, что он делал, будет приведен «за все это» (Екк 11:9). Однако другие фрагменты такому пониманию противоречат (напр., стт. 3:17, 8:11). Противостоит однозначной трактовке смерти как последнего и всеобщего приговора также общая моральная тематика книги: если Бог являет Свою милость и наказание только в отношении качества или продолжительности жизни, то почему праведные часто бедствуют, и злые благоденствуют многие годы? Теодицея, таким образом, оказывается не просто неудовлетворительной – она здесь отсутствует. Собственно говоря, с опорой на такое прочтение книги Екклисиаста ее и числят среди «скептических» произведений древнего мира. Так же, как и по отношению к Песни песней, включение этой книги в канон часто рассматривают как вынужденное – вследствие популярности. Однако Екклесиаст отнюдь не одинок со своими «скептическими» пассажами на фоне библейской литературы Премудрости. Другие произведения, несомненно проникнутые верой в посмертное воздаяние, в то же время воспроизводят основные черты, присущие структуре и логике книги Еклесиаста.
Эта логика в греческом переводе той же книги описана глаголом κατασκέπτω {осматриваться, обращаться}1131, который напоминает о терминологии школы скептиков1132. Герой книги, не случай-но названный «созывателем» или «собирателем» (ἐκκλησιαστής, קוהלת), – при явной сюжетной апелляции к образу царя Соломона как коллекционера мыслей, вещей, животных и людей1133, а также, может быть, с косвенным указанием на саму смерть как величайшего коллекционера – «дом собрания всех живущих» (Иов 30:23), – в своей мудрости «осматривал кругом» все, что совершается под небом: «Потому что дурное шатание (περισπασμόν πονηρὸν) дал Бог сынам человеческим, чтобы шататься в нем» (Екк 1:13). Последняя фраза в греческом тексте звучит просто как констатация, объясняющая причину, по которой Екклесиаст начал свои поиски; не само искание знания представляется здесь как «злое задание» (רע ענין), а бессмысленность «шатания» человека в круговом движении мира вызывает потребность в поиске истины, результаты которого, впрочем, оказываются тоже безотрадными: прирост мудрости производит прирост знания (πλῆθος γνώσεως)» a прибавляющий знание прибавляет боль (ст. 1:18). В последних словах предчувствуется одно из многочисленных раздвоений этой книги – раздвоение в оценке мудрости. Как уже отмечалось выше, мудрость оживляет; в свою очередь, «от печали бывает смерть» (Сир 28:18); но знание, с которым неразрывно связана мудрость, приносит безвременную печаль.
Екклесиаст ничего не доказывает и не опровергает – он просто переходит «по кругу» от одного высказывания к другому, не расходясь в целом с общебиблейской поэзией жатвы созревших душ: трудись, бойся Бога и умри с миром. Последнее слово остается за утверждением: если даже исключить дидактическое послесловие1134, хотя, на наш взгляд, нет никаких оснований сомневаться в его аутентичности, учитывая дидактизм всего произведения, – они соотносятся как толкование притчи исама притча, – все равно последняя, самая поэтическая часть книги обрамлена словами «помни Создателя твоего» и «дух возвратится к Богу, Который дал его» (Екк 12:1–7). Это итог книги, в которой вопрос о бессмертии как вопрос не ставится и не решается. В чем будет заключаться суд Божий, на который приведется всякое дело, не объясняется. Что значит возвращение духа к Богу – личное бессмертие или отрицание самой возможности такового – не раскрывается1135. Однако невозможно не заметить одной особенности, которая проходит через всю книгу и существенным образом оживляет ее: это сходство самого Екклесиаста с Богом. Кроме и помимо смерти только Бог обладает прерогативой собирать всех. Поэтому образ автора книги тоже двоится: он «созывает» к себе все вещи, подобно смерти, но и подобно Богу, о Котором сказано в другом месте: «Как сохранилось бы то, что не было призвано (κληθέν) Тобою?» (Прем 11:26) Примечательно, что термин экклесия никогда не употреблялся применительно к локальной еврейской общине1136. Но это значит, что Когелет, как Екклесиаст, в глазах своих переводчиков не локальный проповедник – его аудитория всемирна. «Воззывая прошедшее», Бог тоже является Екклесиастом и, возвращая все то, что было, по логике вещей, возвращает и жизнь1137. В греческом переводе книги отождествление автора с Премудростью Божией выглядит стилистически несомненным: сообщается, что он ἐδίδαξε γνῶσιν οὺν τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὖς ἐξιχνιάσεται κόςμιον παραβολῶν {научил знанию человека, и ухо исследует красоту притчей} (Екк 12:9 LXX)1138.
«Круговая» структура, в наиболее чистом виде представленная у Екклесиаста, служит одним из принципов композиции для еще нескольких произведений из корпуса Премудрости.
В книге Иова круг создают речи главного героя и его друзей. У круга есть вход – это сюжетный пролог произведения и выход – это речь Элиу, затем диалог Бога с Иовом и сюжетный финал. И.В. Кирсберг отмечает неинтеллектуальный характер центральной части книги, хотя она и представляет собой классический «разговор мудрецов». Приточная речь льется таким образом, что практически невозможно определить фиксированные точки зрения: слова беседующих пересекаются и перетекают друг в друга. Друзья «не цитируют Иова, а как бы случайно роняют его слова», и такая «укорененная в самой жизни речь представляется мыслью лишь в глазах исследователя, привыкшего иметь дело с сознанием»1139. Сказанное в полной мере относится также к Екклесиасту: полифония таких произведений создается накручиванием нитей жизненной мудрости (а не «мысли» как рассуждения, имеющего начальную и конечную точку) вокруг непересекающихся осей утверждений: «Иов виновен», «Иов невиновен»; «человек умрет», «человек оживет»; «есть справедливое воздаяние», «нет справедливого воздаяния»; «есть польза от мудрости», «нет пользы от мудрости». Здесь мы имеем дело с подобием стихийной созерцательной диалектики, которая не заботится о снятии противоречий, но не потому, что они не осознаются как противоречия, а потому, что все они уже сняты в Боге, – Премудрость Божия, главная смысловая фигура произведений этого корпуса, перекрывает все человеческие рассуждения и высвобождает все практические наблюдения для свободного звучания в области полифонии смыслов.
В книге Премудрости Соломона к эллинизирующей тенденции может быть отнесена полемическая заостренность, нацеленность на «доказательства» и «опровержения», хотя следует отметить и то, что решающее слово здесь оказывается за временем: оно призвано явить праведнику правоту его терпения, а злодеям безумство их преступлений. Так называемый «эсхатологический раздел» книги состоит из перечисления стандартных аргументов отрицательного мнения по поводу личного бессмертия, во многом совпадающих с аналогичными сентенциями Екклесиаста, за которыми следует развертывание положений о неизбежности суда и воздаяния, а также теодицея, осмысляющая страдание и безвременную гибель праведника. Здесь впервые появляется утверждение, в дальнейшем широко употребительное в христианской теодиции: «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть: нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием» (Прем 1:13–16).
В книге Премудрости Иисуса сына Сирахова выделяется проходящая сквозь целый текст антропологическая линия, для которой характерна та же самая оппозиция во взглядах на смерть, обозначенная не столь явно, как в Премудрости Соломона, но в то же время достигающая большей определенности, чем в нарочито беспристрастном слоге Екклесиаста.
Негативное восприятие смерти определяется набором стандартных воззрений.
1. Смерть – прекращение всякой деятельности, в частности духовной. «Кто будет восхвалять Всевышнего в аде, вместо живущих и прославляющих Его?» (Сир 17:24).
2. Мертвый называется «как бы больше не существующим» (ὡς μηδὲ ὄντος), у которого поэтому «пропадает» или, дословно, «погибает исповедание» (ἀπόλλυται ἐξομολόγησις) Господа (ст. 17:25).
3. Смерть – общечеловеческая реальность и неизбежность. «Не бойся смертного приговора: вспомни о предках твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякою плотью. Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? десять ли, сто ли, или тысяча лет, – в аде нет исследования о времени жизни» (стт. 41:5–7).
4. Ограниченность дней жизни человека противопоставляется бесчисленности дней жизни народа (ст. 37:28).
5. Смерть может восприниматься не только как наказание, но и как избавление. «О, смерть! как горько воспоминание о тебе для человека, который спокойно живет в своих владениях, для человека, который ничем не озабочен и во всем счастлив и еще в силах принимать пищу. О, смерть! отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды и потерявшего терпение» (стт. 41:1–4).
6. Смерть – венец жизни, после достижения которого можно подводить итоги. «Прежде смерти не называй никого блаженным; человек познается в детях своих» (ст. 11:28).
Помимо приведенных цитат, есть и другие фрагменты, отражающие те же воззрения. Обратим внимание теперь на высказывания, которые им как будто противоречат, и попытаемся также суммировать их смысл.
1. Смерть не является пределом личных человеческих устремлений: существует и нечто «вечное», чему не суждено погибнуть. «Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение» (ст. 1:13), поэтому представители данной категории людей призываются к вере в скорбных обстоятельствах жизни: «Боящиеся Господа! веруйте Ему, и не погибнет награда ваша. Боящиеся Господа! надейтесь на благое, на радость вечную и милости» (ст.2:9).
2. Смерть не является пределом также для нечестивых. Автор говорит о «гневе в день смерти» (ст. 18:24), а это значит, что в событии смерти нельзя спрятаться от наказания за грех. «Легко для Господа – в день смерти воздать человеку по делам его» (ст. 11:26). Поэтому память о неизбежности смерти не есть то, что могло бы помочь избавиться от страха перед Богом, наоборот: «Припоминай о гневе в день смерти и о времени отмщения, когда Господь отвратит лице Свое» (ст. 18:24).
3. Верующий делает смерть своей целью на пути исполнения заповедей, потому что знает, что именно в этом случае он получит помощь: «Подвизайся за истину до смерти, и Господь Бог поборет за тебя» (ст. 4:32). Долгота жизни не важна (ст. 41:6–7), потому что доброе имя ценнее, чем благоденствие на земле (ст.41:16)1140.
4. Умерший блаженнее глупца (ст. 22:9–11). Это утверждение прямо противоположно сентенции Екклесиаста, по которой «псу живому лучше, нежели мертвому льву» (Екк 9:4).
5. Смерть или жизнь – альтернатива, решение которой зависит от свободного выбора. «Пред человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему» (Сир 15:17).
6. Смерть называется в числе предметов, которые «созданы для отмщения» (ст. 39:36) и «для беззаконных» (ст. 40:9, ср.: 41:13). В последнем случае она ставится в один ряд со всемирным потопом, что характерно также для христианской традиции, где потоп становится прототипом смерти, а по экспликации также таинства крещения. Смертные вещи – сделанные из земли и воды, а также «подарок [т.е. взятка] и несправедливость», которые подлежат истреблению, – в этом своем качестве противопоставляются категории верности (πίοτις) которая «будет стоять вовек» (ст. 40:12). Имеется в виду как верность человека Богу, так и верность Господа Своим обетованиям.
7. Умерший, подобно живым, нуждается в «милости», т.е. в заупокойных ритуалах (ст. 7:36).
На представление о смерти как не абсолютном, а лишь относительном окончании жизни, точнее переходе в другое состояние бытия, которое не называется «жизнью» (например, загробной) и «деятельностью» в силу зауженности самих этих понятий по сравнению с их употреблением в современном языке, а не в силу представления об окончательном уничтожении человека, – указывает и понимание автором Премудрости Сираха некоторых библейских сюжетов. Так, видение царю Саулу тени пророка Самуила, вызванного волшебницей в Аэндоре, он интерпретирует следующим образом: «[Самуил] пророчествовал и по смерти своей, и предсказал царю смерть его, и в пророчестве возвысил из земли голос свой, что беззаконный народ истребится» (ст. 46:23). Еще примечательнее истолкование им событий, связанных со смертью пророка Елисея: «Ничто не одолело его, и по успении его пророчествовало тело его; и при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти дивны были дела его» (стт. 48:14–15; ср. 3Цар 13:14–21). В сущности, все это подразумевает, что Елисея «не одолела» и сама смерть. Эсхатологическим звучанием также наделяется утешение в бездетности: «Лучше один праведник, нежели тысяча грешников, и лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых, ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет» (ст. 16:3–5). Это высказывание выглядело бы абсурдным, как будто бы от «умершего бездетным» сможет «населиться город», если бы мировоззрение автора не вкючало в себя веры в воскресение и вечную жизнь праведных.
Подобный пассаж, подтверждающий нашу интерпретацию, есть и в книге Премудрости Соломона: «Блаженна бесплодная, которая нескверна, ибо не познала ложа в падении; она получит плод при воздаянии святых душ. И скопец, который не сделал рукой беззакония и не помыслил на Господа зла, – дастся ему избранная благодать веры и жребий в Храме Господнем приятнейший» (Прем 3:13–14). Поскольку скопцы не могли даже присутствовать на богослужении, подчеркнуто эсхатологический смысл данного фрагмента вполне очевиден. Причем восходит эта эсхатология к пророку Исайи, который первый делает перспективу вечности утешением для евнухов и язычников: «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: «Господь совсем отделил меня от Своего народа», и да не говорит евнух: «вот я сухое дерево». Ибо Господь так говорит об евнухах: которые хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, – тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится» (Ис 56:3–5). Получение «плода» (καρπόν) бесплодной женщиной (στεῖρα) или девой, почему-либо не выданной замуж, «при воздаянии святых душ» – яркое свидетельство того, что за границей истории полагается новая реальность, которая обладает всеми признаками жизни: в ней есть рост, прибавление, плодоношение.
Как и в книге Екклесиаста, в книге Сираха обладающим выходами смерти (ср. Пс 67:21) оказывается Господь. Рассмотрим следующее рассуждение: «Возвратись ко Всевышнему, и отвратись от неправды, и сильно возненавидь мерзость. Кто будет восхвалять Всевышнего в аде, вместо живущих и прославляющих Его? От мертвого, как от несуществующего, нет прославления: живый и здоровый восхвалит Господа. Как велико милосердие Господа и примирение с обращающимися к Нему! Не может быть всего в человеках, потому что не бессмертен сын человеческий» (Сир 17:23–29). На первый взгляд, оно содержит хотя и взаимно переплетенные, но не связанные друг с другом суждения двух различных порядков: а) Бог принимает обращающихся грешников, 6) человек смертен. Однако эти высказывания можно понять и как логически связанные друг с другом, а также с более широким контекстом произведения. Так, «мерзость», «скверна» (βδέλυγμα) в Ветхом Завете часто связаны с признаками смертности1141. Поэтому слова об аде – не повисающее в воздухе напоминание, а предостережение от греха и его последствий. Следующее за тем утверждение – «живый и здоровый (ζῶν καὶ ὑγιὴς) восхвалит Господа» – претендует на двойной смысл: во-первых, только живой и физически (а также психически) полноценный человек мог войти в собрание молящихся; во-вторых, вспомним о связи категорий «исцеление» и «воскресение». Далее отмечается, что в человеках не может «быть всего» (παντα εἶναι) именно потому, что человек не бессмертен (οὐκ ἀθάνατος). В другой части книги (ст. 43:29) о Боге сказано, что «Он есть всё» (τὸ πᾶν ἐστιν αὐτός). Таким образом, недостаточность человека не позволяет измерить милости Бога, в связи с чем констатация смертности (она возобновляется в гл. 8) остается ситуативной, не приобретает характера общезначимой истины.
Наконец, только в перспективе эсхатологии осмысливаются следующие советы сына Сирахова: «Помни последнее и перестань враждовать; помни истление и смерть и соблюдай заповеди; помни заповеди и не злобствуй на ближнего; помни завет Всевышнего и презирай невежество» (Сир 28:6–8). Почему смерть, истление могут быть стимулом для прекращения вражды? Если только в силу того, что человек, постоянно сознающий свою конечность, меланхолически воздерживается от борьбы за существование; тогда тем более непонятно, как эти размышления должны придать ему силы для соблюдения заповедей, многие из которых сформулированы как положительные предписания, с угрозой прещений самому нарушителю и его потомству. Что такое «последнее» (τὰ ἔσχατα), память о котором прекращает вражду и вообще пресекает всякий грех (ст. 7:29)? Ответом на эти вопросы, по нашему мнению, должен был служить конец приведенного периода: заповеди были даны в связи с Заветом, поэтому сумма всех воспоминаний, избавляющих от зла, есть память о Завете, который был клятвенным обещанием благословения и умножения рода. В текстах пророков предмет Завета уточняется – это эсхатологическое царство Мессии, в котором теряет значение успех, приобретенный народом в исторической жизни, в силу той же причины, по которой забываются все его исторические поражения и катастрофы: новый народ будет произведен для вечной жизни из «остатка» старого (см. подробнее в раздел III. 2.3). Поэтому критерием оценки индивидуальной продуктивности становится здесь אחרית уже не как потомство, а как τὰ ἔσχατα {конец жизни}. Если это подлежит судебному разбору, то речь идет об индивидуальном бессмертии. Поскольку же все, что помещено за пределами опыта земного бытия, остается предметом веры, а следовательно, должно быть часто приводимо на ум, Сирах советует своему читателю «презирать невежество» (ἄγνοιαν), помня о «завете Всевышнего».
Отмеченные нами для литературы Премудрости черты отношения к смерти создают контекст для более полного понимания других произведений из узкого состава канона. Так, объективной двойственности во взглядах на смерть соответствует и субъективная двойственность в отношении к ней. Библейский человек, с одной стороны, боится смерти больше всего другого, с другой стороны, часто презирает ее, а иногда жаждет и просит. Эти различия наличествуют и даже соседствуют в текстах, которые могут считаться нормативными для духовной саморегуляции верующего, поэтому они не должны быть взаимоисключающими, как, например, великодушие и малодушие, смелость и трусость. Их следует интерпретировать в контексте ситуации. Например, после заклания пророков Ваала пророк Илия скрывается от царицы Иезавели, поклявшейся убить его тем же способом. Он уходит в пустыню и там просит себе смерти: «Довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих» (3Цар 19:4). На первый взгляд противоречивый поступок пророка в действительности объясняется исходя из представления о цели человеческой жизни: библейский человек, особенно наделенный пророческим или царским достоинством, существует ради прославления Господа. Если бы Илию убила Иезавель, то доказательство бессилия ложного бога Ваала в заклании его пророков могло бы потерять силу в глазах народа, поэтому он предпочитает уйти в пустыню и там умереть в одиночестве.
Открытость библейской антропологии объективному или внешнему измерению человека никогда не должна недооцениваться. Правда, ведущую роль играет личная верность человека Богу, на идее личной верности строится этос Завета, и в главной молитвенной книге – Псалтири – личная верность составляет едва ли не единственную добродетель, которая никогда не ставится под сомнение. Однако человек есть существо, являющееся одновременно субъектом и объектом, осознающее эту свою двойственность и задающее себе вопросы о предназначении, смысле своего бытия с обеих точек зрения. Бог не просто требует верности от Своего слуги, но являет на нем Свою славу, т.е. усиливает через человека (и, конечно, для человека) знание о Себе, разлитое в мире. Соответственно, ценность человеческой жизни объясняется тем, что «душа его жизнью его благословлена будет: он станет исповедовать Тебя, когда Ты подашь ему благо» (Пс 48:19). Без этой возможности человек мертв. Невидимый во тьме ада, он и сам ничего не видит – в силу отмечавшейся уже особенности библейской гносеологии, согласно которой познание подчинено закону взаимности. Поэтому смерть не только состояние, но и место, «темное», где «посажены» все «мертвецы от века» (Плач 3:6), «земля вечной тьмы, где нет света и где не увидишь жизни смертных» (οὐδὲ ὁρᾶν ζωὴν βροτῶν, Иов 10:22)1142. Вероятно, именно темнота служит непосредственной причиной бездеятельности человека в аду, и этим смерть напоминает ночь (ср. Пс 103:20). В ночи человек спит – так же, как звери спят днем, в чем псалмопевец усматривает особенную премудрость Бога, дающего всем свое время для пропитания (Пс 103:22–23). Поэтому состояние беспробудного сна нормально для смерти, оттого и являющейся «упокоением» (ἀνάπαυσις). Ад – это место вечного сна (ср. Сир 46:22), поэтому именно с кончиной века совершается пробуждение умерших.
Отмеченные антропологические представления проясняют характер восприятия жизни и смерти: жизнь – овнешненное состояние личности, в смерти ее бытие как бы сворачивается, перестает быть явленным, уходит в минимум; жизнь подобна дневной деятельности, смерть – ночному сну; в жизни есть знание, в смерти – память. Следовательно, смерть, застигшая человека в состоянии печали, сетования, плоха, – видимо, потому, что последнее прижизненное состояние покойник уносит с собой в царство теней. Описания погибших, запустелых городов у пророков напоминают кошмарные сны, в преддверии собственной гибели человек нередко встречается с «ужасами». В литературе более позднего времени наблюдается и обратное прочтение связи: «Отвратителен обычай спать не вовремя: сон ведет в Шеол, сновидения приводят к общению с умершими» (Сир. Менандр. 22). Напротив, смерть «исполненного днями» хороша, она имеет признаки удовлетворенности, отсюда – умиротворенный покой, как крепкий и невозмутимый сон.
Связка смерть-сон придает эсхатологические коннотации целому ряду псалмических строф1143. Например: «Я уснул и спал, [но] восстал, потому что Господь заступится за меня» (Пс 3:6). Отчего пробуждение связывается с заступничеством? С одной стороны, в силу иной традиционной связки: дремота-печаль. Дурному расположению духа, согласно библейской антропологии, свойственна сонливость (ср. Сир. Вар. XXXVI. 1). С другой стороны, в этом псалме Сам Бог призывается «восстать» (ст. 8). Бездействие Господа в исполнении Завета представлялось как подобие сна, что видно из упоминания «левитов-будителей» в Маасер Шени. Подобие между Богом и человеком здесь действительно существовало: сон выражал не только уныние, но и бездействие, т.е. состояние, которое свойственно небытию, смерти. Да и смерть человека была связана с бездействием Бога по отношению к нему: «Я вменился с нисходящими в ров, был как человек без помощи, свободный – среди мертвых, как раненые, которые спят в могиле, о которых Ты больше не вспоминаешь, они отринуты рукою Твоею. Положили меня в рове преисподнем, в темноте и тени смертной» (Пс 87:5–7). Соответственно, надписание 21-го псалма «О заступлении утра» (ὑπὲρ τῆς ἀντιλήψεως τῆς ἑωθινῆς) должно быть отнесено к его эсхатологическому содержанию, особенно ввиду конечных стихов: «Насытились и преклонились все могучие на земле; пред Ним припадут все нисходящие в землю, а моя душа живет Ему, и семя мое будет служить Ему» (Пс 21:30)1144. Встреча утра представляется встречей нового века, в который все будет по-другому: «Будут есть убогие и насытятся, восхвалят Господа ищущие Его, поживут сердца их во век века. Опомнятся и обратятся ко Господу все концы земли, поклонятся ему все отечества народов» (стт.27–28). Отсюда уже новозаветная интерпретация того сна, при котором человек «уснул и почил в мире» (ἐν εἰρήνῃ), так как Бог «вселил» его «с надеждой» (ἐπ᾽ εἰρήνῃ), – как ожидания будущего воскресения (Пс 4:9, ср. Пс 15:9–10, Деян 2:26–28).
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Сам термин ἀνάστασις {воскресение} наличествует только в книгах Маккавеев и 3-й Ездры. Так называется «воскресение в жизнь» (2Мак. 7:14), дающее «возобновление жизни навеки» (αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωῆς, ст. 7:9). Его широкое использование в Евангелиях предвосхищается, несомненно, эсхатологическими воззрениями, господствовавшими в среде создания перевода Септуагинты, которые, в свою очередь, имеют еще более древние происхождение. Жизнь и смерть нередко соотносятся в Библии как свет и тьма. Убеждение в том, что Бог «выводит на свет сень смертную» (Иов 12:22), если его не прочитывать как только метафору, выражает мысль о способности Бога животворить без каких-либо предварительных онтологических условий – так, как лучи света прогоняют мрак. В контексте подобных взглядов органично смотрится утверждение, согласно которому, «когда скончается праведный муж, не погибнет надежда, но [только] похвальба нечестивых погибает» (Притч 11:7)1145. Греческий перевод книги Притчей Соломоновых содержит ряд подобных утверждений, которые выстраиваются в определенную систему.
I. Праведник спасается от смерти. Фраза из послания апостола Петра: «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» (1Пет 4:8) – представляет собой цитату из Септуагинты: εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις σώζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; (Притч 11:31). МТ в этом стихе читает: הן צדיק בארץ ישלם אף כי רשע וחוטא {так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику}. Таким образом, в греческой версии смещен акцент в сторону «спасения», а не «воздаяния»1146. То, что это «спасение» может пониматься только в эсхатологической перспективе, представляется очевидным: слова «едва спасается» не соответствуют какой-либо стандартной жизненной ситуации, но указывают на крайность нужды в спасении.
II. Праведник спасается с помощью мудрости: ἐὰν γὰρ εὕρῃς, ἔσται καλὴ ἡ τελευτή σου, καὶ ἐλπίς σε οὐκ ἐγκαταλείψει {если ты обретешь ее, будет добра кончина твоя, и надежда тебя не оставит} (Притч 24:14)1147. Вероятно, именно трудностью обретения мудрости обусловлена нелегкость избавления от смерти, о чем говорилось в предыдущем пункте. У Екклесиаста мудрости усваивается животворящая функция (Екк 7:11–12)1148. Это связано с тем, что мудрость есть собственное свойство Бога; для человека же она не отделенная от прочих сил души рациональная способность, а прикосновенность или присоединенность к Богу как источнику жизни через познание тайны Его замысла о человеке.
III. Праведник спасается и от своего собственного греха: «Умирая, праведник оставил сожаление (μετάμελος), а погибель нечестивых близка и вызывает смех» (Притч 11:3). Первая часть фразы, своеобразие которой объясняется соответствующим пониманием еврейского текста1149, объективно служит переходом от проблематики книги Иова, где смерть рассматривается как избавление от страданий (Иов 3), к утверждению в книге Премудрости Соломона, согласно которому праведник «восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его» (Прем 4:11). Слово μετάμελος означает буквально «перемена ума», поэтому смысл речи клонится к тому, что со смертью праведного его мысли перестают меняться. Отсюда положительное значение смерти.
IV. Контрастность путей праведного и нечестивого постоянно подчеркивается в книгах Премудрости. Псалмы Соломона прямо подводят один из них к вечной погибели, а другой – к воскресению: «Он пал дурным падением, и не встанет: погибель грешника навеки, и он не опомнится, когда посетит [Господь] праведника. Такова участь грешников навеки: боящиеся же Господа восстанут для жизни вечной, и жизнь их во свете Господнем, и уже не угаснет» (Пс Сол 3:10–12).
Почему, однако, в других текстах воскресение так явно не провозглашается? Здесь возможны два варианта ответа: или потому, что в среде возникновения этих текстов идея воскресения была либо совсем неизвестна, либо не пользовалась полным доверием; или же потому, что она была слишком хорошо известна, так что проговаривать ее без особого повода не имело смысла. Принимая первый вариант ответа, мы должны признать, что во многочисленные (в том числе уже приведенные) эсхатологические коннотации учение о воскресении мертвых нами было вчитано, тогда как на самом деле оно появляется сравнительно поздно, ближе к христианскому времени, по большей части в устных и неортодоксальных письменных источниках. Только с усилением влияния фарисеев оно проникает в широкие слои образованных традиционалистов, потесняя более древнюю и удивительно скудную эсхатологию священников-саддукеев1150. Проблема с этим вариантом ответа лежит на поверхности: все фрагменты, истолкованные нами в смысле учений о жизни после смерти, становятся непонятными или с трудом понимаемым. Превратить их в метафоры, как обычно поступают исследователи с видением Иезекииля (Иез 37)1151, – значит создать новую проблему: каким был источник художественного мышления, породившего такую метафору? Аргумент к метафоре, на наш взгляд, успешнее поддерживает как раз второй вариант ответа на исходный вопрос. Вполне известные вещи тогда и проговариваются вновь, когда они делаются символами менее известных вещей. Так, Иезекииль действительно пророчествует и о политическом воскрешении своего народа, но именно потому, что физическое восстание праведников для него не подлежит сомнению. Так же все подобные эпизоды в Псалмах Соломона не новое Откровение, а утешение человека, оказавшегося в специфически новых условиях распада религиозно-государственной общности.
То же самое заметно в источниках раннего христианства: Евангелия специально почти не говорят о всеобщем воскресении (кроме Ин 5:29 все остальные упоминания контекстуальны, а большинство из них включено в полемику с саддукеями), но грозно возвещают всеобщий суд, – реалия, действительно появляющаяся у пророков сравнительно поздно, – уточняя и связывая с явлением Иисуса Христа соответствующие предсказания Даниила (Ин 5:29, Дан 12:2). Значительно чаще упоминается в Евангелиях воскресение самого Иисуса – как из ряда вон выходящее событие. Говорится и о Его способности воскрешать, причем здесь неизвестное определяется через известное: «как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет» (Ин 5:21). В свою очередь Апокалипсис Иоанна вновь проговаривает истину о всеобщем воскресении – так он утешает малоазийские церкви в гонениях, сходных с будущими гонениями антихриста. Очевидно, что для культурно-исторического контекста проповеди Нового Завета учение о воскресении не было новостью. «Что недостоверного вам видится в том, – вопрошал апостол Павел, – что Бог мертвых поднимает (ἐγείρει)»? (Деян 26:8). В Ветхом Завете воскресение мыслилось как пробуждение от сна (Дан 12:2) и как прорастание из земли (Ис 58:11, 66:14)1152. Соответственно, в первом случае смерть ассоциировалась с ночным покоем (Дан 12:13), а во втором случае с увяданием (Пс 102:15). «И процвела плоть моя» (Пс 27:7)1153, – говорит праведник. Сирах желает пророкам, чтобы их кости «процвелиот места их» (Сир 46:15), т.е., очевидно, из мест их погребения или гибели1154. Кости могут быть отягощены грехом1155; в этом случае они, вероятно, не оживут. Вопрос, обращенный к пророку Иезекиилю: «Оживут ли кости сии?» – связан, вероятно, именно с этой перспективой, т.е. Бог спрашивает его не о возможности воскресения как таковой, а о том, сможет ли воскреснуть «весь дом Израилев», скончавшийся на чужбине в наказание за свои преступления. Существенный аргумент в пользу именно такого понимания темы роста костей предоставляет нам одно чтение греческой версии книги Царств, где некий пророк, умирая, просит похоронить себя вместе с ранее умершим праведником: «Погребите меня в этой гробнице, где погребен был человек Божий, с костями его положите меня, чтобы спаслись (ἵνα σωθῶσι) кости мои с костями его» (3Цар 13:31)1156.
Не случайно, по-видимому, прорастающие кости сравниваются именно с травой, хотя для метафоры физической силы можно было бы найти более подходящие эквиваленты. Обычно человек метафорически называется «травой» и «цветом полевым» именно в силу мимолетности своей жизни (Ис 40:6–8 и мн. др.). Вместе с тем в аккадских источниках именно трава представляет собой пищу бессмертия, – ее уносит Гильгамеш из дома своего предка и похищает Этана с неба1157, – видимо, именно в силу того, что на земле трава является как бы элементарной и легко приспосабливающейся, но в то же время и уязвимой формой жизни. В свою очередь отсюда можно понять, что жизнь мыслится как рост, направление (очевидно, к небу), с чем связана художественная метафора воскресения как «прозябания» подобно растениям. Но метафора имела в своей основе бытийную аналогию, так как общим основанием для веры в воскресение из мертвых и для ожидания ежегодного плодоношения земли было представление об избыточной и животворящей силе Бога, проявленность которой в природе – сначала натуралистически, а затем уже и метафорически – воспринималась не только как солнечный свет, нои как вода. На это указывает изречение пророка Исайи, которое мы цитируем по Септуагинте: «Воскреснут (ἀναστήσονται) мертвые, и восстанут (ἐγερθήσονται) те, что в могилах, и возрадуются те, кто в земле (οἱ ἐν τῇ γῆ) ведь роса, которая от Тебя, исцеление (ἴαμα) им, а земля (ἡ δὲ γῆ) нечестивых погибнет» (Ис 26:19)1158.
Обращают на себя внимание следующие особенности греческого извода этого пророчества.
1. Глаголом ἀνίστημι {воскресать} проинтерпретирован глагол חיח {жить}.
2. Отождествлением понятий רפע {прах} и ץרא {земля} через перевод их одним и тем же словом γῆ {земля} толковник отделяет часть покойников, – а именно, «землю нечестивых», – от воскресших.
3. Выражение תרוא לט может быть понято неоднозначно: «роса растений» (Син) или «светоносная роса» (РБО). Ассоциативную связь между ростом растений и лучами света в Библии мы уже отмечали. Толковники говорят здесь о целительных свойствах росы, что ставит данный текст в ряд с другими фрагментами, где рассматривается вопрос об «исцелении» мертвецов.
Автор Премудрости Соломона, выдвигая заведомо ложный тезис от лица «нечестивых», пишет, что «нет исцеления (ἴασις) в кончине человека» (Прем 2:1). Таким образом, смерть понимается как болезнь, однако болезнь особого рода. В той же 16-й главе греческой книги пророка Исайи несколько выше процитированных строк об исцеляющей росе утверждается, что «мертвые не увидят жизни, и даже врачи не воскресят» (Ис 26:14). Слово «врачи» здесь – буквальный перевод еврейского רופאים (рофеим), однако МТ читает здесь רפאים (рефаим), т.е. в иудейском варианте речь идет об исполинах или тенях умерших и вместо «не воскресят» (что звучало бы как בל יקימו) о них утверждается что они «не воскреснут» (בל יקמו). Между тем чтение LXX в этом месте традиционно. Похожий прецедент есть и в переводе Псалтири: «Разве для мертвых Ты творишь чудеса? Или врачи воскресят [их], и будут благодарить Тебя?» (Пс 87:11) Перевод книги Иова подобным образом интерпретирует глагол רפה: «Он изливает бесчестие на князей, а смиренных Он исцелил» (Иов 12:21). Возможно, что рефаимов толковники отождествляют с рофеимами сознательно, в каждом случае понимая под ними не простых «умерших», а могущественных древних «исполинов», которым приписывались магические способности, в том числе цельбы. Неспособность их воскресить кого-либо наглядно демонстрируется тем, что сами они погибли при потопе. Сходные представления о врачебной магии были у вавилонян, которые связывали врачебное искусство с «пробуждением мертвых»1159.
Итак, если приведенные выше примеры рассматривать с точки зрения холистского анализа, то картина получается следующая: немощное искусство древних «врачей», которое обличается в никчемности особенно тем, что сами они давно лежат в местах своего упокоения, противопоставляется (особенно явно в 26-й главе Исайи) естественным целительным свойствам Божьей росы: «Ведь роса, что от Тебя, исцеление им». Роса связывается с жизнью, как уже отмечалось, во многих местах Ветхого Завета. Именно с ней сравнивается благословение на «жизнь до века» (Пс 132:3), а также, по версии масоретов, рождение идеального царя, который «от потока на пути будет пить, и поэтому поднимет голову» (Пс 109:7). Согласно Септуагинте в другом псалме сам идеальный царь сойдет на землю, «как дождь на руно и как капля, росящая на землю» (Пс 71:6). Все эти представления характеризуют ожидание эсхатологической эры, когда Сам Господь «уврачует отпадение их... будет росою для Израиля» (Ос 14:5–6). К этому стоит добавить, что традиционные иудейские молитвы упоминают о силе дождей в славословии о воскресении мертвых (см.: Берахот V. 2).
Наиболее явно, если говорить о своеобразных чтениях древнегреческого перевода Библии, вера в воскресение из мертвых представлена в книге Иова. Свидетельство этого памятника ценно прежде всего тем, что интересующие нас фрагменты хорошо прочитываются в более широком контексте, позволяя предположить наличие разночтений уже в еврейском оригинале. При чем если более достоверным считается более связный текст, то Септуагинта вправе претендовать здесь на историческое первенство. Рассмотрим вначале 14-ю главу, которая представляет собой законченный в смысловом отношении отрывок, воспроизводящий речь самого Иова:
Иов 14 LXX
1Человек, рожденный женою, недолговечен, и гнев пребывает на нем1160; 2или он подобен цветку, который зацвел и опал; он убегает как тень и не стоит на месте. 3Но не его ли Ты сделал предметом рассмотрения1161 и заставил предстать на суд пред Тобою? 4Ибо кто тот, который чист будет от скверны?1162 Никто, если даже один день проживет на земле1163; но и месяцы его исчислены Тобою, срок Ты положил ему, и не преступит [предела]. 6Отступи от него, чтобы он мог передохнуть и счесть свою жизнь благом, как наемник. 7Ведь и дереву есть надежда: если срубят его, зацветет опять, ибо отросток его сохранится; 8если же состарится в земле корень его, или на камне иссякнет ствол его, 9то зацветет [снова] под влиянием воды, даст побеги посаженное вновь. 10А человек умерший отошел, пал, и больше нет его1164. 11Со временем оскудевает море, опустелая река пересыхает: 12человек же, уснув, не встанет, пока не будет небо сошвено1165,ø и не пробудятся [все] от сна своего, † 13О, если бы во аде Ты сохранил меня, скрыл бы меня, пока не пройдет гнев Твой: назначь мне время, когда Ты вспомнишь обо мне. 14Ведь если умрет человек, окончив дни жизни своей, жив будет1166; я потерплю, пока вновь не стану быть1167. 15После этого Ты призовешь меня, и я послушаюсь Тебя; Ты же созданий рук Твоих не отвергни. 16Но Ты исчислил мои деяния, ни один из грехов моих не пройдет мимо Тебя: 17Ты запечатал мои беззакония в мешке, отметил все то, что я преступил невольно. 18øПоистине, и гора расседаясь рассядется, и скала сдвинется с места своего; 19 воды стирают камни, воды покрывают доверха высоты земли: так и ожидание человека Ты губишь.† 20 Отринул его до конца, и он отошел: с изменившимся лицом отпустил его. 21 Много ли сыновей у него, не ведает, мало ли их стало, не знает: 22но телеса его болели, душа его саму себя оплакивала.
Процитированный текст, рассматриваемый как целое, содержит и утверждение, и отрицание веры в воскресение из мертвых, причем они логически согласуются друг с другом в рамках общей композиции. Жалобную речь Иова можно разделить на следующие части.
1. Преамбула (стт. 1–3). В ней Иов ограничивается замечанием, что смертный человек (βροτός) недолговечен и непостоянен. Он объясняет это тем, что человек подлежит гневу Божию. Он также указывает на причину этого: «рожденный женою» (ср. п. II. 3.1. б). Отсюда делается вывод об абсурдности предположения, что Бог может испытывать подобное существо или судиться с ним.
2. Рассуждение о найме и образ дерева (стт. 4–10). Иов просит себе расчета, которым, по всей видимости, является спокойная смерть, упокоение с отцами. Если в МТ концовка фразы עד ירצה כשכיר יומו {доколе не окончит, как наемник, дня своего}, то в LXX на место יום {день} подставляется βίος {жизнь}, – это сознательная интерпретация переводчика, в которой речь идет обудовлетворенности окончанием жизни как срока службы. Указывая на дерево, которое может оправиться даже после самой тяжелой болезни, герой намеком просит себе смерти. «Ответом» на эту просьбу в конце книги будет многочадие исцеленного Иова, символически совпадающее с тем, что было сказано им о сухом дереве в данном фрагменте.
3. Рассуждение о воскресении (стт. 11–12) объясняет, почему смерть в качестве оплаты по найму признана удовлетворительной. В предыдущем стихе вода была упомянута как источник жизни, здесь пересыхающий водоем становится символом оскудевшей жизненной силы. В ст. 19 вода уже однозначно знаменует собой смерть. Вообще водные символы в книге Иова чаще указывают на враждебную человеку стихию (стт. 12:15, 22:11, 26:5 и др.); только «чистые», проточные воды, а также дождь и роса дают жизнь (ст. 8:11, 11:15). В данном случае, возможно, только река есть жизнь, а соленые воды моря указывают на смерть: человек не встанет из могилы, как пересохшее русло реки не наполнится водой; но и смерть оскудеет, подобно морю, когда небо восстановится в своей целости, каким оно было до потопа (ср. ст. 26:8), и умершие восстанут1168.
4. Рассуждение об аде (стт. 13–15). В этой части монолога излагаются традиционные взгляды на Шеол, состоящие в гармонии с верой в воскресение из мертвых: а) это место, где человек «скрыт»; б) место, где человек «забыт»; в) место, где человек «спит»; г) место, пребывание в котором не может считаться «бытием» или «наличием»1169. Из отрывка также следует, что акт воскрешения понимается как окончание гнева, воспоминание и призывание человека, его пакибытие (παλιγγενεσία); воскреснуть – значит отозваться1170. Жизнь (βίος), которая заканчивается смертью, соответствует здесь евр. צבא {служба, сила}, т.е. проводится параллель с темой наемника, представленной в ст. 6.
5. Песнь отчаяния (стт. 16–22). В финальной части речи трагического героя выясняется, что все сказанное выше было исповеданием веры, отражающим только желательное положение дел. На собственном же примере Иов убеждается в ином: Бог обращает внимание на каждый грех, отмеривает преступления, как сельский чиновник зерно, не прощает долгов. Даже если бы человеческое терпение было высоким, как гора, твердым, как скала, то и ему приходит конец. В описании «холмов земли», покрытых водой, очевидны коннотации с рассказом о всемирном потопе. Здесь же автор возвращается к рассуждению о найме: обманутый хозяином в своих ожиданиях, наемник уходит с «изменившимся лицом». Иов не оспаривает онтологию пребывания в Шеоле, не настаивает на полном прекращении восприятия после смерти, – такие вопросы, по-видимому, вообще не входили в поле зрения древнего читателя, ввиду отсутствия умозрительной психологии они были невозможными, – он только выражает неверие в будущее возобновление жизни.
Проведенный анализ композиции требует пересмотра сложившихся взглядов на выражение веры в воскресение в книге Иова Септуагинты, согласно которым «она [вера] представляет собой не ожидание эсхатологического восстановления народа Божия, – коллективный аспект здесь полностью сходит на нет, – а проявляется в ходе решения ключевого для Иова вопроса о человеческих страданиях, об отношениях между Богом и человеком, о Божественном правосудии»1171. Автор процитированного суждения располагает идеи не в том порядке, в каком они действительно появляются и связываются между собою в тексте. Он справедливо замечает, что в книге Иова смещен акцент с коллективного на индивидуальное, причем это касается не собственно греческого перевода, но самого первоначального текста, более того – сюжета, в центр которого поставлен не еврей, что заведомо снижает для древнееврейского читателя коллективную ценность его истории. Можно наблюдать, однако, такое же смещение акцента в целом ряде псалмов, да и вообще нет такого раздела Библии, где примат рода над индивидом был бы выдержан вполне последовательно. Тем не менее в основе рассуждений Иова, как их воспроизводит греческая редакция, лежат обычные древнееврейские представления об аде и о пробуждении мертвых, которое понимается и как восстание по «зову» Господа, и как аналог весеннего пробуждения природы. Эти воззрения, именно в качестве обычных и общепринятых, Иов подвергает глубокому, трагически окрашенному сомнению, основанием для которого является поступок Бога, производящий впечатление вероломного.
Уже отмечалось (в разделе II. 2.2), что ключевой проблемой кн. Иова является самоубийство. Свою завязку диалог мудрецов получает еще до прибытия друзей Иова, в реплике, которую бросает ему жена: «Похули Бога, и умрешь» (Иов 2:9)1172. Сам образ жены для темы настоящего раздела более чем примечателен: она советует Иову покончить с собой, и она же рождает ему новых сыновей и дочерей. Жена символизирует жизнь и смерть, в точном соответствии с общей библейской трактовкой женщины как «Евы» {Оживляющей} (Быт 3:20) и в то же время той, через которую «все мы умираем» (Сир 25:27). Дуализм трактовки сближает образ жены с водной стихией, так что главным противоречием книги становится разлад природного и личностного начал: Иов терпит вопреки всем доводам природы, вопреки очевидности того, что его страдания невыносимы и безнадежны. Вопрос: на чью сторону встанет разум, этот сторонний наблюдатель и резонер? Он и приходит к Иову в лице трех мудрецов, старший из которых «днями превышает отца его» (Иов 15:10). В диалоге с ними разыгрывается самая грандиозная драма Ветхого Завета, с которой по глубинному трагическому накалу может сравниться, по нашему мнению, лишь история Давида и Авессалома: герой ведет свою речь на грани хулы против Бога, только что не переступая эту грань. Мысль Иова в своем движении логически образует полукруг, касающийся той точки, за которой начинается столь желанная ему смерть; мысль его друзей – другой полукруг, отрицающий самооправдание Иова и выдвигаемыми против него ложными подозрениями восстанавливающий равновесие во вселенной: Бог милует праведников, наказывая нечестивых. В итоге логика Иова оказывается более правдивой (ст. 42:7), так как именно ей возможно родить призыв к чистому «терпению Господа» (ср. Пс 26:14).
Итак, в сущности кн. Иова воспроизводит стандартный расклад библейской мысли, хотя делается это под особым углом зрения. Осмысление судьбы человека в категориях завета и найма, трудности, возникающие при таком осмыслении, переход на новый уровень, где испытание и терпение становятся самоценными, наконец, возвращение к идее Божественной справедливости уже на этом новом уровне, – когда она становится воздаянием за чистое терпение, перекрывающее праведность в исполнении религиозного закона, – всем этим человеческая вера как бы «выталкивается» в область учения о бессмертии, потому что иллюстративное земное благополучие последних лет жизни героя, конечно, не считалось общим правилом для всех терпящих праведников, и самое число лет, которое он прожил после своего выздоровления (два раза по 70), является, скорее всего, символическим удвоением «недели» бытия мира, т.е. отзвуком библейского выражения «век века». Ввиду всего сказанного вполне органично выглядит приписка в конце перевода по версии Септуагинты, которая сообщает о родословии героя по некой «Сирийской книге» (Συριακὴ βίβλος), а начинается такими словами: «Написано, что ему надлежит воскреснуть (ἀναστήσεσθαι) с теми, которых воскресит Господь». Где именно это «написано», с точки зрения эсхатологического сознания не так уж важно – по всей вероятности, даже не в упомянутой «Сирийской книге», а у Господа на небесах, в «Книге жизни».
Согласно с круговым алгоритмом движения мысли, уже отмечавшимся нами для книг из корпуса Премудрости, скептическая позиция Иова относительно жизни после смерти также не остается окончательной. В одной из дальнейших глав она опять сменяется верой в спасение, которая придает смысл страданиям праведника:
Иов 19:21–29 LXX
21Помилуйте меня, помилуйте меня, о друга! Ведь рука Господня, она коснулась меня. 22Почто и вы гоните меня, как Господь? Не можете насытиться плотью моей? 23О, если бы написаны были слова мои, запечатлены в книге навек1173, 24на доске железной и оловянной, или на камнях изваяны! 25Но я знаю, что присносущен1174, Кто искупит меня на земле1175, 26 воскресит кожу мою1176, терпящую [все] это: ведь от Господа [все] то мне свершилось1177, 27что я сам знаю в себе1178, что мои очи видели, а не иной: ибо все у меня свершилось внутри1179. 28А если вы скажете: Что будем говорить против него? причину случившегося в нем самом найдем! 29 – то убойтесь и вы меча, ибо ярость падет на беззаконных, и тогда узнают они, где их вещество1180.
Единство и законченность этому отрывку придает хиастически организованный параллелизм, в котором соответствия располагаются следующим образом:
ст. 21: призыв к друзьям; рука Господня,
ст. 29: призыв к друзьям; меч [Господень].
ст. 22: друзья «гонят» Иова.
ст. 28: друзья говорят против Иова.
ст. 23: речь, запечатленная в книге,
ст. 27: знание, находящееся внутри.
ст. 24: письмо по металлу, резьба по камню.
ст. 26: болезнь и воскресение покровов тела.
В центре структуры находится стих 25-й. В нем, как и подобает, речь идет о Боге, Который «присносущен». Так вера в неисчерпаемость Божественной жизни оказывается интегральной для двух родов ожиданий Иова: он хочет, чтобы его слова сохранились на века, и он ждет воскресения своего тела, пораженного проказой. Тем самым вечность «книги», о которой говорится в первой половине речи, переносится на тело Иова, и это более явное свидетельство веры в воскресение, чем сам по себе глагол ἀνίστημι {воскрешать}. Иов находит смысл воскресения в своем свидетельстве об истине, которую он «сам знает в себе... внутри», т.е. он сам – запечатанная книга, и его собственное тело будет вечным материалом для хранения его слов. Поэтому друзья, которые хотят найти причину страданий праведника в нем самом, как бы поедают его тело, уничтожая то писание истины, которым является его слово. Сами они при этом забывают, что состоят из вещества (ὕλη) и будут подвержены в точности тем же испытаниям за свои беззакония. Очевидно, что «беззаконником» (ἄνομος) здесь, как это неоднократно повторяется в разных местах книги, называется всякий человек от рождения до смерти. Человек беззаконен по природе, поскольку не в силах исполнить Закон Божий. Следовательно, судьба Иова есть судьба человека вообще. Исходя из такого смиренного понимания своей судьбы он исповедует, что «все это совершилось» ему «от Господа». Само терпение Иова, таким образом, оказывается процессом записи книги, его прокаженная кожа и огорченная душа уподобляются исписанному отвне и изнутри свитку, и тем осмысляется страдание на данном этапе диалога мудрецов.
Итак, для греческой книги Иова имеет силу замечание Й. Шнокса, согласно которому в истории библейской эсхатологии «Септуагинте принадлежит ключевое место, так как она остается верной еврейскому оригиналу в буквальном переводе даже тех пассажей, где воскресение мертвых прямо отрицается, однако... при переводе трудных пассажей переводчики дают волю собственным представлениям, для которых идея воскресения вполне вероятна»1181. Добавим к этому, что отмеченный ранее на основе множества примеров и параллелей с другими традициями религиозной мысли ближневосточных народов натурализм древнееврейских представлений о воскресении свидетельствует в пользу их древности, не давая повода заподозрить какие-либо эллинистические влияния, связанные с философскими доктринами дуализма. Это придает значительный вес тем чтениям Септуагинты, которые касаются данного вопроса. Таким образом, можно считать результатом развития интенций, уже существовавших с глубокой древности, ту положительную доктрину бессмертия человека, которая, наряду с произведениями сектантского цикла (кнн. Еноха, Юбилеев и др.), появляется в кн. Премудрости Соломона и представляет собой синтез известных положений античной философской космологии с ключевыми данными ветхозаветной теодицеи: «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего (εἰκόνα τῆς ἰδίας ἰδιότητσς)1182 Но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его» (Прем 2:24).
в) Внешний и внутренний человек
Отдельным заслуживающим рассмотрения вопросом является определение места Септуагинты в истории учения о душе как субстанции, которое в Средние века тяготело к психофизическому дуализму (наиболее полно выраженному впоследствии Декартом) не без влияния традиции платоников. Роль платонической аргументации, сыгравшей решающую роль в процессе становления, например, подхода блж. Августина к этому вопросу (ср. его диалог «Против академиков»), однако, в целом не следует преувеличивать. Тем более нельзя экстраполировать особенности данного философского течения, не самого влиятельного в эпоху перевода Септуагинты, на греческую мысль раннего александрийского периода и зависимую от нее культуру в целом.
Платон свои рассуждения о бессмертии начинает не с априоризма, которым они бы характеризовались как в своей основе общепризнанные или общеизвестные, но предпосылает им широкое обоснование общеидеалистического порядка. В его диалогах прежде всего формируется представление об истинном, т.е. божественном мире как умопостигаемом, затем о богах как об умопостигаемых сущностях, наконец, о душе как постигающей этот род бытия и потому – исходя из того, что все реальное познается посредством сродного ему, – самой принадлежащей к разряду существ умопостигаемых, а значит, неразрушимых и вечных1183.
Это учение не было типичным для эллинского мировосприятия и, обладая известной преемственностью с пифагорейской философией, а также с орфической мистикой, больше апеллировало к мудрости Востока, чем к общим понятиям греков. Аристотель, в свою очередь, отрицал вечное бытие души человеческой исходя из своего учения об умопостигаемых предметах, которое отличалось от учения Платона: душа не является бессмертной не потому, что не может быть бессмертного интеллекта (напротив, он как раз существует), а потому, что сама она не является интеллектом, как и универсалии не являются умопостигаемыми сущностями, т.е. идеями. Для стоиков, по крайней мере в римское время, бессмертие души составляло предмет постоянных тяжких раздумий и сомнений. Марк Аврелий впервые, наверное, ставит в связи с этим вопрос о бессмысленности жизни, которая лишена личной бесконечной перспективы, и решает его в своих дневниковых записях только гипотетически.
Итак, рассуждая об эллинистических влияниях в связи с «проникновением» в библейскую веру элементов дуализма, важно удерживать во внимании тот факт, что сама интерпретация, данная сложнейшим философским вопросам и их трактовкам у Платона и последующих мыслителей в иудейской и христианской традициях, имела свои основы вне собственно эллинской культуры мысли.
Ключевым звеном при ретроспективном изучении этого вопроса является учение о человеке апостола Павла, которое содержит, с одной стороны, некоторые признаки дуализма, но, с другой стороны, представляется терминологически, да и по существу независимым от греческого философского контекста. Дуалистические различения апостол проводит главным образом между духом и плотью, а не между душой и телом, и они более корректно могут быть охарактеризованы не с точки зрения дуализма субстанций, а с точки зрения дуализма «помышлений». Иными словами, различение «внутреннего» и «внешнего» человека в посланиях Павла имеет прежде всего психологическую природу, и можно сказать, что «дух» и «плоть» представляют собой в его языке два аспекта «души» – как области, преобразующейся под воздействием процесса мышления. «Ибо живущиепо плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим 8:5–7). Отсюда и повеление предать грешника «сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (1Кор 5:5), может быть истолковано как отлучение от участия в сакраментальной жизни Церкви, чтобы в борьбе с искушениями преступник «износил» свои плотские помышления, утомился от них и ощутил живую потребность в обновлении духовной стороны своей природы.
В Септуагинте различение «внутреннего» и «внешнего» человека также имеет место, причем именно внутренний аспект личности признается существенным: «Глубже всего сердце – вот человек, и кто познает его?» (Иер 17:9)1184. Сокровенное течение мысли, как и сама мудрость, признается животворящим: «Слово в сердце человека – глубокая вода, река ключом бьющая и источник жизни» (Притч 18:4)1185. В целом ряде книг от Иова до 4-й книги Маккавеев эквивалентом евр. לב {сердце} выступает греч. νοῦς {ум}, причем такое словоупотребление, вообще характерное для архаики1186, возводится исследователями к Гомеру1187. Еврейский язык не имел термина, который точно можно было бы перевести как νοῦς. В некоторых грекоязычных текстах Библии «сердце» так и сохраняет ключевое значение в описании внутреннего мира человека, причем здесь уже предвосхищается известный богословский тезис о том, что невыразимость человеческой личности служит отображением непостижимости Бога: «Вам не постигнуть глубины сердца у человека и не понять слов мысли его: как же испытаете вы Бога, сотворившего все это, и познаете ум Его, и поймете мысль Его?» (Иудиф 8:14)1188.
Поводом для рассмотрения души как самостоятельной сущности является несоответствие двух уровней человеческого бытия, вписанное в более широкий контекст основной для библейского человека проблемы несоответствия нормативного и реального, предписанного и совершаемого, – проблемы, которая разрешается в теодицею. Так Иов, желая доказать свою невинность, хотел бы вынуть из себя душу и локализовать ее для рассмотрения: «Раскрою зубами плоть мою, и душу свою положу на ладони. Пусть убьет меня Сильный, как Он и начал уже, но я намерен говорить и оправдываться перед Ним. Это будет мне спасением, потому что лесть не войдет к Нему» (Иов 13:14–16). В том, что Иов открывает покровы плоти, дабы явить непорочность своей души, видится и символический смысл его проказы1189. Такова нравственная сторона представлений, имеющих общие черты с доктриной дуализма.
Другой выход на учение о субстанциальности души связан с идеей эсхатологического спасения: «Мы умрем смертью, и [будем] как вода, пролитая на землю, которая не соберется, и примет Бог душу, думая, отвергать ли от Себя отверженного» (2Цар 14:14)1190. По смыслу греческого чтения, Бог принимает душу с намерением судить ее. Тема отвержения и принятия вновь прослеживается также в других текстах, например: «Ты не отвратил (ἀποστρέψῃς) человека в унижение (εἰς ταπείνωσιν), и сказал: Возвратитесь (ἐπιστρέψατε), сыны человеческие!» (Пс 89:3). Сказано это в контексте рассуждений о краткости человеческой жизни, которая как бы стремится к ничтожеству (ἐξουδενώματα). Поэтому возвращение человечества из «унижения» вызывает ассоциацию с восстанием из того состояния, в котором оно «исчезло от гнева Твоего» (ст. 8). Именно гнев считается здесь причиной смертности:
а) Ибо мы исчезли от гнева Твоего,
б) Смятены яростью Твоей.
б) Ты положил беззакония наши пред Тобой,
в) Век наш – в просвещение лица Твоего,
в) Ибо все дни наши оскудели,
а) И от гнева Твоего мы исчезли.
«Просвещение лица» (מאור פניך, φωτισμὸν τοῦ προσώπου σου) – это, по всей видимости, один взгляд или мигание глаз1191. Таким образом, параллель получается полная: Бог смотрит на человечество, видит его греховность, и потому именно человек существует не дольше, чем Бог на него смотрит, а из-за греховности Он больше уж не захочет его видеть. Разумеется, все это можно было бы отнести не к человеческой природе как таковой, а к еврейскому народу в один из трудных для него исторических периодов, когда сознание собственной греховности становилось в нем особенно острым. Но как бы в предупреждение такого взгляда псалом назван «Молитвой Моисея, человека Божия»1192. Если подразумевается, что Моисей выражает в нем скорбь о том поколении евреев, которое не вошло в землю обетованную, как и он сам, то в целом он апеллирует, безусловно, к состоянию всего человечества. При этом смысл недолговечности человеческой жизни полагается в том, «чтобы пришла на нас кротость, и мы бы научились» (ст. 10)1193. Человеческая жизнь, какая она есть, краткая и болезненная, наделяется смыслом, однако этот смысл – обучение (παιδεία). Познание десницы Божией, т.е. значения Его гнева, есть удел «обученных сердцем в мудрости» (τοὺς πεπαιδευμένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ)1194. Псалмопевец призывает Господа также «обратиться» (ἐπίστρεψον) к человечеству, чтобы утешить рабов своих. Он говорит о том, что Бог утешит их «утром» (τὸπρωΐ ), дав полноту Своей милости, так что «во все дни наши мы возвеселимся – за дни, в которые Ты унизил (exaneivcoaac;) нас, за лета, в которые мы видели злое» (ст. 15). Он просит Бога посмотреть на людей и сделать лице Свое светлым для них, наставить их сыновей, исправить «дела рук наших и дело рук наших» (ст. 17)1195. Для сетований о краткости жизни концовка этой молитвы звучит слишком оптимистично; кроме того, непонятно, в чем будет заключаться та радость бытия, о которой в нем возвещается, если человек продолжит умирать после недолгой и, в общем, бессмысленной жизни. С учетом того, что поколение Моисея умерло в пустыне, эсхатологическое прочтение псалма не вызывает сомнений.
Мысль о зависимости бессмертия от отношения Бога к человеку как единственного фактора имеет параллели в междузаветной литературе, в частности в том положительно выраженном учении о бессмертии, которым характеризуется книга Еноха: «Никто не погибнет пред Господом духов, и никто не может погибнуть» (1 Ен X. 61). Четвертая же книга Маккавеев содержит тезис, практически совпадающий с евангельским аргументом в пользу воскресения: «Богу не умирают, как не умерли праотцы наши Авраам, Исаак и Иаков, но Богу живут» (4 Макк 7:19, Ср. Мф 22:32, Мк 12:27, Лк 20:38). Во всех этих текстах именно Бог выступает в качестве целевой причины бессмертия души, которая сохраняется лишь в силу того, что на нее направлено Его неотступное внимание.
Юнгеров принимал это положение также для еврейского текста Библии, считая его неотъемлемым признаком ветхозаветной антропологии. «Непоколебимая вера Давида в Бога, – писал он, – стояла выше обыкновенных, ежедневных фактов. Не признавая прекращения душевного общения с Богом по смерти, Давид считает невозможным даже разрушение своего тела... В чем убеждался Иов на основании идеи правосудия, в то верует Давид на основании глубокой религиозности... Псалмопевцы не могут думать, что смерть порвала их отношения к Иегове»1196. Септуагинта здесь обогащает наше понимание древнееврейской традиции некоторыми характерными чтениями, явно принадлежащими к тому же типу мышления, но по какой-либо причине стершимися в еврейском тексте. Например, это уже приводившееся прекрасное выражение «а душа моя Ему живет» (ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ, Пс 21:30). Напомним, что сказано это в контексте противопоставления героя псалма тем, которые «спускаются в землю». Не потому жива душа человеческая, что представляет собой нечто самосущее, а потому, что создана Богом для Себя. В отличие от платонизма, где активность в познании усваивается только душе, стремящейся к Благу и потому бессмертной, здесь вопроизводится уже отмечавшееся выше диалектическое отношение взаимного соответствия, описываемого речением апостола Павла «познаю, так как я познан»: душа и может искать Бога потому, что прежде Бог взыскал ее. При этом «намерение спасти», о котором идет речь во 2Цар 14:14 LXX, может относиться только к воскресению из мертвых.
На пересечении веры в реальность посмертного пребывания с перспективой восстания из могил возникает образ Божественной десницы, сохраняющей в своей длани собор умерших, который позднее найдет свое развитие в христианской иконографии: «Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по стеблю» (Прем 3:1–7). Переход через смерть, согласно этому тексту, дает человеку очищение, но таким образом, что выявляется изначальная чистота его природы; аналогия между блеском золота и сверканием искр, бегущих по стеблю, очевидна; между тем образ бегущих искр как символ жизни, а не смерти («во время воздаяния», т.е. после всеобщего суда, «они воссияют»), к тому же связанный с растительной тематикой, указывает именно на воскресение в теле.
Необходимая связь души с телом, которая после смерти проявляется в ожидании будущего воскресения и позволяет охарактеризовать пребывание в царстве теней как заведомо неполноценное бытие, накладывает ограничение на эллинизирующую трактовку библейского дуализма: здесь больше сходства с гомеровским эпосом (и аналогичными сюжетами аккадского и др. ближневосточных эпосов), нежели с развитым идеализмом Платона или стоическими допущениями. В Септуагинте понимание неразрывности связи между внутренним и внешним полностью сохраняется: смерть здесь рассматривается не как освобождение из «темницы» тела, согласно классическому платоновскому сопоставлению οῶμα {тело} и οῆμα {могила, надгробие}, а как «переселение» из шатра (Пс 51:7)1197, который делается опустевшим (Иер 10:20). Душа без тела сиротеет, становится бездомной, и ей волей-неволей приходится снова «вселиться», но теперь уже в могилу (Пс 48:12). Выше мы отмечали важность захоронений для древних евреев. Этим поддерживается предположение о непосредственной связи местопребывания костей с посмертным обиталищем души. Возможно, ветхозаветный ад – это могила как таковая, темное место в земле: пещера, ров, колодец, расщелина и т.п. Отсюда корректным выглядит эсхатологическое понимание фразы: «И плоть моя поселится с упованием (ἐπ᾽ ἐλπίδι), что Ты не оставишь душу мою в аду, и не дашь преподобному Твоему видеть тление. Ты показал мне пути жизни» (Пс 15:9–11)1198. В контексте вышеизложенного «пути жизни» суть выходы из царства теней на «живую землю». Смерть имеет ворота, стены, засовы (Пс 9:14), у нее есть проходы (αἱ διέξοδοι τοῦ θανάτου), которыми владеет Господь (Пс 67:21)1199. Праведники будут наследовать землю и «вселятся» на ней навсегда (Пс 36:27:29).
Возможно, надо представить себе быт кочевников, чтобы понять, как далеки подобные идеи от учений о переходе души из тела в тело, с обретением в каждом случае новой индивидуальности, либо, тем паче, о ее свободном переселении в занебесные сферы. То «жилище», которое, согласно Библии, принадлежит душе, она сохраняет за собой, а не просто гостит в нем. Его разрушение она оплакивает, как бы оставаясь без крова. Его останки она бережет, надеясь восстановить их. Отсюда изначальная двусмысленность фразы «Господь очистит всякого мужа праведного и дом его» (Пс Сол 3:8), – «домом» называется и семья, род, но «домом» также служит человеку его собственное тело (ср. Пс 90:101200, Иер 10:19–20). Типологически «вселению» души в место ее пребывания соответствует «вселение» Бога в храм, о котором сказано, что «Господь вселится до конца» (Пс 67:17). В то же время Господь именуется Сущим как не привязанный по бытию ни к какому конкретному месту или времени. В отличие от Него, человек всегда локализован во времени и пространстве. В соотнесенности с Богом, а связь эта никогда не теряет своей силы, душа оказывается несамодостаточной, ее надежное «вселение» – только у Бога (ср. Пс 22:6).
Душа определяется как ψυχὴ ἐνεργοῦσα {деятельная душа}, она развивается, и в зависимости от уровня ее развития находится ум – отсюда выражение ἀφρονέστατοι... ὑπὲρ ψυχὴν νηπίου {более безумные, чем душа младенца} (Прем 15:11:14). Душа есть орган нравственного сознания, так что человек призывается «верить» собственной душе «во всяком деле», поскольку именно голос души призывает его к соблюдению заповедей (Сир 32:24). В соответствии с этим она отождествляется с другим органом – сердцем: «Держись совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя вернее его; душа человека иногда более скажет, нежели семь наблюдателей, сидящих на высоком месте для наблюдения» (Сир 37:17–18). Как злое начало, душа объективируется и отделяется от личности1201: «Душа лукавая погубит своего обладателя и сделает его посмешищем врагов» (Сир 6:4). Однако душа ни в коей мере не является злым началом сама по себе, она может быть лишь κακότεχνος {неискусной, злоискусной}, т.е. «лукавой» в смысле употребляемых ею средств. О том, что душа по природе блага, говорит предостережение от несправедливости по отношению к своей собственной душе, которая здесь поставлена в параллель с «жизнью» (ст. 10:31–32).
Называя в Пс 34:17 душу «единородной», библейский текст явно предполагает одновременное творение тела и души, вместе с тем отделяя душу от постулируемого поэтической речью субъекта. В греческой версии книги Притчей впервые появляется представление о «нечистоте души» (Притч 6:16)1202, которому легче найти параллели в античной, нежели в древнееврейской эсхатологии. Потом оно повторяется в неканонической книге, клеймящей евреев-эллинистов, которые «оставляли сынов своих необрезанными, и оскверняли души их всякою нечистотою и мерзостью, для того чтобы забыли Закон и изменили все постановления» (1Мак 1:48–49). Здесь явно постулируется связь душевных способностей (память, дисциплина) с практическим отношением к святыне. Хотя нечистота как причина смерти в Библии осмысляется постоянно, само словосочетание «нечистота души» в канонических произведениях не встречается; термин «осквернение душой» относится к практике похоронных ритуалов, т.е. «душа» здесь – эвфемизм смерти, которая оскверняет живущих. В платонической традиции тема душевной чистоты возводится к мистериальным культам: «Как гласит древнее слово, и благоразумие, и мужество, и все добродетели суть очищения – и даже сама мудрость. Поэтому мистерии говорили темно и истинно: не очистившийся попадет в болота Аида» (Плотин. Эннеада I. 6,6; ср.: Платон. Федон 69 ВС). Есть разница, однако, между практикой очищения души в платонизме, которое достигается созерцанием, и в библейской литературе Премудрости, где ведущими остаются религиозные средства, от исполнения Закона до молитвы о стяжании мудрости.
В отличие от души, человеческий дух, являющийся животворящим началом (πνεῦμα ζωτικόν, Прем 15:11), как правило, отождествляется с субъективным самопредставлением (которое обычно в речи от 1-го лица выражает местоимение «я»). Особенно это заметно по книге Екклесиаста, где словосочетание רעות רוח {томление духа} (Син)1203 систематически переводится как προαίρεσις πνεύματος {произволение духа}. «Произволение» здесь означает произвол, упрямую и слепую устремленность, которая погружает человека в «суету сует». В другом тексте вводится понятие πνεῦμα ἡγεμονικόν {владычественный дух} (Пс 50:14)1204. Поскольку, исходя из контекста, речь идет о Духе от Бога, здесь подразумевается, что именно Божий Дух занимает место владычественного начала в человеке, когда он, со своей стороны, представляет Богу πνεῦμα συντετριμμένον {дух сокрушенный} (Пс 50:19). Итак, если душа выполняет по преимуществу функции восприятия и деятельности, то дух служит конечной инстанцией восприятия и причиной действия. Это не отличительная особенность Септуагинты, а то, что помещает ее в контекст междузаветного религиозного сознания. Например, в халдейском парафразе книги Екклесиаст имеет место высказывание: «Дух души твоей возвратится, чтобы стать на суде пред Господом, который дал его тебе»1205. Как начало, которое оживляет тело, дух счисляется наравне с душой (Прем 16:14), даже преимущественно перед ней (см. выше), и бессмертные духи праведных людей называются наряду с их душами (Дан 3:86).
Септуагинта формировалась в процессе, который объективно можно считать подготовкой словаря для новозаветной антропологии. В посланиях апостола Павла дух, душа и плоть уже выстроены строго иерархически, так что к духу относятся высшие способности души, а к плоти – ее низшие потенции, которые полностью подчинены высшим в области целеполагания. И если в Премудрости Сираха еще говорится о том, что человек может «поползнуться духом (τῷ πνεύματί) в погибель», когда душа его «склонится» к чужой жене, то в Послании к Евреям духовное состояние однозначно понимается как высшее: «Вы приступили... к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства (πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων)» (Евр 12:22–23). «Скверна духа», упоминаемая наряду со «скверной плоти» (2Кор 7:1), относится, видимо, к области «различения духов» (ср. 1Ин 4:1), т.е. воздействия верных и лукавых духовных существ на человеческий дух. Отсюда, из Нового Завета, берет начало идея духовности как таковая, т.е. идея иерархически правильно устроенного человеческого существа, в котором владычественный дух является звеном, связующим природу и Бога.
г) Человек и ангелы
Учение об ангелах не так широко представлено в «Александрийском каноне», чтобы делать его предметом особой темы, но при сопоставлении с антропологией оно и само по себе проясняется, и добавляет определенности в картину человека.
Прежде всего следует сказать о том, что эти посредники Божественной деятельности в мире наделяются персональностью, в чем обнаруживается близость Септуагинты к междузаветной и новозаветной литературе, но не к Филону, в философии которого происходит обратное движение1206. Показательным в этом отношении является греческий перевод 4-го стиха 103-го псалма, который в оригинале выглядит следующим образом:
עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט
Особенностью этого стиха является то, что в нем отсутствуют ясные указания на подлежащее и сказуемое. Можно сопоставить его со славянским переводом, который, через посредство греческого, является дословным: творѧ́й агг҃лы своѧ̑ дꙋ́хи, и҆ слꙋги̑ своѧ̑ пла́мень ѻгненный. Им вполне передана двусмысленность еврейского текста, в котором отсутствуют падежи, а потому не представляется возможным ответить на вопрос, творит ли Бог ангелов духами (ветрами), а слуг Своих пламенем огненным1207, или наоборот – стихии делаются Его посланниками. Септуагинта этот момент проясняет, вводя артикли, которых не было в оригинале: ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα {Творящий вестников Своих духами, служителей Своих пламенем огненным}. По правилам древнегреческого языка, отсутствие артикля отличает имясказуемое от подлежащего и прямого дополнения. Это правило переводчики Псалтири неукоснительно соблюдали (ср.: Пс 2:6, 60:4 и др.), поэтому не может быть сомнений в том, что всякую двусмысленность данный перевод устраняет, – именно ангелов их Творец делает и духами, и огнем. Интерпретировать это можно по-разному: как в смысле их возвышения и уподобления Богу, так и в смысле служебной роли ангелов как управляющих определенными стихиями1208.
Кроме личностного характера, утверждаемого за Божественными посланниками, они еще наделяются духовной природой, однако не в том смысле, который придает им идеалистический спиритуализм, т.е. не абсолютной бесплотностью, а уподоблением наиболее тонким и стремительным веществам – духу и огню. Заслуживает внимания также само наименование ἅγγελος, которое благодаря Септуагинте становится родовым понятием для всех подчиненных Богу духовных существ1209. Его буквальное значение – «вестник», «посол». Таким образом, ангел по определению не действует от своего собственного лица, но является только глашатаем или исполнителем воли Бога; тем самым огромная и весьма значимая для древнего человека область сверхъестественного, духовного мира поставляется в строгое и упорядоченное подчинение Творцу, причем не остается никакого места для произвола духовных деятелей с вверенными под их начало стихиями вне прямого противления Его воле, т.е. вне сферы персонального зла1210. В целом это согласно с логикой библейского текста (ср. Иов 1–2) и этимологически верно, учитывая, что прецедентным для употребления термина ἅγγελος в Септуагинте был перевод еврейского слова מלאך1211. Однако в самом древнееврейском тексте Библии оно не является единственным для указания на ограниченных духовных существ наряду с ним используется ряд других: אל {сила, божество}, בן אל {сын силы}, אביר {крылатый} и др. Поэтому Септуагинта, почти всегда используя для перевода в соответствующих контекстах слово ἅγγελος, представляет важное свидетельство экзегетической традиции своего времени.
Например, фраза לחם אבירים אכל איש {хлеб крылатых ел муж} (Пс 77:25), о ядении евреями манны в пустыне, – поскольку слово אביר также означает «вельможа» и вообще «сильная особь» человека или животного, – может быть понята в том смысле, что всякий человек, даже самый незнатный, во время сорокалетнего путешествия ел «хлеб вельмож», т.е. чистый белый хлеб из отборной муки, что и соответствует описанию манны, по вкусу напоминавшей лепешки с медом (Исх 16:31). Однако LXX понимают ее в более возвышенном смысле: ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος {хлеб ангельский ел человек}. Тем самым подчеркивается больше неземное происхождение манны, чем ее качество и консистенция, а перевод этот близок традиции книги Премудрости Соломона, в которой манна описывается следующим образом: «Народ Твой Ты питал пищею ангельскою и послал им, нетрудящимся, с неба готовый хлеб, имевший всякую приятность по вкусу каждого» (Прем 16:17). Итак, в данном случае за переводом стоит определенное предание, а читатель узнает из него, что, во-первых, ангелы тоже питаются какой-то свойственной им пищей, а во-вторых, что человек способен питаться пищей духовной, которая всегда будет соответствовать его собственному устроению1212.
Вместе с тем Септупагинта не поддерживает характерного для енохитской традиции1213, а также для ряда западных раннехристианских авторов и европейского средневековья представления о способности ангелов к переходу некой естественной границы, отделяющей их от человека. Мнение, что противоестественный союз ангелов с женщинами стал причиной «развращения человеков на земле» и всемирного потопа, который за этим последовал, основывалось на прочтении одного фрагмента из книги Бытия в свете книги Еноха и зависящих от нее источников1214.
Быт 6:1–7 Син
1Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, 2тогда сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. 3И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками [сими], потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. 4В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божий стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревлеславные люди. 5И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; 6и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. 7И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их.
Этот краткий рассказ о причинах потопа в кн. Еноха, гл. 2, пересказывается с расставлением акцентов и значительным расширением содержания: сыны Божий трактуются как «ангелы, сыны неба»; они сознательно совершают деяния, за которые могут быть наказаны, для чего предварительно вступают в сговор; каждый из них взял за себя одну жену; через женщин они научили человечество колдовству, медицине, астрологии, астрономии, украшению тела, обработке драгоценных металлов и камней – словом, открыли им «небесные тайны мира»; зачатые ими дети оказались великанами, «рост которых был в три тысячи локтей». Следовательно, «развращение» человечества имело двоякий характер: во-первых, через тайное знание, которым завладели все люди; во-вторых, через насилие, которое учинили на земле исполины, которые, съев на земле все плоды человеческого труда, стали пожирать самих людей и заниматься сыроядением. Кроме того, сами ангелы «осквернились» от плотского союза. Потому и наказание, которое предсказывает Енох, должно было коснуться обеих сторон: человечеству предстояло погибнуть во время потопа, а согрешившие ангелы, увидевшие преждевременную гибель своих сыновей, были приговорены к заключению в недрах земли до конца света, когда они будут отданы на вечные мучения.
Пророчество о наказании ангелов служит основой утверждения, согласно которому версия кн. Еноха поддерживается в Новом Завете, а именно – в посланиях апостолов Петра и Иуды, которые содержательно связаны между собой:
Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания; и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых; и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам... то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда.
Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, – так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти. ... Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «се, идет Господь со тьмами святых ангелов Своих – сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники». Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно; уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти.
Во втором из этих отрывков, развивающих, в принципе, одну и ту же тему, – осуждение церковных расколов и злоупотреблений христианской свободой, подобных николаитству, – имеются почти дословные совпадения с текстом кн. Еноха: упоминание «мрака» и «суда великого дня»1215, а также цитата «се, идет Господь»1216. Однако это не означает, что апостолы обязательно были читателями апокрифа. Они могли знать эти слова или мотивы из сборников пророческих изречений, которые имели в то время большое хождение1217. Кроме того, могли почерпнуть их из неизвестного нам источника, который был использован также автором кн. Еноха. Важно, что в апостольском тексте нет никакого упоминания о браке ангелов и последующем рождении сыновей. Слова «не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище» подходят как под енохитскую интерпретацию, так и под традиционное для христианства учение о доисторическом падении части небесных стражей во главе с сатаной на землю, которое было выпадением их из своего чина (ср. Ис 14:12–14). Последний сюжет отражен в Апокалипсисе апостола Иоанна (Откр 12:4), где больше всего параллелей с кн. Еноха из всего новозаветного корпуса, но ни одна из них не намекает на земной брак ангелов. Сама возможность плотского союза небесных духов с кем бы то ни было в учении Нового Завета, по-видимому, не предполагается (ср. Мф 22:30).
Свидетельство Септуагинты важно здесь для понимания аутентичного смысла как Нового, так и Ветхого Завета. Если для апостолов она во многом была контекстом, то для иудейской традиции толкования Торы – не менее древним свидетелем, чем кн. Еноха, формирование которой датируется между 300 и 200 гг. до н.э.1218 Поэтому имеет смысл рассмотреть все аспекты эпизода из 6-й гл. кн. Бытия в свете древнегреческого перевода.
Исполины. Прежде всего, само слово «исполин» (γίγαντες) как перевод евр. נפלים является интерпретацией LXX1219. Однако речь, вероятно, не идет о мифических «гигантах», отличающихся по своему происхождению от простых смертных1220. Слово γίγας продолжает употребляться и дальше по отношению к человеку, обладающему большой силой или возможностями. Так, «исполинами» названы: Нимрод, сын Хуша, «сильный зверолов пред Господом» (Быт 10:8,1Пар 1:10)1221, обитатели Астарофа и Карнаина, которых поразил еламский царь Ходоллогомор (Быт 14:5)1222, сыны Енаковы, своим ростом устрашившие израильтян перед входом в землю обетованную (Чис 13:34; Втор 1:28, ср. Нав 12:4, 13:12)1223, несколько необычайно рослых филистимлян (2Цар 21:6–22)1224, человек, с радостью пробегающий длинный путь (Пс 18:6), и всякий сильный воин (Пс 32:16, Ис 3:2, 49:24, Иез 32:12, 39:18), будущие разрушители Вавилона (Ис 13:3)1225, находящиеся в преисподней «вожди земли» (Ис 14:9, ср. Иез 32:21)1226. В неканонических книгах это рослые воины (Иудифь 16:6), такие, как Голиаф (Сир 47:4), или тяжеловооруженные латники: например, об Иуде Маккавее рассказывается, что он «облекался бронею, как исполин, опоясывался воинскими доспехами своими и вел войну, защищая ополчение мечом» (1Мак 3:3).
Таким образом, те исполины, которых родили сыны Божий, были первыми, но далеко не единственными в истории. Способ перевода Быт 6:4 это подтверждает: «Исполины же бывали на земле в те дни, и после того; а когда входили сыны Божий к дочерям человеческим и рождали себе, то были исполины что от века, [т.е. самые древние,] люди именитые»1227. Эти первые на земле исполины упоминаются систематически как синоним дерзости. Они «мятутся под водами» (Иов 26:5) – очевидно, водами потопа, которые их покрыли1228; а человек, «заблуждающий с пути правды», утихнет в их «собрании» (Притч 21:16). Неканонические тексты возлагают на них вину за их собственную гибель: «Не умолен был [Бог] о древних исполинах, которые совершили отступничество (ἀπέστησαν) мощью своей» (Сир 16:8); «Ибо и вначале, когда погубляемы были гордые исполины, надежда мира, управленная Твоею рукою, прибегнув к кораблю, оставила миру семя рода» (Прем 14:6); «Там были изначала славные исполины, весьма великие, искусные в войне. Но не их избрал Бог, и не им открыл пути премудрости; и они погибли оттого, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего» (Вар 3:26–28); «Ты некогда погубил делавших беззаконие, между которыми были исполины, надеявшиеся на силу и дерзость, и навел на них безмерную воду» (3Мак 2:4).
Как можно заметить, нигде не упоминается об их происхождении, но есть намеки, позволяющие предположить, что исполины могли бы выжить, если бы действовали по-другому. Они не были обречены на смерть самой противоестественностью своего рождения, как это имеет место в кн. Еноха. Есть, впрочем, один отрывок, в котором причиной потопа называются не современники этого события, а их предок. Речь идет о Каине, отступившем от премудрости «во гневе» и погибшем «от братоубийственной ярости. Ради него потопляемую землю опять премудрость спасла, сохранив праведника посредством малого дерева» (Прем 10:3–4). Греческий текст не дает полной ясности: называется причиной потопа сам Каин или его ярость (θυμός), которую наследовали потомки. Во всяком случае братоубийство, которое растлило землю, происходит здесь не от избыточного роста и прожорливости гигантов, но от нравственной испорченности людей.
Дочери человеческие. Одна из версий, которой пользовались отцы Церкви (особенно антиохийского направления, преп. Ефрем Сирин и др.), состояла в том, что дочерями человеческими называются женщины из проклятого рода Каина, с которыми стали смешиваться мужчины из благословенного семени Сифа. В Библии основанием для такого взгляда служат, с одной стороны, раздельные генеалогии Каина и Сифа, с другой стороны – внимание иудейского Закона к чистоте рода. В то же время преп. Ефрем акцентирует внимание не столько на духовной недоброкачественности дочерей человеческих, сколько на их бедности вследствие того, что проклятая из-за первого убийства земля не давала Каину своих произведений. Сифиты были физически сильнее и материально несравненно богаче; это подтолкнуло их к тому, чтобы беспорядочно набирать себе жен из числа «бедных», что привело к увеличению численности богатых и распространению угнетения на всей земле. Таким образом, родословия Сифитов и Каинитов подводят преп. Ефрема к толкованию, которое было глубоко укоренено в иудейской традиции. А именно, мнение, что речь идет о filii magnatum и puellas plebeias, отражено в таких древних источниках, как Самаритянское Пятикнижие, таргумы Онкелоса и Ионафана, перевод Симмаха, а также арабские переводы Саадии Гаона и Ерпения, комментарий ибн Эзры1229. Только в новейшее время оно было предано забвению, и среди ученых библеистов возобладала точка зрения, согласно которой речь в отрывке идет о части небесных сил1230. Недавно А.С. Десницкий аргументировал новую, политеистическую гипотезу1231, согласно которой в 6-й гл. Бытия речь идет об учреждении ритуального брака, через который человечество приобщилось к «сынам богов», т.е. языческим божествам, причем это предание, вероятно, должно восходить к предполагаемым политеистическим слоям самого Пятикнижия1232.
Вопрос о «сынах» мы рассмотрим следующим, а выражение «дочери человеческие» (בנות האדם) само по себе не обязательно указывает на принадлежность именно к человеческому роду – в его родовом отличии от какого-то другого. Это не «дочери Адама», потому что слово «Адам» имеет здесь артикль, т.е. они именно что θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων {дочери людей}. Можно сопоставить это с понятием «сын человеческий», которое выражает принадлежность к человеческому роду вообще, т.е. вне всяких частностей, без возможности выделения в особую касту1233. Оно противопоставляется любой частной специализации, но в особенности привилегированной: «Я не пророк, а сын человеческий, и земледелец от юности» (Зах 13:5). В Псалтири «сыны человеческие» – часто употребляемое словосочетание, и выражает оно следующие реалии: все человечество (Пс 4:3, 10:4, 13:2, 32:13, 89:4, 106, 113:24), человека как абстракцию (Пс 8:5, 20:11, 35:8, 65:5, 88:48, 145:3), обычного человека (Пс 44:3)1234, некоего человека (Пс 80:19), остальную часть человечества по отношению к верным и праведным (Пс 11:2,9, 30:20, 56:5, 57:2, 61:10), живых в противоположность мертвым (Пс 113:24)1235, возможно, также бедных в противоположность богатым (Пс 48:3)1236. Называя Себя «Сыном человеческим», Иисус Христос всегда подчеркивал еще нечто кроме того, что Он есть Сын Давида и Авраама. Это нечто само по себе – общность со всем человечеством1237.
Если «дочери человеческие» отличались от своих мужей, как обычные люди от людей же, но необычных по своему статусу, положению, физическим данным и т.д., тогда надобность в «ангельской» гипотезе, которая в целом очень экстравагантна для Библии, хотя созвучна с некоторыми ближневосточными культами и хорошо известна сектантской традиции, отпадает. А такие необычные люди на земле в действительности были: это допотопные праотцы, которые имели продолжительность жизни в пределах тысячи лет и отличились как выдающиеся «культурные герои», научившие человечество искусствам и ремеслам. Линии Каина и Сифа в их родословных списках с определенного момента переплетаются, поэтому на различии по крови вряд ли можно было бы построить убедительную интерпретацию этого отрывка. Более убедительным фактором представляется имущественное и качественное различие глав поколений и простых людей, которые представляли собой, в общем, их потомство.
Как моральное падение и телесное развращение могли при этом пониматься два осуждаемые в Библии деяния: многоженство и кровосмешение. Первое описывается словами ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו {и брали себе жен из всех, которых выбрали}. В русском тексте переведено «...какую кто избрал», но в греческом буквально: ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο {...из всех, кого выбрали}. Хотя многоженство в эпоху еврейских патриархов было фактически узаконено, в иудействе оно не считалось нормой, запрещалось для царей с прямым указанием опасностей для государства (Втор 17:17), и, что наиболее существенно, в начале человеческой истории двоеженство Ламеха сопрягается с первым в истории двойным убийством (Быт 4:23), а его сын Ной, в свете некоторых апокрифических источников, сам мог рассматриваться как «исполин»1238. Второй тип деяний, наиболее нетерпимый с точки зрения Закона, можно подозревать в этом рассказе исходя из того, что «дочери человеческие», красоту которых обнаружили «сыны Божий», были потомками обыкновенных людей, т.е. не главных в каждом поколении, – либо по праву первородства, либо в силу их исключительных, «божественных» качеств, – а их младших братьев, сыновей, дочерей и внуков. Люди, как сказано, «начали умножаться на земле». Тогда сыны Божий стали выбирать жен уже не из своих сестер и не по необходимости, а просто «увидев, что они красивы», при этом не стесняя себя в выборе. Иерархия поколений нарушилась, и наступило смешение – состояние, которым библейская эстетика предписывает гнушаться.
Рассмотрим подробнее, дает ли текст основания для такой интерпретации.
Сыны Божии. Видеть в сынах Божиих часть человечества располагает прежде всего то, что в Библии совершенно умалчивается о том, что они, как отдельная категория лиц, как-то были наказаны. Напротив, в тексте акцент на том, что Дух Божий не останется в людях, «потому что они суть плоть», что «велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время»; Господь раскаивается, «что создал человека на земле», которая «растлилась пред лицем Божиим... ибо всякая плоть извратила путь свой на земле... конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». Таким образом, согласно книге Бытия сыны Божий либо не являются причиной катаклизма и связь между их поступком и всем последующим случайна, либо странным образом исчезают и остаются ненаказанными, либо, что наиболее правдоподобно, входят в число земных созданий, но в то же время и отличаются от обыкновенных «сынов человеческих».
Последняя версия подтверждается практикой перевода родственных терминов «сыны Божий», «сыны Его [т.е. Господни]», «боги» в Септуагинте:
| [οἱ] υἱοὶ [τοῦ] [θεοῦ] | Быт 6:2,4 | בניהאלהים |
| Пс 28:11239 | בניאלים | |
| Пс 88:7 | ||
| Пс 81:6 | בניעליון | |
| Пс 72:15 | בניך | |
| [Пс 88:20]1240 | חסידיך | |
| τέκνα | Втор 32:5 | בנים |
| Притч 14:26 | ||
| Ис 63:8 | ||
| θεοί | Исх 22:28 | אלהים |
| Пс 81:1,6 | ||
| [οἱ] ἄγγελοι [τοῦ] [θεοῦ] | Втор 32:81241 | בניישראל |
| Пс 8:6 | אלהים | |
| Пс 96:7 | ||
| Пс 137:1 | ||
| Иов 1:6; 2:1; 38:7 | בני האלהים | |
| Иов 20:15 | אל | |
| Дан 3:251242 | בר אלהין |
Контекст указанных в таблице фрагментов показывает, что Септуагинта имеет ярко выраженную склонность переводить еврейские выражения «боги», «сыны Божий», «сыны богов» как «ангелы», если дело касается ангелов, и буквально, если дело касается израильтян либо вообще особо отмеченных Богом людей. Единственное исключение из этого правила представляет Пс 88:7, но в данном случае выбор переводчика мог быть обусловлен особенностями композиции1243. Неканоническая литература в составе «Александрийского канона» никогда не называет ангелов «сынами Божиими», но нередко прилагает этот эпитет к израильтянам (Иудиф 9:4,13, Есф 8:12q, Прем 2:13,18, 5:5, 9:7, 12:19–21, 16:10,26, 18:4,13, 19:6, 3Мак 6:25, ср. 3Езд 1:29) или вообще праведникам (Сир 4:11–12, Пс Сол 17:27). В самом еврейском тексте примерно равное количество мест, в которых термин «сыны [Божий]» несомненно прилагается к небесным (Иов 1:6; 2:1; 38:7; Дан 3:25) и человеческим существам (Втор 32:5; Пс 28:1; Пс 72:15; Пс 81:6; Притч 14:26). Не менее значимо то, что слово «боги», имеющее одинаковую форму с именем Бог (אלהים), в нескольких случаях трактуется иудейским преданием как название высокопоставленных членов общества, а именно судей. Хотя с точки зрения этимологии данная интерпретация современными учеными отвергается1244, она не только традиционна1245, но и имеет вполне определенные религиозные предпосылки. Судья в Ветхом Завете был не просто делопроизводителем, а человеком с пророческим даром, который становится на место Бога «посреди сынов человеческих». Возможно, эта традиция обосновывалась началом 81-го псалма: «Бог стал в сонме богов, среди богов производит суд: доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?» (Пс 81:1–2). Замечательно то, что Бог занимает такое же положение среди этих «богов», какое они сам среди людей (בקרב, ἐνμέοῳ)1246. При этом они, очевидно, сами причастны человеческой природе: «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей» (стт. 6–7). Заканчивается псалом тоже знаменательно – пожеланием, чтобы Бог стал единственным Судией: «Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы» (ст. 8). Упоминание «всех народов» позволяет предположить, что «богами» здесь являются главы народов, законные «наследники» власти над ними, которые, однако, не исполняют своих обязанностей и оказываются временщиками.
В условиях патриархально-родового строя полномочиями судьи обладал старший в роду и поколении, т.е. на них могли претендовать, после отцов, прежде всего старшие сыновья (наследники), что согласуется с приведенной выше гипотезой, а также с исследованиями, показывающими, что эпитет «бог» можно рассматривать как относящийся к чтимому предку1247. В Септуагинте, действительно, есть места, где евр. אלהים эквивалентны πατριά{отечество} и πατριάρχης {прародитель}. Это два стиха кн. пророка Исайи: «Когда вы взалчете, будете скорбеть и похулите князя и отечество» (Ис 8:21)1248; «Когда покланялся он в доме Насараха, прародителя своего...» (ст. 37:38). Немецкие специалисты находят здесь ошибочное воспроизведение термина παταχρα (παταρχον), который читается в некоторых манускриптах (в том числе таком авторитетном, как В) и представляет собой калькус арам. פתכרא {идол}1249. Согласно этому мнению позднейшие переписчики, не узнав арамейского слова, очевидно происходящего из устной таргумической интерпретации, сочли его испорченным и заменили на созвучное, которое им показалось уместным. Однако нельзя сказать, что эта версия вполне аргументирована. Во-первых, как πατριά, так и παταχρα являются hap. leg. Последнее выигрывает, по-видимому, исходя из контекста, так как в одном стихе вероятно, а в другом несомненно речь идет о языческих богах; но Исайя множество раз называет их «богами» (LXX: θεοί), a когда речь заходит об истуканах, бросаемых в огонь, переводчик употребляет слово «идолы» (Ис 37:19 εἴδωλα) вместо арамейского эвфемизма. Во-вторых, с учетом сказанного выше о почитании судей и предков чтение латркх становится не менее понятным. Поскольку же Ватиканский кодекс местами выправляет старые греческие чтения по МТ1250, можно предположить, что редакторы, оторванные от древней традиции называния выдающихся предшественников «богами», узрели в слове латркх испорченное написание термина παταχρα и сочли последний более уместным, чем дословный перевод1251. В-третьих, есть и прямая параллель, которая полностью подтверждает сказанное, демонстрируя, что выражение «сыны Божий» было эквивалентно словосочетанию «отечества народов»:
«Принесите Господу, сыны Божии (υίοὶ θεοῦ), принесите Господу сынов овчих, принесите Господу славу и честь! Принесите Господу славу имени Его; поклонитесь Господу во дворе святом Его» (Пс 28:1–2).
«Принесите Господу, отечества народов (αἱ πατϱιαὶ τῶν ἐθνῶν), принесите Господу славу и честь! Принесите Господу славу имени Его; возьмите жертвы и входите во дворы Его» (Пс 95:7–9).
Итак, «сыны Божий» представляют собой культурных героев, которые в Библии, в отличие от языческих мифов, не отождествляются со сверхъестественными существами, хотя и наделяются выдающимися способностями.
Заметим к этому, что в Библии есть сюжет, параллельный истории всемирного потопа и его предыстории, – рассказ о грехе сыновей священника Илия и о последствиях этого греха, сделавшихся причиной окончания эпохи судей.
События в нем развиваются по спирали: а) Офни и Финеес, сыновья Илия, регулярно совершают святотатство и «спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания» (1Цар 2:22); б) Илий слишком стар и мягок, поэтому не наказывает их; в) Бог предрекает дому Илия сокращение продолжительности жизни: «Я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем... все потомство дома твоего будет умирать в средних летах» (1Цар 2:31–33); г) Самуил становится пророком, в то время как Илий глух к небесным гласам; д) следует гибель Офни и Финееса, захват филистимлянами ковчега Господня; е) затем смерть самого Илия, упавшего навзничь при известии об утрате ковчега; ж) происходит возврат ковчега при Самуиле; з) много лет спустя состарившийся Самуил ставит судьями вместо себя двоих сыновей; и) оказывается, что «сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно» (1Цар 8:3); к) народ просит поставить над собой царя вместо судей.
При внешней несопоставимости с таким всемирным событием, как потоп, этот исторический эпизод имеет с ним много общего. Это и связь с простыми женщинами тех, кто вознесен своим положением над всем народом1252, и характер наказания – утрата пророческого дара, уменьшение числа лет жизни, наконец полное истребление виновных, уход, а затем возвращение ковчега после семи месяцев пленения, окончание целого этапа исторической жизни из-за согрешившего привилегированного меньшинства.
В связи с темой судей приобретает особо важное значение ст. Быт 6:3 רשב אוה םגשב םלעל םדאב יחור ןודי אל הוהי רמאיו {и сказал Господь: не будет судить Дух Мой в человеке вовек, потому что он плоть}. Далее Бог сокращает время жизни людей до 120-ти лет1253. Обычно слово ןודי («судить», имперф.) в этом контексте переводят какнибудь иносказательно1254. За ним усматривается, однако, прямой смысл: Бог больше не ждет суда, т.е. правды и справедливости, от человечества, потому что те, кому было вверено право судить, – а это божественное право1255, – развратились и стали «плотью». Они утратили Дух пророчества, без которого роль судьи, по логике Ветхого Завета, исполнять невозможно1256. Септуагинта в переводе этого стиха уходит от буквализма, возможно, из опасения двусмысленности: слова «не будет судить... в человеке ввек» читатель мог воспринять как отказ от осуждения и наказания допотопного человечества, прямо противоречащий последующим событиям1257. Поэтому дается интерпретативный перевод следующего содержания: οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας {не останется Дух Мой в человеках этих вовек, потому что они плоть}. Ключевой элемент здесь – τούτοις {этих}1258, так как он ясно дает понять, что речь идет не о человечестве вообще, а о конкретном поколении, согрешившем еще только тем, что сыны Божии вступили в брак с дочерями человеческими – «всеми, которых выбрали», а наказанном еще только сокращением срока жизни. Таким образом, греческий текст очень близко воспроизводит установленный выше смысл текста еврейского: Дух, прежде всего как залог общения с Богом, а тем самым и Дух животворящий, уже никогда не сможет пребывать в данном поколении, которое Бог в связи с этим спешит уничтожить в порядке естественной смертности, чтобы дать место другим. Однако на следующем этапе обнаруживается, что из-за исполинов земля растлилась полностью, и единственным способом дать человечеству возможность начать сначала становится всемирный потоп.
Все сказанное имеет большое значение для библейской антропологии. А именно, можно заключить, что Септуагинта задает в целом ту систему координат, к которой апеллирует апостольское слово: «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?.. Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим; напротив некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Евр 1:14, 2:5–6)
3.2. Антропологический идеал
3.2.1. ΠΑΙΔΕΙΑ
Вполне сформированным библейское понятие о совершенстве мы находим только у апостола Павла, который, что существенно, рассматривает его с точки зрения церковности. В послании к своим ефесским ученикам он пишет, что Христос «поставил одних апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями, к совершению (καταρτιομός) святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного (εἰς ἄνδρα τέλειον), в меру полного (τοῦ πλρώματος, букв. полноты) возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью (ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ, букв, истинствуя в любви) все возращали в Того, Который есть глава Христос» (Еф. 4:11–15). Тесная связь совершенства с познанием, подчеркнутая здесь апостолом, а также взаимозависимость познания и любви ранее обнаруживаются в книге Премудрости Соломона, где порядок достижения человеком мудрости (aocpia) подчинен определенному плану, а «совершенством» называется сама интенция к ее достижению:
Направить на нее мысль есть совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро станет беззаботным, ибо достойных ее она сама обходит и ищет, и на путях является им благосклонно, и во всяком помышлении встречается им. Начало ее – более истинное желание учения, а усердие в учении – любовь, любовь же – соблюдение законов ее, а утверждение в законах есть залог бессмертия. Бессмертие же делает близким к Богу. Итак, желание Премудрости возводит к Царству (Прем 6:15–20).
В Синодальном переводе этот фрагмент начинается словами: «Помышлять о ней есть уже совершенство разума». Но более верным представляется буквальное понимание1259. То есть речь идет не о легкости достижения совершенства разума, но о трудности удержания мысли в одном единственном направлении, которое и сообщает ей остроту, необходимую для познания вещей. Премудрость «обходит и ищет» не всех подряд, а именно «достойных ее». Только тот, кто способен ради нее пренебречь сном, станет беззаботным: здесь явная игра парадокса, потому что в обыденном сознании вернейшим признаком озабоченности представляется как раз потеря сна. Достижение мудрости требует наиболее точного и отчетливого мышления – именно это предполагается всегда, когда речь идет о сознательном соблюдении каких бы то ни было «законов» или правил. Наконец, фрагмент завершается метафорой восходящего движения – обещанием «возвести к Царству», и это метафорическое направление, по всей видимости, перекликается с темой совершенства (τελειότης), потому что уточнение обещания – «навеки воцаритесь» (Прем 6:21), – несомненно, может рассматриваться как конец и цель (τέλος) человеческой жизни.
Таким образом, в понятие о совершенстве включены два аспекта. Первый – динамический и феноменальный. Говорится о совершенстве не как о некотором состоянии, которое должно быть достигнуто, а как о направленности мысли, которая не должна прекращаться. Причем эту направленность мы с полным правом можем назвать интенцией, потому что она обладает качеством общего, что позволяет ей в частности быть направляемой на любой предмет: человек, обладающий такой направленностью мысли, встречает Премудрость «на путях» и «во всяком помышлении». Соответственно с этим, обретение мудрости описывается в медио-пассивном залоге: она «обретается» (εὑρίσκεται) и «является» (φαντάζεται) ищущему ее человеку везде, где в частных условиях осуществляется его мысль, – на любых направлениях мыслеенного зрения («на путях»). И это явление оговорено как «благосклонное», т.е. не вынужденное никакой необходимостью. Заключенные в таком понятии о Премудрости динамизм и феноменальность представляют собой признак его внутренней связи с идеей Откровения. Второй аспект – систематический. Путь к Царству, достижение которого несомненно может быть отождествлено с совершенством, рисуется как «восхождение» (от гл. ἀνάγω) {возводить}), в котором анализ текста позволяет различить определенные ступени.
Первая ступень (ἀρχή {начало}) определяется как «наиболее истинное желание учения» (ἡ ἀληθεστάτη παιδείας ἐπιθυμία). To, что прилагательное «истинный» поставлено в превосходной степени, уже указывает на некоторый переход – из обыденного состояния, по всей видимости, того, в котором учения желают ради тех частных благ, что оно приносит, в другое, необычное, когда учения желают ради самой Премудрости. На второй ступени «желание» уже переименовано в «усердие» (φροντίς), смысл которого проясняется через введение в этот текст слова, означающего наиболее бескорыстный тип любви (ἀγάπη). Таким образом, страстное желание (ἐπιθυμία), пройдя через некоторую «очистку» соотнесением с истиной, обучением и усердием, становится подлинной любовью. На третьей логической ступени сама любовь определяется как «соблюдение законов ее» (τήρησις νόμων αὐτῆς), т.е. Премудрости. Что это за законы, здесь не уточняется, но так как им посвящена вся книга и, в сущности, весь корпус Премудрости, ясно, что они не совпадают полностью с кодексом законодательства Моисея, хотя, конечно, пересекаются с ним. Четвертая ступень создается, как и вторая, посредством переименования: «соблюдение» законов названо «утверждением» (βεβαίωοις) в них и оценено как «залог нетления» (προσοχὴ ἀφθαρσίας), которое, буквально, «творит быть близким Богу» (ἐγγὺς εἶναι ποιεῖ θεοῦ). Последнюю фразу можно понять и в смысле приближения к Богу как источнику бессмертия. В таком случае имеет место инверсия логической связи, – довольно знакомый для древних риторический прием, – при которой нетление, являющееся даром от Бога и, следовательно, приходящее от приближения к Нему, само названо приближающим к Нему. Или, что кажется более вероятным, это надо понимать в смысле полноты уподобления Богу. Поскольку нетленный человек подобен Богу («близок» Ему так, как отражение «близко» предмету), он обладает Божественными свойствами: проницательностью, беззаботностью, бессмертием, в общем – царственностью.
При всей значительности обещаний, данных человеку в этом тексте, нельзя не заметить, что в определенном смысле человек остается фатально несовершенным, а именно: достижение мудрости как таковой ему вовсе не обещано. Тем самым сохраняется непреодолимая дистанция между человеком и Богом, что имеет большое значение для темы Премудрости в мессианском аспекте (см. раздел III. 1. 2). Премудрость задана человеку не как цель, а как направление, вектор, сообщающий истинность всем отдельным моментам мышления, в которых она достигается феноменально. Здесь можно видеть своеобразный ответ на фразу, с первых страниц Библии вложенную в уста змия: «Будете как боги, знающие...» (Быт 3:4). Но если Премудрость сама по себе не дана человеку в познании, как она может быть ориентиром, направляющим силы познания? В рассматриваемом тексте она «превращается» для этого в другую категорию – «учение» (παιδεία). Нетрудно заметить, что направленность желания (ἐπιθυμία) равным образом относится к обеим категориям (стт. 13, 17, однокоренное ἐνθυμέομαι в ст. 15), объединяя их в один концепт. Желание учения, «наиболее истинное» в жизни, становится «началом ее», т.е. самой мудрости, а усердие к обучению – любовью, которая есть опять-таки «соблюдение законов ее», т.е. Премудрости. Таким образом выясняется центральное значение термина παιδεία.
Понятие о воспитании
В синодальном тексте Библии это слово чаще всего переводится как «учение», что несомненно верно для контекста рассмотренного выше фрагмента. В славянской традиции обычный перевод – наказа́нїе, причем надо заметить, что библейское употребление данного слова является существенным для понимания древнерусской письменности, в которой, часто используемое, оно не может быть понято адекватно только из соотнесения с его современной, весьма обедненной трактовкой в русском языке. Между славянским «наказанием» и русским «учением» синодальной эпохи существует определенная дистанция, которую и заполняет, по нашему мнению, богатое содержание термина παιδεία в его греко-библейском изводе. Наказа́нїе, исходя из собственной семантики слова, есть такое обучение, в котором большую роль играет наглядность, непосредственное соприкосновение с реальностью (именно это выражает корень казъ). Слово «учение» в том смысле, в каком его употребляли переводчики Св. Синода, тоже отличается от современного. В нем акцент смещен от системы взглядов или правил в сторону процесса их восприятия: «учение» – это «обучение», но рассматриваемое преимущественно со стороны учащегося (ср. устар.: «вдать себя в учение»). Между наглядным обучением и учением как реализацией заботы о приобретении знаний лежит семантическое поле, на котором должны пересекаться объективный и субъективный аспекты образования человека: его собственная потребность в опыте и ее удовлетворение со стороны условного «учителя» (в данном случае им является сама гипостазированная Премудрость) должны совпадать. Область такого пересечения называется «воспитанием». Правда, русское слово «воспитание» в рассматриваемом контексте имеет тот недостаток, что, связанное с глаголом «питать», оно слишком ориентировано на детский возраст (хотя речь идет о «питании» знанием и опытом), активность субъекта при этом практически сведена к послушанию, а после перехода на взрослый, сознательный уровень оно вообще исчезает и заменяется «воспитанностью». Однако в научной литературе термин «воспитание» уже традиционно используется для обозначения процесса и самого метода (наряду с более современной «педагогикой») формирования человеческой личности на разных этапах, вплоть до достижения соответствия постулируемому в той или иной культуре образу совершенного человека, т.е. его смысл наиболее близок немецкому понятию Bildung. В этом последнем значении мы и используем его для анализа употребления важного в Септуагинте понятия παιδεία.
В. Йегер определяет «воспитание» (Bildung), являющееся у него переводом слова παιδεία, именно в античном его смысле – как «формообразование»1260, т.е. «приведение человека к его истинной форме, форме человека как такового»1261, и придает пайдейе характер «единственного в своем роде воспитательного творчества, благодаря которому эллинство сохраняет свое влияние на последующие эпохи»1262. Наша гипотеза состоит в том, что Септуагинта, ориентируясь на эллинское употребление слова παιδεία, создает собственное, библейское учение о воспитании.
Первая задача состоит в том, чтобы выяснить, можно ли говорить о некоем едином смысле всех или хотя бы некоторых, но контекстуально различных употреблений этого термина в Септуагинте: иными словами, является ли оно понятием и есть ли в греческом изводе Ветхого Завета общая теория воспитания человека, сопоставимая с античной? Для этого необходимо дифференцировать понятие и рассмотреть отдельно все значения.
а) наказание (в современном смысле слова)
В термине παιδεία в Септуагинте представлена вся семантика современного слова «наказание»: от кары, обрушивающейся на преступника, до воспитательного средства. Так, «наказание» в чисто отрицательном смысле заслуженно понесенной кары присутствует в переводе книги Ездры: καὶ πᾶς, ὃς ἂν μὴ ᾖ ποιῶν νόμον τοῦ θεοῦ καὶ νόμον τοῦ βασιλέως ἑτοίμως, τὸ κρίμα ἔσται γινόμἐν ον ἐξ αὐτοῦ, ἐάν τε εἰς θάνατον ἐάν τε εἰς παιδείαν ἐάν τε εἰς ζημίαν τοῦ βίου ἐάν τε εἰς παράδοσιν {всякий же кто не будет исполнять закон Бога и закон царя утвержденный, того пусть приговорят, к смерти ли, к наказанию ли, к лишению ли жизни, к заключению ли} (2Езд. 7:26). Так как оно ставится здесь в один ряд со смертью и темницей, понятно, что речь идет о любом более мягком наказании, т.е. штрафной санкции либо изгнании. В книге Иеремии: «Я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием (nai6eiav crrepedv) за множество беззаконий твоих» (Иер. 30:14). В книге Иова – как перевод слова שבט{жезл}: ἐάν εἰς παιδείαν, ἐάν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, ἐάν εἰς ἔλεος εὑρήσει αὐτόν {[тучи собираются] или в наказание, или для земли Его, или чтобы [могли] обрести милость Его} (Иов 37:12). В книге Премудрости Сираха – как параллель «жезлу» (ῥάβδος): «Корм, палка и бремя для осла; хлеб, наказание и дело – для раба» (Сир 33:25). Аналогично в Александрийском кодексе есть место, где παιδεία читается вместо πενία {пеня, ср. лат. poena} и в том же самом значении (Притч 24:34). В Премудрости Соломоновой: «Нас наказывая, врагов наших в тысячу раз больше бьешь» (Прем 12:22).
В греческом переводе книги Притчей (16:22) появляется один раз уникальное понятие «злой пайдейи»: πηγὴ ζωῆς ἔννοια τοῖς κεκτημένοις, παιδεία δὲ ἀφρόνων κακή {Источник жизни мысль для стяжавших ее, наказание же безумных – злое}. Здесь, определенно, имеет место игра двойным значением слова παιδεία – «обучение» и «наказание»: как стремящиеся к постижению истины находят в ней источник жизни, так поучающиеся в зле находят себе наказание в нем. Возможна и другая инверсия, когда первым значением слова является именно «наказание», но по контексту оно также предполагает смысл «научения». Например, в переводе кн. пророка Иеремии: «Накажет (παιδεύσει) тебя отступничество твое» (Иер. 2:19). Из контекста ясно, почему переводчик избрал именно глагол παιδεύω: вторая часть стиха начинается с воззвания «Итак познай и размысли...» «Наказание», которое поставлено здесь в параллель «обличению», является не только карой (грешник наказывает себя сам – одна из важных этических идей в Библии), но и тем, что приводит к раскаянию.
Из контекста Лев 26:18, 23, 28 видно, что этот термин, являющийся в большинстве случаев переводом евр. слов מוסר и однокоренных с ним глаголов, способен выражать не только карательный, но и исправительный аспект наказания1263. Наказание как целительное средство было одной из главных педагогических тем литературы Премудрости: в нем соединились традиционный подход к воспитанию детей и видение исторической судьбы Израиля как череды прегрешений, наказаний и прощений. Из этого соединения – или и помимо его, но, так или иначе, в неизбежной ассоциации с ним – возникло понятие индивидуального наказания в религиозной судьбе человека, без которого не бывает «принятия» его в число «сынов». Известные слова – υἱέ, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμἐν ος· ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται {сын, не пренебрегай наказанием Господним, и не уклоняйся от обличения Его, ибо кого любит Господь, наказывает, и бьет всякого сына, которого принимает} (Притч 3:11–12), – обращенные к слушателю Притчей, были повторены затем в утешение христианам, терпящим гонения, т.е. приобрели опять же соборное звучание (Евр 12:5–10).
В Псалмах Соломона, которые представляют уже иудейскую духовную литературу позднего эллинизма, основанную на библейских мотивах, тема воспитательного наказания как народа в целом, так и индивида становится предметом поэтического осмысления:
Мы оправдали Твое имя, досточтимое во веки,
Ибо Ты – Бог правды, судящий
Израиля наказанием (παιδεία).
Обрати, Боже, милость Твою на нас и пощади нас:
Собери рассеяние Израилево с милостью и щедростью,
Ибо верность Твоя с нами.
А мы ожесточили выи наши,
Но Ты – воспитатель (παιδευτὴς) наш.
(Пс Сол 8:26–29)
Блажен муж, которого помянул Господь во [время] обличения,
И отвратил ранами от пути лукавого,
Чтобы очистить от грехов, да не умножает их.
Кто подставит спину, тот ранами очистится:
Благ Господь к терпящим наказание (παιδείαν).
Он исправляет путь праведных и не отвращается
в наказании (ἐν παιδεία),
И милость Господня – на любящих Его в истине (ἐν ἀλήθεια),
И помянет Господь рабов Своих в милости (ἐν ἐλέει).
Ибо это – удостоверение в Законе Завета вечного,
Свидетельство Господне на путях человеческих в посещении.
(Пс Сол 10:1–4)
Можно заметить, что παιδεία в процитированных поэтических текстах является главным аргументом теодицеи: в ней, образующей концепт, исторические катаклизмы еврейского народа и беды отдельного «блаженного мужа» осмысляются как наказание, а последнее – как признак не отступления Бога от Его Завета, но, наоборот, верности (ἡ πίστις) этому Завету. Несомненно, что такое понимание исторических событий было заложено еще во Второзаконии (гл. 32), присутствует оно и в Псалтири, а относительно индивидуальной религиозной жизни подобная теодицея проводится в речах друзей Иова, требующих от невинного страдальца сознаться в своем грехе и принять наказание именно не как фатальный конец, а как дисциплинарную меру, подводящую к раскаянию. Но увязывание этих религиозных истин с термином παιδεία, которое придает им особенный оттенок «детского» наказания и зовет к более зрелому, «взрослому» претерпеванию, стало результатом работы переводчиков Септуагинты. В 10-м псалме Соломоновом данная категория не только оправдание «ран», которые наносит Бог человеку, но и свидетельство (μαρτυρία) того, что Бог не оставил его и что «Завет вечный» с Израилем есть также Завет с отдельным человеком. Обращает на себя внимание рифмованное созвучие ἐν παιδεία – ἐν ἀλήθεια – ἐν ἐλέει: в нем наказание увязывается с двумя главными добродетелями Бога – милостью и истиной. Оно понимается как их общее действие: Бог милует любящих Его, но только в истине, а это значит, что наказывает их ради самой любви. Здесь вводится еще один концепт, соотносимый с «наказанием», – «посещение» (ἐπισκοπή), т.е. внимательная и вместе с тем полномочная забота старшего о младших (ср. Прем 1:6). В одном из следующих по порядку псалмов резюмируется эта связь между по-родственному требовательной верностью Бога Своему народу и скорбными обстоятельствами, в которых тот пребывает: «Верен Господь любящим Его в истине, терпящим наказание Его» (Пс Сол 14:1).
Данная тема получает обстоятельное развитие в 13-м псалме из того же собрания, где проводится противопоставление наказаний праведника и грешника. Характерно название псалма: «Утешение праведных» (παράκλησις τῶν δικαίων). Согласно этому тексту, Бог «увещевает праведного как любимого сына, и наказание для него – как для первенца, ибо бережет Господь святых Своих, и грехопадения их убеляет наказанием» (Пс Сал 13:9–10; ср. Пс Сол 18:4). В противоположность этому то, что уготовано для грешника, называется «крушением» (καταστροφή). Такой милостивой заботой праведник пользуется вследствие того, что согрешает «в неведении» (ἐν αγνοίᾳ). Поэтому он просит: «Ропот и малодушие в скорби удали от меня, когда я согрешу и Ты накажешь меня, чтобы я обратился» (Пс Сол 16:11). Данный мотив также хорошо нам знаком из книги Иова, где друзья как раз пытаются убедить его в том, что он страдает за какие-то забытые или неосознанные грехи. Но Иов, пересматривая свою жизнь, отстаивает право человека видеть свою собственную вину, и хотя признает, что никто не «родится чистым от нечистого» (Иов 14:4), все же нравственных причин для исключительного гнева Божьего над собой лично не усматривает1264. Если смыслом истории с Иовом, как и во многом аналогичной истории с жертвоприношением Исаака, оказывается испытание, то в Псалмах Соломона смыслом трагических событий еврейской истории, а также их преломления в жизни конкретных людей, осознающих себя «праведными», т.е. не преступавшими Закон сознательно, становится наказание в его функции воспитания. Причина такой метаморфозы не совсем ясна; возможно, Псалмы Соломона возникли как раз в той среде, в которой подозрительно относились к истории невинного страдальца, к тому же не еврея. Стоит отметить, что в Новом Завете страдания Церкви расцениваются и как испытание (1Пет 4:12), и как воспитание (Евр 12:5). Но существенным образом отличает христианский священный текст от Псалмов Соломона употребление слова «праведный», которое никогда не прилагается апостолами к человеку, еще нуждающемуся в исправительных наказаниях за грехи (ср. Рим 3:10, Флп 3:9). Апостол Павел называет Закон «воспитателем (παιδαγωγός) во Христа» (Гал 3:24) именно в силу того, что его заповеди, которые невозможно исполнить в плотском состоянии, наказывают человека смертью (ср. Рим 7:10). Праведность, как состояние не плотское, а духовное, находится в Новом Завете по ту сторону «наказания» (а тем самым и «пайдейи» вообще, поскольку она обладает, как будет видно, сущностным единством), и призывом не оставаться на уровне ожидающих наказания звучат слова Самого Христа: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф 5:20).
Двойной смысл термина παιδεία усматривается также в греческом переводе Исайи, где он, как и в нескольких процитированных выше фрагментах, является эквивалентом слова מוסר. Пример из 26-й главы этой пророческой книги особенно интересен тем, что здесь еврейский и греческий тексты расходятся в оценке описываемых реалий. Еврейское чтение приводим по Синодальному переводу: «Господи! в бедствии он [т.е. народ] искал Тебя; изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его. Как беременная женщина, при наступлении родов, мучится, вопит от болей своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились – и рождали как бы ветер; спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали» (Ис 26:16–18). Смысл греческой версии прямо противоположный: «Господи! в скорби мы вспомнили о Тебе; в скорби малой – наставление Твое для нас. И как болящая приближается к родам и вопит от болей своих, такими были мы для Возлюбленного Твоего, ради страха Твоего, Господи. Во чреве приняли мы, и поболели, и родили: Дух спасения Твоего сотворили на земле. Мы не падем, но падут поселившиеся на земле»1265. Контекст употребления слова яшбаа здесь прямо указывает на его двойное значение: это и «наказание» как скорбь, которая заставляет вспомнить о Боге, но это и поворотный пункт, после которого наступают несомненные признаки возрождения. То же самое усматривается и в пророчестве о невинном страдальце: «Наказание мира нашего (παιδεία εἰρήνης ἡμῶν) на Нем, ранами Его мы исцелились» (Ис 53:5). Поскольку речь идет об искуплении, – т.е. наказание, приносящее мир «нам», перенесено на «Него», – понятно, что слово παιδεία выражает здесь идею не образования, не воспитания даже (переносить воспитание на другого абсурдно), а именно целительного наказания1266.
Если придерживаться метода категориального различения, то следует оговориться, что в своем собственном узком смысле подобное «наказание» все же не тождественно сознательно принимаемому «научению», потому что может быть и не замечено тем, на кого призвано воздействовать. С этой темы начинается книга Исайи («Во что вас бить еще?» и прочее), а в греческом тексте Иеремии слово παιδεία (Син «вразумление») дважды употреблено в таком узком смысле: μάτην ἐπάταξα τὰ τέκνα ὑμῶν, παιδείαν οὐκ ἐδέξασθε· μάχαρα κατέφαγε τοὺς προφήτας ὑμῶν ὡς λέων ὀλοθρεύων, καὶ οὐκ ἐφοβήθητε {напрасно поражал Я детей ваших: наказания вы не приняли; меч поел пророков ваших, как лев пожирающий, но вы не убоялись} (Иер. 2:30). Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς πίστιν· ἐμαστίγωσας αὐτούς, καὶ οὐκ ἐπόνεσαν, συνετέλεσας αὐτούς, καὶ οὐκ ἠθέλησαν δέξασθαι παιδείαν· ἐστερέωσαν τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὑπὲρ πέτραν καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἐπιστραφῆναι {Господи, очи Твои верны: Ты бил их, но им не было больно, истреблял их, но не захотели принять наказания; сделали лицо свое тверже камня, не захотели обратиться} (Иер. 5:3). В переводе одной из притч такое наказание ставится в параллель жезлу как символу физического воздействия на воспитанника: ἄνοια ἐξῆπται καρδίας νέου, ράβδος δὲ καὶ παιδεία μακαρὰν ἀπ᾽ αὐτοῦ {безумие привязалось к сердцу юноши: [значит,] жезл и наказание далеки от него} (Притч 22:15). В другой притче, однако, буквальность понимания такой рекомендации оспаривается: «Наказывай сына твоего, ибо так он станет благонадежным; но в досаждение (ὕβρις) не возносись душой своей» (Притч 19:18). Наказание без досаждения, так или иначе, не может быть равнозначно физическому насилию или вообще юридически понимаемой дисциплинарной каре. Ясно, что переводчик пользуется широким значением глагола ײסר: наказание у него переходит в терпеливое воспитание, при котором укрощение собственного гнева не менее важно, чем непреклонность карающего жезла1267. Та же самая мысль встречается у апостола Павла, когда он учит отцов «наказывать» своих сыновей, но «не раздражать их, чтобы они не унывали» (Еф 6:4, Кол 3:21).
б) поучение (наставление, проповедь)
В современном словоупотреблении «наказание» имеет характер дисциплинарного воздействия, которое человек испытывает на себе и, в зависимости от осознания им праведности понесенной кары, делает соответствующие выводы. Более широким значением обладает в Септуагинте термин παιδεία, которым обозначается и чисто речевое воздействие, причем не только как процесс или результат, но и как сам текст, адресованный слушателю, – словесное поучение, проповедь. Обычно в этих случаях παιδεία также становится переводом слова רסומ». То, что этот перевод не был просто механическим определением греческого слова на место еврейского, видно, например, из игры слов: «Слушайте, дети (παῖδες), наставление (παιδείαν) отца» (Притч 4:1)1268. В определенном смысле παιδεία стала неологизмом греческой Библии, указывая не только на воспитание ребенка словом, но и на само слово, посредством которого это воспитание осуществляется. В греческих Притчах Соломона, ст. 25:1, αί παιδεῖαι – перевод евр. םילשמ {притчи}1269. Как и объектом наказания, адресатом такого поучения может быть один человек и целый народ. В первом случае оно чаще всего предстает как мудрость, выраженная в кратких изречениях и делающая мудрым своего слушателя, доставляющая ему благо и избавляющая от зла (Притч 4:13, 8:33, 19:20, 19:27). Она уместна во всякое время, подобно телесному наказанию (μάστῖγες), от которого, тем самым, она отлична, и в противоположность обычной досуговой речи – «рассказу» (διήγησις), который может быть несвоевременным (Сир 22:6). Сирах советует «не стесняться в наставлении (περὶ παιδείας) неразумного и глупого и престарелого, состязающегося с молодыми» (Сир 42:8). Во втором случае поучение выступает как пророческое слово, посредством которого Бог исправляет Свой народ, но тот «не слышал гласа Господня» и «даже не принимает наставления» (οὐδὲ ἐδέξατο παιδείαν), вследствие чего «удалилась истина от уст их» (Иер 7:28, ср. Соф 3:2:7).
в) обучение (процесс)
В том комплексе значений, который объединяется греческим понятием παιδεία, процессу обучения принадлежит главное место. В Септуагинте на основе перевода слова רסומ фактически возникает концепция воспитания историей. Так, подводя итог скитаниям по пустыне, пророк Моисей говорит народу, что голод и манна, нетление одежды и безболезненность ног в продолжение стольких лет путешествия имели воспитательный смысл: «И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит (παιδεύσει) тебя, как человек учит сына своего» (Втор 8:5). Учить как сына – это значит учить примером, самим образом действия (ср. Ин 5:17). Здесь же в качестве предмета обучения называется опытное знание о том, что «не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа» (Втор 8:3). Характер заботы Бога об Израиле именно как обучения осмыслен переводчиками Септуагинты и применен также в другом месте, где слово «lOlu в оригинале отсутствует: «Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним (ὲπαίδευσεν αὐτὸν), хранил его, как зеницу ока Своего» (Втор 32:10)1270.
Начавшись в историческом прошлом Израиля, соборное обучение народа должно было продлиться в эсхатологическом будущем. В Псалмах Соломона ожидается Мессия (χριστός): «Царь праведный, наученный Богом (διδακτὸς ύπὸ θεοῦ)» (Пс Сол 17:32), которого Бог «знает, [когда] восставить над домом Израилевым, чтобы он обучал (παιδεῦσαι) его» (ст. 42). Ожидать этого следует в эсхатологической перспективе: «Блаженны те, которые будут в те дни, они увидят блага Господни, что творит Он роду грядущему, под жезлом учения (παιδείας) Помазанника Господня в страхе Бога его, в мудрости духа, правде и крепости, чтобы исправить мужей для дел правды страхом Божиим, поставить всех их пред Господом, род благой в страхе Божием, во дни милости» (Пс Сол 18:6–9).
Индивидуальное значение обучения как процесса преимущественно раскрывается в книге Притчей. Здесь тоже в заботе о созвучиях переводчик мог избрать однокоренные слова для перевода двух рядом стоящих разнокоренных, тем самым делая акцент на греческом корне, представлявшемся ему важным: «И скажешь: почему я возненавидел обучение (רסומ, παιδεία), и от обличений уклонилось сердце мое? не слушал я голоса наставника (הרומ, παιδεύοντος) моего и учителя моего, не принимал в уши мои» (Притч 5:12–14). Вдать свое сердце в учение – значит заботиться о приобретении правильно настроенных чувств (см. Притч 23:12 LXX). Оно ценится выше денег, наряду со знанием (Притч 8:10). Сын Сираха ставит задачей обучение «от юности», указывая при этом на результат, который достигается к старости – «До седин твоих найдешь мудрость» (Сир 6:18; ср. 7:25; 51:31). Он также предостерегает: οὐ παιδευθήσεται ὃς οὐκ ἔστι πανοῦργος· ἔστι πανουργία πληθύνουσα πικρίαν {не будет обучен тот, кто не искусен – искусство умножает горечь} (Сир 21:14)1271. Учение может представляться и как ремесло передачи знания, а не мудрости: в этом случае человек «искусен и многих учит, а для своей души бесполезен» (Сир 37:22).
Конкретизация предмета обучения в религиозно-этическом континууме мира Библии всегда идет по пути определения должного, в качестве которого поставляется Закон, и недолжного, которое трактуется в смысле преступления законов и заповедей. Если первому надо быть обученным, или воспитанным в нем, то последнее подлежит искоренению словом, т.е. обличению. Как было замечено выше, в контексте литературы Премудрости, дававшей определение целостному мировосприятию иудея эллинистического времени, Закон отнюдь не ограничивается Синайским законодательством, однако включает его в себя.
в. а) наставление
Частное обучение какому-либо искусству, описываемое глаголом דמל, может быть представлено по-гречески через глагол διδάσκω, как, например, в Пс 17:35, где речь идет о «научении рук войне». Пайдейя же предполагает обычно включенность каждого элемента во всецелое воспитание личности. В Премудрости Соломона призыв «учитесь от слов Моих» обращен к желающим знать, что такое мудрость (Прем 6:27). Похожий смысл, но менее созерцательный и более практический, ориентированный на приобретение моральных качеств, находим в «Молитве Моисея, человека Божия» (Пс 89:10): «Бóльшая часть их [т.е. дней нашей жизни] труд и болезнь, чтобы пришла кротость на нас, и мы были наставлены» (παιδευθησόμεθα)1272. Можно перевести: «чтобы... мы поняли», «пришли в чувство» и т.п. Здесь наказание-воспитание растягивается на всю длину жизни, превращаясь уже в систему, дисциплину. Человек не просто получает повод устрашиться и задуматься, как в случае с конкретным наказанием, но призван к осмыслению жизни самой краткостью своих трудных дней. Поскольку богоявление на Синае, когда весь народ слышал голос Бога, согласно Второзаконию, имело целью именно такое обучение народа, – «С неба дал Он слышать тебе глас Свой, чтобы наставить тебя (ךרסיל, παιδεῦσαί οε), и на земле... ты слышал слова Его из среды огня» (Втор 4:36), – то можно сказать, что самому Откровению усваивается здесь «педагогический» характер. Глагол רסיי можно было бы перевести здесь как «наставить», но перевод Семидесяти, как обычно, сохраняет постоянство в интерпретации его корня. Народ представляется ребенком, которого Бог «обучает» Своим законам или «воспитывает» ими. Поэтому, в частности, ἁμαρτήματα παιδείας; в Прем 2:12, в параллель с ἁμαρτήματα νόμου, следовало бы перевести не как «грехи воспитания» (Син), а как «грехи против воспитания»1273.
Близость пайдейи к Закону демонстрируется и несколькими фрагментами книги Притчей. В одном из них перевод слова רסומ двоится: ἄκουε, υἱέ, παιδείαν πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου {слушай, сын, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей} (Притч 1:8). В кодексах Александрийском, Синайском и некоторых других вместо παιδεία читается νόμους. В другом «соблюдение заповеди» отождествляется с непренебрежением к «наставлению отца» (Притч 15:5). В переводе кн. пророка Иеремии ставится знак равенства между понятиями «слушать Бога» и «принимать учение» (Иер 17:23)1274. Глаголом, выражающим процесс наставления в Законе, в переводе пророка Иеремии становится διδάσκω (евр. דמל): «И Я учил их с раннего утра, учил, но они больше не стали слушать и принимать учение» (Иер 32:33). У того же пророка есть место, где все отмеченные выше в этом пункте значения совпадают: παιδεία отождествляется с λόγοι {словами} Господа, которые, в свою очередь, представляют собой заповеди, подобные тем, что Ионадав Рехавит ἐνετείλατο{заповедал} своим сыновьям (Иер 35). Согласно книге Премудрости, «дары наставления» сообщают человеку πρὸς θεὸν φιλίαν {любовь к Богу} (Прем 7:14).
Особо стоит отметить, что παιδεία подразумевает не только знание закона, но и его соблюдение. Человек, нарушающий закон, определяется как «ненавидящий» обучение: σὺ δὲ ἐμίσησας παιδείαν καὶ ἐξέβαλες τοὺς λόγους μου εἰς τὰ ὀπίσω {ты же возненавидел наставление и отбросил слова мои назад} (Пс 49:17). Соответственно, – как пример уже упоминавшейся логической инверсии, – так как только путь праведной жизни «сохраняется наставлением», для грешника все тяготы его воспитания оказываются бесполезными (Притч 10:16–17). Итак, существует множество контекстов, в которых ncu6eia как «наставление» сводится к привитию определенных норм поведения, т.е. к «воспитанию» в его нравственно дисциплинирующем и законосообразующем смысле. Причем такое понимание термина приобрело систематический характер, судя по тому, что он проникает также в те места, где уже не является переводом слова רסומ. Так, Давид просит: «Благости, правоте (םצט, παιδείαν) и знанию обучай меня, ибо заповедям Твоим я поверил» (Пс 118:66)1275. Пророк Исайя провозглашает: «Господи, высока Твоя мышца! Но они не знали, когда же уразумеют, постыдятся. Ревность охватит народ необученный (ἀπαίδευτον), и теперь же огонь супостатов пожрет» (Ис 26:11)1276. В книге Премудрости Соломона тот же смысл: «Велики и непостижимы суды Твои, посему необученные (ἀπαίδευτοι) души впали в заблуждение» (Прем 17:1). В этой же книге παιδεία представлена и как педагогический процесс, напрямую зависящий от соблюдения нравственного закона: «В лукавую душу не войдет Премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху, ибо Святой Дух наставления удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды» (Прем 1:4–5)1277.
в. б) вразумление
Семантика слова רסומ и привязанного к нему переводом греческого термина παιδεία расширяется за счет отрицательной стороны того же воспитания в духе Закона – обличения уклоняющихся от него. Это словесное наказание (по-славянски, как правило, наказа́нїе) следует отличать от наказаний, рассмотренных в пункте [а], так как оно не является взысканием в строгом смысле слова (выговором, публичным осуждением), но имеет характер скорее приватного указания на неправильность поступка. Тем не менее обладание правом на обличение было весьма значительной привилегией: так, в книге Второзакония полагается смертная казнь сыну, который «не послушает» отца и мать, когда они «обличат (ורסי, παιδεύσωσιν) его» (Втор 21:18). Возможно, так же в смысле обличения (т.е. уведомления человека о его неправоте или устыжения) следует понимать глагол παιδεύω в законе касательно мужа, оговорившего свою жену в несохранении добрачного целомудрия: после выяснения истины старейшины должны не просто наложить на него соответствующие санкции (денежная пеня, уплачиваемая тестю, и запрет на развод с оклеветанной женщиной до конца жизни), но в первую очередь «обличить его» (Втор 22:18).
В книге Иова возмущенный дерзостью ответов праведного страдальца Софар Наамитянин называет его речь «упреком, позорным для меня», что Септуагинта переводит как παιδεία ἐντροπῆς μου (Иов 20:3). Другие примеры, где термин употребляется в том же значении упрека, – это три стиха из книги Притчей (Притч 12:1, 13:18, 15:32) и примыкающий к ним стих 16:17а, прототип которого в МТ отсутствует. Во всех этих местах παιδεία образует параллель с понятием ἐλέγχος {обличение}. Кроме того, еще в одном стихе с подобным содержанием παιδεία выступает не эквивалентом רסומ, а в качестве конъектуры слова σοφία (Притч 1:29)1278, чем подтверждается сознательность словоупотребления, рассмотренного в настоящем пункте. Очень трудно провести грань между «обличением» и «вразумлением». По-видимому, παιδεία иногда служит переходом от упрека к тому, что им психологически подготавливается: «Он обличает (ἐλέγχων) и вразумляет (παιδεύων), и поучает (διδάσκων), и обращает, как пастырь стадо свое; Он милует принимающих вразумление и усердно обращающихся к Закону Его» (Сир 18:13).
г) разумение
Самые необычные контексты употребления термина παιδεία – в нескольких пророческих фрагментах, где он не является переводом слова רסומ, а соответствует в каждом случае особому элементу оригинала.
В одном случае оно передает смысл слова םידמל. «Господь, Господь дает мне язык разумения (παιδεία), чтобы знать, когда подобает говорить слово. Поставил (ἔθηκέ) меня [бодрствовать] заутра, заутра; приставил (προσέθηκέ) мне ухо, чтобы слышать. И разумение (ἡ παιδεία) Господне, Господне открывает мне уши, а я не сопротивляюсь, ни говорю вопреки» (Ис 50:4–5). Здесь речь идет о понимании смысла пророчества, которое дается пророку во внутреннем чувстве и сообщает ему, когда следует молчать и когда говорить. Как «утро» параллельно Господу и слуху, так «язык понимания», очевидно, параллелен «пониманию от Господа»1279: это не язык речи, а язык вéдения, и уже предметом последнего является то, «как подобает говорить слово». Для того, чтобы говорить, пророку сначала нужно слушать. Это утверждение далеко от понимания пророческого дара в современной теологической библеистике, которая обычно трактует этот дар как род поэтического вдохновения, а значит, и самого пророка представляет как говорящего или даже «кричащего»1280, но едва ли успевающего прислушиваться. Оно значительно ближе к уже приводившейся нами формуле Филона Александрийского: «Пророк есть переводчик Божий, а Богу мы не можем приписать погрешности» (Филон. Наград. 3). Действительно, «учение» выступает здесь посредником, наподобие переводческого дара, между непостижимой волей Бога и земным языком пророка. Употребление термина Ttai6eia для передачи этого смысла, вероятно, связано с тем, что пророк предстает здесь орудием воспитывающих и обучающих действий Бога. Он их истолкователь и, прежде чем говорить к людям, сам должен получить истолкование.
Другой пример представляет контекст перевода слова דוס {основание}. Прежде всего рассмотрим одно обличительное пророчество Иеремии: «Воздвигну руку Мою на пророков, видящих ложь и провещающих суетное: в разумении (דוס, παιδεία) народа моего не пребудут, ни в записи дома Израилева не напишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнают, что Я Господь» (Иез 13:9). Можно предположить, что здесь имеется в виду роль пророков как учителей и наставников народа: ложные пророки, противостоящие Иеремии, за свои выдумки этой привилегии будут лишены. Однако семантика слова דוס не включает в себя каких-либо аспектов, которые бы связывали его с учительской деятельностью. Гипотетически, ошибка писца могла превратить его в רסומ, или наоборот. Но два следующих примера подтверждают связь имеющихся в еврейском и греческом тексте чтений, располагая к более глубокому осмыслению этой связи.
«Не сотворит Господь Бог дела, если [прежде] не откроет намерения Своего (ודוס, παιδείαν αὐτοῦ) рабам Своим, пророкам» (Ам 3:7). Смысл этой фразы кажется ясным: Бог предварительно раскрывает через пророков целевую причину Своих действий. Важно, что это не буквальный перевод, а интерпретация. Переводчики Септуагинты видят, несомненно, слово דוס, которое в собственном смысле значит «основание», и толкуют его в соответствии с известной им философией истории, которая выше уже демонстрировалась: история, личная и общественная, есть воспитание человека посредством событий, санкционированных Божественной волей. Возможно, в это же поле интегрируются и остальные значения: «дело» (πρᾶγμα), которое собирается сотворить Бог в историческом времени, раскрывается перед пророками как сокровенный смысл притчи, поучения, обличения и наказания.
Отрывок из греческой книги пророка Аввакума полностью подтверждает приведенные выше соображения: «Разве не Ты от начала, Господи Боже, Святый мой? И мы да не погибнем! Господи, Ты для суда поставил его [т.е. халдейский народ] и создал меня, чтобы я раскрыл смысл его (ותדסי, παιδείαν αὐτοῦ)» (Abb 1:12). По контексту речь идет о вавилонском нашествии. В современных переводах с МТ ותדסי интерпретируется как форма глагола: «Ты основал его», иными словами – «Ты поставил его для нашего наказания»1281. В сущности, смысл греческого текста тот же самый: пророк объявляет Израилю замысел Бога, сокровенный в его страданиях. Но стоит обратить внимание на то, как склонен переводчик интерпретировать свой текст: он считает собственным значением лексемы דסי – «основание», в том смысле, в каком мы употребляем это слово, когда говорим о причинах какого-либо разумного начинания. Таким образом, παιδεία приобретает значение предмета объясняющего воспитания, которое умудряет воспитанника и заставляет его посмотреть на полученные им раны с точки зрения воспитателя.
Итак, можно считать несомненным, что аналогичный перевод в книге пророка Иеремии, о котором говорилось в начале данного пункта, явился как результат определенного понимания переводчиками слова דוס и может быть перефразирован так: «В разумение судеб народа Моего они не будут посвящены». Или, если переводить с учетом последующего контекста: «Вместе с народом Моим они не уразумеют смысла происходивщих событий», – т.е. исторические уроки окажутся для них напрасными. Кроме того, значение термина παιδεία из цитировавшегося фрагмента книги пророка Исайи, несмотря на другой еврейский эквивалент, оказывается созвучным этому и могло также повлиять на выбор, сделанный переводчиком.
д) образованность
В Письме Аристея сами переводчики Септуагинты описываются как отличающиеся «пайдейей» именно в этом смысле (гл. 121), что свидетельствует о рецепции данного понятия из эллинской культуры1282. Тогда как предыдущие категории, кроме последней, в основном представляли воспитание как процесс, то в данном пункте речь идет о достигнутом результате. Для его характеристики термин «воспитанность» представляется слишком узким, а соответствующее последнему термину человеческое качество – слишком функциональным. Уже то, что человеку дается совет вести себя за столом умеренно «ради пайдейи» (Сир 31:19), показывает не механический – осознанный характер ее применения. Усвоенная, т.е. не пропавшая даром, παιδεία, согласно Септуагинте, «узнается всеми проходящими» (Притч 15:10), в особенности «от речи языка» (Сир 4:28).
Ее теоретически можно «познать» (γνῶναι), как познают мудрость и «понимают изречения разума» (Притч 1:2)1283. Практически она отождествляется, например, с кротостью, как в Сир 26:17, где «кроткая жена» обладает «благовоспитанной душой». Поэтически ассоциируется со «страхом Божиим» как основной нравственной добродетелью Ветхого Завета, на что указывает одно изречение в книге Притчей, имеющее в Септуагинте свои особенности: «Начало премудрости – страх Господень, и разум благ для всех, кто творит это. Благочестие по Богу – начало чувства, мудрость и образованность (παιδείαν) нечестивые вменяют ни во что» (Притч 1:7). Перевод данной притчи является аналитическим1284. Первая часть переведена дважды разными способами (выделены курсивом), а между этими двумя переводами вставлено пояснение, согласно которому к полагающим начало мудрости, т.е. к творящим заповеди («богобоязненным»), разум «благ» – расположен, доступен. В альтернативном переводе страх Божий переосмыслен как «благочестие к Богу» (εὐσέβεια εἰς θεόν), мудрость – как «чувство», а во второй части притчи сказано, что лишенные благочестия (ἀσεβεῖς) презирают мудрость и παιδεία. Если παιδεία в данном контексте отождествляется с добродетелью страха перед Богом (ср. Притч 6:23), то ясно, что здесь акцент перенесен с внешнего на внутреннее: страх «наставляет» не в смысле обучения новым знаниям и навыкам, а в смысле направленности мыслей и поступков, он выполняет в данном случае функцию формирования личности, т.е. является ее «образованностью».
«Поздно я обратился и стал оглядываться, чтобы найти образованность» (Притч 24:32), – сетует ленивец в интерпретации перевода Семидесяти1285. Здесь παιδεία – результат, которого надо было добиваться раньше, в молодости, а теперь поздно: «Немного я дремлю, немного сплю, немного сижу сложа руки, – если так делаешь, придет, поспешая, нищета твоя и бедствие твое, как скороход» (ст. 33). Точно так же отмечается, что словами невозможно воспитать (οὐ παιδευθήσεται) строптивого раба: «если он и поймет, не послушает» (Притч 29:19). Здесь, очевидно, понятие образованности шире представления о дисциплинирующих наказаниях, раз включает их в себя как средство.
«Не шути с невеждою (μὴ πρόοπαιζε ἀπαιδεύτῳ), чтобы не подверглись бесчестию твои предки», – говорит, играя словами, переводчик Премудрости Сираха (Сир 8:5). Здесь шутка, нечто детское и непосредственное оказывается неуместной в общении с тем, кто упустил в юности возможность быть правильно воспитанным и образованным. Там же далее отмечается, что по рассказам и притчам, выслушанным от мудрых, можно усвоить образованность, которая делает пригодным к занятию служебных должностей (ст. 8:10). О «необразованности» царя, который «погубит город свой» (ст. 10:3), говорится, очевидно, в комплексном смысле: он и недостаточно наставлен в своем деле, и не стяжал мудрости, вследствие чего не обладает «разумом» (σύνεσις). Необразованные постоянно говорят ложь (ст. 20:24) – здесь нравственный порок, заслуживающий наказания (обман), расширяется до понятия о дерзости, когда человек охотно говорит о том, чего не знает, и, таким образом, совпадают смыслы «пайдейи» как «обучения» и «воспитания».
В целом ряде случаев Септуагинта использует слово παιδεία в значении «образованность» вне прямой связи с нынешним еврейским текстом. Так, особенное чтение Септуагинты – «Благая награда ἡ παιδεία для владеющих [ею], куда бы ни обратился такой, будет благоуспешен» (Притч 17:8)1286, – очевидно, предполагает именно «образованность» как готовый плод трудов, являющийся «наградой» за них и годный к употреблению для того, кто приобрел ее. Другое чтение, также расходящееся с МТ, вводит понятие «образованных сердцем» (πεπαιδευμένοι τῇ καρδίᾳ): «Десницу Твою дай мне познать, и образованных сердцем в мудрости» (Пс 89:12)1287. Можно перевести: «наставленных сердцем». Так или иначе, совершенное время глагола подразумевает наличие морального качества, которое приобретено сердцем. В третьем чтении, не имеющем точного соответствия с МТ, цари и судьи земли, восставшие «на Господа и на Помазанника Его», призываются «принять παιδείας, чтобы не прогневался Господь, а [тогда] вы погибнете с пути праведного» (Пс 2:12)1288 Перед этим сказано: «вразумитесь» (ורסוה, παιδεύθητε). Предметом вразумления, по контексту, является то, что Господь дал Своему Помазаннику в обладание «концы земли». Таким образом, здесь имеется в виду или знание, как в предыдущем пункте, или, что вероятнее, – поскольку речь идет о языческих царях, – покорность воле Бога, достигаемая в данном случае как παιδεία, т.е. понимание, образованность.
Наконец, есть еще четвертое уникальное чтение: «И десница Твоя приняла меня, и ἡ παιδεία Твоя исправит меня до конца, и ἡ παιδεία Твоя – она меня научит» (Пс 17:36)1289. Десница – символ руководства, поэтому вполне очевидно, что и дальше в развитии поэтической речи здесь подразумевается руководство Бога, которое доводит верующего человека до совершенства. Можно понять это также в более сниженном смысле: «исправит до конца» (ἀνώρθωσε εἰς τέλος), т.е. всегда будет наставлять на правый путь. Однако есть основания полагать, что εἰς τέλος – это специфическое выражение Септуагинты, означающее «до победы» (см. в разделе II. 2.3 ΤΈΛΟΣ), а тем самым указывающее все-таки на «совершенство» (τέλειότης) и возвращающее нас к заглавию настоящего параграфа.
Употребление термина παιδεία в значении образовательного куррикулума попадает, по всей вероятности, уже из греческой среды в пролог Премудрости Иисуса, сына Сирахова, где переводчик книги, он же автор пролога, трижды называет его: во-первых, когда говорит об «образованности и мудрости в Израиле», которые могут приносить пользу «находящимся вне» Палестины «словом и писанием»; во-вторых, когда упоминает о замысле своего дела – «написать нечто, относящееся к образованию и [усвоению] мудрости»; в-третьих, когда сообщает о том, что, прибыв в Египет, нашел здесь «немалую востребованность образования»1290. Кроме того, содержание всей книги суммируется как «учение (παιδεία) разума и науки» (Сир 50:27). Таким образом, переводчик удостоверяет нас в том, что иудейские писатели его времени сознательно употребляли термин παιδεία и прилагали его к своим собственным образовательным традициям, в том числе тем, которые требовали перевода на греческий язык.
Рассмотрев разнообразные примеры употребления слова παιδεία и однокоренных с ним в Септуагинте, мы можем сделать, главным образом, два вывода. Во-первых, определяющим для практики употребления этого слова стало его закрепление как перевода еврейского רסומ. Именно к последнему относится почти все многообразие значений, которое заставляет интерпретировать поставленный от него в зависимость греческий термин с помощью представленного выше различения аспектов. Во-вторых, на основе своей практики перевода создатели греческой Библии выработали собственную традицию употребления этого слова, что позволяет говорить и о наличии в их среде соответствующего самостоятельно сформированного понятия, которое было призвано дать греческому термину, обозначающему «воспитание» человека в самом широком смысле, библейское содержание. То, что единство данного понятия осознавалось, в ряде случаев демонстрируется игрой слов, например в Сир 42:8, где παιδεία сначала предстает как «вразумление» невежд, а во второй части фразы – как «благовоспитанность» самого вразумляющего, судить о которой можно по тому, что он не устыдился обличить их. Ясно, что речь идет об одной и той же «пайдейе», но как бы о разных уровнях и аспектах ее. Она в любом случае возводится к категориям Закона и Премудрости.
Отличия иудео-эллинистической образованности от греческой могут быть суммированы в следующих пунктах:
1) она есть дело Бога в не меньшей степени, чем человека;
2) она направлена не только на индивида, но и на целый народ, а в перспективе – на все человечество;
3) ее средствами являются не только физическое принуждение и словесные наставления, но и события, побуждающие обратиться к Богу;
4) в нее входит, как составная часть на высоком уровне, также пророческое истолкование этих событий;
5) ее главным предметом является Закон, в широком смысле понимаемый как воля Бога;
6) для нее характерно фокусирование на нравственности, а требования к внешней культуре индивида, столь важные для греческой эфебии, ограничены нормами Закона и, так сказать, его эстетикой;
7) она является средством достижения мудрости, понимаемой также в специфически библейском смысле, – как постоянная направленность ума на познание замыслов Бога в природном, историческом и нравственном плане.
Как и греческая, иудео-эллинистическая παιδεία охватывает всю жизнь человека – от младенчества до «совершения» – и вбирает в себя весь спектр воспитательных средств: от телесных наказаний до обучения искусству толкования притчей. Но в своем своеобразии она представляет альтернативу греческой, не случайно сформировавшуюся в континууме эллинистической цивилизации среди евреев, дороживших своей ортодоксальностью. Можно согласиться с Йегером, когда он определяет в целом пайдейю эллинистического периода как гуманизм «классической теологии духа»1291, и применить эту красивую формулу также к идее человеческого совершенства в Септуагинте, однако нельзя будет перенести на нее все те черты, которыми немецкий ученый наделяет воспитание грека постклассической эпохи: в первую очередь, отказ от государственного служения, созерцательность и подражательность.
Прежде всего в греческой Библии, как вообще в Библии, нет места индивидуализму позднеантичной антропологии, связанному с разрушением традиционных устоев и потерей привычных ориентиров. Она имеет ясные теологические (Бог Израилев), исторические (Исход из Египта), географические (Иерусалим) и эсхатологические (пророчества о грядущем веке) точки устремления, которые поддерживают библейского человека в лишенном всякой дезориентации состоянии. Обращенность к личности человека, к его эмоциям, к «чувству» (αἴσθησις), о гносеологическом значении которого будет сказано ниже, большая, чем в классической философии античности, была освящена библейской традицией (псалмы Давида, «плачи» пророков и пр.), а потому вполне органично сочетается с тем, что воспитание индивида не мыслится вне системы воспитания народа в целом, которая имеет непререкаемый авторитет, обеспеченный ее божественным происхождением.
«Созерцательность» в духе философии позднего эллинизма греческой Библии также не присуща: достаточно сравнить построения Филона Александрийского, идущие, при всей их оригинальности, в общем направлении развития философии среднего платонизма, с проявлениями весьма умеренного интерпретативного творчества толковников даже в передаче таких «свободных» книг, как Притчи Соломона или Премудрость Сираха (вообще не огражденная боговдохновенностью от возможности внесения изменений), чтобы понять, что в целом Септуагинта «консервативна» по отношению к мировоззренческим тенденциям своего времени, а в частности философская отвлеченность присуща ей примерно в той же мере, что и канонической литературе Премудрости, создававшейся на еврейском языке без прямых корреляций с эллинизмом и его сущностными чертами. Например, в книгах Екклесиаста или Иова хотя и можно найти мысли, делающие их исторический фон сходным с эпохами великих разочарований, все же их общая тональность, как видно при анализе текста, в том числе их греческого перевода, не может быть истолкована в духе «созерцательности», связанной с неудовлетворительностью земных реалий, – последние находят разрешение всех своих противоречий в Боге, предстающем их действительной причиной и тем самым оправдывающем все творение, которое по-прежнему «хорошо весьма».
Сказанное уже отчасти снимает с программы воспитания античного иудея, по Септуагинте, и подозрение в эллинистической подражательности. Для эпохи диадохов подражательность вполне органична, так как она была, собственно, временем канонизации античной классики, обработки огромного материала, который достался организованному имперскими администрациями ученому сословию от периода бурного развития аттической культуры; он и подготовил выплеск эллинства на просторы Азии, где оно подверглось некоторой моральной энтропии. Греческая Библия создавалась как бы в параллельной реальности: она была переводом совершенно иной, «варварской философии» (как хвалебно скажет потом Климент Александрийский), и уже потому не могла стать «подражанием» в собственном смысле слова; будучи трудом, несомненно, людей ученых, она не запечатлела следов соревнования их эрудиции, наоборот являя местами то ли робость переводчиков, оставляющих некоторые термины без всякого разъяснения, то ли еще свежую память их читателей, не вполне оторванных от своей национально-исторической почвы. Количество глосс в ней крайне незначительно (много больше агадических и мидрашистских вставок), при этом ничего не известно и о каких-либо попытках создания специального научного аппарата в духе александрийских ученых штудий – Аристарха, Каллимаха или Аполлония, – который позволил бы читателю лучше разобраться в «классике», а новым писателям – успешнее подражать ей.
Все это не значит, однако, что Септуагинта была оторвана от процесса воспитания реального человека, который с ортодоксальной точки зрения как был, так и оставался человеком библейским. Напротив, есть основания полагать, что именно для его воспитания, в противовес проникавшим из окружающей культурной среды эллинизирующим и синкретистским тенденциям, толковниками было сознательно много сделано. Перевод книги Сираха, как одна из важных и хорошо засвидетельствованных исторически вех на пути создания «иудейской» (в отличие от «эллинистической») греко-библейской литературы, свидетельствует о наличии социально и мировоззренчески обоснованной потребности в этом. Как масштабную апологию ортодоксии рассматривают специалисты удивительно гибкий перевод Притчей Соломона (о нем будет говориться в следующей части этого раздела). Но самым ярким неканоническим памятником дальнейшего развития той идеи воспитания, что была заложена в Септуагинте, является 4-я книга Маккавеев, разбор которой дает полное видение программы иудео-эллинистического воспитания.
Палестра мучеников: идеал воспитания юношества
«Умереть за Закон» (4 Мак 6:27) – такой призыв мог быть по-своему понятен и греку, и римлянину, и еврею. То, что чисто эллинский ум интерпретировал как религиозный фанатизм варваров, представлено в этой риторически отточенной проповеди как «философское слово» Израиля, которое ни в чем не уступает высшим достижениям умственной деятельности народов. Сюжет книги, хотя она и «выпала» из широкого состава канона, всегда был хорошо известен читателям Септуагинты благодаря 2-й кн. Маккавейской, где также рассказывается о мученичестве старого священника Елеазара, семи отроков и их матери, которая вынуждена была сделаться зрительницей казни своих сыновей и «поощряла каждого из них на отечественном языке» (2Мак 7:21). В этой повести каждый из семи произносит краткую речь; смысл всех их заключается в уповании на Бога, Который «опять оживит» умерших (ст. 7:14), а нечестивого царя «и семя его» покарает (ст. 7:17). События происходят накануне освободительного восстания Маккавеев против наместников сирийского царя Антиоха Епифана из династии Селевкидов, насильственно насаждавшего эллинизм и запретившего соблюдать иудейский Закон под страхом смерти. В 4-й книге эти события становятся поводом для глубокого осмысления стойкости мучеников за веру как ἱστορίας τοῦ σώφρονος λογισμοῦ {истории разумного помышления} (4 Мак 3:19), которое вполне проявило себя в «согласной с Законом и любомудрой по Богу жизни» (ст. 7:7). Именно то, что действующими лицами этого мученического акта являются дети, позволяет автору все время делать акцент на «отеческом воспитании» как основной ценности, которую мучитель их уговаривает предать. Поэтому книга в целом, имеющая характер не только риторического восхваления, но и этического исследования, предстает как систематизация норм иудейского воспитания, цель которого заключалась в формировании характера библейского человека, чей идеал выражается здесь в терминах греческой культуры.
Стоит оговориться, что само по себе понятие антропологического идеала Ветхому Завету незнакомо: человек не может жить хотя бы один день и не согрешить (Иов 14:4–5, ср. 2Пар 6:36), а потому Тот эсхатологический Образ, Которому вверен суд над человечеством, есть еще только «как бы Сын Человеческий» (Дан 7:13)1292. Отсюда само появление системы, ориентированной на идеал, в рассматриваемом произведении есть результат введения греческой образованности в иудейский контекст и свидетельство стремления в рамках эллинистической риторики и философии прививать молодым людям религиозную веру их отцов, показывая пример идеального поведения, возвышающий библейского человека над соблазняющим его эллинизмом посредством «превосходной философской речи» (4 Мак 1:1)1293. М. Хенгель возводил начало этого стремления к Премудрости Сираха, у которого впервые появляется ареталогия (Сир 36:13), т.е. похвала добродетелям как жанр, а использование слова ἀρετή {добродетель} применительно к Богу в переводе кн. пророка Исайи (ст. 42:8) видится ему также одним из ранних признаков интереса иудеев-эллинистов к этой тематике1294.
«Божественной философией» названа в маккавейском трактате та сумма качеств образованного в Законе человека, «речь» (λόγος) о которой должна быть «удостоверена делами» (ст. 7:9). В ней собственно παιδεία представляет собой этический раздел: «[Закон] учит нас благоразумию, чтобы мы над всяким удовольствием и желанием господствовали, упражняет в мужестве, чтобы всякую боль терпеливо переносили; воспитывает в добродетели, чтобы всем обычаям были послушны, учит благочестию, чтобы чтили единого Бога по достоинству Его величия» (ст. 5:23–24). В процитированной фразе дважды встречается глагол «научать» (ἐκδιδάσκω), единожды «упражнять» (ἐξάσκω) и единожды «воспитывать» (παιδεύω). Но этот последний наиболее концептуален, и его связь с понятием о добродетели является прочной. Когда третий из мальчиков на исходе своих мучений говорит царю: «За воспитание (παιδείαν) и Божественную добродетель (ἀρετήν) мы это терпим» (ст. 10:10), – не приходится сомневаться в том, что все рассмотренные выше категории сконцентрированы в идее воспитания, которое здесь фактически тождественно добродетели.
Сам Закон, который выше был назван воспитателем (ср. тж. ст. 5:34), является и предметом воспитания: «Они были воспитаны в одном и том же Законе и упражнялись в одной и той же добродетели» (ст. 13:24). Последовательно подчиняя идеалам библейской антропологии категории эллинской, автор так же последовательно вводит их в свой текст. Читая 4-ю книгу Маккавеев, можно получить обзор иудео-эллинистической «пайдейи» как целостной системы воспитания. При этом следует обратить внимание на формальные различия с более древними пластами предания и на причины этих отличий. Ясно, что семь отроков, поставленных перед угрозой мучительной смерти, находятся в сходном положении с тремя молодыми людьми, брошенными в печь по приказу Навуходоносора (Дан 3; прямая ссылка на этот рассказ в 4 Мак 13:9). В обоих случаях имеет место принуждение к отправлению языческого культа, категорический отказ от участия в нем, прение с царем, претерпевание мук и продолжение вдохновенной речи в самое время мучений. Но самое начало речи героев книги Даниила, обращенной к царю, характерно: «Нет нужды нам отвечать тебе на это» (Дан 3:16). В отличие от них, отроки Маккавейские полны решимости говорить с ненавистным им Антиохом Епифаном пространно и велеречиво. Это позволяет понять характер обеих книг: первая обращена к читателю, полностью живущему в пространстве библейского мира, где языческий царь не представитель другого мировоззрения, а один из структурных элементов самого этого мира, делящегося на священное (иудейское) и профанное (языческое). Говорить с ним, в принципе, не о чем, несмотря на то что впоследствии Навуходоносор оказывается, в отличие от Антиоха, восприимчив к почитанию единого Бога. Отсюда видно, что «говорить» для библейского текста – значит обращаться к своим, а не к чужим; священный текст сам по себе не имеет миссионерской направленности.
С 4-й книгой Маккавеев дело обстоит иначе. В ней Антиох Епифан сделан точкой, которая фокусирует на себе всю энергию самой активной проповеди библейской веры на греческом языке. Это не значит, что проповедь непременно должна быть обращена именно к эллинам. На наш взгляд, нет достаточных оснований предполагать и то, что она была обращена против христиан, как бы противопоставляя их мученичеству первых веков претерпевание мук за соблюдение Закона1295. Такое противопоставление заранее проигрывало хотя бы тем, что в нем прошлое соперничало бы с настоящим. Проповедь могла быть обращена прежде всего к иудеям, но эллинизированным, – она как бы пропущена через их эллинистическую «пайдейю» или, наоборот, перестраивает ее внутри себя, – а уже через них и к греческим слушателям синагог, и ко всем слушателям «превосходной философской речи». В лице Антиоха эллинистический мир бросает вызов библейскому как другой системе воспитания, обвиняя его в бессмысленности. Увещевая Елеазара вкусить идоложертвенное, царь высокомерно говорит ему: «По-моему, ты до сих пор не обдумал философски принятые у иудеев обычаи... Не очнешься ли ты от сна пустейшей вашей философии, не отряхнешь ли помышление твое от болтовни, чтобы, приняв достойный этого ум, философствовать об истинной выгоде?» (4 Мак 5:7) Вызов этот был прежде всего внутренним, связанным с увлечением эллинизмом самих евреев, а затем уже и внешний, связанный с насилием и насмешкой со стороны врагов. Причем если насилие и насмешка не требуют никакого ответа, кроме мужества, то внутренний вызов, обращенный к разуму, требует в ответ внутреннего слова.
Последняя из Маккавейских книг продолжает тенденции, заметные уже в прологе к переводу Премудрости Сираха – речь идет о выявлении «образованности и мудрости в Израиле», т.е. всего спектра того, что римляне называли humanitas {человечность}1296, как самостоятельной и полноценной национальной традиции, которая отличается от всех других тем, что утверждается на Божественном Откровении. Пользующийся эллинским языком для самовыражения, иудаизм ничем не беднее эллинизма. Ради демонстрации этого приводятся перечисления категорий, имеющих отношение к главному таинству культуры – формированию человеческой личности: «Не обману тебя, Закон-воспитатель (παιδευτὰ νόμε), не покину тебя, любезное воздержание (φίλη ἐγκράτεια), не посрамлю тебя, любомудрое слово (φιλόσοφε λόγε), не откажусь от тебя, священноразумное почитание (ἱεροσύνε τιμία) и наука (ἐπιστήμη) законоположения!» (стт. 5:34–35). Выше упоминалось о том, что подвиг семи отроков осмысляется автором книги как ἱστορία, т.е. назидательный пример из прошлого, а главным героем этой «истории» является «разумное помышление», которое автор чаще называет «благочестивым помышлением» (ὁ εὐσεβὴς λογισμός)1297. Тем самым весь труд наделяется философским характером, так как во главу угла поставлен вполне теоретический вопрос: «Является ли самовластным хозяином страстей благочестивое помышление?» (ст. 1:1) При решении этой проблемы задействуется аппарат философской психологии, напоминающий учение Стой1298.
I. Страсти делятся на четыре категории:
1) вредящие благоразумию (σωφροσύνης κωλυτικοί), например, чревоугодие и похоть;
2) препятствующие справедливости (δικαιούνης ἐμποδιστικοί), т.е. соблазняющие на злые дела;
3) препятствующие мужеству (ἀνδρείας ἐμποδιστικοί): желание, страх и страдание;
4) присущие самому помышлению: забвение и неведение.
Помышление овладевает (κρατεῖ) страстями первых трех порядков, но не властно (οὐ δεσπόζει) над названными в четвертом пункте, так как они присущи ему по природе. Этой дифференциацией снимается возражение, по которому благочестивый помысел вообще не может управлять страстями, поскольку ему самому свойственны забвение и неведение. Примечательно, что авторская мысль не абсолютизирует свободу человека и его власть над страдательной стороной собственной личности. Хотя интеллект управляет природой тела и души, он не может полностью подняться над своей ограниченностью. Этот образ человека, неспособного полностью преодолеть забвение (λήθη) и достигнуть совершенного знания (γνῶσις), выстраивается на протяженности к Богу, в зависимость от Которого поставляется природа интеллекта, не являющаяся самодостаточной.
II. Помышление становится самодержцем (αὐτοκράτωρ) страстей, противоположных трем основным добродетелям, «не так, чтобы разрушить их, но так, чтобы не подчиняться им» (ст. 1:6). Для доказательства этого тезиса дается определение (διάκρισις) понятий: «что есть помышление, что страсть, и сколько видов страстей» (4 Мак 1:14).
1. «Помышление есть ум (νοῦς), согласно с правым разумом (μετὰ ὀρθοῦ λόγου) избирающий мудрый образ жизни» (ст. 1:15). В этой формулировке, конечно, имеется в виду «разумное помышление», а не вообще всякий процесс мысли. Однако важно то, что мысль представляется здесь активностью ума, который, пользуясь «правым разумом», т.е. здравым смыслом, стремится к мудрости, осуществляемой как образ жизни.
1.1. «Мудрость (σοφία) есть знание Божественных и человеческих вещей и их причин; она есть наставление (παιδεία) в Законе, которое обучает нас, во-первых, Божественному, а во-вторых, человеческому» (ст. 1:16–17). Заметим, что, как и в Премудрости Соломона, здесь подчеркивается процессуальный характер «мудрости» как антропологической категории: она не принадлежит человеку, а обучает (μανθάνω) его. Такой смысл достигается путем отождествления ее с «наставлением».
1.2. Видами (ἰδέαι) мудрости являются четыре добродетели: разумность (φρόνησις), справедливость, мужество и благоразумие. «Господствует же над всеми разумность, из которой (ἐξ ᾗς) и помышление овладевает страстями» (ст. 1:19).
1.2.1. Разумность выступает как основное качество помышления, которое дает ему силу возвышаться над всякой похотью; в доказательство этого приводится способность человека воздерживаться от еды и питья (стт. 1:30–35).
2. Страсть определяется через пару противоположностей: удовольствие и страдание. «Обе произрастают (πέφυκεν) [на пове] как тела, так и души» (ст. 1:20).
2.1. Удовольствию предшествует похоть, а последует радость (χαρά).
2.1.1. Похоть может быть как телесной, так и душевной (ст. 1:32).
2.2. Страданию предшествует страх, а последует скорбь (λύπη).
2.3. Общим в паре удовольствие-страдание является желание (θυμός).
3. Помышление – «предводитель (ἡγεμών) добродетелей и самодержец (αὐτοκράτωρ) страстей» (ст. 1:30). Оно описывается как «все возделывающее» (παγγέωργος) и не искореняющее страсти как таковые, а «очищающее, оскабливающее, перекапывающее, орошающее и всяким образом удобряющее материю нравов и страстей» (ст. 1:29).
3.1. Оно способно господствовать над болью (ст. 6:35).
3.2. Оно также правит удовольствиями, «нимало не подчиняясь им» (там же).
4. Закон сам по себе является доказательством основного тезиса трактата, потому что «если Закон требует от нас «не пожелай», то чем еще можно лучше удостовериться в том, что помышление способно управлять пожеланиями?» (ст. 2:6) Человек, которому присущи естественные (τὸ ἧθος) страстные наклонности, как чревоугодие, пьянство, сребролюбие, «перевоспитывается» (μεταπαιδεύεται) действием Закона (ст. 2:7–8). Закон имеет силу для укрощения и благих страстей: любви к собственным родителям и детям, ненависти к врагам, – если эти склонности препятствуют его исполнению (стт. 2:10–14). В глл. 14–15 вводится ряд психологических категорий, в том числе родственное чувство (στοργή) и сострадание (συμπάθεια), которые направляются разумом в правильное русло.
5. Но вполне реализовать способность помышления можно, только полностью предавшись благочестию: «Кто помышляет благочестивое от всего сердца, тот один может обладать плотскими страстями» (ст. 7:18). В этой преданности ключевое положение занимает вера (πίστις) в то, что «Богу не умирают, как не умерли праотцы наши Авраам, Исаак и Иаков, но Богу живут» (ст. 7:19, ср. Мф 22:32, Мк 12:27, Лк 20:38). В другом месте провозглашается, что «одни только еврейские дети непобедимы в добродетели» (ст. 9:18).
6. Герои книги – старик, женщина и семеро мальчиков, т.е. среди них нет ни одного «мужа». Это, по мысли автора, доказывает, что в основе мужества лежит не что иное, как «благочестивое помышление» (ст. 16:1).
Тезисы трактата иллюстрируются, помимо самого мученического акта, библейскими примерами – как из области законодательства (логические умозаключения от меньшего к большему, например в приведенном выше ст. 2:6), так и из священной истории (эмпирические аргументы, опирающиеся на психологический анализ поступка). Заключаются философские пролегомены первых глав книги общим выводом: «Силен разумный ум побеждать принуждение (ἀνάγκας) страстей и угашать воспаление, наносимое жалом, и телесную боль, становящуюся нестерпимой, преодолевать, красотой-благостью помышления оплевывая всю область страстей» (ст. 3:17–18).
Категория «красоты-благости» (καλοκἀγαθία) появляется здесь не случайно. Это чисто эллинское понятие1299, неразрывно связанное с античной культурой, в том числе физической, «похищено» автором совершенно сознательно и поставлено на службу раскрытию идеала совершенства библейского человека1300. Отроки, замученные Антиохом, который сам, – и притом именно он, а не автор, – хвалит их за «красоту» (κάλλος) и «численность» (πλῆθος), названы уже во вступительном слове «ради красоты-благости принявшими смерть» (ст. 1:10). Совершенство библейского человека не предполагает занятий в гимнасиях, – учреждение которых в Израиле прямым текстом ставится Антиоху в вину (ст. 4:20), – и противоположно тому «наслаждению своей юностью», которую царь сулит «принявшим эллинский образ жизни» (ст. 8:8). Но нельзя не заметить, что, разоблачаемые не от одежды, а от самой телесности железными орудиями, юноши оказываются как бы «в гимнасии страданий» (ст. 11:20), где одерживают «атлетическую» (ἇθλα ἔξομεν {возьмем награды}, говорит старший в ст. 9:8) и «аскетическую» победу. В огне, которому преданы их тела, они «преобразуются в нетление, благородно претерпевая муки» (ст. 9:22). Они откровенно смеются над пытками: «Как сладок любой вид смерти за родное наше благочестие!» (ст. 9:29); «Огонь твой прохладен для нас» (ст. 11:26). Они видят самих себя «во всеоружии калокагатии» (ст. 11:22), тем самым представляя свою экзекуцию как бы спортивной ареной, ристалищем. В объяснение характера их подвига вводится даже элемент соревновательности: «общая ревность к калокагатии» не только доставляет им «единомыслие» (ст. 13:25), но и служит причиной того, что каждый последующий из братьев, будучи младше по возрасту, стыдится оказаться в мучениях менее терпеливым, чем старшие.
Подвиг «благородных юношей» (ст. 9:13), – о социальном происхождении которых ничего не сказано, – описывается, также в традициях греческого и римского прославления героев, как «благородное братство» (ст. 10:15) в противостоянии «тирану», которого они «победили терпением, так что посредством их очистилось отечество» (ст. 1:11). В этом «очищении», вероятно, заложен двоякий смысл: отроки вместе со своим учителем Елеазаром в стт. 6:39, 17:21–22 предстают невинной искупительной жертвой «за душу» (библейский мотив, напоминающий о молитве трех юношей в печи Вавилонской), а самый младший из них перед смертью молит Бога о милости «к народу нашему» (ст. 12:17), и вместе с тем ясно, что своим страданием они спасли честь отечества, которая оставалась поруганной уступчивостью большинства иудеев. Книга повествует о событиях до начала Маккавейского восстания, и в своей речи Антиох убеждает отроков, что «война закончена». Сам термин «отечество» (πατρίς), вне всяких сомнений, отсылает к риторике классической пайдейи, для которой еще не характерен отказ от государственного служения, отмечаемый Йегером как признак эпохи эллинизма. Хотя из риторического арсенала он, разумеется, никогда и не выпадал, для автора нашей книги он означает нечто большее, чем просто фигура речи: «отечество» есть синоним «отеческих заповедей», т.е. самой религии.
К теме патриотизма присоединяется тема «братолюбия» (φιλαδελφία), которая проводится так же последовательно и снабжается психологическими пояснениями, подобными этому: «Вместе вскормленные в праведной жизни, они весьма любили друг друга» (ст. 13:24). Их мать называется «матерью народа», «посредством утробы одержавшей победу в состязаниях»1301, «мужественнейшей, чем мужи» (стт. 15:29–30), обладающей «адамантовым умом» (ст. 16:13) и «священной душой» (ст. 17:4). Она сама, сетуя, называет себя τρισαθλία, что можно перевести и как «трижды несчастная», и как «троеборица» (ст. 16:6). При этом, как мать народных избавителей, она сравнивается с Ноевым ковчегом (ст. 15:31). Здесь играет роль и символика числа 7, – число спасшихся в ковчеге, символ полноты и одновременно количество ее детей, – что создает неожиданную параллель с известными мотивами в гимнографии Пресвятой Богородицы. В то же время «воспитателем» (παιδευτής) мальчиков назван Елеазар. По крайней мере поначалу функции между ним и матерью строго разграничены: он выступает как представитель Закона, она – природы. У старца – «священный разум», у женщины – «благочестие», вместе с которым присущи ей качества, «общие человеку с животными»: чадолюбие (φιλοτεκνία), родственное чувство (στοργή), материнское сострадание (συμπάθεια) и другие, послушанием Закону преобразуемые в желание вечной жизни своим детям. Ни трагические, ни героические (в смысле готовности пожертвовать сыновьями за благо отечества) мотивы как таковые здесь не играют роли: они служат фоном, на котором с необходимостью проступает идея воскресения.
Помышления (λογισμοί) самих отроков называются «царственнейшими царских и свободнейшими свободных» (ст. 14:2). Здесь приходит на ум другой, кроме калокагатии, аспект эллинского идеала человека – «царственный муж» (βασιλικός ἀνήρ), и вместе нельзя не вспомнить о том, что именно разум предназначил эллинам, по их собственному мнению, править над варварами. Последняя мысль целенаправленно опровергается ходом повествования. Среди полемически освоенных автором элементов греческой риторики замечательно также обозначение Антиохакак «тирана», ибо тем самым поступок детей интерпретируется как акт гражданского мужества и борьбы за национальную свободу. Софистическому красноречию тирана, убеждающего их «не безумствовать заодно со стариком», они противопоставили твердость разума, который сам, в свою очередь, находится в подчинении у религии: «Ты тиранствуешь нечестиво, но над нашим помышлением, что водимо благочестием, не властен ты ни словом, ни делом» (ст. 5:38). Победа, ими одержанная, расценивается и как успех в интеллектуальном состязании: они превзошли противника в философии (ἀντεφιλοσόφησαν). Здесь тоже предвосхищаются христианские мотивы критики античной культуры: как будут указывать впоследствии св. Иустин Философ, Тертуллиан, Климент Александрийский и др., философия за много веков не смогла научить людей «философской жизни», которой посредством веры, страха Божия, надежды и прочих добродетелей учит их «наша философия», основанная на Священном Писании.
Автору нужно показать своему читателю, что между Антиохом и его жертвами есть диалогическое пространство, которое становится для них местом состязания. Тем самым такое пространство устанавливается и вообще между иудейским и греческим миром. Для этого на уровне нравственного умозрения вводится категория «Божией правды» (ἡ θεὶα δίκη), или «небесной правды» (ἡ οὐρανὶα δίκη), которая как бы заменяет пророческий дар: когда царь покушается осквернить Храм, она «по необходимости» вынуждает народ вступить с ним в войну (ст. 4:21); его не один раз обличают в нарушении этой правды, как будто ему она хорошо известна, и сулят неотвратимость «правды Божьего гнева». Это не единственный элемент объективности, выходящий за рамки традиционной ветхозаветной дихотомии еврейского и языческого. Так, «тирану» адресуется упрек в том, что он велел отрезать язык человеку, «составленному из тех же стихий», что и он сам, и тем лишил себя самого права называться человеком (ст. 11:13). Он именуется «ненавистником добродетели» (μιοάρητος) и «человеконенавистником» (μιοάνθρωπος). Последняя категория особенно ясно выражает объективный характер нравственного блага. Дело, конечно, не в том, что религия древнего Израиля не предполагала наличия у язычников своей добродетельности и своей греховности, которые, будучи определяемы Божьим судом, так или иначе пересекаются со специфическими добродетелями и грехами евреев, – обратное даже не нуждается в особых доказательствах, – но идея этой объективности стала обретать собственное слово именно при встрече с эллинской культурой, которой была в высшей степени присуща идея объективности как таковая.
Влияние античной humanitas на характер авторской аргументации, кажется, нагляднее всего проявляется в объяснении запрета нечистой пищи, за упорство в соблюдении которого мальчики, собственно, и претерпевают все пытки. «Вот почему мы не едим скверного: веруя, что Богом установлен Закон, мы знаем, что Творец мира, сострадая нам, законоположил все согласно с природой; и то, что приемлемо для наших душ, он позволил есть, а то, что им неприятно, пожирать запретил» (ст. 5:25–26)1302. Однако и здесь не следует спешить с выводами. Описанное в Деяниях апостольских видение Петра, который проголодался и узрел с неба спущенный плат, в котором «находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные» (Деян 10:12), отсылает нас не только к немотивированному законодательному запрету. Петр, очевидно, не просто «не позволяет» себе вкусить плоти нечистых животных – он гнушается ими, раз это гнушение ставится в параллель с его отношением к язычникам, и ему требуется не только правовое разрешение, но и богословское разъяснение: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» (Деян 10:15). Такое гнушение, возникшее, вероятно, как следствие ревности к Закону, – хотя по отношению к некоторым видам животных оно могло быть и естественным отвращением, – само по себе становилось одним из возможных ответов на часто задаваемый язычниками вопрос. Мысли, подобные высказанной в 4-й Маккавейской книге, о «естественной» нечистоте запрещенных животных, так сказать, носились в воздухе, и они могли только найти для себя доктринальное подтверждение в иудео-эллинистических умозрениях, например, Филона Александрийского, который провозглашал, что «мир созвучен Закону, а Закон – миру» (Филон. Сотворен., 3)1303. Таким образом, сами они не были с необходимостью вовлечены в систему подобных умозрений. В «гуманизации», т.е. человеческой рационализации библейских установлений, наша книга ближе к Иосифу Флавию, которому она и приписывалась, чем к Филону. От сочинений Иосифа, однако, ее отличает несравнимо больший упор на непосредственную, живую и живительную силу Бога. Клейма исторического катастрофизма и обреченности, когда бы она ни была написана, нет на ней.
Несомненно вне эллинистических влияний находится норма детского книжного воспитания, представленная в заключительной 18-й главе книги как ряд библейских повествований, которые читал мальчикам их отец, когда еще был жив. Каждый из исторических примеров, начиная с Каина и Авеля и кончая Иезекиилем, проповедующим восстание сухих костей (ст. 17), наделяется особым этическим смыслом. В случае с Исааком это, конечно, готовность отца принести мальчика во всесожжение; в рассказе об Иосифе – темница, которую он претерпел, как хорошо известно читателю книги, за свое целомудрие; образ Финееса учит религиозной ревности; об Анании, Азарии и Мисаиле говорится кратко: «в огне». Даниил, попавший в ров ко львам, назван «блаженным». Исайя вспоминается в связи с его фразой «пламя не опалит тебя». Давид – «гимнограф», и его строки о «многих скорбях праведника» отец «напевал» (ἐμελῴδει) своим детям. Из книг Соломона он заимствовал притчу (ἐπαροιμίαζεν) о Премудрости как «древе жизни». Моисей упоминается не в связи с Законом, а в связи со своими песнями, что опять же указывает на специфику «детского» воспитания. Идея обучения на исторических (патриотических) примерах пропущена здесь через специфически древнеизраильское восприятие самих примеров. Соответственно, и рассуждения автора о калокагатии – это не риторическое украшение, не капитуляция перед превосходящими силами эллинской культуры, а результат поиска универсального языка для выражения идеи универсальности Откровения, т.е. такой идеи, которая может быть сообщена человеку человеком через универсального посредника – разум. Если Откровение объективно значимо, то оно должно иметь отношение к человеку, его восприятию красоты и благости как объективных категорий. Человеческое отнимается здесь от эллинского и даже противопоставляется ему: Антиох Епифан – беспомощный софист, а еврейские мальчики – непобедимые философы. И стоит еще раз подчеркнуть, что иудей, живущий в мире эллинизма как человеческом, а значит и своем, мире1304, с объяснением и оправданием своей уникальности, своей особой религиозной роли в этом мире, заключающейся в прославлении Бога перед всеми народами, обращается прежде всего к себе самому.
Оценка библейской антропологической составляющей в концепции воспитания 4-й книги Маккавейской не будет полной, если мы не вернемся к сопоставлению ее сюжета с рассказом пророка Даниила (по греческой версии) о трех юношах в печи Вавилонской. Слишком ясна связь между двумя героическими повествованиями, которую сам автор 4 Мак не устает подчеркивать, упоминая Ананию, Азарию и Мисаила чаще других лиц священной истории. Слишком очевидна, вместе с этим, и разница между ними при обращении к тексту, который звучит в устах Азарии непосредственно во время казни. Вообще речь израильтян в обоих повествованиях имеет одинаковую структуру в том смысле, что часть ее произносится перед началом казни, а другая часть – во время ее. В книге Даниила первую говорят все три юноши как бы хором, а вторая делится на два самостоятельных произведения – молитву, которую сочиняет Азария от лица всех, и хвалебную песнь трех юношей в честь их избавления от огня: последняя поется еще в печи, пока продолжается приведение приговора в действие, на что с недоумением взирает Навуходоносор (Дан 3:91). В 4-й книге Маккавеев каждый из братьев произносит речь накануне и в продолжение пытки. Как правило, первая часть содержит философское обоснование непреклонности в следовании Закону, а вторая – выражение религиозной надежды на воскресение мучеников и наказание тирана. Легко можно заметить, что средний элемент речи трех юношей отсутствует в речах каждого из семи отроков, а именно – покаянная молитва от лица Израиля. Вся проникновенная речь Азарии полна покаянного пафоса, которого вовсе нет в дерзких ответах мальчиков-мучеников царю Антиоху.
Можно было бы усмотреть в последнем обстоятельстве полный отход от библейской пайдейи в сторону эллино-римской героики, если бы здесь автоматически подразумевалось и отсутствие мотива искупительного страдания, который в молитве Азарии был центральным. Но как раз тема искупления в 4-й Маккавейской книге присутствует, как уже отмечалось, причем ее нельзя отождествить с темой героической жертвенности в античной культуре. Подвиг Марка Курция, на коне бросившегося в пропасть, готовую поглотить город Рим, и утолившего своей безупречностью ненасытную алчность преисподней, только по касательной совпадает с «искупительной жертвой (ἀντίψυχον) за грехи народа», в силу которой «за кровь этих благочестивых и за умилостивление [посредством] их смерти Божественный промысел, предварительно причинив Израилю страдания (προκακωθέντα), спас его» (4 Мак 17:21–22). Совпадение имеет место в том пункте, где доблесть одного заслоняет собой малодушие всех и тем «очищает» их от приговора, вынесенного в этико-эстетическом континууме архаического сознания. Грекоримскому видению искупления, однако, не присущи другие, типично древнеизраильские стороны: в Ис 53, Дан 3 и 4 Мак искупитель отвращает наказание не просто доблестной смерью, но тем, что несет его на себе как наказание-воспитание (παιδεία) своего народа; тем самым он становится не только «частью», отделенной от народа («часть» – один из главных терминов жертвенного культа), но и воплощением народного целого, первопроходцем смерти, вождем через юдоль скорбей, которые он берет на себя только в их невыносимости, тем самым открывая всем остальным возможность следовать этим путем в меру их сил. Суть искупления – не просто выкуп за грех, но «несение» греха на сами орудия пытки (апостол Павел пишет, что грех был «распят» на кресте), а тем самым его решительное осуждение и «очищение» народа от него. Исходя из этого становится понятно, почему в словах семерых братьев отсутствует покаяние: пафос их речи, адресованной царю Антиоху и эллинизму в целом, обращен вовне, что существенным образом отличает ее от молитвы Азарии. Не сама по себе идея коллективной вины и ответственности оказывается вытесненой из повествования, но смещается на периферию сюжета, в область авторской теоретизирующей риторики, ее словесное воплощение.
Как уже отмечалось, не случайно героями повествования 4 Мак оказываются дети: это снимает вопрос о доле их личной вины в муках, которые они претерпевают. В истории Даниила возраст юношей, ставших уже царскими вельможами, не может расцениваться как детский, однако предварительно подробным рассказом об их жизни в плену оговаривается безупречность каждого из троих перед Законом. Именно это располагает считать, что принятие на себя Азарией и его сподвижниками грехов «как нас, так и отцов наших» означает разделение вины со своим народом, а не осознание собственной личной греховности. Разумеется, речь не идет о том, что мысли об изначальной греховности всякого человека иудеи того периода не знали или не принимали во внимание. В Ветхом Завете и раннем иудаизме она, несомненно, присутствует. Однако в Библии объективно проводится различение между грехом как хронической нечистотой, «оброками» которой, как позднее скажет апостол Павел, является смерть (Рим 6:23), и грехом как исторически конкретным событием – в плане индивидуальной или общей истории, приближающим реальность смерти. Первый вид греха имеет свое объяснение (Быт 3) и сам служит объяснением печальной участи человека на земле (Прем 2:24). Он обосновывает регулярность жертвоприношений «за грех», которые отодвигают смерть на неопределенный срок или делают ее приемлемой в перспективе правильного погребения «с отцами». Второй поражает читателя Ветхого Завета своей фатальностью. Его следствием оказывается ниспровержение всех надежд, прерывание рода, нависшая угроза общей гибели, отмена жертвоприношений. Последнее как раз и является непосредственным источником темы искупления: если жертвы отменены, а народ может спасти только жертва, то кто-то должен принести себя в жертву от лица народа. Нетрудно заметить сходство ситуаций в повествованиях Даниила и Маккавейской книги: в обоих случаях иерусалимское храмовое служение трагически прекращено.
Сказанное позволяет лучше понять идею искупления в Новом Завете, где утверждается сущностное тождество двух указанных видов греха и раскрывается взаимозависимость между ними (смерть как следствие греха в Рим 5:12 и страх смерти как его причина в Евр 2:15), а фатальным для всех последующих событии историческим фактом оказывается само грехопадение Адама и Евы, вследствие чего невинная кровь Христа, пролитая за них, отменяет все другие жертвы в порядке логической инверсии: на самом деле жертвы отменены заранее своим собственным бессилием перед этим фатальным событием первого греха; они оказываются лишь символами единственно соответствующего ему по своей значимости события искупления. В свою очередь, евангельские тексты делают более доступным понимание смысла воззрений ветхозаветной эпохи. Поскольку исторический грех требует человеческой жертвы, постольку эта жертва должна быть чиста от исторического греха (вопрос о личной греховности может в данном случае не рассматриваться; впрочем, автор 4 Мак его касается, когда рассуждает о невозможности полного искоренения дурных наклонностей), и в ее страданиях происходит его наглядное осуждение, даже наглядная экзекуция: в этом, а отнюдь не только в расчете вызвать удивление и восторг читателя должна усматриваться причина подробных описаний пыток в Маккавейских книгах, которые являются эллинистическим эквивалентом лаконичного, но грандиозного, в духе картин Апоалипсиса, описания «печи Халдейской» у Даниила. Здесь можно говорить об общей логике библейского сознания, в силу которой и крест, как орудие наглядной («позорной») казни, становится символом христианства. Итак, нравственная чистота юных мучеников, как результат их воспитания в Законе, явлена их казнью, ставшей кульминацией воспитания, в подчинении которой выстраиваются все остальные элементы его. Гимнастическое обнажение не тела, но души перед зрителями пыток демонстрирует все тщательно отобранные автором эллинские добродетели, которые он воспринял как универсальные, в том числе гражданское мужество, благородство, братолюбие, великодушие, философский разум и саму калокагатию, истолкованную не через эстетику внешней красоты, а через этос «атлетического» принятия страданий, в чем принципиально предвосхищается средневековая словесная иконография мученичества (кровь-багряница, небесные венцы и прочее). 4-я книга Маккавеев может рассматриваться как summa иудео-эллинистической «пайдейи» и позволяет говорить о последней как о сохранении образа библейского человека в эпоху развития постбиблейской литературы.
3.2.2. ΣΟΦΙΑ
а) Обретение чувства
Тема мудрости будет подробно рассматриваться в мессианском разделе, к которому она, как богочеловеческое качество, имеет непосредственное отношение; здесь же мы отметим только то, что касается одного человека и его возможного совершенства.
Уже говорилось о том, что мудрость живительна. Делая человека посвященным в Божественный замысел о бытии, она способна животворить. И наоборот, ее отсутствие ведет к смерти1305. Будучи знанием целевых причин, мудрость единственная позволяет человеку правильно распоряжаться самим собой. Поэтому, «хотя бы кто и совершен (τέλειος) был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет признан за ничто» (Прем 9:6), т.е. все прочие совершенства не принесут ему пользы.
Как и все, что касается антропологии, мудрость может быть представлена в двух аспектах – внешнем и внутреннем. С точки зрения первого, мудрость представляет собой Божественную славу, явленную через человека. Бог дал людям науку (ἐπιοτήμη), «чтобы прославляли Его в чудных делах Его» (Сир 38:6). Здесь, в частности, приводятся в пример врачи, умеющие извлекать лекарственные составы из вещества. Но этого мало: «На лице ученого (γραμματεύς) возложит Он славу Свою» (Сир 10:5). Посредством человеческой мудрости, понимаемой как часть Откровения, Божественная Премудрость действует так же, как и посредством пророчества. «Я зажгу, как утро, наставление (παιδεία), и сделаю его видимым издалека, еще же учение (διδασκαλία), как пророчество, изолью и сохраню его в роды вечные» (Сир 24:35–36). Второй, внутренний аспект мудрости требует соответственно внутреннего ее описания. Это наиболее интересная тема для исследователя истории мысли, потому что здесь открывается перспектива перехода от чувственного созерцания к умопостигаемому, который совершается, в отличие от подобного перехода в позднейшей александрийской философии, непрерывно и без аллегорического скачка, хотя в то же время не без посредства символа.
Ниже речь будет идти практически только о гносеологии книги Притчей Соломона как представительного, с нашей точки зрения, дидактического текста. Но предварительно надлежит сказать несколько слов о наиболее философском произведении «Александрийского канона» – книге Премудрости Соломоновой. Выше мы говорили о познаваемости как одном из аспектов описания Божества, опираясь в основном на примеры из практики перевода (II. 1.2.2 б). Весьма существенное развитие получает эта тема в объяснении одного события из книги Исход, а именно – ядения израильтянами манны в пустыне:
Ангельской пищей Ты питал народ Твой, и готовый хлеб с неба послал им, не трудившимся, ко всякому наслаждению достаточный и для всякого вкуса подходящий. Так Существо Твое показывало свою сладость детям Твоим и, покоряясь потребности приносящих, превращалось в то, чего каждый из них желал. Снег и лед терпели огонь и не таяли, чтобы знали они, что побивший плоды врагов огонь, горящий во граде и блистающий молнией в дождях, тот же самый, чтобы насытились праведные, забывал свою собственную силу. Ибо создание, Тебе Творцу покорное, поднимается для наказания против неправедных и утихает, чтобы оказаться благим для надеющихся на Тебя. Потому и тогда оно во все прелагалось, когда всепитательный Твой дар служил желанию нуждающихся, чтобы научились сыны Твои, которых Ты возлюбил, Господи, что не разнообразие плодов питает человека, но Слово Твое сохраняет верующих Тебе. Ведь неистлевавшее от огня быстро таяло, нагретое солнечными лучами, дабы стало известно, что подобает предупреждать солнце благодарением Тебе и на восход света обращаться к Тебе. Ибо надежда неблагодарного, как зимний иней, растает, и прольется как вода бесполезная.
Ключевая фраза этого отрывка – «Существо Твое показывало свою сладость детям Твоим» (ἡ ὑπόστασίς σου τὴν σὴν γλυκύτητα πρὸς τέκνα ἐνεφάνισε) – так расходится с традиционными представлениями о библейском трансцендентализме и диссонирует с привычной для историков мысли системой богословской терминологии, что современные переводчики не решаются передавать его буквально1306. Представляется, однако, что автор хорошо понимал, о чем он пишет, когда прибавлял к довольно редкому существительному личное местоимение σου {Твой}, относя его к Богу. Божественную Сущность, как бы она ни понималась им, автор, конечно, не считает доступной для человеческого восприятия. Это очевидно, помимо общих соображений – исходя из прочтения книги в целом, еще ввиду того, что здесь же он подчеркивает созданность манны, хотя она и небесного происхождения. Но на основе легенды, известной также из позднейших иудейских источников, о том, что манна изменяла свои вкусовые качества сообразно потребности каждого, автор проводит тонкое различие между ее природой и свойствами. Природа манны, по его утверждению, – вода, т.е. указание Моисея на сходство манны с инеем он принимает буквально. Это имеет, однако, не столько историческое, сколько символическое значение: манна прозрачна и безвкусна; такова же, по существу, и материя; а качествами, карающими человека или услаждающими его, наделяет ее Творец.
Поэтому если то, что показывает здесь израильтянам свою сладость, вообще имеет некое основание бытия (ὑπόστασις), то оно, разумеется, Божественное, а не тварное. Дело не в том, конечно, что конкретные качества пищи, педагогически приноравливающиеся к слабости «детей» (τέκνα), объявляются собственно Божественными качествами, а в том, что само это приноровление больше говорит о Боге, чем о вкусе пищи; изречение «не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Втор 8:3), сказанное именно в связи с воспоминанием о манне, обернулось противопоставлением «разнообразия плодов» (αἱ γενέσεις τῶν καρπῶν) Божественному Слову (τὸ ῥῆμα), которое и применяется к человеку во всем творении, чтобы напитать его мудростью через чувство. Символом Слова в мире делается свет, и это кажется очень существенным, так как именно свет служит и началом чувственного восприятия. Но свет понимается здесь не вполне как одна из материальных стихий. Оннаходится где-то посередине между материальным и духовным, являясь параллелью или даже одним и тем же с Божественным даром (δωρεά), что обычно, начиная с Вульгаты, переводят как gratia {благодать}.
Поскольку, согласно представлению древних, именно солнечные лучи насыщают плоды сладостью, можно предположить, что, по мысли автора, свет как бы содержался внутри манны, когда она чудесным образом, не теряя свойств снега, оказывалась неуязвимой для огня. Но как только свет занимал свое место на небе и светил на нее извне, она, как бы оставляемая своей силой, таяла и превращалась в воду. Нравственно-аллегорическое объяснение этого мы оставляем за скобками, хотя для полноты картины сохранили его в конце отрывка. Что же касается гносеологии, здесь усматривается присутствие трех уровней познания:
| Чувственный уровень | Символический уровень | Умопостигаемый уровень |
| Манна | Дар | Существо Божие |
| Солнце | Свет | Слово Божие |
Существенно то, что эти уровни неразрывны, переходы между ними не могут быть обозначены как отбрасывание одного и принятие другого, но только как все большее прояснение того же самого, в ходе которого мало-помалу оно становится уже вовсе не тем же самым. Правомерно спросить – что же остается в конце? Одной своей краткой формулой Септуагинта дает ответ на этот вопрос:
Помысел человека будет исповедоваться Тебе,
а оставление помысла будет праздновать Тебе (Пс 75:11).
«Оставление помысла» (ἐγκατάλειμμα ἐνθυμίου), которое «будет праздновать» (ἑορτάσει), несомненно, сопоставляется с субботой. Если молитва, т.е. исповедание Бога, есть принадлежность каждого дня, то принадлежностью каждого праздника является покой. И этот покой, когда «все, кто вокруг Него, принесут дары» (Пс 75:12), по своему гносеологическому статусу ближе всего к созерцанию. Если обратиться теперь, как мы и намеревались, к книге Притчей Соломоновых, то можно будет обнаружить, что путь к достижению этого празднственного состояния описывается равным образом как путь обретения мудрости, знания и чувства.
Известный исследователь еврейской мысли античного периода Э. Гудэнаф в своей книге «Свет – светом» пишет о «страстном желании эллинистического человека пережить эмоционально понятия, усвоенные им из греческого рационализма»1307. Но наряду с этим следует выделить и переосмысление чувственности как одно из религиозно-философских «открытий» эпохи создания первого перевода Библии на греческий язык. Так, в книге Притчей важное место занимает познавательная способность, которую только условно можно называть «эстетической». Слово αἴσθησις {чувство} регулярно является в ней переводом гносеологической категории תעד, наряду с другими ее эквивалентами: γνῶσις {знание}, επίγωσις {познание} и ἔννοια{мысль}. Через перевод одного и того же термина происходит отождествление этих понятий, тем самым чувственность некоторым образом возводится в ранг интеллекта.
Понять это в эллинистическом философском контексте трудно, поскольку чувство, как общее достояние живых существ, обладающих памятью и не обладающих ею (Арист. Мет. 980А22), никогда не причислялось даже к добродетелям. Филон Александрийский аллегорией чувства считал скот, поскольку оно «бессловесно и скотско» (Херувим. 70). От этого взгляда не отличается воззрение скептиков, хотя оно приводит их к противоположным выводам. Так, Секст Эмпирик (II в. н.э.) различает чувственные (αἰσθητά) вещи, которые называют явлениями (φαινόμενα), от мысленных (νοητά), попытка познать которые вводит в заблуждение (Пирр. I. 4). Писатели употребляли глагол «αἰσθάνομαι» в обыденном значении «узнать» (напр., Плутарх. Лукулл, 11). На элементарном характере чувственного познания основывался и стоический сенсуализм, согласно которому «постижение белого и черного, шероховатого и гладкого происходит посредством ощущения (αἴσθησις), а постижение заключений из доказательств, например существования богов и их промысла, – посредством разума (λόγος)» (Диоген. Жизн. VII. 52). Так, у Хрисиппа ощущение и представление (πρόληψις) взаимно дополняют друг друга в качестве критериев истины. Согласно Эпикуру, представления коренятся в ощущениях и дополняют их. Без отрыва от ощущений немыслима как стоическая, так и эпикурейская физика. Итак, в рамках сенсуалистских школ «чувство» не рассматривается как самодостаточная познавательная способность.
Платон иногда использует глагол αἰσθάνομαι в смысле интуитивного восприятия человеком своего собственного душевного состояния (Алкивиад I. 127е). Он упоминает и о возможности «чувственно различить» (διαισθάνομαι) «единую идею, пронизывающую многое... а также многие иные друг другу идеи» (Софист, 253d). Такое словоупотребление вполне согласуется с «эстетическим» характером платоновского космоса, но понимать его следует скорее образно. Вообще отрицая гносеологический статус чувственности (Теэтет, 152; Государство, 510), Платон в одном из своих мифов делает «чувства» (в русс. пер. «видения») одним из видов «общения» (συνουσία) богов с людьми в стране блаженства, наряду с «гласами» (φῆμαι) и «гаданиями» (μαντείαι. Федон, 111 b-с). Понятно, что все эти виды имеют здесь иносказательное значение, чего в случае Септуагинты не позволяет допустить регулярность употребления термина «чувство» и родственных ему. Здесь они представляют собой затруднение для современного переводчика. Пытаясь установить единую семантику для всех его употреблений, словарь Й. Шлейснера (1821 г.) дает слову αἴσθησις толкование: intelligentia clara, perspicientia {ясное понимание, восприятие}. С ним солидаризируются современный немецкий и английский переводы Септуагинты: Wahrnehmung и perception соответственно. В новейшем лексиконе Б. Тэйлора добавлены значения knowledge и feeling.
Интересно сравнить решение этого же вопроса у древних переводчиков. Из них те, которые тяготели к дословности, либо калькировали слово (копт.

), либо передали его буквально (слав. чꙋ́вство), тем самым воспроизведя на своем языке как оригинальный концепт. Но в армянском переводе, отличающемся значительной свободой, для греческого αἴσθησις в каждом случае подобраны эквиваленты, соответствующие контексту (см.: I. 4 и). Это говорит о том, что в древности восприятие священной книги было аналитическим, а не механическим, и по контрасту позволяет оценить усвоенный рассматриваемому слову в самой Септуагинте характер концепта, понять смысл которого можно только путем анализа и классификации контекстов, дающих следующее поле значений.
1. «Чувство» как чувствительность. Это базовое значение, имеющее опору в тех немногих, помимо Притчей, текстах LXX, где употребляются слова с корнем «αἰσθ». В Иер 4:19 оно выражает предчувствие грядущих бед: «Чревом моим, чревом моим болею, и чувствилища (τὰ αἰσθητήρια) сердца моего – смущается душа моя, терзается сердце мое: не умолчу, ибо глас трубы услышала душа моя, вопль брани»1308. В не существующем на еврейском языке Послании Иеремии трижды отмечается (стт. 19, 23:40), что идолы не обладают «чувством», и поклоняющиеся им, по аналогии, названы бесчувственными, т.е. неспособными понять очевидного (стт. 41, 49 Ср. Пс 113:12–16). В Сир 22:21 приводится загадка: «Колющий в глаз источит слезы, а колющий в сердце обнаружит чувство». Следующий стих разъясняет, что речь идет об эмоциональной сфере: «Кто кинет камень в птицу, прогонит ее, и кто упрекнет друга, разорит дружбу». В анонимном указателе к Песни песней на вторую треть ст. 5:2 дан комментарий: «невеста почуяла (ἔσθετε) жениха» сквозь сон, стучащего в дверь. Здесь «чувство» предстает как пробуждение сознания, возможно, не без мистической интерпретации. В Притчах вводится понятие «чувствительное сердце» (καρδία αἰσθητική), которое переживает состояние душевной печали (ст. 14:10). Так истолкован еврейский текст ושפנ תרמ עדוי בל {сердце знающего – печаль душе его}1309, несомненно, по связи с Екк 1:18. В ст. 30 той же главы «чувствительное сердце» – перевод слова האנק {ревность}, и называется оно «молью для костей» (ст. 14:30). Несмотря на это, чувствительность оценивается как достоинство: безумный не чувствует, когда его бьют, а мудрому достаточно слова для того, чтобы его сердце пришло в сокрушение (ст. 17:10).
2. Чувство конкретизируется как чувство меры1310, которым «связаны» уста мудрых, в то время как у безумных и сердца колеблются (ст. 15:7). Для такого понимания находим еще ряд примеров: «чувствительное сердце» не предается «дерзости» (ὕβρις) даже во время веселья (ст. 14:10); любовь к «воспитанности» (παιδεία) равносильна любви к чувству (ст. 12:1); определение «искусности» (πανουργία), или пригодности для всякого дела, сводится к обладанию (κρατεία) собственным чувством (ст. 14:18). Но и само чувство понимается как власть в человеке: «разумный муж» (ἀνὴρ συνετός) назван «престолом чувства» (ст. 12:23).
3. Уточнением предыдущего пункта будет служить определение чувства как соблюдения Закона, заданное композицией следующего фрагмента: «Любит Господь праведные сердца, приятны Ему все непорочные, устами пасет [их] Царь. И очи Господни блюдут чувство, но презирает слова тот, кто преступает закон» (стт. 22:12–13)1311. Здесь «чувство» отождествляется с вниманием к словам Бога, который управляет верными посредством Своих уст. В другом месте находим высказывание: «Чувство моих уст даст тебе заповедь» (ст. 5:2)1312.
4. Отсюда понятно значение чувства как наставления, которое надо уметь принять. Этот смысл выражен в следующем высказывании: «Поищешь мудрости у злых и не найдешь, а у мудрых чувство наготове. Всё против мужа безумного, а оружие чувства – уста премудрые» (стт. 14:6–7)1313. Аналогичное утверждение производится словесной игрой: «В устах нечестивых западня для граждан, а чувство праведных – добрый путь» (ст. 11:9), – на котором нельзя заблудиться. Также на основании данного значения термина проведена дистинкция между «безумным» и «понимающим»: первый лишь от ударов становится «искуснее» (πανουργότερος), а второй от одного упрека «уяснит чувство» (ст. 19:25). Вдать свое сердце в обучение тождественно тому, чтобы приготовить уши для «словес чувственных» (ст. 23:12).
5. «Чувство» как синоним «знания» раскрывается в гл. 2. Здесь «разум» (הנובת, σύνεσις) составляет пару поочередно с «чувством» (в МТ нет аналога) и «знанием» (תעד, γνῶσις) как один из аспектов мудрости (стт. 3:6). Это положение закрепляет словесная игра в ст. 15:14 – «Сердце правое ищет чувства, уста женеобразованных узнают зло», где словом «чувство» переводится существительное תעד, а словом «узнают» – форма однокоренного глагола עדי1314. Смысл притчи таков: не искавший знания как чувства получит его же, но в виде горького опыта.
6. Чувство и отделяется от мысли (ἔννοια) в ст. 1:4, где последняя представляет собой перевод слова המרע {проницательность}, и объединяется с ней на почве двойного перевода слова תעד в ст. 18:15 «Сердце разумного приобретет чувство, и уши мудрых ищут мысль».
7. Исходя из вышеизложенного не будет удивительным, что «чувство» иногда предстает синонимом основной категории всей книги Притчей, а именно «Премудрости». Слова «Благочестие по Богу – начало чувства», как прибавление к ст. 1:7, представляют собой парафраз первой половины стиха: «Начало премудрости страх Господень». Когда мудрость приходит на мысль (евр. בבל {сердце}), душа оценивает именно чувство как благо (ст. 2:10). Различается произносящий премудрость устами, – он как бы жезлом бьет неразумного собеседника1315, – от истинно мудрого, который «скрывает чувство» и не спешит сказать (стт. 10:13–14). Наконец, что наиболее существенно, «чувство» представляется даже инструментом творения наряду с Премудростью Божией: «Чувством бездны разверзлись, а облака источили росу» (ст. 3:20). Такой перевод слова תעד в этом случае может объясняться библейским представлением об особой чувствительности водной стихии, которая как бы откликается на голос Бога.
8. Итог процесса познания. Независимое и господствующее положение «чувства» в системе познания может быть выявлено следующим изречением: «С мудростью строится дом и с разумом выпрямляется. С чувством наполняется сокровищами от всякого богатства ценного и прекрасного» (ст. 24:3–4). Смысл притчи представляется прозрачным: речь идет о доме души, планом которого названа мудрость, его инженерной конструкцией – разум (הנובת, σύνεσις), а наполнением и внутренним убранством оказывается чувство (תעד), которое тем самым как бы возвращает себе свое «эстетическое» значение, но уже на качественно новом уровне.
Проведенный анализ помогает понять учение апостола Павла, выраженное в его пожелании филиппийским христианам: «чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании (ἐν ἐπιγνώσει) и всяком чувстве (πάσῃ αἰσθήσει), чтобы, познавая лучшее (εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα), вы были чисты и непреткновенны в день Христов» (Флп 1:9–10). Слово «чувство» здесь, видимо, не следует относить «к практической стороне жизни»1316, – оно скорее относится к опытному испытыванию (δοκιμάζω) лучшего, т.е. к тому, о чем апостол пишет и в других посланиях: уразумению (γνῶσις) любви Христовой, которая превосходит всякое разумение (Еф 3:19). В аскетической традиции восточного христианства категория «умного чувства» (νοερά αἲσθησις), вероятно, тоже не лишена библейских коннотаций.
б) Понимание притчей
То, что притча рассматривалась в среде формирования Септуагинты как важная, если не ключевая, часть образования, видно из передачи самого слова «притча» термином παιδεία (Притч 25:1)1317. Характерен и контекст употребления термина: «Это притчи (αἱ παιδεῖαῖ) Соломона неупорядоченные, которые переписали друзья Езекии, царя Иудейского». Аналога греческому слову «неупорядоченные» (αἱ ἀδιάκριτοι) нет в еврейском тексте этой фразы, но в Пешитте на этом месте стоит прилагательное
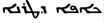
во мн.ч. («глубокие», «возвышенные») – видимо, другая интерпретация термина, когда-то бывшего перед глазами греческого переводчика1318. Утверждение, что некоторая часть сборника не была приведена в порядок самим премудрым Соломоном, важно для нашего понимания того восприятия боговдохновенности, которое имело место в эпоху перевода1319. Соломон, по историческому сообщению, непосредственно «изрекал» свои притчи (3Цар 4:32), но есть и косвенное свидетельство, согласно которому он «старался... найти желанные слова и точную запись – истинные слова» (Екк 12:10 LXX)1320.
Такими свидетельствами оправдывалось эвристичное отношение к тексту – не «творческое» в том смысле, который получил идеал творчества после Ренессанса, но такое, которое предполагает поиск возможно более полной формы откровения в словах мудрых и сохранившей их традиции. (В христианскую эпоху, когда канон Священного Писания будет закрыт, подобное отношение вполне органично будет проявляться к Священному Преданию.) Отсюда возможность изменения композиции1321, объясняющаяся, с точки зрения религиозного сознания, не фривольностью, которая иногда приписывается критической наукой составителям Библии вместе с разного рода ангажированностью, но именно статусом самого священного текста как незавершенного, находящегося в процессе собирания.
Вероятно, такой взгляд можно считать этапом в становлении концепции «пророк как переводчик» и «переводчик как пророк», нашедшей развитие в трудах Филона Александрийскогои затем воспринятой блж. Августином (О граде Божием XVIII. 43). Вероятно и то, что традиция эпохи второго Храма, склонная приписывать, например, Ездре восстановление по памяти утраченных во время пленения библейских книг (см.: Климент. Стром. I. XXII, 148–149), могла в каких-то случаях усваивать боговдохновенность не только писателям, но и хранителям Божественных речений. Во всяком случае, иудейская традиция датирует исчезновение «слагателей притч» только временем смерти р. Меира (Сота IX. 14), т.е. в эпоху перевода Семидесяти они должны были еще существовать, и, если верить в этом «Письму Аристея», сами толковники принадлежали к их среде. Трудно сказать, насколько распространялись подобные представления и на другие части Библии; возможно, некоторый свет на это проливает различная мера свободы, которой пользовались переводчики при работе над ними. Сам греческий перевод Притчей иногда приближается к парафразу, а иногда создается даже впечатление, что переводчик берет исходное высказывание для составления противоположного ему1322. В рамках настоящего исследования нас интересуют две вещи: какие антропологические представления отражают «свободные» переводы и какая дидактическая программа за ними усматривается.
А.С. Десницкий в статье, включающей несколько ярких примеров из книги Притчей, перечисляет следующие типы инструментов художественного перевода, которые задействовались при создании Септуагинты: реструктурирование (приведение в соответствие с грамматическими требованиями языка читателя); нарративизация (изменение стратегии повествования, которое может быть и частным случаем реструктурирования); дополнение параллелизма (его переосмысление в контексте эллинистической риторики); «культурный перенос» (подбор эллинистических эквивалентов для непонятных эллинскому читателю варварских реалий); изменение метафоры (частный случай «культурного переноса»); стилистическое «тонирование» текста (коррекция оригинала путем усиления одних и ослабления других смысловых акцентов); идеологическая коррекция текста; подбор созвучных слов; ритмизация текста1323. В новейшем словаре под редакцией Лонгмана дается другое перечисление особенностей перевода именно книги Притчей: использование абстракций вместо метафор (например, Притч 12:6); усиление акцента на моральных и спиритуалистических воззрениях; увеличение доли риторических противопоставлений; модернизация теологического языка (в соответствии с взглядами эпохи II Храма); эвфемизация образов плотской любви; преобразование притчей, касающихся лени и усердия, в более духовные наставления1324.
Все элементы этих классификаций могут рассматриваться в контексте решения задачи воспитания и образования, стоявшей перед еврейской диаспорой в культурно богатой языческой среде. Однако разные уровни смысловой содержательности делают их неравноценными1325. Можно было бы дополнить эти ряды таким перечислением, которое имеет в виду работу только со смыслом текста и располагает на одной логической плоскости элементы, позволяющие оценить богатство приемов переводчика – прежде всего как учителя юношей – в этой области. Рассмотрим несколько таких несводимых друг к другу приемов переводчика, использование которых может быть объяснено дидактическими задачами: 1) перевод-интерпретация; 2) перевод с комментарием; 3) вариация; 4) парафраз; 5) аналитический перевод; 6) развитие темы; 7) перестановка.
1) Перевод-интерпретация.
В еврейском языке термин «притча», машал (לשמ), подразумевает разнообразие жанров: от пословицы – «Кто наблюдает ветер, тому не сеять» (Екк 11:4) – до целого иносказания, с которым приходит, например, пророк Нафан к царю Давиду (2Цар 12). По-гречески первому значению больше соответствует слово «паримия» (παρομία), тогда как второму – «парабола» (παραβολή)1326. Хотя вообще в Септуагинте возможно и обозначение поговорки как «параболы»1327, именно в переводе книги Притчей Соломоновых эти понятия различаются, по всей видимости, как род и вид. Если в целом книга названа сборником «изречений», т.е. паримий (Παροιμίαι Σολομὡντος), то польза, которую извлечет учащийся из работы над ними, обрисована следующим образом: «будет понимать притчу (παραβολή) и темное слово, речи мудрецов и загадки» (Притч 1:6).
Не только парабола, но и паримия может нуждаться в интерпретации. Давид, когда обращается к Саулу – «Как гласит древнее изречение, от беззаконных исходит беззаконие» (1Цар 24:14), – может вкладывать в эту незамысловатую фразу даже не одно, а два толкования: во-первых, он убеждает царя в своей невинности путем умозаключения от меньшего к большему – если бы Давид был беззаконником, он убил бы Саула в темной пещере (ср. 1Цар 24:12); во-вторых, он пророчествует о наказании Саула, которое должно произойти не от руки его раба, но от руки Бога, так как беззаконник сам производит грех и вызывает на себя его последствия (ср. 1Цар 24:13). Таким образом, человек библейской эпохи верит в то, что даже самое простое меткое изречение может содержать в себе глубокий или, во всяком случае, требующий интерпретации смысл. В переводе Притчей Септуагинты толкование дается различными способами. Первый – наиболее очевидный – заключается в придании самому переводу характера интерпретации путем введения дополнительных слов и прояснения смысла фразы, как правило, путем ее грамматического усложнения. Особенность этого способа перевода, отличающая его, например, от приемов 5 и 6, в том, что предполагается сохранение объема содержания раскрываемой мысли.
Введение дополнительных слов может быть техническим (исходя из норм греческого синтаксиса), и в таком виде оно встречается в Септуагинте бесчисленное количество раз, а может быть интерпретативным, как видно из следующего примера (Притч 17:17):
| δίκαιος ἑαυτοῦ κατήγορος ἐν πρωτολογίᾳ, ὡς δ̕ ἂν ἐπιβάλῃ ὁ ἀντίδικος ἐλέγχεται | ורקחו והער אבי ובירב ןושארה קידצ |
| На всякое время друг да будет тебе [другом], братья же да будут полезны в нуждах: для того ведь и рождаются. | Друг любит во всякое время и сделается братом во время бедствия (Вен). |
Притча явно требует интерпретации, поскольку о брате буквально сказано лишь то, что он «на бедствие родится». В отличие от переводов XIX в., Пешитта и Вульгата представляют ее как сопоставление друга и брата1328. Но только в Септуагинте это сопоставление доведено до контраста, посредством чего притча приобретает дидактическое звучание: она одновременно учит верности в дружбе и сдержанности в использовании родственных связей. Последние следует сберегать на случай нужды, когда обращаться к другу как раз неправильно: ведь братья рождаются для того, чтобы выручать братьев1329.
В следующем примере (Притч 18:17) переводчик практически обходится без введения новых слов, довольствуясь возможностями литературного перевода:
| δίκαιοσ ἑαυτοῦ κατήγορος ἐν πρωτολογίᾳ, ὡς δ̕ ἂν ἐπιβάλῃ ὁ ἀντίδικος ἐλέγχεται. | ורקחו והער אבי רבירב ןושארה קידצ |
| Праведный сам себе обвинитель в начале речи, а как выступит его противник, изобличается. | Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследывает его (Син). |
Притча довольно темна и неоднозначна. Так, отличное от современного понимание дают блж. Иероним, согласно которому к праведнику для «исследования» его самоукорений приходит вовсе не противник, а друг (возможный перевод слова הער)1330, и Лютер, который переводит ее в духе учения о внутренней убежденности верующего в своем оправдании1331. То, что стих выдерживает различные интерпретации, в древности считалось, по всей видимости, его достоинством. Но в LXX на место двусмысленности формы ставится многослойность содержания: в ее греческом варианте притча учит первым признавать свою вину, чтобы тем самым лишить противника обвинительной инициативы и оказаться праведным, изобличив его в клеветническом рвении1332. Нетрудно заметить, что на сходной логике построена одна из притч – призывы к покаянию в проповеди Господа Иисуса Христа (Мф 5:25, Лк 12:58). Общее условие для перевода интерпретации, которое отличает его, например, от аналитического перевода (см. ниже), – это «темнота» оригинального текста, которая может быть связана с архаичностью языка, но может быть и преднамеренной двусмысленностью.
2) Перевод с комментарием.
В этом случае, в отличие от первого, смысл притчи сам по себе полагается очевидным, а дополнение служит как бы ремаркой учителя, что сообщает всему речению нарочито дидактический характер. Примером такого перевода может служить фрагмент речи персонифицированной Премудрости (Притч 1:22–23)1333.
| ὅσον ἂν χρόνον ἂκακοι ἔχωνται τῆς δικαιοσύνης, οὐκ αἰσχυνθήσονται· οἱ δὲ ἄφρονες, τῆς ὕβρεως ὄντες ἐπιθυμηταί, ἀσεβεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσθησιν καὶ ὑπεύθυνοι ἐγένοντο ἐλέγχοις, ἰδοὺ προήσομαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς ῥῆσιν, διδάξω δὲ ὑμᾶς τὸν ἐμὸν λόγον. | ודמח ןוצל םיצלו יתפ ובהאת םיתפ יתמ דע יתחכותל ובושת:תעד ואנשי םיליסכו םהל םכתא ירבד העידוא יחור םכל העיבא הנה |
| Во все то время, пока незлобивые держатся правды, они не постыдятся; безумцы же, будучи желающими дерзости, став нечестивыми, возненавидели чувство и сделались достойны упреков; вот, я изведу вам [от] моего дыхания речь и научу вас моему слову. | Сколько можно простакам коснеть в простоте, наглым – наглостью тешиться, глупцам – ненавидеть знание? Обернитесь на мой упрек – изолью на вас мой дух и поведаю вам мое слово (РБО). |
Прежде всего надо заметить, что греческий переводчик изначально понимал еврейский текст не так, как он понимается в новых переводах: а именно, слова петаим (םיתפ) и пети (יתפ) он истолковывал в положительном смысле – не как «невежда», «глупец» и «невежество», «глупость» соответственно, а как «незлобивый» (ἄκακος), «младенец» (νήπιος в ст. 32) и «праведность» (δικαιοσύνη). Употребление слова «младенец» говорит о том, что своеобразие этого истолкования было преимущественно контекстуальным. Переводчик отдавал себе отчет в том, что пети – простак, может быть, даже малоумный (ср. 19:25, где это слово переведено как ἄφρων), но в данном случае он опирался на примеры положительного употребления этого слова. Так, в Пс 114:5 Давид говорит о простаках, которых Господь «сохраняет», в том числе подразумевая себя, а LXX переводит петаим как «младенцы» (φυλάσσων τὰ νήπια ὁ κύριος: הוהי םיאתפ רמש). Й. Кук указывает на «антитетическое расположение религиозно-этических категорий» как на одну из ключевых особенностей перевода Притчей LXX1334. Здесь эта тенденция выдержана: Премудрость разделяет людей на две категории, причем следует отметить, что в один род с праведными попадают «простые» и «младенцы» (предвосхищаются сразу две новозаветные заповеди: «блаженны чистые сердцем» и «будьте как дети»).
Исходя из такого понимания, «подстрочник» перевода был примерно таким: «Доколе незлобивые держатся незлобия? А безумцы дерзости вожделеют? Нечестивые возненавидели чувство и подпали обличению. Вот, я изведу вам свое дыхание и научу вас моему слову». Стремясь к законченности, содержательной и формальной полноте речи, – в чем, возможно, сказывается влияние греческой риторики, – толковник дает вместе с переводом притчи ее комментарий. Во все то время (ὅσον ἂν χρόνον: первое комментаторское добавление), пока незлобивые держатся своей правды1335, они не постыдятся (οὐκ αἰσχυνθήσονται: второе комментаторское добавление), в отличие от безумцев, которые возжелали дерзости. Фраза םיצלו תעד ואנשי םיליסכו םהל ודמח ןוצל перестроена в следующем порядке:
| безумцы | ἄφρονες | םיליסכ |
| возжелавшие дерзости | τῆς ὕβρεως ἐπιθυμηταί | ודמח ןוצל |
| нечестивые | ἀσεβεῖς | םיצל |
| возненавидели чувство | ἐμίσησαν αἴσθησιν | תעד ואנשי |
Глагол со значением «оборачиваться», «отвращаться» истолкован1336 как определение факта вины (единственный раз в Библии употреблено слово ὑπεύθυνος)1337, поскольку безумцы сами «стали» нечестивыми (третье комментаторское добавление), а в целом середина притчи вырастает в определение безумия, его причин и последствий. Понятно, что в таком контексте «излияние дыхания» может быть предназначено только для «незлобивых», и притча разворачивается в хиазм1338: незлобию и праведности соответствуют дыхание Премудрости и ее слово, а безумцам с их дерзостью – ненависть к чувству (αἴσθησις) и справедливые упреки; смысловую ось образует собирательное понятие «нечестивые», смысл которого подробно раскрывается в оставшейся части главы. Кроме композиции, переводчик обращает внимание и на детали: для передачи еврейского חור вместо слова «дух» (πνεῦμα), ассоциирующегося с пророческим даром, он выбирает «дыхание» (πνοή), которое в рассказе о сотворении Адама (Быт 2:7) также имеет Божественный источник, но больше ассоциируется с даром жизни. Обещание Премудрости «извести от своего дыхания» он поясняет как «изречение» (ῥῆσις: четвертое комментаторское добавление), тем самым возвращая читателя или ученика к основной теме книги – притче. Завершается текст литературным переводом заключительных слов, причем глагол «возвещать» (עידוה) передан словом «учить» (διδάσκω) – в соответствии с общим смыслом отрывка, который построен в версии LXX на противопоставлении учащихся и не желающих учиться.
3) Вариация.
За переводом притчи следует как бы другой вариант этого же перевода, или другая притча, составленная «по мотивам» первой1339. В Притч 15:18, например, два перевода подряд:
| ἀνὴρ θυμώδης παρασκευάζει μάχας, μακρόθυμος δὲ καὶ τὴν μέλλουσαν καταπραΰει. μακρόθυμος ἀνὴρ κατασβέσει κρίσεις, ὁ δὲ ἀσεβὴς ἐγείρει μᾶλλον. | ביר טיקשי םיפא ךראו ןודמ הרגי המח שיא |
| Муж гневливый уготовляет брани, долготерпеливый же и возникающую укрощает. Долготерпеливый муж угашает суды, а нечестивый возбуждает паче. | Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю (Син). |
Зеркальность композиции этого дублета производит впечатление преднамеренной и не связанной с коррекцией перевода. При том что положительный и отрицательный персонажи меняются местами, обмениваются созвучными словами от разных корней (μέλλουσαν и μᾶλλον), смысловой осью притчи остается ןודמ, которое переводится, в соответствии с двумя значениями своего корня, то как «брань», то как «суд». В результате получаются две нравственные рекомендации: не ссориться и не судиться1340.
Другой пример представляет Притч 17:5, где исходные два утверждения дополняются третьим: «Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным: [а милосердый помилован будет]» (Син). Нетрудно заметить, что последняя фраза даже не умозаключение, а просто «изнанка» первых двух: кто же будет помилован, кроме милосердного, если жестокосердные будут наказаны? При этом, возможно, на данную вариацию повлиял ст. 14:31.
4) Парафраз.
Один из самых распространенных переводческих приемов древности, парафраз в Септуагинте вообще занимает сравнительно скромное место, притом его доля в глазах исследователей постепенно уменьшалась по мере того, как становилось ясно, что многие своеобразные чтения LXX восходят к более ранней редакции оригинала1341. Тем не менее в книге Притчей можно найти хорошие образцы этого жанра. Например, Притч 17:10.
| συντρίβει ἀπειλὴ καρδίαν φρονίμου, ἄφρων δὲ μαστιγωθεὶς οὐκ αἰσθάνεται. | האמ ליסכ תוכהמ ןיבמב הרעג תחת |
| Угроза сокрушает сердце мудрого, а неразумный не чувствует побоев (пер. Юнгерова). | На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов (Син). |
В этом парафразе немного смещены акценты: больше внимания уделено мудрому, который тоже как бы получает «побои», но в сердце, тогда как глупец лишен основной когнитивной способности – чувствительности. Однако в целом притча остается по смыслу тождественной себе; парафрастичность, не внося нового смысла, обучает изяществу речи.
5) Аналитический перевод.
В отличие от вариации, которая повторяет сказанное «на разные лады», аналитическим можно назвать перевод, смысл которого логически соотносится со смыслом оригинала как посылка с выводом или наоборот, причем это достигается, в отличие от перевода с комментарием, без прибавлений к тексту. Он представляет собой, таким образом, результат размышления над притчей и намеренный (в отличие от перевода-интерпретации) шаг вперед по сравнению с ее непосредственным содержанием. Оба направления логической связи представлены в следующем примере (Притч 13:4).
| ἐν ἐπιθυμίας ἐστὶ πᾶς ἀεργός, χεῖρες δὲ ἀνδρείων ἐν ἐπιμελείᾳ. | ןשדת םיצרח שפנו לצע ושפנ ןיאו הואתמ |
| В похотях пребывает всякий бездельник, руки же мужественных в прилежании. | В желаниях тщетных душа ленивого, а душа прилежных насытится. |
Безупречная по лаконизму и стилистическому изяществу, греческая притча как бы отвечает на два вопроса, вытекающие из еврейской: а) что следует из тщетности желаний ленивого? б) почему насытится душа прилежных? Хотя ответы кажутся самоочевидными, толковник все же находит в тексте некий ресурс для развития мысли: отрицательное, неисполненное желание (евр. ןיאו הואת – букв.: «желает, и нет»), само по себе нравственно нейтральное, превращается в положительное и нравственно порочное явление страсти, похоти (ἐπιθυμία, которая будет составлять основную проблему для этического трактата начала н.э., известного под названием 4 книги Маккавеев). Выводится известный психологический закон: праздность есть причина дурных желаний. В то же время понятие о насыщении, положительно и недвусмысленно присутствующее в еврейском тексте (ןשדת – «насытится», «утучнится»), аналитически устраняется его причиной – прилежанием, которое оказывается противоположно похоти. Эта замена естественна, если учесть, что первое понятие перестало быть нравственно нейтральным: оно должно быть уравновешено также морально значимой противоположностью.
В следующем примере (Притч 13:10) переводчик вводит в притчу философское содержание:
| κακὸς μεθ᾿ ὕβρεως πράσσει κακά, οἱ δὲ ἐαυτῶν ἐπιγνώμονες σοφοί. | המכח םיצעונ תאו הצּמ ןתי ןודזב קר |
| Злой нагло творит злое, познающие же себя мудры. | Только раздоры приносит гордость, а советующимся [дается] мудрость. |
Аналитичность этого перевода заключается в том, что вместо совета, в значении принятия обдуманного решения, вводится его причина – познание человеком самого себя. Й. Кук, скептически относящийся к эллинским влияниям в Притчах LXX, переводит: «Мудры те, кто судьи самим себе». Но непонятно, почему нужно предпочитать это буквальному смыслу. Призыв к самопознанию настолько универсален для греческого мира, что неудивительно его «просачивание» в такой эпохальный труд, как Септуагинта (ср.: Песн. 1:7 LXX).
Наиболее интересный вид аналитического перевода, который можно назвать «разложением» высказывания, представлен в Притч 17:23.
| λαμβάνοντοσ δῶρα ἀδίκως ἐν κόλποις οὐ κατευοδοῦνται ὁδοί, ἀσεβὴς δὲ ἐκκλίνει ὁδοὺς δικαιοσύνης. | טפשמ תוחרא תוטהל חקי עשר קחמ דחש |
| Принимающему дары неправедно в пазуху не будут благоуспешны пути [его], ибо нечестив отклоняющий пути правды. | Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия (Син). |
На первый взгляд, в греческом тексте введено несколько дополнительных слов, и можно говорить в этом случае о переводе с комментарием. Но в действительности здесь нет комментаторских добавлений – текст сам как бы «двоится» и представляет собой два перевода одной фразы, неровно наложенные друг на друга:
| Принимающему дары в пазуху | неправедно | неблагоуспешны пути | |
| нечестив | отклоняющий пути | правды |
В разложенном виде высказывание обретает новый смысл: отклоняя пути правосудия, ты извращаешь (делаешь неправым, неблагим) собственный путь; поступая неправедно, ты становишься нечестивым. Помимо того, что такая притча сама по себе нагружена этическим содержанием, можно предположить значительный дидактический эффект от перевода, если толковник работал над еврейским текстом вместе с учениками.
6) Развитие темы.
Нельзя исключать, что переводчик подходил к своей задаче и как поэт, на что специально указывает Г. Таубершмидт в своих исследованиях о параллелизме1342. Но мы будем настаивать на том, что это дидактическая поэзия, иначе трудно было бы объяснить дерзновение, с которым простой переводчик-ремесленник (не дидаскал) дополнял бы своими виршами речения «мудрых». Похоже, что такой дидаскалический метод был задействован в некоторых местах, где текст существенно расширяется за счет новых слов и целых предложений. Во всяком случае по сравнению с доступным нам сегодня еврейским текстом здесь (напр., Притч 9:12) имеет место настоящее развитие заданной идеи.
| υἱέ, ἐὰν σοφὸς γένῃ σεαυτῷ, σοφὸς ἔση καὶ τοῖς πλησίον· ἐὰν δὲ κακὸς ἀποβῇς, μόνος ἂν ἀντλήσεις κακά. ὃς ἐρείδεται ἐπὶ ψεύδεσιν, οὗτος ποιμαίνει ἀνέμους, ὁ δ᾿ αὐτὸς διώξεται ὄρνεα πετόμενα· ἀπέλιπε γὰρ ὁδοὺς τοῦ ἑαυτοῦ ἀμπελῶνος, τοὺς δὲ ἄξονας τοῦ ἰδίου γεωργίου πεπλάνηται· διαπορεύεται δὲ δι᾿ ἀνύδρου ἐρήμου καὶ γῆν διατεταγμένην ἐν διψώδεσι, συνάγει δὲ χερσὶν ἀκαρπίαν. | ךל תמכח תמכח םא אשת ךדבל תצלו |
| Сын! если ты мудр для себя, то мудр и для ближних; если же окажешься зол, то один почерпнешь зло. Кто утверждается на лжи, тот пасет ветры, и он же гоняется за птицами летающими: ибо он оставил пути своего виноградника, искривил тропы своего поля: проходит же он безводной пустошью и землею, обреченной на жажду; собирает же руками бесплодие. | Если ты мудр, то мудр для себя; и если буен, то один потерпишь (Син). |
Главное, что нужно заметить, – все имеющиеся добавления1343 не просто механически присоединены к изначальному речению, а развивают его тему: во-первых, мудрость с ее продуктивностью систематически противопоставляется злу с его бесплодием; во-вторых, вся добавленная часть выглядит как развитие второй половины исходной притчи, в процессе которого раскрывается новая мысль о том, что злой оплачивает свою погибель своим же трудом. Развитие темы – довольно распространенный прием в Притчах LXX.
7) Перестановка.
Стихи, в оригинале разделенные другими стихами, связываются в единый текст, тем самым приобретая новое звучание. Так в Притч 17:16 LXX соединены стт. 16 и 19 МТ с комментаторским добавлением в конце1344.
| ἱνατί ὑπῆρξε χρήματα ἄφρονι; κτήσασθαι γὰρ σοφίαν ἀκάρδιος οὐ δυνήσεται. ὃς ὑψηλὸν ποιεῖ τὸν ἑαυτοῦ οἷκον, ζητεῖ συντριβήν, ὁ δὲ σκολιάζων τοῦ μαθεῖν ἐμπεσεῖται εἰς κακά. | ןיא בלו המכח תונקל ליסכ דיב ריחמ הז המל 16 |
| Для чего имение безумному? Приобрести мудрость ведь бессердечный не сможет. Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться, а кто уклоняется от учения, тот впадет в беду (пер. Юнгерова). | 16 К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости [у него] нет разума. 19 Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения (Син). |
Переводчик (или редактор) соединяет две притчи в одну: богатство глупца не только бесполезно для него, но и вредно, потому что оно позволяет ему построить высокий дом, – а ведь он не будет учиться, так как у него нет сердца (букв, перевод ןיא בלו), – и его ждет беда, падение дома. Стих 19-й в Септуагинте тоже не остается в усеченном состоянии, но дополняется фразой, которая перекликается с тем же 16-м стихом: «Жестокосердный не найдет добра».
Все рассмотренные приемы могут комбинироваться; их дифференциация помогает оценить богатство инструментария древнего переводчика и его изобретательность как педагога. Ведь помимо того, что тематика книги Притчей посвящена образованию, т.е. приобретению мудрости, ее чтение само представляло собой процесс обучения; задавание вопросов, загадывание загадок, толкование «темных» речений, составление подобий были неотъемлемыми признаками беседы мудрых. Эллинизм ставил перед еврейской диаспорой, да и перед иудейством вообще, трудную задачу – сохранить веру отцов, пользуясь благами нового строя (уже первые эпигоны Александра как в Египте, так и в Сирии предоставили евреям права граждан) и получая образование на греческом языке.
При всей свободе, проявленной переводчиком книги Притчей, она вовсе не является примером какого-то из ряда вон выходящего свободомыслия, хотя – и именно поэтому тем более – позволяет оценить реальную свободу мышления еврейского религиозного ученого и, по всей видимости, учителя эллинистической эпохи. Мало того, что, как иудей своего века, переводчик вполне ортодоксален, – современные исследователи (Й. Кук, М. Дик и др.) допускают и непосредственно иерусалимское происхождение этого перевода, «незнакомого с этическим словарем эллинистического периода»1345. В переводческих подходах, например в наиболее универсальном из них – усилении контрастных противопоставлений (добро / зло, мудрость / безумие и пр.) по сравнению с оригиналом, Кук видит «консервативную, антиэллинистическую тенденцию», при этом соглашаясь с Никельсбергом в том, что в рассматриваемую эпоху «любой автор мог быть одновременно евреем, антиэллинистом и эллинистом»1346. В первом греческом переводе Притчей Соломона мы находим не просто дидактическое использование текста, но вслушивание в него, как в живой голос, музыкальное упражнение со звучанием смыслов. Здесь «каждая подробность живого, даже в простом наличии вещи, выразительна, возможна как прямая речь, а речь – и не речь вовсе, а самое настоящее действие: нет строгого разграничения живого и его выражения – везде сплошная говорящая действительность. Поэтому повествование и прямая речь... как вязь одних и тех же подробностей настолько схожи, что могли бы взаимно переставляться»1347. Если свобода, которая проявлена переводчиком при подходе к Притчам Соломона, в других книгах Септуагинты намного скромнее, то это не в последнюю очередь связано с самим характером притчи как загадки, задачи для упражнения.
* * *
Примечания
В строгом смысле настоящего и будущего времени еврейский глагол не знает. היהא стоит в «имперфекте», т.е. способно выражать незаконченное действие, в прошлом длящееся и еще только имеющее начаться.
Dähne A.F. Geschichtliche Darstellung der jüdisch-alexandrinischen Religions- Philosophie. Abt. 2. Halle, 1834. S. 27.
Греч.: ὅτι εἷς ὁ ὢν ὄντως ἐστὶ καὶ ὅτι πεποίηκε τὸν κόσμον καὶ πεποίηκεν ἕνα...κατὰ τὴν μόνωσιν ἐξομοιώσας ἑαυτῷ.
Разумеется, этот тезис ранее был подробно исследован и обоснован Платоном, особенно в диалоге «Тимей». Однако признание Бога «Сущим по существу» в корне меняет представление об отношениях между Ним и миром, которые в дальнейшем будут описаны известной формулой св. Афанасия Александрийского: «Какое сходство между тем, что [произошло] из несуществующего, и Тем, Кто привел несуществовавшее в бытие? Или как может быть подобно Сущему (τῷ ὄντι) не сущее (τὸ οὐκ ὄν)?» (Афан. Ариан. I. 21).
Греч.: ἀκατάληπτος ὁ κατὰ τὸ εἶναι θεὸς παντὶ.
Подразумеваем выражение τὸ ὄντως ὄν как синоним термина οὐσία у Платона при характеристике бестелесного.
В оригинале לכה וה; в Вульгате – ipse est in omnibus {Он есть во всех}.
В копт.:

{Я тот, что существует}; в арм.: էս եմ Աստուած Որ էն ... Որ էն առաքեաց վիս ճեվ {Я есмь Бог Сущий... [скажи им:] Сущий послал меня к вам} – это чтение восходит, видимо, к одному из греч. лекционариев: ср. стихиры 1 -го гласа на малой вечерне православного праздника Преображения; в эфиопском:

{Я – Он, который-он- есть... [скажи им:] который-он-есть послал меня к вам}; в слав.: азъ есмь сы́й.
В МТ: םהל יתעדונ אל הוהי ימשו ידש לאב בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו הוהי ינא … Наша реконструкция, которая может показаться произвольной, находит опору в двух фактах: во-первых, ידש евр. текста в Пятикнижии LXX регулярно передается притяжательными местоимениями, согласованными в числе с тем, к кому обращена речь («Бог ваш», «Бог твой» и т.п.); во-вторых, в кн. пророка Иеремии таким же образом читается היהא вместо ההא евр. текста. По-видимому, переводчики Септуагинты были склонны находить в некоторых местах текста Библии, относящихся к Богу, формы глг. היה как эквиваленты причастия ὤν. В данном случае они истолковали это так: «Я Господь, и являлся Аврааму, Исааку и Иакову, Сущий их Богом, но имени Моего, Господь, не явил им». Иными словами, патриархи знали смысл имени הוהי как Сущего с ними, но не понимали, что оно означало вообще Сущий, а это и есть Господъ всего бытия.
Феофан (Быстров), архиеп. Тетраграмма, или Божественное Ветхозаветное Имя הוהי. Киев, 2004. С. 257 и далее.
Ср.: Septuaginta Deutsch, ad loc.
Евр.: הוהא יתייה אל רשאכ {букв.: как будто меня не было, буду}.
Согласно подстрочнику в изд. Ральфса, так читают лишь отдельные рукописи, однако новейший коммент. Septuaginta Deutsch признает эти чтения подлинными для Септуагинты; есть они в арм. и слав. пер. В МТ на их месте стоит восклицание ההא, которое Pesh толкует как обращение:

{прошу!}
Ср.: Доддс Э.Р. Язычник и христианин в смутное время. Некоторые аспекты религиозных практик в период от Марка Аврелия до Константина. СПб., 2003. С. 34.
В дальнейшем у св. Иустина Философа: «Мы научены также, что Он по благости Своей в начале все устроил из безобразного вещества (ἐξ ἀμόρφου ὕλης) для человеков, и что они, если по своим делам окажутся достойными Его назначения, удостоятся жить с Ним и царствовать с Ним, сделавшись свободными от тления и страдания. Ибо как создал Он нас в начале, когда мы не существовали (οὐκ ὄντας), – таким же, думаем, образом тех, которые избрали благоугодное Ему, удостоит за это избрание нетления и сожития с Собою» (Апол. 1.10). О сотворенности самого «безобразного вещества» у св. Иустина не говорится, хотя это не дает еще повода считать его эпоху незнакомой с данным учением: ср. суждения Ерма и св. Феофила Антиохийского.
См.: Septuaginta Deutsch, ad loc.
Цит. по: Frankel Z. Über den Einfluss der palästinischen Exegese auf die alexandrinische Hermeneutik. Leipzig, 1851. S. 36.
Ibid. S. 38.
Традиция пер. Быт 1:1 «В начале творения Богом неба и земли...» восходит к толкованиям средневекового комментатора РаШИ (р. Шломо Ицхаки, ум. 1105 г.), см.: Brown W. Structure, Role, and Ideology in the Hebrew and Greek Texts of Genesis 1:1–2:3. Atlanta, 1993. P. 62. Франкель отмечает, что в иудаизме учение о предвечности материи развивалось по линии эманатизма, который он также называет «пантеизмом», и преимущественно в учении каббалы, тогда как для традиционной евр. философии, включая Маймонида, характерно постулирование концепции ןיאמ שי (букв, «есть-из-нет», т.е. «все из ничего»). См.: Frankel. Op. cit. S. 36.
Согласно Тэйлору, следует переводить это так: «В начале сотворил Бог небо со всем, что в нем, и землю со всем, что в ней» – такое толкование на Быт 1:1 приписывалось р. Акиве (Taylor. Preface // Fragments of the Books of Kings According to the Translation of Aquila. P. VI).
Существовала традиция понимания תישאר {начала} в качестве Торы, которая отождествляется с Премудростью (Bamberger S., Rab. Die Schöpfungsurkunde nach Darstellung des Midrasch nebst Verglaichung mit der Septuaginta, Peschitta und dem Targum Jonathan. I. Heft. Mainz, 1903. S. 1–2). Возможно, выбор Акилой пер. первого слова клонится к этому, т.е. речь идет о «заглавии» (ср. Пс 39:8); в таком случае предсуществование мира надо понимать в идеалистическом, а не материалистическом смысле, как и у Филона Иудея. Но традиция знала также мифологические репрезентации учения о предсуществующей материи: в агаде мы находим рассказ о том, как творение началось обращением к «князю моря» или вообще «водам» с требованием освободить место для суши и убийством океана за отказ уступить. См.: Кассуто У. Эпическая поэзия в Древнем Израиле // Библейские исследования: Сб. статей. Вып. 1. С. 128. Параллели этого мотива в ближневосточной мифологии будут рассматриваться ниже.
И далее эта связь продлевается закономерно до теургических и магических практик. См.: Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. С. 114.
πᾶν ὅπερ ἂν μὴ πρότερόν τις ὂν ὕστερον εἰς οὐσίαν ἄγε, τὸν μὲν ἄγοντα ποιεῖν, τὸ δε ἀγομενον ποιεισθαί πού φαμεν. Выделено мной. – И.В.
Хотя Парменид использует местами также термин οὐκ ἐὸν {не сущее}, оно для него все-таки не антитеза ἐὸν {сущего}, а скорее служит обозначением для класса объектов, о которых сказывается, что их «нет». Поэтому в своей знаменитой формуле бытию он противопоставляет не небытие, как обычно переводят, а именно μηδείς, {ничто из [существующего]}, т.е., в сущности, пустое множество понятий.
Именно так, видимо, следует понимать его утверждение, что состоящий из воды мир «одушевлен и полон демонов».
«Я Господь Бог, и нет другого. Я – устроивший свет и сотворивший тьму, творящий мирное время и создающий злое (ער ארוב, καὶ κτίξων κακά), Я Господь Богх творящий все это» (Ис 45:6–7).
«Ибо видение – еще на время, и просияет наконец, а не [окажется] тщетным; если замедлит, потерпи его, ибо грядущий придет и не повременит. А кто усомнится, не благоволит душа Моя к нему» (Авв 2:3–4 LXX).
Здесь примечательное различие между LXX и МТ. Греч, текст утверждает, что «совершил Бог в день шестый дела Свои, которые творил» (Быт 2:2), тогда как евр. относит это к седьмому дню.
См.: Шифман И.Ш. Введение // О Баʼлу. Угаритские поэтические повествования. М., 1999. С. 28–40.
Или «вторичный синкретизм», возникающий «в процессе контаминации и ассимиляции различных культурных явлений» в ходе развития культуры и ее взаимодействия с другими (Кабо В.Р. Круг и крест: размышления этнолога о первобытной духовности. М., 2007. С. 13).
Демохар (III в. до н.э.) описывает встречу Димитрия Полиоркета в Афинах, где льстивые горожане оказали ему божественные почести, «приплясывая и распевая, что он один истинный бог, а другие боги или спят, или удалились, или вовсе не существуют» (Аф. Пир. VI. 253 d).
В евр. тексте подчеркивается, что именно есть Бог: םיהלא שי ךא קידצל ירפ ךא ץראב םיטפש. В греч. языке употребление глг. εἰμί может быть двусмысленным: Бог есть, или Бог судит (букв.: есть судящий)?. Кажется, переводчик выходит из этого положения, употребляя глг. дважды: εἰ ἄρα ἐστὶ καρπὸς τῷ δικαίῳ, ἄρα ἐστὶν ὁ θεὸς κρίνων αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ. Поскольку есть плод, то есть и Бог, который вознаграждает и карает.
Бог посылает Моисея к евреям не с тем, чтобы убедить их в Своем существовании либо присутствии, а с ответом на вопрос: «Как Ему имя?» (Исх 3:13).
Существует мнение, что речь идет об архаическом культе предков, тогда как старый пер. «судьи», восходящий к арамеоязычным таргумам (ср. Мехильта к книге Исход, ad loc.) и зафиксированный, в частности, Синод, ред., ныне отвергнут на основании данных библейского иврита (см.: Тищенко С. Книга договора (Исх. 20:22 – 23:19) и культ предков // Библия: литературные и лингвистические исследования. Вып. 4. С. 152:165). Однако лингвистические соображения едва ли должны играть здесь решающую роль: судейская функция могла быть присвоена старшему в роду с обозначением старшинства словом לא (без наличия у него специальной семантики, указывающей на отправление должности), так что не обязательно речь должна идти об умерших предках и соответствующем культе, хотя умершие тоже могут быть судьями. Так или иначе, традиционная и современная интерпретации сходятся на том, что смысл текста относится к человеческим существам.
Евр. םיהלא לא, в современных пер. в одном случае «Бог, Бог», в другом – «пред Богом».
Несмелов В.И. Наука о человеке. Т. 1. Казань, 1906. С. 253.
Это минимальное понятие объединяет все проявления религиозности, согласно апостолу Павлу в его определении антихриста, который будет «противником и превозносящимся выше всякого так называемого бога или чтилища (σέβασμα)» (2Сол 2:4).
Середины этого ст. (от «утверждающий» до «вслед них») нет в МТ, хотя, судя по структуре, она восходит к др.-евр. оригиналу.
На такое значение термина םיהולא указывает, напр., Тантлевский. Мелхиседек и Метатрон. С. 62. Ниже мы будем говорить об этом подробнее в связи с םיהולאה ינב.
МТ: ילעב דוע יל יארקת אלו {...и больше не назовет Меня «хозяин мой»}. С точки зрения греч. перевода, который лучше согласуется с контекстом книги в целом, здесь упущен конечный ם в последнем слове. Кроме того, слово Ваал (לעב) также могло переводиться как «муж».
О трансцендентности Бога в Септуагинте мы можем говорить на концептуальном уровне, т.е. она приобретает здесь формульное выражение, хотя сами эти формулы прочитываются правильно только с учетом семитского синтаксиса. Например, это ст. Ис 40:25, подытоживающий описание Божественного величия: νῦν οὖν τίνι με ὡμοιώσατε καὶ ὑψωθήσομαι εἶπεν ὁ ἅγιος {итак, кому Меня уподобите, и Я вознесусь, говорит Святый}. Союз «и» здесь выражает не причинно-следственную связь («кому бы вы уподобили Меня, чтобы поднять Меня?» ср. NETS), так как это диссонировало бы с контекстом, а последовательность шагов: с чем бы ни сравнивали Бога, Он окажется выше. Переводчик читал в евр. тексте глг. אוש {подыматься, вздыматься}. В МТ стоит הוש {сравнивать}, и все изречение представляет собой тавтологию. В данном случае мы не задаемся вопросом о том, какое чтение является первичным, но можем отметить, что в Септуагинте присутствует мысль о превосхождении Богом любого понятия о Нем.
МТ: «Кто Бог, кроме Господа, и кто скала (רוע), кроме Бога нашего?» О греческой традиции перевода слова רוע будет сказано дальше по тексту.
Евр.: עדי אוה הוהי םיהלא לא הוהי םיהלא לא {досл.: Бог, Бог Господь, Бог, Бог Господь, Он знает}. Греч.: ὁ θεὸς θεὸς κύριός ἐστὶ, καὶ ὁ θεὸς θεὸς αὐτὸς οἶδε. В пер. слово לא истолковано как родовое понятие и наделено артиклем, которого нет в оригинале; слово םיהלא понято как стоящее в паре с именем הוהי; вся фраза в целом передана не как повтор, а при помощи союза καὶ как развитие темы: поскольку Господь Бог – это и есть Бог (вообще), то Он знает все.
Это интерпретирующий пер. евр. фразы םיהלאה אוה הוהי םיהלאה אוה הוהי {Господь – Он есть Бог, Господь – Он есть Бог}.
Слово произведено сочетанием ἀεί {всегда, постоянно} и νάω {течь}, букв, пер. на русск. язык – «приснотекущий», но уже в Слав – «присносущный». По всей видимости, это составное греч. слово стало пер. двух евр.: ןורחאו יח (букв.: «жив и после»). По контексту, речь идет о вечности и неизменности, так как до этого Иов выражает желание, чтобы его слова были запечатлены в металле или камне. Слово ἀέναος, в отношении к «непреходящей силе» Зевса употреблено Еврипидом в трагедии «Орест» (ст. 1299).
См. об этом: Olofsson. God is My Rock. 105 p.
См.: Вайнгрин. Введение в текстологию Ветхого Завета. С. 89, прим. 11.
Возможно, в евр. прототипе LXX было קידצ, впоследствии претерпевшее изменения.
Тем не менее значение אל – «сила», на которое указывает св. Иустин Философ в диалоге с Трифоном Иудеем, переводчикам Септуагинты было известно. Вероятно, именно אל ינב читалось в оригинале 3Цар 21:15, где LXX переводят υἱὸι δυνάμεως.
См. об этом фрагменте: Юнгеров. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни. Киев, 2006. С. 83.
Евр.: קתע ראוצב ורבדת {[не] говоритежестоковыйно}. Понятно, что ראוצ перводчики читали как רוצ (см. выше об этом имени), а קתע означает букв, нечто подвижное, неустойчивое, по экспликации – дерзость, зло.
В некоторых местах в Пешитте, напр. в Суд 6:20 и др. רוצ переводится как

(кефа), со значением «цельный камень». Этим арам, словом Христос назвал апостола Петра: «ты наречешься Кифа (Κηφᾶς), что значит: камень (Πέτρος)» (Ин 1:42), добавив, что на этом камне Он создаст Церковь (Мф 16:18). Создание Церкви, которую не одолеют «врата ада», на «камне» подразумевает неприступность последнего, которая дается высотой и монолитностью. Во Втор 8:15 словосочетание שימלחה רוצ {скала кремниевая} LXX переводят как «несекомый камень», а Pesh:

{камень горы}, – учитывая, что
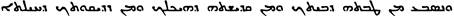
часто бывает эквивалентом רוצ, можно думать, что именно

здесь выражает качество кремния. В Псалтири Pesh, как и LXX, местами отступает от буквализма и передает רוצ то как

(могучий, Пс 17:3:32), то как

(укрепляющий меня, Пс 17:47), проявляя тем самым также свою независимость от греч. интерпретаций. Впрочем, и здесь возможен пер.

(Бог, Пс 27:1). Отсюда видно, что крепость, монолитность в понимании сир. переводчиков, была свойством רוצ наряду с высотой, и этим также объясняется выбор греч. переводчиков: метафора רוצ, указывая на Бога, выражала прежде всего идею основания, на котором зиждется жизнь и безопасность молящегося. Понятие θεός, выражало эту идею точнее, чем греч. термины, относящиеся к «горам» и «камням», но не связанные с глагольным корнем, который выражает стеснение для устремления вверх.
В евр. это рифмующаяся пара תמאו דסח (хесед вэ эмет). Как правило, דסח переводится толковниками как «милость», лишь когда речь идет о Боге, а применительно к человеку определение דיסח толкуется в смысле благочестия (ὅσιος). Одно из исключений составляет пер. в книге Притчей, где два Божественных свойства оказываются зеркально отраженными в соответствующих качествах человека: «Милостыня и вера (ἐλεημοσύναι καὶ πίστεις) да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего» (Притч 3:3).
Ссылку см. выше. По существу, все перечисленные признаки Бога, за исключением безусловности, сводятся к личностным качествам, которые созерцаются в себе каждым человеком. Поэтому можно утверждать, что идея Лица, обладающего безусловностью, – это и есть идея Бога, которая содержится в Ветхом Завете.
Таким суждением могут быть и суждения веры, доверия, даже отказа от собственного суждения и пассивности. Именно в способности отказывать, например, видел сущность свободы Ж.-П. Сартр.
Отсюда рождается тема Премудрости, которая будет рассматриваться в особом разделе.
См.: Kreuzer. Die Septuaginta im Kontext alexandrinischer Kultur und Bildung // Im Brennpunkt: die Septuaginta. Bd. 3. S. 45.
MT: אוה אנק לא ומש אנק הוהי {Господь Ревнитель имя Ему, Бог Ревнитель Он}. LXX: ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ζηλωτὸν ὄνομα, θεὸς ζηλωτής ἐστι. Примечательно, что в греч. тексте «Ревнитель» определяется не как имя, но как значение имени κύριος ὁ θεὸς. В МТ слово אנק оба раза огласовано одинаково, но в евр. оригинале LXX, видимо, это было не так.
Выражение κατὰ τὸ ὄνομα (соотв. евр. ןכ ... משכ) означает именно соответствие, устанавливаемое между именем и свойством предмета (см., напр., Сир 6:23).
Слово «тетраграмматон» (греч. «четыре буквы») используется в науке наряду с известной реконструкцией произнесения этого слова (Йахве) у которой суждено оставаться гипотетической.
Достаточно сказать, что иудаистский антихристианский памфлет Жизнь Йешу обвинял Иисуса в похищении Божественного имени из иерусалимского Храма и незаконном чудотворении силой этого имени. Влияние на агаду теургических воззрений в этом случае не вызывает сомнения.
Эта датировка основывается на библейских (Неемия) и послебиблейских (Иосиф Флавий) источниках, см.: Nutt. A Sketch of Samaritan History, Dogma, and Literature. P. 15–16.
Слово ינדא (Адонай), букв. «Господа мои», представляет собой pluralis maiestatis от ןודא {господин, хозяин} с местоименным суффиксом 1-го лица.
В противном случае следовало бы предположить, что в облике старца Симон видел самого себя, или свою душу. Но такое удвоение собственной личности для древней традиции совсем нетипично. Если старец и был похож на Симона (по крайней мере одеждой и характером совершаемых действий), то скорее следовало бы признать в нем его ангела (ср. Деян 12:15). Однако уход старца во Святое святых и его невозвращение оттуда выражает не личное отношение к Симону, а отношение к его служению: Симон понимает, что в последний раз священнодействовал в день очищения. Следовательно, если старец – ангел, то ангел не конкретного человека Симона, но его священнического сана или же самого храмового культа.
См.: Муретов М. Учение о Логосе Филона Александрийского и Иоанна Богослова. М., 1885. С. 130. Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб., 1995. С. 76.
Как известно, В. Буссет указывал на культовую основу наречения Иисуса Господом в апостольском корпусе, ссылаясь, в том числе, на литургическое понятие «трапеза Господня», впервые появляющееся в греч. пер. кн. пророка Малахии (ст. 1:7). См.: Bousset W. Kyrios Christos. Geschichte des Christusglaubes von den Anfängen des Christentums bis Irenaeus. 5te Aufl. Göttingen, 1965. S. 88–89. Представляется, что история Божественного имени κύριος в Ветхом Завете дополняет эту перспективу.
Существует мнение, что это – первый этап ревизии греч. текста в согласии с евр. (Hengel M. Septuagint as Christian Scripture. London, 2004. P. 7–9). Однако непонятен смысл такой замены.
Беркитт отмечает, что и в Сирогекзаплах имя передается как

и объясняет эту традицию следующим образом: «...тетраграмматон в наших рукописях, несомненно, предназначался для того, чтобы его произносили как κύριος... В греческих синагогах читалось именно это слово, как удостоверяет и Ориген» (Fragments of the Books of Kings According to the Translation of Aquila. P. 15–16).
Waddell W.G. The Tetragrammaton in the LXX//Journal of Theological Studies. 1944. №45. P. 161.
См.: Vermes G. The Complete Dead Sea Scrolls in English. P. 472. Этот способ называния священного имени, практически совпадающего в данном случае с именем одного из финикийских божеств, имел магическое значение и широко использовался в оккультной практике. См.: Петров А.В. Феномен теургии: Взаимодействие языческой философии и религиозной практики в эллинистическо-римский период. М., 2003. С. 57.
Во многих случаях, однако, читается просто удвоение κύριος κύριος. По всей видимости, это следствие редактирования LXX по евр. тексту.
Мы сознаем ограниченность употребления анахронизмов, таких, как «персональный», «личность» и др., при описании библейской веры – это же касается слов «Библия», «вера», «религия», «теология», «человек» и т.п. Вместе с тем отказ от их использования не представляется конструктивным.
«Народы! – близок, близок час: Сам Саваоф стоит за вас!» (В. Кюхельбекер). «С златной тучки глядит Саваоф» (С. Есенин). «Так с неба Господь Саваоф внимал молодому Давиду» (М. Цветаева). «Бог громов, Саваоф, Ты над вихрем наших снов» (К. Бальмонт) и др. Звучность и вместе необычность этого имени для русск. слуха делали его стилистически весомым, впечатляющим.
Это чтение (єже ч́дно єсть), в изд. Ральфса не отраженное, представляет собой достояние слав. Библии. Нет его в доступных нам текстах бохейрской, арм. и эфиоп, версий.
Aejmelaeus. Von Sprache zur Theologie: methodologische Überlegungen zur Theologie der Septuaginta. P. 37.
Ibid.
«Когда Хоний [т.е. Ония], сын первосвященника того же имени, бежавший в Александрию к царю Птолемею Филометору и, как мы уже раньше указывали, оставшийся там на жительство, увидел угнетение Иудеи со стороны македонян и их царей, то, желая снискать себе прочную славу и вечную память, решил отправить к царю Птолемею и царице Клеопатре просьбу о разрешении воздвигнуть в Египте храм, подобный Иерусалимскому, и назначить к нему левитов и священнослужителей из своего собственного рода. В этом намерении особенно укреплял его пророк Исайя, который за шестьсот с лишним лет до него предсказал, что в Египте безусловно будет воздвигнут некиим иудеем храм в честь Всевышнего» (Иосиф. Древн. XIII. 3:1). «Намерения Хония в этом предприятии не были безукоризненны, им руководило недоброе чувство к иерусалимским иудеям, внушенное ему памятью о его бегстве, и вот он думал, что постройкой храма ему удастся отвлечь значительную массу иудеев. Впрочем, существовало еще древнее предсказание, предвозвещанное еще шестьсот лет назад; ибо пророк Исайя прорицал постройку иудеем этого храма в Египте. Таким образом возник храм» (Его же. Война. VII. 10:3).
См. Менахот, XIII. 10 и Тосефту.
См.: Мельников. Философские воззрения Нумения Апамейского. С. 23.
Глубоковский Н.Н. Библейский словарь. Сергиев Посад, 2007. С. 194.
Там же. С. 311.
Евр. ךילע לב יתבוט современные переводчики интерпретируют по-разному. В греч. выражено ясно: ὅτι τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις – это есть основание, почему Господь именуется так. Фактически речь идет об определении понятия «Господь», хотя в евр. тексте на месте определяемого стоит ינדא, а не הוהי.
Евр.: קחרמ יהלא אלו הוהי םאנ ינא ברקמ יהלאה. Современные пер., видимо ориентируясь на Вульгату (putasne Deus... etc.), толкуют эту фразу как вопросительную, отчего иногда получается обратный смысл: «Разве Я Бог вблизи?..» Образующееся в результате несоответствие другим заверениям Господа, согласно которым Он именно вблизи Своего народа, врачуют добавлением слова «только», чему евр. текст не дает оснований. Все это предпринимается ради того, чтобы избежать пер. «Я... не Бог вдали», который, однако, нимало не смутил греч. толковников.
Насколько греч. язык «абстрактен» и пригоден для философии дискурсивного типа, настолько же евр. «сверхконкретен» (Seeligmann. Problems and Methods in Modern Septuagint Research. P. 70).
Kyrios // Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 1924. BdXII, l.Col. 176.
Такое чтение содержат слав, и греч. богослужебные списки Псалтири. В МТ читается «Воскликните Богу (םיהלאל)». Главные кодексы LXX, которые легли в основу изд. Ральфса, возможно, содержат исправление по МТ, сделанное еще до Оригена и связанное именно с тем, что «вся земля», согласно традиционному толкованию Втор 12:11, не могла призывать Господа по имени. Глубоковский в своем Библейском словаре (с. 311) отмечает, что םיהלא иногда использовали вместо ינדא для замены הוהי при чтении. Эта замена могла стать источником предполагаемого нами исправления сначала в евр., а затем и в греч. тексте.
См., напр., Зах 1. Есть и другие места, не отмеченные астерисками, где הוהי תואבצ переведено как κύριος τῶν δυνάμεων, напр., Пс 83:3, где речь идет об алтарях, т.е. жертвенниках «Господа сил».
ידש переводится в книге Руфь прилагательным ἱκανός {достаточный}, что также указывает на понимание Бога как всемощного. Значение самого слова ידש считается в настоящее время непроясненным. См.: Kreuzer. Die Septuaginta im Kontext alexandrinischer Kultur und Bildung // Im Brennpunkt: die Septuaginta. Bd. 3. S. 49.
Εpigrammata Graeca ex lapidibus conlecta. Berlin, 1878. P. 331–332.
B MT: לכל קזחלו לדגל ךדיבו הרובגו חכ ךדיבו לכב לשומ התא {Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все}.
Через пер. эпитета ידש в LXX устанавливается синонимия между именем παντοκράτωρ и эпитетом ἱκανός {достаточный, способный}, которое также служит эквивалентом данному евр. слову (напр., Иов 21:15). Общее значение этих понятий – готовность применить созидательную силу, virtus.
Такая интерпретация (κύριος τῶν στρατίων) восходит к Акиле, местами ее поддерживает Симмах. В силу подобного понимания имя תואבצ не значится как отдельное сущ., напр. в Словаре-указателе и в Конкордансе Лисовского.
Глубоковский. Библейский словарь. С. 648.
Слово םאבצ{сила их} переведено здесь как «убранство» (κόσμος, слав. ѹтварь), по аналогии с Быт 2:1, где речь идет об украшении неба и земли всеми родами существ и первозданных предметов. Можно заметить намеренное «овеществление» в греч. тексте реалий, о которых говорит пророк: силы небесные «изобретаются» или «показываются» (καταδείκνυμι, евр. ארב) – так мастер показывает свое мастерство.
אבצ также переводчески отождествляется в LXX с индивидуальной силой (ליח) живого существа, опять-таки скорее безличной, но сообщаемой Богом праведникам и, возможно, также ангелам: «приходить будут из силы (ἐκ δυνάμες, ליחמ) в силу (εἰς δύναμιν, ליחלא), явится Бог богов в Сионе; Господи Боже сил (τῶν δυνάμεων, תואבצ), услышь молитву мою» (Пс 83:8).
Евр.: אצמת הולא רקחה {Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?} (Син).
Вариант: «найти предел Всесильному» (РБО).
С литературной точки зрения такое сопоставление вполне корректно. Неопознание следа как метафора неведомости способа проникновения просматривается и в Притч 30:19.
См.: Платон. Кратил 397b, ср. Теэтет 176 b; Григорий Богослов. Слово 30.18. 285
Труднее предположить, что, наоборот, МТ содержит изъятие: оно было бы не мотивированным, к тому же кумранская рукопись (4QpaleoExodm), представляющая сходную с самаритянской версию, поддерживает МТ (хотя начало 10-го ст. не сохранилось, это можно установить исходя из длины строки).
В эпоху существования ковчега, в котором хранилась книга Закона, Бог «являлся» пророку между изображениями херувимов над крышкой ковчега. Визуальный характер этих явлений никак не описан. Считается, что золотые тельцы, установленные для поклонения в Дане и Вефиле, призваны были служить «носителями» подобных богоявлений. (См.: Шифман. Ветхий Завет и его мир. С. 103, прим. 1).
МТ: םימשה {на небо}. Тишендорф предположил, что греч. чтение исправлено с первоначального ἕως εἰς {даже до [неба]}. (См.: Юнгеров. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни. С. 60).
«По четырем ветрам небесным» – значит «на все четыре стороны» (ср. Дан 11:4). В совр. иврите термин תוחור {ветра} означает «страны света».
Типичный пример этого – пер. фразы Пс 75:3 ןויצב ותנועמו וכוס םלשב יהיו {И стала в Салиме куща Его, селение Его на Сионе}. Греч, текст: καὶ ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ, καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιών {И стало в мире место Его, и жилище Его на Сионе}. Пользуясь интерпретацией слова םולש – «мир», т.е. благоденствие, переводчики создают невозможное, с точки зрения обыденного языка, словосочетание «место в мире», тем самым аллегоризируя название города Салима. В то же самое время их совершенно не смущает то, что Бог имеет жилище на Сионе. Такое же чередование топонимов с их интерптетирующими пер. встречаем в греч. версии Песни песней.
Horbury W. Land, Sanctuary and Worship // Early Christian Thought in its Jewish Context. Cambridge, 1996. P. 212.
Евр.: םדק בשיו {Он сидит / воцарился изначально}. Здесь имеет место интерпретация: переводчик объясняет, что значит «изначально» – прежде начала времени. Существенно и то, что в пер. Бог называется не «бывшим», а «сущим» (Слав сы́й), или «пребывающим» там – это выносит Его за границы времени вообще.
Ср. Притч 8:23, где это выражение является пер. םלועמ (в совр. версиях: «от века»).
В Ветхом Завете «то, что Бог существует прежде начала времени, а также то, что пред-существовала [времени] Его Премудрость, представляется общим местом» (Fox M. Proverbs 1–9: The Anchor Bible. New York, 2000. P. 284).
Евр.: רדו רד ומכ ויתונש {годы его как род и род}. LXX читает вместо ומכ, видимо, םויכ. Pesh, возможно, поддерживает мысль о наличии другого оригинала или толкования, переводя:

{годы его до рода-родов}.
В МТ стих заканчивается словами לא התא {Ты Бог}, но в LXX последнее слово отнесено к началу следующего ст.
Собственно, дважды: «Бог века» (Ис 40:28) и «Царь века» (Иер 10:10); есть еще несколько стихов, которые можно понять в смысле вечности существования Бога, что, впрочем, составляет явный признак библейской теологии. Но только в эллинистическое время «Вечный» становится именем (ср. 3 Макк 6:10).
Употребление здесь глг. κάθημαι {восседать} подразумевает семитский прототип фразы, возможно такой: םלועל םידבוא ונחנאו םלועל בשוי התא.
Евр.: והעדתו םדא המ {что такое человек, что Ты знаешь его?}. По всей видимости, LXX читали глг. в имперфекте формы niph’al: והעדת.
Греч.: ἐπὶ γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη. Употребление глг. ἀναστρέφω {букв, поворачивать}, по нашему мнению, надежно защищает этот текст от подозрений в интерполяции со стороны христиан. Речь здесь идет о «хождении» Бога с Израилем, которое только после явления Христа могло быть понято как пророчество о Боговоплощении. Однако идея этого «хождения» выражена здесь наиболее универсально и в то же время лично: Бог общался с людьми, пребывая в (ev) среде человеков и вместе (auv) с ними.
См.: Шолем. Основные течения в еврейской мистике. С. 77–80.
Параллелизм здесь и далее свидетельствует в пользу LXX.
То, что в МТ записано как והייח {букв.: оживи его}, в оригинале LXX читалось, вероятно, как [עידות] תויח. Хотя сходство в наборе букв обеих версий налицо, их расхождение объяснить затруднительно. Вероятнее всего, др.-евр. редакторы (список из Вади-Мураббаат в этом фрагменте поддерживает МТ) сочли первоначальную конструкцию фразы невозможной, а потому ошибочной.
В этом случае ברק прочитано с др. огласовкой, нежели в предыдущем, со значением не «середины», а приближения.
Греч. ἐπιγινώσκω – собственно «признавать», «узнавать в лицо». Ср. коммент. Юнгерова ad loc.
Двенадцать библейских пророков / Коммент. Е.М. Сморгуновой. С. 89.
Библейский словарь. С. 755.
МТ: שקבא הוהי ךינפ תא ינפ ושקב יבל רמא ךל {Тебе сказало сердце мое: ищите лица Моего; лица Твоего, Господи, взыщу}. LXX: σοὶ εἶπεν ἡ καρδία μου· κύριον ζητήσω· ἐξεζήτησέ σε τὸ πρόσωπόν μου· τὸ πρόσωπόν σου, κύριε, ζητήσω {Тебе сказало сердце мое: Господа взыщу; взыскало Тебе лице мое: лица Твоего, Господи, взыщу}. Так в греч. и слав, лекционариях и большом количестве рукописей (см. коммент. Юнгерова ad loc), а в полных кодексах LXX нет. Представляется довольно явной связь этого чтения с евр., и по соображениям параллелизма, и потому, что МТ менее вразумителен: вместо ושקב в оригинале было, вероятно, ךשקב. Причины разногласия двух версий неясны; полные списки LXX, возможно, приведены в согласие с МТ. Кроме Слав, процитированное нами чтение в общем поддерживает Арм: եւ փնդրեցին երեսք իմ {и пусть ищет лице мое}, далее как в LXX.
Глг. הפצ {вглядываться, наблюдать} корректно передан по-греч. словом «ἐποράω». Но в МТ содержится более простой смысл: «и буду вглядываться» (הפצאו), что естественно можно было бы истолковать в смысле надежды, ожидания (Вен). Септуагинта, однако, сохраняет lectio difficilior, которое также поддерживает Пешитта: «и явлюсь Тебе»

.
Ср. греч. пер. фразы Быт 22:14 רמאי רשא הארי הוהי אוהה םוקמה םש םהרבא ארקיו הארי הוהי רהב םויה –– καὶ ἐκάλεσεν Ἀβραὰμ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου, κύριος εἶδεν, ἵνα εἴπωσιν σήμερον, ἐν τῷ ὄρει κύριος ὤφθη {и назвал Авраам имя месту тому «Господь видел», как и говорят сегодня: «на горе Господь явился»}. Именно так, как LXX, интерпретирует евр. текст А. Венан: «на горе Господь был увиден» (Wénin A. L’homme biblique: Lectures dans le premier Testament. Paris, 2009. P. 64). Эти представления сохранялись и дальше. В частности, они отражены в одном своеобразном талмудическом правиле, которое касается человека, опрометчиво поклявшегося воздерживаться от контактов со зрячими: «Кто путем обета отказался от «видящих солнце» (המחה יאורמ), тому запрещены и слепые, ибо он имел в виду тех, которых солнце видит (ותוא האור המחש)» (Недарим III. 7). Конечно, здесь имеет место также игра слов, поскольку «видящими солнце» могли быть названы вообще живые. Но рекурсивная концепция восприятия, типичная для семитского мышления, засвидетельствована также в Коране:

{He постигают Его взоры, а Он постигает взоры} (сура 6. 103, пер. И.Ю. Крачковского).
МТ: המ דע עדי ונתא אלו איבנ דוע ןיא וניאר אל וניתתוא {Знамений наших мы не видели, нет больше пророка, и нет с нами знающего, доколе}. LXX: τὰ σημεῑα αὐτῶν οὐκ εἴδομεν, οὐκ ἔστιν ἔτι προφήτης, καὶ ἡμᾶς οὐ γνώσεται ἔτι. Возможно, переводчик читал последнюю часть фразы иначе: המ דע עדי אל ונתואו {и знамений наших не знает больше}. Если так, то в подстрочнике явно была игра слов: мы не обращали внимания на предзнаменования, теперь же Бог не обращает внимания на наши знаки почтения, т.е. «не знает» нас.
Это выражение (ידובכ, ἡ δόξα μου) обычно толкуется в смысле славословия, но в совр. пер. РБО – «сердце мое» (Пс 29:13), «душа моя» (Пс 56:9), т.е. др.-евр. слово ידובכ {букв.: тяжесть} понято как указание на нечто существенное в человеке. Мы полагаем, что здесь имеет место такая же система взглядов, как и относительно зрения: слава есть среда между славимым и славящим, как виденье – между видимым и видящим. В кн. Варуха говорится, что умершие οὐχι δώσουσιν δόξαν καὶ δικαίωμα {не воздадут славу и оправдание} Богу, т.е. ничем не смогут себя проявить и участвовать в религиозном культе не в состоянии.
Кирсберг И.В. Феноменология жизни: Ветхий Завет и первые христиане. М., 2003. С. 46.
Ср.: Тантлевский. Мелхиседек и Метатрон. С. 40.
Ср. описание Мессии в одном из ранних талмудических источников: «Одежда в которую Бог оденет Мессию, будет сиять от одного края земли до другого. Израильтяне, когда увидят такой блеск, скажут: Блажен час, когда Мессия был сотворен. Благословенно чрево, которое родило его. Благословен род, который видит его, и глаза, которые достойны видеть его. Его губы открыты для благословения и мира, его слова успокаивают дух. Слава и величие сияют от его одежды. Доверие и вера присущи словам его. Его уста говорят прощение и милосердие, его молитва имеет благоухание ладана, святость и чистота в его мольбе. Благословенны вы израильтяне» (Песикта де-рав Кахана, 179а). Цит. по: Скобелев М.А. Сравнение экзегезы мессианских пророчеств Ветхого Завета в арамейских таргумах в Новом Завете и в произведениях христианских апологетов: Дисс.... канд. богословия. М., 2006. С. 74.
Ср. Талмуд / Изд. Переферковича. Т.1. С. 362, прим. 4.
Также стоит отметить его политическое значение для Иерусалимской теократии, хотя и в этом случае заметна его ограниченность: власть первосвященника никогда не была абсолютной, каковою мыслилась власть Бога; он скорее гарант устойчивости ритуализированного строя, чем вождь, подобно царю или пророку. Однако именно это делало первосвященника образом носителя употребляемых в этом контексте имен – Всевышнего и Вседержителя, т.е. Бога как осуществителя мировых законов, являющихся контекстом и необходимой канвой для осуществления мировой истории.
LXX: ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ. Вся семья альтернативных гекзапларических пер., а также Сирогекзаплы поддерживают МТ: םהב להא םש שמשל {солнцу положил селение в них}, т.е. в небесах. Труднее обстоит дело с Пешиттой, в которой читаем:

{на солнце устроил жилище Свое в них}. Вряд ли можно предполагать, что сир. вариант исправлен по греч., потому что в христианское время «жилище» Бога на солнце было, во всяком случае, менее актуально, нежели во времена ессеев, молившихся на восход солнца. Скорее, в этом месте прототип Пешитты избежал коррекции, которая превратила бы предлог

в слитный предлог ܠ, или же она была отторгнута на этапе пер. в силу стойкости традиции.
Auwers J.-M. Une tente dans ou pour le soleil? // The Septuagint and Messianism. Leuven, 2006. P. 200–201.
Особенно характерно для интересующего нас контекста: «Мардук, господин изобилии, проливающий дождь урожаев, Господин морей и потоков, властелин над горами, Отверзающий токи и струи, направляющий реки, Властелин полей и скота, рождающий зерна и травы, обновляющий зелень... отче всех человеков... Ты, как солнечный свет, освещаешь их мрак» и прочее (Молитвы к Мардуку // Ассиро-вавилонский эпос. СПб., 2007. С. 232).
Это значит, что непосредственно в Библии, особенно в каноне Септуагинты, коренится та «световая эстетика» Средневековья, истоки которой В.В. Бычков доводит до Филона Александрийского, затем обрывая их и справедливо указывая на наличие аналогичных явлений в древних культурах Ближнего Востока (см.: Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. Т. 1. М; СПб., 1999. С. 27). Свидетельства Ветхого Завета имеют здесь вполне самостоятельную силу, так же как и мистика света в посланиях апостола Павла (см. об этом: Вевюрко И.С. Антропологическое значение мистики света у апостола Павла // Религиоведение. 2005. № 4. С. 19–29).
«Испрашивая его восхождения», по всей видимости, у Бога, а не у самого солнца. Молитвенное обращение в Септуагинте обычно регулируется предлогом πρός, Иосиф же здесь употребил предлог εἰς.
Ниже (Плач 3:23) о милостях Господа сказано, что они «обновляются каждое утро» (םירקבל םישדח, καινὰ εἰς τὰς πρωΐας).
В LXX др. чтение: ἔλεος καὶ ἀλήθειαν ἀγαπᾷ κύριος ὁ θεός, χάριν καὶ δόξαν δώσει {милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу подаст}. Интересна интерпретация в Pesh:

{кормилец и защитник Господь, Он Бог...}. Сир. пер. представляет здесь как бы переходный этап между МТ и LXX и позволяет понять последнюю тоже как интерпретацию. Тогда получается, что согласно традиции, которую знали переводчики, Бог называется «солнцем» как податель благ, кормилец – в параллель Его статусу защитника. Греч, текст отождествляет это с распространенным концептом «милости и истины» как основных добродетелей Бога. Так создается содержательная абстракция, в данном случае – два предиката Божественного субъекта.
Содержательная, или «конкретная абстракция... отражает... специфическую природу рассматриваемого особенного или единичного явления» (Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М., 1997. С. 38).
Так определяют авторы Словаря библейских образов, с. 216. Но мы бы добавили к этому, что не меньшую силу, чем физические, имеют логические свойства, относящиеся к пространству и времени, а также внутреннему миру человека и основам нравственности, которые лежат в области «верного» и «неверного», т.е. соблюдающего или нарушающего завет (договор).
Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. М., 2002. С. 72.
«Логика мифологического мышления так же неумолима, как логика позитивная и, в сущности, мало чем от нее отличается. Разница здесь не столько в качестве логических операций, сколько в самой природе явлений, подвергаемых логическому анализу» (Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2001. С. 241).
Van Heche P. Introduction // Metaphor in the Hebrew Bible. Leuven, 2005. P. 3–4.
При том что в Библии нигде нет утверждений, когерентных тождеству «солнце есть бог», в ней имеются характерные противопоставления: «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы от Бога Всевышнего» (Иов 31:26–28 МТ). В LXX это проинтерпретировано в полемическом ключе: «Разве мы не видим солнце воссиявшее оскудевающим, а луну умалающейся? итак, Он не в них».
См. выше прим. к Пс 83:12. Цепочка переводов-интерпретаций, в действительности независимых друг от друга, позволяет видеть, как традиция сделала «солнце» метафорой небесной заботы и щедрости, а «щит» – метафорой защиты и как при пер. на другие языки эти понятия были освобождены от метафорической оболочки, естественной для них в языке оригинала.
См.: Кучеренко А. Глаза в древнееврейской картине мира // Библия: литературные и лингвистические исследования. Вып. 4. С. 197.
В МТ этот стихотворный фрагмент полностью отсутствует. По поводу пребывания Господа «во мгле» см. 3Цар 8:12.
МТ: שמש וזח לב תשא לפנ {[как] выкидыш женский, не увидели солнца}. LXX читали שא {огонь} вместо תשא {жена}, и, вероятно, справедливо: ἔπεσε πῦρ ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ οὐκ εἶδον τὸν ἥλιον. Можно понять это в том смысле, что нечестивые «моментально умерли», подобно выкидышу, как полагает Юнгеров в com. ad loc, ссылаясь на Иов 3:16. Но в книге Иова употреблен глг. האר {видеть, в предельно широком смысле}, тогда как в псалме – הזח {смотреть, понимать, получать видение}, что делает ст. 9-й по греч. тексту похожим на пословицу с таким смыслом: «пал на них гнев Божий, а источника они не уразумели».
Что Господь «живет» непосредственно «во Святом», утверждает Пс 21:4 LXX. MT в этом случае дает иное чтение: «Ты, Святой, живешь среди славословий Израиля». Здесь допустимо подозревать поправку, внесенную в связи с разрушением Храма и появлением в иудаизме учения об эквивалентности молитвы храмовым жертвоприношениям.
Евр. חמצ {росток, колос}. Юнгеров комментирует: «восход солнца и всход растений, т.е. отрасль» (Большие пророки. С. 315, прим. 7). Избрание переводчиками слова ἀνατολή служит примером, и далеко не единственным, устойчивой ассоциации между появлением солнца из-за горизонта и колоса из земли; помимо сходства этих явлений, они взаимосвязаны как причина и следствие. Непосредственно такая ассоциация дана как отождествление посредством параллелизма в Ис 61:21–62:1–2. Мессия часто отождествляется с отраслью, что делает его носителем также солнечных свойств, и вместе с тем Бога – его «солнцем». О солярной символике воскресения, также связанной с земледельческими циклами, см.: Астапова О.Р. Священный брак в заупокойных чаяниях древних обитателей Междуречья // Вопросы истории. 2008. № 12. С. 112.
Vermes G. The Complete Dead Sea Scrolls in English. P. 329.
О.Н. Штейнберг в своем этимологическом словаре, с экскурсом в араб, язык, производит оба глг. от одного изначального слова со значением «давить», «налегать», «валять» (белье).
По объяснению РаШИ – «"слуга мой», «прислуга моя», подобная бытовой утвари, которой пользуются» (на Пс 108:10 МТ).
Именно к омыванию частей жертв и самих священников чаще всего относится рассматриваемый глг. в Пятикнижии.
Глубоковский. Библейский словарь. С. 489.
Шмаина-Великанова А. Книга Руфи как символическая повесть. С. 105–106.
Такое толкование встречается в коммент. Евсевия Кесарийского на этот псалом.
Возможно, отголосок этой древней интерпретации у отцов Церкви – в толковании слов «наложу сапог Мой» как выражающих мысль об одевании обуви, а не о покорении, т.е. наступлении сапогом на выю врага. Ср. у РаШИ: «На Эдом забрасывал башмак свой... – Слуга мой; их цари снимали мне башмаки с ног» (на Пс 108:10 МТ).
«То, что Песни Песней есть собрание любовных песен, может считаться общим мнением современных исследователей» (Швинхорст-Шёнбергер Л. Песни Песней // Введение в Ветхий Завет. С. 506). Шифман уточняет: «Этнографическое изучение сирийской свадебной обрядности показало, что Песнь песней является сборником свадебных любовных песен с хоровыми и сольными... партиями» (Ветхий Завет и его мир. С. 178). Подобные взгляды высказывались не только в новейшей науке (так, Феодор Мопсуэстийский придерживался практически той же точки зрения на эту книгу, что и наши современники; из русских богословов М.Д. Муретов рассматривал Песнь как поэму о любви к пастуху девушки, отказавшей самому царю Соломону). Можно согласиться с тем, что Песнь песней широко задействует метафорику не только любовной поэзии, но и, что существенно, свадебного ритуала. Однако деконструировать всю поэму на ряд самодовлеющих драматических эпизодов – значит не видеть в ней целого, которое далеко выходит за рамки описания земной любви. Из российских ученых нам ближе всего точка зрения А.А. Олесницкого, в своей книге «Песнь песней и ее новейшие критики» (Киев, 1882) представившего сюжет поэмы как символическое изображение религиозного брака между Богом и Его землей. Именно через образы Святой земли, по нашему мнению, мысль читателя на законных основаниях восходит и к антропологической, и к мистической тематике книги.
Споры о каноничности Песни велись в начале нашей эры среди раввинов, однако ее наличие в составе пер. LXX показывает, что задолго до этого поэма уже рассматривалась как часть Библии. Причиной споров была, видимо, ее профанация мирским исполнением, в связи с чем р. Акива постановил, что не имеет удела в будущей жизни тот, «кто выводит дрожащим голосом (ולוק ענענמה) Песнь Песней в доме пиршества и превращает ее в род светской песни (רמז ןימכ)» (Санхедрин, Тосефта 12:9–10).
См.: Мехильта к книге Исход, 3; Мидраш Тахнума, Тецаве.
См. его Беседы на Песнь песней.
Предлог םא в собственном смысле переводится как si, dum, num (Lisowsky. Konkordanz. S. 104). Пер. его через отрицание в данном фрагменте согласуются с поздним иудейским толкованием, согласно которому заклятие представляет собой призыв не возбуждать Израиль к борьбе за независмость прежде прихода Мессии. Эта интерпретация, по всей видимости, возникла уже после кровавого подавления римлянами восстания Бар Кохбы, поддержанного р. Акивой – родоначальником традиции толкования Песни песней.
Олень – символ прыти, быстроты (см. АН I. XLI).
Иероним Стридонский. Еврейские вопросы на книгу Бытия. М., 2009. С. 263.
Ср. АН I. XXXI: «В мире кони, и в человеке кони – это его голени». Вероятно, мы имеем здесь дело со стойкой ассоциацией человеческих ног и скачущих животных (ср. тж. в Песни песней), которая действительно позволяет переводить «как оленя», а не «как у оленя».
Ср. однокоренные: ἀρτίπους {проворный}, ἄρτισις {приготовление}; приставка ἀρτί- со значением «ново-».
МТ: תויד {коршуны}, т.е. продолжается тот же образный ряд. В LXX, вероятно, истолковано исходя из основы глг. האד {мчаться} – «стремительные», т.е. олени. Кроме того, прототип греч. стт. 16–17, по-видимому, отличался порядком слов. Показательно, что переводчик был готов к такой экзегезе, текст обладает связностью и последовательностью.
Мы имеем в виду мотив растущих рогов, представленный вариациями, отраженными в издании Р. Чарлза.
См. словарь М. Ястроу, с. 48.
Он, однако, находит себе созвучие в арам. таргуме на Песнь песней, который решительно аллегоризирует этот рефрен, вкладывая его парафраз в уста Моисея: «Заклинаю вас, община Израиля, Господом Саваофом и силой земли Израиля, не восходите в страну Ханаанскую до тех пор, пока не будет на то воли Неба и пока поколение воинов не возрастет в стане вашем».
См.: Маневич Л. Игра слов в книге пророка Иеремии // Библия: литературные и лингвистические исследования. Вып. 4. С. 180 и далее.
Ср.: Геннадий Фаст, прот. Толкование на книгу Песнь Песней Соломона. Ad loc.
Кроме графики есть, по-видимому, и другая причина считать, что Бог Шаддай является Богом поля и вообще пространства, – это отождествление «голоса Шаддая» (ידש לוק) с «голосом вод многих» (םיבר םימ לוק), которому подобно хлопанье херувимских крыльев из видения Иезекииля (Иез 1:24). Здесь имени «Шаддай» дано косвенное определение, и через Свой голос Он предстает Богом ливневого дождя, очевидно напояющего пространство земли. Есть два варианта греч. пер. этого в традиции LXX: ὡς φωνὴν ἱκανοῦ {как глас Могучего} и слав. ꙗ кѡ гла́съ бг҃а саддаі̀. В первом случае употреблено довольно редкое Божественное имя, в собственном смысле выражающее «достаточность» к совершению чего-то; во втором евр. форма имени оставлена без пер.
Такого рода интерпретацию развивали Ф. Делич, У. Кассуто, И. Кауфман, И.Ш. Шифман и др. представители школы истории религий в рамках библеистики. Слабое место этой школы составляет невозможность объяснить необходимость перехода древнего Израиля к монотеизму, а также установить причины и точное время этого перехода, что делает все реконструкции «языческого» прошлого гипотетическими соображениями на фоне бесспорных фактов общего культурного фона древних евреев и окружающих народов.
В мире библейской поэзии роса вызывает ассоциации не только с холодом ночного поля (Дан 4:22), но и с благословением жизни (Быт 27:28, Пс 132:3, Агг 1:10, Зах 8:12), которое распространяется даже на мертвых (Ис 26:19). Роса может быть образом самого Бога (Ис 18:4, Ос 14:6). Она спускается на землю ночью, исходя из чего МТ уподобляет ей грядущего Мессию: «из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое» (Пс 109:3). Роса и туман обладают исцеляющими свойствами (Сир 43:24).
Здесь следует указать на связь между окликом и удостоверением факта смерти, которая была известна в погребальных культах многих народов и особое место занимала в культе хананейского Ваала, умирающего и воскресающего бога весеннего солнца (Шифман). О соотношении культа Ваала с ритуальной подоплекой Песни песней будет сказано далее.
См. об амбивалентном символическом значении женского покрывала: Шмаина-Великанова. Книга Руфи как символическая повесть. С. 69.
Индивидуальное и коллективное в библейской антропологии соотносятся диалектически, так что ни одной из этих сторон нельзя отдать безусловного первенства. Ученые первой пол. прошлого века уделяли предпочтение «корпоративности» (ср. лат. corpus {тело}). В новейших исследованиях акцент, как правило, ставится на персональном (см.: Perriman A. The Corporate Christ: Re-Assessing the Jewish Background // Tyndale Bulletin. 1999. № 50.2. P. 239–263; Neusner J. Individual and Community in Judaism // The Encyclopaedia of Judaism. Vol. 2. P. 1088–1103). Однако попытки современных авторов свести коллективную идентичность древнего Израиля к идее «нравственной общности» (moral community) не кажутся убедительными в свете совокупности библейских данных о наследственности (см., напр., нашу классификацию: Вевюрко И.С. Антропология апостола Павла. Религиоведческий анализ корпуса посланий. Saarbrücken, 2012. С. 40–55). Как представляется, методологический инструментарий Гегеля остается до сих пор более точным при измерении таких величин, как часть и целое, нежели ситуативные социально-психологические спекуляции. Так, в сочинении «Дух христианства и его судьба» философ писал применительно к бедуинам, что каждый из них «сам и есть то целое, которое составляет все племя... У арабов, как и у каждого подлинно свободного народа, каждый человек есть часть, но вместе с тем и целое. Лишь по отношению к объектам, к мертвому, справедливо утверждение, что целое есть нечто другое, чем части. В живом, напротив, часть есть в той же мере единое, как и целое» (Гегель Г.В.Ф. Философия религии. Т. 1. М., 1976. С. 156). Эти слова подводят к правильному пониманию той антропологии, которой руководствовался в своей проповеди апостол Павел: «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены» (1Кор 13:26–27).
Цит. по: Гиршман М. Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней Античности. С. 109–110. Гиршман находит приведенную Иеронимом цитату Бар-Акивы правдоподобной.
Синодальный пер., принятый нами за основу, в этом месте далеко не очевиден и не бесспорен; однако Венское изд. 1888 г. воспроизводит его. Современный пер. РБО звучит совсем иначе: «Она сводит меня с ума, я – словно на колеснице с одним из знатных мужей». Вероятно, здесь предполагается, в согласии с толкованием М.Д. Муретова, что жених – простой пастух, а не царь; однако и в этом случае сравнение встречи со своей возлюбленной и катания в паре с вельможей выглядит несколько вычурным даже для древневосточной поэзии. В Штуттгартском изд. МТ вместо ינתמש предлагается конъектура ינתחמש, так что должно получиться: «...она возвеселила меня больше, чем отборные колесницы народа моего». Пешитта читает конец ст. по-своему: «...положила меня на колесницы народа быстрые».
Nescivi anima mea conturbavit me propter quadrigas Aminadab {He уразумел я, душа моя смутила меня из-за колесницы Аминадава}.
То, что в первом случае речь идет именно о легкомыслии, видно из букв, смысла ст. 13: «ибо мы не взыскали Его по суду» (טפשמכ, ἐν κρίματι), т.е. или по рассуждению (так в Слав), или согласно Закону.
Телесные члены в библейском представлении – обычно не органы, а жесты. См.: Кирсберг. Феноменология жизни: Ветхий Завет и первые христиане. С. 29.
Это предположение имеет все основания для того, чтобы быть истинным, так как ничто, кроме сознательного толкования, не вынуждало переводчиков передать фразу ךל יעדת אל םא {букв.: если ты себе не узнала} именно так. См. об этом в конце раздела I. 3.
В МТ этот ст. начинается, по крайней мере, с предлога יתא {со мною}, но в LXX этого нет: «Гряди (δεῦρο) с Ливана, невеста» и прочее. Pesh и Vulg согласны с LXX.
Согласно интерпретации мудрецов, как уже отмечалось, это заклятие представляет собой предостережение. А именно: «Я сделаю плоть вашу разрешенной [в пищу], как плоть животных полевых» (Шир га-ширим Рабба II. 7; ср.: ВТ Кетувот 111а).
Ливан часто выступает как метафора храма; об отождествлении жертвенного алтаря с волком есть сведения у отцов Церкви (экзегеза благословения «Вениамин, хищный волк...») и в иудейском предании (АН I. 1; Сукка, Тосефта 4:28). Иероним пишет об этом в связи с коммент. на Быт 49:27 – «Алтарь, на котором закалывались жертвы и основание которого поливалось жертвенной кровью, находился в уделе колена Вениамина... В данном случае евреи полагают, что кровожадный, прожорливый волк – это образ алтаря, а раздел добычи – образ священников, которые, служа алтарю, живут за счет алтаря» (Еврейские вопросы на кн. Бытия, ad loc).
«Ветром не сносило дымовой столб, а когда он поднимался от жертвенника всесожжении, он был подобен пальме и поднимался, как палка, до самого неба, а когда столб курений исходил от золотого жертвенника, он входил обычным образом в Дом Святая святых» (АН I. XXXV).
Маневич Л. Игра слов в книге пророка Иеремии // Библия: литературные и лингвистические исследования. Вып. 4. С. 185. Курсив мой. – И.В.
См.: Кучеренко А. Глаза в древнееврейской картине мира. С. 197 и далее.
Многократно в книге Левит – как глг., выражающий разделение чистого и нечистого.
Напр., Ветхий Завет и его мир, с. 185–186.
Для הקש обычный пер. – ποτίζω (Пс 35:9, 59:5, 68:22, 77:15), הור встречается вообще реже и в том числе со значением «упиваться» (Притч 7:18). В др. псалме он также переведен через μεθύσκω, причем явно в мистическом контексте: «упиются от тука дома Твоего» (Пс 35:9).
Отметим, что сравнение любовной ласки с вином – один из рефренов Песни песней.
Син переводит сущ. – «росток», и снабжает его мн.ч. для ясности, хотя в МТ это форма ед.ч. В Pesh переведено, как и в LXX, причастием, но от глг.

{прорастать}. Вообще это слово для передачи впечатления от «сияния» нигде не используется; однако сходство между восстающим солнцем и появляющимся из земли растением для семитских языков естественно (ср.: Frankfort H. Cylinder Seals. A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East. London, Macmillan, 1939. Pis. XVIIIc, XlXa). Ср. тж. сир.
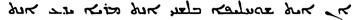
{росток, побег; блеск, сияние, отражение}; тж. перевод Пс 84:12 в LXX.
Заметим, что в Pesh глагол «благословлять» удвоен: он стоит как в конце ст. 11, так и в начале ст. 12, причем в разных формах. За счет этого Pesh согласна с LXX в ст. 12, отличаясь только временем глагола: «Ты благословил венец лета благости Твоей».
Септуагинта здесь иначе разбивает стихи, нежели современные пер., так что конец 5-го ст. МТ оказывается началом 6-го ст. LXX. Ср. интерпретацию стт. 5–6 в Pesh:

{и насытимся от благ дома Твоего, и от святости Храма Твоего, и от праведности Твоей страшной}.
Опаивается (μεθυσθήσονται… ποτιεῖς αὐτούς) «туком дома» Гоподня также народ Божий (Пс 35:9) – либо самими жертвоприношениями, либо их результатом. Ср. Пс 22:5 LXX.
Такую же параллель находил И.Ш. Шифман в запрете на приготовление козленка в молоке (Исх 23:19, Втор 14:21), ссылаясь на угаритский ритуал священного брака, предполагающий как раз обратное: «Ветхозаветный запрет, в сущности, делает невозможным вкушение ритуальной трапезы обряда священного брака и, значит, участие в нем» (Шифман. Ветхий Завет и его мир. С. 187). Подобное заключение от формы к содержанию не кажется нам вполне убедительным: по нашему мнению, сам ветхозаветный ритуал был ритуалом священного брака, но его характер, выражающийся в том числе в приготовлении пищи, был иным, чем у язычников, а участие в языческих обрядах порицалось как прелюбодеяние – измена Богу с идолами и стоящими за ними демонами.
Ср.: Dunn J.D.G. Christology in the Making: a New Testament Inquiry into the Origins of the Doctrine of the Incarnation. Grand Rapids, 1989. P. 163–212.
См.: Lorein. The Antichrist Theme in the Intertestamental Period. P. 57.
Географические ошибки при описании похода Олоферна настолько гротескны, что современные ученые считают эффект, производимый ими на первых образованных читателей, даже «комическим». Это совпадает с общим современным взглядом на данное произведение как наполненное не эпическим пафосом, а иронией – при ее бесспорном религиозном значении. См.: Craven Т. Artistry and Faith in the Book of Judith. Chico, 1983. P. 115; Wills L.M. The Jewish Novel in the Ancient World. P. 135.
Напр., Вигуру. Разбор аргументов за и против подлинности книги см. в кн.: Юнгеров. Введение в Ветхий Завет. Кн. 2. С. 394–396.
О Навуходоносоре см. ниже. Олоферн (возможно, Ороферн) – имя нескольких исторических деятелей: ряда каппадокийских царей, последний из которых жил в сер. II в. до н.э., и полководца царя Артаксеркса III (IV в. до н.э.). См.: Swete. An Introduction in the Old Testament in Greek. P. 272; Wills. Op. cit. P. 135. Мудрого язычника Ахиора сопоставляют с ассирийским мудрецом Ахикаром, героем популярной легенды, не утратившей своего веса в эллинистическое и средневековое время (в частности, ее знали в Древней Руси). См.: Апресян Р.Г. Наставления и история Ахикара // Сущность и слово. М., 2009. С. 96–114.
Это позволяет, в частности, характеризовать ее как «эсхатологический мидраш», т.е. основанное на традициях библейского текста богословское размышление о конечных судьбах мира. См.: Мень А., прот. Библиологический словарь. Т. 1.С. 599.
Такую версию предложил видный литературовед А. Шёкель (см.: Wills. Op. cit. P. 157); он же отмечал, наряду с Б. Мецгером, Цейтлином и Крейвен, литературное совершенство книги (см.: Craven. Op. cit. P. 6, п. 20). Противопоставление силы и слабости является в настоящее время довольно распространенным объяснением ветхозаветной историософии (ср.: Кляйн Х.-Д. Идея избранности Израиля с религиозно-философской точки зрения // Сущность и слово. М., 2009. С. 115–123). Однако универсальность этого принципа, как и однозначность отождествления Израиля со «слабым» в его собственном национальном самосознании, вызывают известные сомнения.
См. изложение: Wills. Op. cit. P. 148–149. Критический разбор феминистских pro et contra относительно сюжета Иудифи представлен в статье южноафриканской исследовательницы Efthimiadis-Keith H. Judith, Feminist Ethics and Feminist Biblical / Old Testament Interpretation // Journal of Theology for Southern Africa. 2010. November. № 138. P. 91–111.
Cм.: Wills. Op. cit. P. 156.
Название города (LXX: Βαιτυλουα, Vulg: Bethulia) обычно связывается со словом הלותב {девственница}. Эта точка зрения повлияла на поэтическую интерпретацию книги в незаконченном стихотворении Пушкина «Когда владыка ассирийский» (см.: Сурат И.З. «Стоит, белеясь, Ветилуя...» // Новый мир. 1997. № 6. С. 200–208). Кроме того, на греч. текст оказал влияние термин βαίτυλος – так назывались камни метеоритного происхождения, которые у греков почитались как священные. Дж. Дж. Фрэзер считал, что это слово имеет хананейское происхождение и означает «дом божества». Во всяком случае, метафорика священного камня для описания цитадели-девы уместна. Конкретно-географически город отождествляют с Витолием (Βαιτολιω, 1Езд. 5:21 LXX) и, возможно, Вефилем (евр. לא תיב {Дом Бога}) или его окрестностями (Глубоковский. Библейский словарь. С. 141). Это наводит на мысль о том, что в сказании о Иудифи мог иметься в виду и теофорный топоним: הולא תיב {Дом Бога} или הילא תיב {Дом Бога Йахве}. С фонетической точки зрения в транскрипции много неясностей. Но тема защиты от поругания и мщения за девство в книге специально проговаривается (ст. 9:2), поэтому образ города-девы, честь которому сохраняет вдова, введен сознательно. Не исключено также, что в евр. подтексте легенды обыгрывалось созвучие слов הנמלא {вдова} и המלע {дева}.
Еще несколько десятилетий назад, как сетовала Т. Крейвен, «большинство художников и библеистов принимали во внимание лишь один аспект книги Иудифь, а именно, триумф женщины, держащей в руках отрубленную голову врага. Для большинства ученых, таким образом, настоящей историей Иудифи были 8–16 гл. книги. Хотя рассказчик в действительности создал повесть, в которой женщина, Иудифь, до 8-й гл. не появляется вообще, многие интерпретаторы просто игнорировали большую часть книги, фокусируя свой взгляд на сцене убийства» (Craven. Op. cit. P. 3). Тенденция к прочтению книги с точки зрения «связи ужасного и эротического» возникла в эпоху барокко (см.: Большой путеводитель по Библии. С. 244) и держалась с завидным постоянством до самого недавнего времени. После работы Крейвен, опиравшейся на теорию параллелизмов Лаута, холистский анализ библейской риторики Дж. Мюленберга, на достижения Проппа, Алонсо-Шёкеля и др. структуралистов, книга Иудифь анализируется как целое только исходя из сопоставления двух ее полноправных частей (глл. 1–7 и 8–16). На русск. языке подробный анализ композиции см. в работе: Энгель. Цит. соч. С. 384–388.
Указанием на этот обмен, собственно, исчерпывается феминистская трактовка книги (ср. Wills. Op. cit. P. 148–149), хитроумно вскрывающая разнообразные символы, которые выявляют «маскулинность» поведения героини. Энгель (Цит. соч. С. 396) отмечает, что в одной части текста Олоферн «даже сам разговаривает как женщина», а именно в словах «твой Бог будет мой Бог» (ст. 11:23), ср. Руфь 1:16.
«Приготовить землю и воду» (ἑτοιμάζειν γῆν καὶ ὕδωρ) – нем. комментаторы предполагают, что форма высказывания заимствована из указов персидских царей (согласно Геродоту, VI. 48–49) – «требовать царю землю и воду» (αἰτέειν καὶ βασιλέι γῆν τε καὶ ὕδωρ), т.е. средств для сухопутного и морского передвижения войск (Septuaginta Deutsch, ad loc). По смыслу, однако, слова Навуходоносора другие: в отличие от Дария, которого цитирует Геродот, он обращается не к вассалам, а к врагам, и призыв «приготовить» звучит как угроза неминуемого нашествия.
Последний пример у Тони Крейвен в ряду с другими параллелями, большинство из которых литературны и могут быть объяснены как идиоматические выражения, в связи с чем мы не считаем нужным приводить их; любому внимательному читателю не составит труда их отыскать. (Ср.: Craven. Op. cit. P. 53–54)
Иудейское предание знает принцип отождествления: ««посланник» – то же, что «пославший»» (Берахот V. 5). В соответствии с этим принципом следует понимать библейские сюжеты, в которых поклонение ангелу рассматривается как поклонение самому Богу.
Гордон С.Г. До Библии. Общая предыстория греческой и еврейской культуры. М., 2011. С. 11–12.
Lorein. Op. cit. P. 64.
«Сегодня жизнь моя возвеличилась во мне больше, нежели во все дни от рождения моего» (ст. 12:18). Надо заметить, что эти пафосные слова Иудифь произносит без лукавства, так как она видит, что вино начинает действовать на Олоферна, и приближается, таким образом, время исполнения ее замысла. Более того, ни одно из высказываний Иудифи вообще не является лживым, так как победа предсказывается ею Олоферну лишь в том случае, если иудеи нарушат завет с Господом. Обещая, что на днях это произойдет, Иудифь также говорит правду, ибо она знает, что старейшины Ветилуи готовятся сдать город, связав себя клятвой с потребовавшей этого толпой.
Т. Крейвен находит этот прием в книгах Иова, Ионы, Руфи, Есфири и Товита – «использование языка комедии для достижения глубоких богословских умозрений» (Craven. Op. cit. P. 116). Она ссылается на труды: Good Е.М. Irony in the Old Testament. Philadelphia, 1965; Whedbee J.W. The Comedy of Job // Semeia. 1977. №7. P. 1–39.
Юнгеров (Цит. соч. С. 393) датирует ее началом II в. до н.э., так как в ней не видно следов гонений Антиоха. Современные авторы – Энгель, Лорейн и др., наоборот, видят в Навуходоносоре черты Антиоха, в самом же имени героини – намек на Иуду Маккавея (см.: Энгель. Цит. соч. С. 393). Конкретное историческое лицо – а именно, Никанора – усматривают и в Олоферне (Wills. Op. cit. P. 142). В новейшем немецком коммент. (Septuaginta Deutsch, I. S. 1298) уточняется, что книга должна была быть создана в конце II в., но не позднее 104 г. до н.э., когда Галилея была вновь иудаизирована (ср. ст. 2:28 и далее, где описано расселение народов в Палестине согласно видению автора).
См.: Муретов М.Д. Учение о Логосе Филона Александрийского и Иоанна Богослова. М., 1885. С. 130 и далее; Глаголев А.А. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. К., 1900. С. 24–25.
Напр., «Свиток войны»: «Он посылает помощь навеки... мощью могучего ангела, для предводительства Михаила в вечном свете... чтоб возвысить средь богов предводительство Михаила, а власть Израиля – над всякой плотью» (1QM XVII. 6–7).
Тема Мелхиседека вполне определенно звучит уже в каноническом псалме 110-м. Согласно кумранскому коммент. «Мидраш Мелхиседек» (11QMelch) этому эсхатологическому лицу вверяются полномочия «освобождать и отпускать», а также «мстить судом Господа». Филон Александрийский отождествляет его с Логосом (Аллегории законов III. 26). Подробнее см.: Тантлевский И.Р. Мелхиседек и Метатрон в иудейской мистико-апокалиптической традиции. СПб., 2007. С. 8–9 и далее.
Глг. καλλωπίζω, употребленный в ст. 10:4, имеет значения «украшать лицо» (в том числе «румянить») и вообще «наряжаться». В ст. 16:7 уточняется, что Иудифь помазала лицо благовонной мастью (ἐν μυρισμῷ).
Крейвен (Op. cit. P. 54) отмечает еще литературные параллели, которые в этом случае не выглядят случайными: Олоферн приводит в действие «совет» (τῆς βουλῆς, ст. 2:2) своего господина, Иудифь – «советы» (τάς βουλάς, ст. 8:16) своего Господа; перед Олоферном народы испытывают «страх и трепет» (φόβος καὶ τρόμος, ст. 2:28), и ассир. войско после обнаружения гибели полководца переживает то же самое (τρόμος καὶ φόβος, ст. 15:2).
В Ветхом Завете «Дух Господень» еще не выступает отчетливо как Лицо (ср. соотв. места в Евангелии от Иоанна и Деяниях апостолов), но, несомненно, в ряде текстов олицетворяет Бога и действует от Его имени не как один из сотворенных духов, а, подобно Премудрости, как определенная грань или характеристика самого Божества.
Разделение физического и метафизического при анализе библейского мышления условно в том отношении, что никаких четких дефиниций для подобных представлений мы в Библии не найдем, тогда как свидетельств их взаимного перехода или превращения в ней множество. С другой стороны, если некоторая реальность (например, злой дух в книге Иова) считается причиной некоторой другой (например, урагана), то тем самым уже дано основание для их различения. Применяя последнее систематически, можно заметить, что, как и у др. народов древности, у евреев нематериальные или «тонкие» деятели обычно мыслятся движущими причинами материальных или более «грубых», а главное, безличных (т.е. не обладающих собственным центром) явлений. Этот центр, или двигатель, не просто производящий движение, но его направляющий, и будет «метафизическим» в них.
Этот взгляд обладал значительной устойчивостью в религиозном сознании. Так, в тесной связи с учением о Святом Духе и с явной опорой на библейские исторические примеры он составляет ключевой сюжетный элемент в др.-русск. Сказании о Мамаевом побоище (эпизод со вступлением в бой засадного полка).
לעילב понято в букв. смысле («запустение», «ничтожество»), а не как имя собственное.
Этот «стенорушитель» (порец ץרפ), т.е. некто расчищающий путь для выхода евр. народа из плена, отождествляется с Мессией как потомком Фареса (ץרפ) у р. Шломо Ицхаки и др., с Илией у р. Давида Кимхи. См.: Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб., 1995. С. 33
МТ: הוהי חישמ וניפא חור {дыхание ноздрей наших, Помазанник Господень}. LXX: πνεῦμα προσώπου ἡμῶν χριστὸς κυριός {дыхание лица нашего, Христос Господь}. Можно предположить как влияние одного пер. на другой, так и наличие за ними своеобразной мессианской идиоматики грекоязычного еврейства.
Заметим к этому, что некоторые раввины с пришествием Илии пророка, предваряющего Мессию, связывали воскресение мертвых Духом Святым (Сота IX. 14).
Ср. у Филона: «Преимущества он [т.е. Моисей в книге Бытия] удостоил дух и свет. Первый он именует Божиим, ибо дыхание – самое важное для жизни, а источник жизни – Бог» (Сотворен., 20).
Параллель этому находим в кумранском Мидраше Мелхиседека 2.18, где на основе Ис 52:7 («Как прекрасны на горах ноги благовестника...») отождествляются «благовестник» (רשבמ) и «помазанник Духа» (חורה הישמ).
Разбор ст. см. в статье: Некрасов А.А. Всегда ли русский перевод с еврейского текста точно передает содержание ветхозаветных книг? // Православный собеседник. 1898. Февраль. С. 153–161. Ср. тж. толкование Дидима Слепца (О Святом Духе, 26).
Шифман. Введение. С. 56.
Само слово Бытїѐ (греч. Γένεσις) в слав. библейском употреблении означает не систему онтологических категорий, а расположение элементов мира в порядке их происхождения (Шестоднев), и далее – такое же повременное расположение исторических сил. Представляется важным отметить, что в лексический фонд русск. мысли слово «бытие» первоначально вошло именно с таким смыслом.
См. в словарях: Вейсмана, Лиддела.
Ср. развитие темы в более поздних текстах. Напр.: «Скорее, Адонай, пошли от Себя избавителя и вытяни меня из разверзшейся бездны, что желает затворить меня в своих глубинах» (сир. Пс 152:6); «Из силков Шеола Он освободил меня и вывел душу мою из бездны, которая непостижима» (сир. Пс 153:3). Как представляется, на эти произведения воздействовало соответствующее прочтение молитвы пророка Ионы, которое равным образом влияет и на евангельский образ ада, и через него – даже на средневековую иконографию.
Пер. буквален. Евр. ץרא תויתחתב значит «в нижайших [областях] земли», т.е. именно там, где должны скапливаться подземные воды. Метафорически здесь подразумевается женское чрево, которое, в свою очередь, само является образом мрака, предшествующего и последующего земной жизни: ןטבמ יתצי םרע המש בושא םרעו ימא {Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь туда} (Иов 1:21).
Этой фразы нет в евр. тексте.
По-евр. букв, «угнездил меня» (יננק). Употребление здесь глг., обычно выражающего витье гнезда, отсылает к выражению Быт 1:2 «И Дух Божий носился над водою» (םימה ינפ לע תפחרמ םיהלא חורו) – «носился», как птица над гнездом. Септуагинта переводит менее образным глг. κτίζω {делать, творить, населять, основывать [город]}, в котором сохраняются, однако, мотивы «водружения» и «насаждения».
יתכסנ םלועמ (Син: «От века я помазана»; РБО: «Я возникла от начала времен»). В МТ употреблен редкий глг. ךסי {литься, помазывать} в пассивной форме, или же ךסנ {выливать, отливать в металле}. Возможен пер.: «От века я излита». Переводчики LXX, очевидно, видели на его месте глагол ID1 {ставить, основывать}, который и передали как θεμελιόω. Пер. частицы -מ или ןמ {от, чем} в значении «прежде» (πρὸ), который в настоящем фрагменте встречается и дальше, образуя систематическое, концептуальное повторение, для Септуагинты вообще традиционен (ср. Пс 73:12).
ץרא ימדקמ: можно было бы перевести «при основании земли» (ср. РБО), но ниже, в ст. 26, уточняется, что земля еще не была создана: ץרא השע אל דע {пока не сотворил землю}. LXX именно здесь, в ст. 23, переводит таким образом: πρὸ τοῦ τὴν τὴν γῆς γῆν ποιῆσαι, а ст. 26 интерпретирует иначе (см. ниже).
תומהת ןיאב {когда не [было] бездн} переведено с явным акцентом на их созданность: πρὸ τοῦ τὰς ἀβύσους ποιῆσαι.
םימ ידבכנ תוניעמ {букв.: источники, отягченные водою}. LXX: τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων.
В МТ повторяется, а в евр. прототипе LXX впервые вводится слово יתללוח, которое толковник переводит формой настоящего времени: γεννᾷ με.
МТ: לבת תורפע שארו תוצוחו ץרא השע אל דע {букв.: пока не сотворил землю и внешние [страны] и первые пылинки вселенной}. LXX: κύριος ἐποίησε χώρας καὶ ἀοικήτους καὶ ἄκρα οἰκούμενα τῆς ὑπ̕ οὐρανόν. Понятно, что χώρας καὶ ἀοικήτους – перевод תויצו תורא. По всей видимости, толковники поняли выражение תורפע שאר {букв.: начало праха, глава праха} в смысле «высоты песка», «барханы» (наверное, не שאר, а יאשר, во мн.ч.), которые окружают населенную часть земли – ойкумену לבת).
Евр. ינא םש {букв.: там я}, греч. ουμπαρήμην αὐτῷ{я сопребывала Ему}. МТ, видимо, изменен, так как Pesh дает тот же вариант, что и LXX:
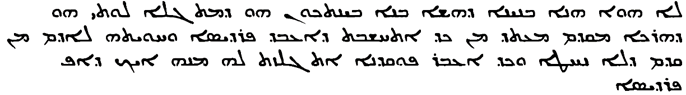
(с Ним была). Евр. фраза םוהת ינפ לע גוח וקחב {Син: когда Он проводил круговую черту по лицу бездны} передана так – ὅτε ἀφώριζε τὸν ἑαυτοῦ θρόνον ἐπ̕ ἀνέμων {Слав: є҆гда ѿлꙋча́ше прⷵто́лъ сво́й на вѣ́трѣхъ}. По-видимому, это интерпретация, особо ценная с той точки зрения, что она одновременно является толкованием первых дней творения согласно книге Бытия, откуда и взято выражение םוהת ינפ לע {букв.: над лицем бездны}. По версии LXX выходит, что Бог избрал для Своего престола «ветры», т.е. четыре стороны света (ср. 1Пар 9:24). Если утверждение кн. Еноха, согласно которой четыре ветра «носят землю и основание неба» (1 Ен IV. 18), отражает широкий контекст традиции, то «престолом» Бога, включая подножие, оказывается весь верхний и нижний мир, в полном соответствии с Ис 66:1. Таким образом, переводчик Притчей понимает здесь категорию םוהת {бездна} как пространство, скорее воздушное, чем водное, на котором волей и мудростью Бога «выделен» мир, и хочет избежать возможных недоразумений со словом ἄβυσσος.
Ср. Слав: и҆ є҆гда̀ крѣпки творѧ́ше вы̑шнїѧ ѡблаки, и҆ є҆гда̀ твє́рды полага́ше и҆сто́чники поднебе́сныѧ… и҆ крѣпка творѧ́ше ѡ҆снова̑нїѧ земли. Здесь Богу Приписывается не только созидательная, но и державная сила – Он не дает растечься, рассыпаться облакам, источникам, на которых стоит вселенная (ср. Пс 17:16, 23:2). В евр. тексте: «источники бездны» (םוהת תוניע).
Эта фраза в евр. тексте, возможно, представляет собой вставку, так как разрушает параллелизм (ср. пред. прим.). Сама по себе она, тем не менее, замечательна: при букв. интерпретации, которую дает греч. переводчик, получается, что «пределы» положены морю для того, чтобы реки не потерялись, «миновав» (παρέρχομαι) уста его. Мотив сопротивления водной стихии акту творения, таким образом, полностью уступает здесь мотиву целостного миросозидания, в котором все элементы взаимосвязаны и взаимозависимы. Возможная интерпретация евр. текста: «воды не преступят [повеления] уст Его» (ср. NET).
МТ: םדא ינב תא יעשעשו וצרא לבתב תקחשמ {веселясь заселением земли Его, и радость моя с сынами человеческими}. LXX: ὅτε ἐυφραίνετο τὴν οἰκουμένην συντελέσας, καὶ ἐνευφραίνετο ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων {букв.: как Он веселился, вселенную совершив, и возвеселился о сынах человеческих}. Отчасти этот пер., видимо, является интерпретацией: «заселение земли» передано как «совершение вселенной», т.е. последний акт миротворения, что соответствует библейскому шестодневу. Однако различия лица и пола субъекта предложения нельзя объяснить переводческим приемом, здесь должна была иметь место иная ред. текста оригинала.
Ср. продолжение темы в контексте греч. христианской мысли: «Они пустились из пристани в море, но когда буря постигла их, они, не имея кормчего, потерпели бедственное крушение в этом скверном и соленом море. Необходимо, чтобы море сие поколебалось, возмутилось и рассвирепело, дабы посредством сего волнения извергнуть на землю хворост, сено и все гнилое, что только реки страстей внесли в него. Рассмотрим внимательно, и мы найдем, что после бури на море бывает глубокая тишина» (Лествица, 4. 58–59). Как думается, здесь отражены общие для древнего мира взгляды на море как «скверную», ввиду непригодности для жизни человека, хотя и завораживающую своим величием стихию.
МТ: ישארל שובח ףוס ינבבסי םוהת {бездна окружила меня, водоросль опутала главу мою}. Греч, толковник прочел слово ףוס в др. его значении – «конец, предел» (ср. понятие ףוס ןיא {беспредельное} в средневековой евр. философии). Соответственно, следующие два слова интерпретируются как начало др. ст.: «погрузилась голова моя...» и прочее.
Евр.: םי תירחאב. Пер. LXX буквален.
«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, – и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя» (Син). Создается впечатление, что «край моря», во всяком случае, не ближе, чем небо и преисподняя. Это «другой берег» по отношению к земле, окруженной первозданным океаном, т.е. понятие больше метафизическое, чем географическое.
Евр. שדק можно было бы перевести и абстрактно как «святость» (ср. в Pesh: «путь Твой свят»), однако LXX, а за ними Vulg следуют букв, смыслу – «святыня», «святое место».
Ср.: «От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих» (Быт 10:5).
Эти «потоки», скорее всего, не реки, а морские течения (см.: Кассуто У. Эпическая поэзия в Древнем Израиле // Библейские исследования: Сб. статей. Вып. 1. М., 1997. С. 130). Возможно, они также ассоциировались с быстро летящими массами кучевых облаков или туманов, так как сходство нижних и вышних вод никогда не упускалось из внимания. Именно неустойчивость, подвижность воды дает почувствовать утвержденность мира как чудо, подобно чуду плывущего корабля (ср. Прем 14:3).
Сохранившийся евр. текст гласит: «Его слово проникает великую бездну».
Аналогичным образом Бог «усыпляет» воинственных всадников (Пс 57:7), делая это тем же окриком, которым Он усмиряет и море (Пс 105:9), и «зверей в тростнике» (Пс 67:31). Он управляет водой посредством голоса (Ам 9:6, Иер 31:36), возбуждая ее движение и останавливая. «Как лев, Он возревет... и ужаснутся чада вод» (Ос 11:10). «И убоятся имени Господа на западе и славы Его – на восходе солнца. Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его» (Ис 59:19).
Оно встречается у Оригена и ряда других авторов. Блж. Августин пишет об этом как о чем-то само собой разумеющемся: «Есть над этой твердью, верю я, другие воды, бессмертные, недоступные земной порче... Ты поставил их над этой твердью и даровал им силу, да взирают на бессилие народов, что внизу... Уходят облака, небо же остается; уходят из этой жизни в другую жизнь проповедники Слова Твоего, Писание же Твое распростерто над всеми народами до конца веков» (Исповедь XIII. 18). Здесь хорошо заметно соединение экзегезы Ветхого Завета с мотивом «стеклянного моря» из Апокалипсиса Иоанна (Откр 4:6). И действительно, в этом последнем, по-видимому, слиты ветхозаветные темы «верхних вод» и Божественного «места», подобного сапфиру или лазури.
Современные переводчики РБО не решаются порвать с этой традицией, устраняя из нее только христианское теологическое толкование посредством замены прописной буквы на строчную: «И дух Божий веял над водами». Однако с точки зрения русск. языка здесь было бы уместнее написать или «Дух», или «дыхание».
В действительности пер. оправдан. Евр. текст гласит: הבישל םוהת בשחי {бездна кажется сединою} (Син). Переводчики LXX читали его с различием в один согласный по сравнению с масоретами: сева (הבישׁ) означает «седину» (точнее, старость), а шива (הבישׁ) – «переход, возвращение» (ср. шув (בושׁ), «поворачиваться»), что греч. толковники и передали словом περίπατος.
Один из древнейших архетипов религиозного мышления, засвидетельствованный, в частности, в текстах мифов Месопотамии – это потоп, который типологически сходен (и местами отождествляется) со смертью. См., напр.: Астапова О.Р. Священный брак в заупокойных чаяниях древних обитателей Междуречья // Вопросы истории. 2008. № 12. С. 111.
На «небе небес» Господь воцаряется (Пс 67:34), поэтому оно противопоставлено земле, отданной во владение «сынам человеческим» (Пс 113:24).
Об отождествлении «техомот» (תומוהת) и «тиамат» см.: Palmer A.S. Babylonian Influence on the Bible and Popular Beliefs. London, 1897. P. 4–10; Kaccymo У. Эпическая поэзия в древнем Израиле // Библейские исследования. Вып. 1. 1997. С. 129. Отрицательное мнение на этот счет – Yahuda A.S. Language of the Pentateuch in Its Relation to Egyptian. Oxford, 2003. P. 127–129.
См. об этом: Крамер С.Н. Мифология Шумера и Аккада // Мифологии древнего мира. М., 1977. С. 131, прим. 17.
Представление об океане как окружающем землю со всех сторон, подобно «ризе», хорошо знакомо нам теперь благодаря глобусу. В древности греч. путешественники довольно рано пришли к выводу, что море значительно превосходит сушу по площади. Но нет оснований думать, что это было так же близко писателям и переводчикам библейских книг. Напротив, по их сведениям, хотя вода первоначально и обволакивала землю, но затем она собралась в свои места, и собрания вод Бог назвал морями (Быт 1:9–10 LXX). Греч, толковник здесь интерпретирует весь текст исходя из множ. евр. םימי {моря}. Впрочем, в ст. 9 он, возможно, сохраняет древнее, утраченное в МТ чтение.
Собственно, «голосом водосточных труб Твоих» (ךירונצ לוקל) – употреблено редкое слово, которое новые пер. интерпретируют как «водопады», а Септуагинта – как «хляби», т.е. крышки небесных колодцев (καταρρακτοί).
Евр.: ונאצמי ימ קמע קמעו היהש המ קוחר {Далеко то, что было, и глубоко-глубоко: кто постигнет его? (Син)}. LXX: καὶ αὐτὴ ἐμακρύνθη ἀπ̕ ἐμοῦ μακρὰν ὑπὲρ ὃ ἦν, καὶ βαθὺ βάθος, τίς εὑρήσει αὐτό {но она удалена от меня дальше, чем была, и бездны бездна, кто обретет ее?}. Первая часть фразы, до слова ἐμοῦ, взята из предыдущего ст.; вторая переведена, видимо, с текста в др. ред.: היהש ןמ קוחרו; третья представляет собой интерпретацию. Греч. чтения, сохраняя разделение ст. евр. текста, в главном поддерживает Pesh:

{... больше, чем было, [стало] расстояние, и глубина глубины – кто обретет ее?}.
Wénin. Lʼhomme biblique. P. 43.
Ср. Иер 31:36 «...дающий солнце, чтобы светило днем, луну и звезды на свет ночи, и крик (κραυγὴν) на море, чтобы восшумели волны его – Господь вседержитель (κύριος παντοκράτωρ) имя Ему». Интересно, что Шифман, устанавливающий сходство между Йахве и Ваалом, который сражается с морским богом Йамму, в то же время усматривает параллель и даже ономатологическую связь Йахве с Йаву, «одной из ипостасей морского бога Йамму» (Шифман. Ветхий Завет и его мир. С. 185). Такого рода гипотеза, делающая евр. богопочитание сугубо синтетическим, настораживает: не проще ли предположить, что Йахве изначально почитался как Творец всех стихий, хотя все они могут описываться иногда как проявляющие непослушание и подлежащие усмирению?
Напр., Пс 23; 106:16.
Греч. переводчик увидел игру слов между первым словом, которое он прочел в сопряженной конструкции мн.ч. יחירב {засовы}, вместо וחורב {от Духа Его} МТ, и последним – חירב {извивающийся}. Действительно, в оригинале, скорее всего, имела место перекличка омонимов, причем нерушимость засовов неба, заключение которых жители региона так чувствительно переживали при засухе и трепет которых при открытии «хлябей небесных» ясно угадывался в грозе, противопоставлена подвижности морского чудища, которая в LXX интерпретируется как его непослушание (отступничество).
Текст поэмы воспроизводим по Шифману, на авторитетные коммент. которого преимущественно и опираемся в этом раделе: О Ба‘лу. Угаритские поэтические повествования. М., 1999. С. 129,157–158. Транскрипция согласных иврита дана по учебнику Ламбдина.
«Перед нами, – пишет Шифман, – несомненно, поэтический штамп, общий для всего древнего сиро-палестинского региона» (Там же. С. 158).
Шифман. Цит. соч. С. 28. Ба‘лу (ср. евр. לעב, букв, «господин», «обладатель») – хананейский бог плодородия. Муту (ср. евр. תומ, «смерть») – хананейский бог смерти.
Ср. евр. םי (йам) {море}.
Версия LXX композиционно совершеннее: «В тот день воспоют песнь сию в земле Иудейской, говоря: вот, город крепкий спасение даст нам – стену и ограду... В тот день захотят воспеть о хорошем винограднике: я город крепкий, город осажденный. Напрасно Я поливаю его, захвачен будет ночью, а днем падет стена его, и нет такого, кто бы не взял его». Все это согласуется со стт. 27:10–11 «Ибо укрепленный город опустеет, жилища покинуты и заброшены, как пустыня... Когда ветви его засохнут, их обломают; женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его, и не помилует его Создатель его». В МТ слова об укрепленном городе и винограднике звучат как похвала, оторванная от этого трагического сюжета.
МТ: םע תאנק ושביו וזחי {увидят и устыдятся ненавидящие народ} (Син). LXX: ζῆλος λήψεται λαὸν ἀπαίδευτον {ревность охватит народ необразованный}. Пер. относится только к последним двум словам, так как первая пол. предложения отнесена к предыдущему: «...а когда уразумеют, постыдятся». Таким образом, םע תאנק означает, с точки зрения толковников, «ревность (вариант: зависть) народа», и своей интерпретацией LXX пытаются дать объяснение этим словам исходя из предшествующего текста: поскольку воли Бога народ не уразумел, а когда уразумеет, постыдится, то из-за своей необразованности он и будет жертвой зависти к тем, которые окажутся верными (ср. ст. 12 и далее). Возможно, этот текст был одним из источников апостола Павла: «Не возбужу ли ревность в [сродниках] моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» (Рим 11:14).
Греч, текст уточняет: «и врачи не воскресят», противопоставляя врачебное (видимо, магическое) искусство безграничному могуществу Господа.
Hermann W. Jahwe und sein Kampf gegen das Meer // Überlieferung und Geschichte. Gerhard Wallis zum 65. Geburtstag am 15. Januar 1990. Halle, 1990. S. 112–114.
Это обстоятельство, кажется, недооценивает Шифман, когда пишет, что «в Библии складывается новый уровень представлений: Йахве спасает от смерти... в мифологему борьбы умирающего и воскресающего бога со Смертью с течением времени вкладывается новое содержание: борьба добра со злом. Этот дуализм, испытавший впоследствии интенсивное иранское влияние, найдет свое выражение в идеологии кумранской общины (ессейство) и раннего христианства» (Введение. С. 36). Действительно, в Библии смерть называется «врагом», наряду с прочими стихиями, однако абсолютное господство (хозяйствование) над ней Бога изначально не ставится под сомнение. Весь драматизм борьбы и победы над смертью Иисуса Христа в Евангелиях относится к Его человеческой природе, причем именно с этой точки зрения «ей невозможно было удержать Его» (Деян 2:24). Мифологемы умирающего и воскресающего Бога в Ветхом Завете нет вовсе, а в Новом ее подобие имеет форму парадокса Божественной любви, но никак не обреченности.
По нек. рукописям в ред. Лукиана – θααλα, т.е. транскрипция указанного евр. слова. Вероятно, пер. так и был сделан исходя из фонетического подобия двух разноязычных слов, понятого как факт, подтверждающий интерпретацию.
Сам жертвенник, согласно греч. пер., огонь лишь «облизал».
Ср. описание язычества израильтян у пророка Осии: «И не взывали ко Мне сердцем своим, но плакали на ложах своих, о пшенице и вине они убивались» (ст. 7:14). По всей видимости, речь идет о ритуальном плаче. И далее: «они думают о чужих, любимых жертвенниках» (ст. 8:12); «у тельца дома Онова будут обитать жители Самарии, потому что плакал народ его о нем» (ст. 10:5 LXX). При этом Господь укоряет Израиль в том числе такими словами: «От Меня оказался плод твой» (Ос 14:9). Отметим, что, как представляется, обычай «плакать на ложах» (а именно, спать во вретищах) был и у правоверных иудеев (ср. Иоил 1:13). Этим объясняется обещание, данное «кротким» и «святым», что они «возрадуются на ложах своих» (Пс 149:5), т.е. не будут знать голода те, которые верно служат Богу. Тем самым вопрос о том, умирает ли Бог в связи со сменой сезонов, очевидно, снимается.
Шифман. Введение. С. 36, 40.
Вейсман. Древнегреческий словарь. С. 730.
Однако в МТ стоит не сущ. אושׁ (шо), а глг. אושׂ (со), в соответствии с чем сделан и Синод, пер. Евр. текст, следовательно, больше «самостоятельности» усваивает морю, чем LXX. Издатели штуттгартской Bibliae Hebraicae реконструируют здесь в прототипе LXX שאון {шум, волнение, смятение}.
«Он речет, – и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его... Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают» (Пс. 106:25:29). Ср. Пс 45.
Ср. Пс 94:5, где сделано такое же утверждение, но с глг. ποιέω {творить}, который соответствует там евр. השע; в Пс 88:16 κτίζω соответствует ארב. Оба перевода, видимо, контекстуальны: второй говорит о создании моря по соотнесению с небом («севером»), тогда как первый – о его абсолютном «сотворении» по сравнению с сушей, которая как бы «вылеплена» руками (τὴν ξηρὰν αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἔπλασαν).
Акила, Симмах, Феодотион и анонимный (5-й) переводчик в составе Гекзапл читают ןימי, но переводят по-разному: первые два букв, значением омонима: «правая рука, сторона», два последних – словом νότος {юг, южный ветер}. Сирогекзаплы поддерживают первых, Пешитта последних. Все это говорит о неустойчивой интерпретации псалма в начале н.э.
Поэтому более точно θάλασσας, как в большинстве авторитетных списков, а не τὴν θάλασσαν, как читает А и за ним Слав. Здесь тот случай, когда различие между LXX и МТ может быть объяснено или путаницей букв при переписке палеоеврейским письмом (из-за сходства знаков
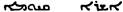
или, что вероятнее, доверием к слуховой, а не только зрительной памяти при воспроизведении священного текста. Принципами работы масоретов новой эры такое доверие уже исключается.
Словарь-указатель. С. 302.
Хотя принадлежность этого текста, собранного из катен, св. Афанасию вызывает споры, для нас важна его рецецпия в христианском предании, а также то, что он, несомненно, сохраняет следы древних толкований.
О соотношении александрийских и антиохийских методов интерпретации в Александрии IV в. см.: Саврей. Александрийская школа. С. 702–704.
Так же толкует Зигабен: «поставил его [т.е. море] стеною по правую и левую сторону» (Псалтирь в русск. пер. с греч. текста LXX. С. 114, прим. 1). Ср. Пс. 77:13.
См. коммент. Юнгерова ad loc. в прим. к его пер. псалмов с LXX.
О надписании псалмов, ad loc. Н.И. Сагарда считал вероятным автором этого произведения св. Исихия Иерусалимского.
Цитировавшийся выше синодальный пер., а также Венское изд. Библейского общества уклоняются от этого значения, видимо исходя из интерпретаций «главы змиевой» согласно с обетованием, данным «семени жены», которое должно будет «поражать» змея в главу, в Быт 3:15. Древних христианских переводчиков, однако, мн.ч. в этом отрывке не смущало: VL и Vulg согласно читают capita, так же как Pesh:

и Арм: վգլուխս. Ср. Eth: «Ты стер голову змия

в воде, и Ты сокрушил головы змию

».
Подробно гипотеза связи между мифом о войне Мардука с Тиамат и библейской космологией была разработана Г. Гункелем (1862–1932). В общем ее современное состояние сводится к следующему: «Подобно вавилонскому мифу, библейские тексты послевавилонского периода, если их проанализировать надлежащим образом, тоже начинают описание Творения с гигантского сражения между Богом-Творцом... и необъятным водным Хаосом» (Боттеро Ж. Рождение Бога. Библия через призму истории. М., 1998. С. 197). Автор этой цитаты не делает одной важной оговорки, а именно: подобный «надлежащий» анализ представляет собой вчитывание, основанное на умозаключениях по аналогии и произвольных эволюционистских посылках. Вместо того чтобы искать за космогониями разных народов некий общий космологический фон, этот подход создает легенду о чудесных превращениях одного мифа в другой и фактически представляет еврея то ли читателем-ревизионистом глиняных библиотек Междуречья, то ли «себе на уме» слушателем халдейских сказателей, хотя мы ничего не знаем даже о том, как соотносились жреческие клинописные тексты с культурой устных сказаний.
См: Делич Ф. Библия и Вавилон. М., 2007. С. 28; Мифологический словарь. М., 1991. С. 539.
Делич. Цит. соч. С. 111. Более современный пер. см. в изд.: Ассиро-вавилонский эпос. С. 231.
Здесь и далее мы будем употреблять термины с корнем «миф» применительно к библейскому тексту в структуралистском смысле, т.е. обозначая ими «тип языка, лингвистический троп, в рамках которого мифические символы работают как словарь» (Breslauer S.D. Judaism and Mythology // The Encyclopaedia of Judaism. Vol. 3. P. 1812). Когда невозможно показать, что какие-либо утверждения в тексте используются как словарные единицы безотносительно к собственной событийной действительности, использование слова «миф» становится просто тем, что маркирует неверие ученого священному тексту, а в таком качестве оно, применительно к Библии, не является для нас актуальным субъективно и обязывающим объективно.
См.: Крамер С.Н. Мифология Шумера и Аккада // Мифологии древнего мира. С. 130–131.
См.: Мифологический словарь. С. 636.
Под «мистическим» подразумеваем все то, что относится к переживанию отношений Бога и человека (в качестве индивидуальной и соборной личности) как религиозного таинства, в отличие от исторического нарратива и его художественной формы.
См.: Patterson R.D. Victory at Sea: Prose and Poetry in Exodus 14–15 // Bibliotheca sacra. 2004. № 641. P. 42–54.
В смысле типологического толкования в экзегетике древней Церкви, которое рассматривает определенные библейские образы как прообразы («типосы») других – вплоть до полного раскрытия смысла всей цепочки в том или ином догмате веры.
См. о различии глагольных и именных предложений в Септуагинте: Вдовиченко А.В. Древнееврейский нарративный синтаксис в языке Септуагинты и Нового Завета // Дискурс – текст – слово. С. 136–169.
Для восточной поэзии вообще многозначность слова всегда признавалась благом. См.: Десницкий. Поэтика библейского параллелизма. С. 32.
На полисемию и омонимию в греч. языковом мышлении особенно указывал Дж. Барр в своей критике традиционных представлений, приписывавших ему больше однозначности. См.: Barr J. The Semantics of Biblical Language. Oxford, 1961. P. 8–20. См. тж.: Cotterell P., Turner M. Linguistics & Biblical Interpretation. London, 1989. P. 110–113.
B MT: «Царь мой» (יכלמ). LXX читает: «Царь наш» [ונכלמ].
«от...» следовало бы перевести через «απο...».
«Безусловно, – полагал И. Кауфман, – в этом месте Библия сохраняет языческие мотивы, но угаритские аллюзии... обнаруживают тут не вавилонское, а хананейское влияние. Эти мотивы имеют отношение к хананейскому наследию Израиля, усвоенному им, по всей вероятности, еще до возникновения собственно иудаистической религии. В Израиле, к тому же, эти темы были полностью переосмыслены» {Кауфман И. Религия древнего Израиля // Библейские исследования. Вып. 1. М., 1997. С. 32–33). О теории Кауфмана касательно допленного израильского монотеизма и современном состоянии вопроса см. развернутую статью: Krapf T.M. Biblischer Monotheismus unci vorexilischer JHWH-Glaube // Berliner Theologische Zeitschrift. 1994. № 11–1. S. 42–64.
Этот фрагмент будет рассматриваться чуть ниже. Вообще слово העושי (букв.: спасение) часто используется со значением «победа», и в подобных контекстах греч. переводчик оставляет слово σωτηρία.
Если, как считали в XIX в., это место находилось рядом с Вифлеемом, где традиционно было развито скотоводство (см. прим. к русск. изд. «Иудейских древностей» ad loc).
Вообще проход сквозь море был своего рода архетипом, позволяющим евр. народу держать в памяти его религиозное рождение, и аллюзия на это событие, как и на последовавшее затем завоевание Ханаана, в связи с возвращением из плена выглядела уместной. Ср.: «Господь сказал: от Васана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой, в крови врагов» (Пс 67:23); «Навел Ты на море коней Твоих, смущающих великие воды. Я хранил себя, убоялось сердце мое из-за гласа молитвы уст моих, и вошел трепет в кости мои, во мне пришла в смятение крепость моя. Почию в день скорби моей, чтобы взойти (ἀναβῆναι) с народом скитания (παροικίας) моего» (Авв 3:14–15 LXX). В последней цитате можно усмотреть намек на воскресение из мертвых.
Тема «верхних вод» как начала, которое может быть и враждебным, похоже, не разработана в современной библеистике: ср. статьи «Облако», «Туман» в Словаре библейских образов; тж.: Patterson R.D. ТЪе Imagery of Clouds in the Scriptures // Bibliotheca sacra. 2008. № 657. P. 13–27. Между тем, как представляется, с ней было связано с учение о «князе власти воздушной» (Еф 2:2) и «духах злобы поднебесной» (Еф 6:12), которые гнездятся в воздухе так же, как и левиафан в море, каковую возможность предоставляет им, по всей видимости, неупорядоченность и податливость водной стихии.
В евр. тексте имеется созвучие, отраженное в современном пер. РБО: «Шум морей Ты укротил – рокот волн и ропот племен» (ср.: ןואש םימי ןוѡꙋש חיבשמ םימאל ןומהו םהילג). Септуагинта смещает созвучие на пару глг.: συνταράσσων – ταραχθήσονται. (Также производит впечатление поэтической преднамеренности пара κῦτος – κυμάτων.)
В Слав есть ремарка, никак не отраженная в изд. Ральфса: ѡꙋ́мꙋ во́лнъ є҆гѡ̀ кто̀ постои́тъ (τίς ὑποστήσεται, источники см. в прим. к пер. Псалтири с LXX П.А. Юнгерова). Здесь море описывается как инструмент Божественного устрашения или, может быть, опьянения восторгом (ср. Пс 106:27, в развитие темы – у Пушкина: «Есть упоение в бою...» и далее).
Пешитта издания 1954 г. скупо повторяет надписание LXX: «Народу, что в Вавилоне, в преддверии возвращения». Мистическое истолкование доступно в изд. несторианского Антиохийского Патриархата 1979 г. Но экзегетическая традиция, за ним стоящая, восходит к первым векам: ср. святоотеческие толкования ad loc.
Надписание псалма в МТ отсутствует.
См. Псалтирь в русском переводе с греческого текста LXX. С. 146, прим. 10.
На это в особенности указывают сторонники т.н. «мифоритуалистского подхода к Библии». Ср.: Вайс М. Библия и современное литературоведение. С. 94.
Шифман. Введение. С. 58–62.
Анализ угаритского комплекса представлений о Ба̒лу представляет здесь определенные трудности: с одной стороны, мы ничего не знаем о возобновлении его борьбы с богом моря Йамму и морским змеем; с другой стороны, бог смерти Муту, олицетворяющий также хтонический уровень плодоносящей силы земли (где Ба̒лу надлежит прозябать после своей гибели), по-видимому, всякий год побеждает своего соперника, и каждый год Ба̒лу воскресает в новом урожае. Подобная интерпретация рассматриваемого псалма, очевидно, выражением «с тех пор – от века» совершенно исключается.
Представляет интерес также надписание псалма в Пешитте по изданию 1979 г.: «На поклонение Адонаи». Здесь имя Бога представлено в его ивритской замещающей форме

, не

), аналогом которой является в Септуагинте κύριος, т.е. фактически это «Псалом на поклонение Йахве».
МТ: דוע ךנעא אל ךתנעו רבעו וזוגנ ןכו םיבר ןכו םימלש םא הוהי רמא הכ {Так говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут; а тебя, хотя Я отягощал, более не буду отягощать} (Син). Подстрочник в интерпретации LXX: םיבר ןכו םימלש םא {хотя [ты] та, что на водах, и притом многих}; וזוגנ {рассекутся}; הנעא אל ךתנעו {и твой ответ не ответится}. Интересно то, с какой уверенностью переводчики увидели здесь именно этот смысл, т.е. метафору потопа.
סמנ בלו הקלבמו הקובמו הקוב; ἐκτιναγμὸς καὶ ἀνατιναγμὸς καὶ ἐκβρασμὸς καὶ καρδίας θραυσμὸς.
Шифман. Введение. С. 157.
Начальная постановка этого вопроса подразумевает, что «злом» является то, что человек переживает как таковое субъективно: нищета, смерть близких, болезнь и т.п. Религиозно-историческое значение книги Иова заключается в том, что с этой субъективной плоскости она выводит на проблему зла как мирового явления и создает условия для его переоценки в свете борьбы добра и зла, которая происходит не во внешем мире, а в душе человека. В итоге меняются сами критерии добра и зла, выстраиваясь вокруг отношения человека к Богу.
Аверинцев С.С. Иов // Аверинцев С.С. София – Логос. Словарь. Киев, 2006. С. 88.
Последнее обстоятельство существенно с той точки зрения, что Феодотион, видимо, следует здесь в русле устойчивой традиции толкования, которая вписывает данную фразу в более широкий контекст, имеющий быть рассмотренным ниже.
МТ: ןשד אלמ דאלמש ךנחלש תחנו היתחת קצומ אל בחר רצ יפמ ךתיסה ףאו {И тебя вывел бы Он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком} (Син). LXX: καὶ προσέτι ἠπάτησέ σε ἐκ στόματος ἐχθρσῦ· ἄβυσσος, κατάχυσις ὑποκάτω αὐτῆς, καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος. Греч, пер., впрочем, так же, как и современные, интерпретативен: слова היתחת קצומ אל בחר {букв.: широта, не плотно под ней} (ср. глг. קצי {отвердевать}) поняты как «бездна, пролитие под нею». Возможно, переводчик отождествил слово בחר с именем בהר (Раав), а местоимение ж.р. при нем в евр. тексте повлияло на пер. этого как ἡ ἄβυσσος.
МТ הרעסה ןמ обычно переводят как «из бури» (Син). В LXX чтение: διὰ λαίλαπος καὶ νεφῶν. Предлог διὰ можно переводить и как «через», «посредством». Так понимают греч. текст копт., арм. и эфиоп. переводчики. В Слав переведено: сквоз.
МТ – букв.: «круг» (גח), LXX – образно: «повеление» (πρόταγμα).
Переводчики, видимо, читают исходный глг. רוע в значении «обнажать», а не «будить». Обнажение в Библии служит образом поражения.
В МТ «день» (םוי) без артикля, в LXX не только с артиклем, но и с выделением: «тот день» (τὴν ἡμέραν ἐκείνην). По контексту, может подразумеваться день рождения Иова, который должен быть проклят вместе с предшествующей ночью. Тем не менее указания на обреченность чудовища встречаются и дальше в греч. тексте (стт. 40:14, 41:24), значит, можно думать, что «день тот» – это день исполнения приговора над ним. Согласно принципу полисемантизма он может нарочито сопоставляться с днем рождения Иова как самый мрачный момент истории.
Современный пер. «служители Рахава» вряд ли удачен, поскольку רזע {букв, помощник} – скорее союзник, чем слуга.
В таком случае בהר ירזע (или, может быть, בהר יזע) поняты переводчиком как «силы китовы» и проинтерпретированы как «сильные киты».
Вероятно, прототип LXX читал вторую часть фразы с разницей в одну букву: םיער םימת תולפמ. Стоящее здесь во мн.ч. слово הלפמ{падение} перекликается с םילפנ {букв, падшие} из Быт 6, которые считались «исполинами» уже во время пер. Семидесяти.
Большой путеводитель по Библии. С. 53. Интерпретация эта восходит к Деличу и Ланге, которые реконструировали др.-египет. прототип, создав гипотетическое слово «p-ehe-mau» {речной бык} (См.: Лопухин А.П. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Comm. ad loc). Современные специалисты отмечают, что в египет. языке это слово не употреблялось (Богданов К.А. О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов. М., 2006. С. 206–207).
Глубоковский. Библейский словарь. С. 97.
На этом основании делаются далеко идущие выводы о позднем происхождении всей книги: «Чисто эллинистически-буколистическая религиозная интерпретация нильских животных говорит против ранней датировки сочинения; лингвистические архаизмы ученого еврея не должны вводить нас при этом в заблуждение» (Schneider. Kulturgeschichte des Hellenismus. S. 884).
Напр.: Григорий Палама, свт. Гомилия IX, на время поста и молитвы (PG 151:104–112).
Этот фрагмент приводим без прибавлений, сделанных при согласовании с версией Феодотиона.
См.: Талмуд. Т. 1. С. 144, прим. 1. Ср. указание в кумранском астрологическом документе: «И вот животное его (ותמהב) – бык» (4Q 186.1. II. 9).
Этот бык «съедает всю растительность, выпивает всю воду в реках, вытаптывает тростники и т.п.» (Емельянов В.В. Шумерская эпическая песня «Гильгамеш и небесный бык» (к анализу одного календарного мифа) // Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 10. СПб., 1996. С. 373).
См.: Крамер. Мифология Шумера и Аккада // Мифологии древнего мира. С. 154.
В позднейшей традиции эти образы чаще дифференцируются. Так, в Талмуде упоминается противоборство дикого быка и левиафана (см.: Шинан А. Мир агадической литературы. М., 2003. С. 89).
Ср. у Вайса, который цитирует анонимного комментатора псалмов, дающего такое определение Левиафану: «Некоторое собрание физических черт, присущих животным, которые ходят, плавают и летают» (Вайс. Библия и современное литературоведение. С. 102).
См.: Ад-Дишмаки. Выборка времени о диковинках суши и моря // Арабские источники XIII-XIV вв. по этнографии и истории Африки южнее Сахары. Т. 4. М., 2002. С. 347.
Впрочем, существует гипотеза, что сама книга Иова имеет арабское происхождение. См.: Simon U. Job // A Dictionary of Biblical Interpretation. London, 1990. P. 355.
Таргум Ионафана на Быт 1:21. Ср. Сир. Вар. XXIX. 4.
Отметим здесь, что вавилонский бог Мардук, сражающийся с Тиамат, напоминающей многоголовую гидру, сам изображается в некоторых источниках как двурогий дракон; бог Эа – как рыба с козлиной головой. См.: Делич Ф. Библия и Вавилон. М., 2007. С. 28, 116.
Мотив «смеха» над Левиафаном, выраженный глг. ἐμπαίζω {насмехаться}, указывает на связь между этим псалмом и кн. Иова в греч. версии. Соотв. евр. слово (קחש) местами действительно употребляется в значении «делать посмешищем», кроме того «в мидрашистской литературе Левиафан был истолкован как символ злых сил в мире» (Вайс. Цит. соч. С. 90). Таким образом, в LXX мы находим свидетельство древности подобного истолкования. Еврейской экзегезе известно также другое толкование, согласно которому Бог именно «играет» с Левиафаном по три часа в день (Авода Зара, ЗЬ). Этим еще подчеркивается ничтожество человека (ср. коммент. р. Шломо Ицхаки ad loc).
Шифман. Введение. С. 62.
См., напр.: Кассуто У. Эпическая поэзия в Древнем Израиле // Библейские исследования. С. 128–129.
Чтение ст. 41:26 по LXX, отличающееся от МТ, подтверждает кумранский таргум на книгу Иова: «...и он царь над всеми рептилиями» (11QarJob XXXVII 1).
Согласно одной из иудейских легенд он хотел свергнуть Адама и жениться на Еве (АН I. 1).
Похожую цепочку выстраивает и Кауфман, основываясь на своей гипотезе о «языческом» наследии древнего Израиля: Кауфман И. Религия древнего Израиля // Библейские исследования. С. 33. Однако следует заметить и то, что с имманентной точки зрения самого библейского текста здесь имеет место и не иудейское, и не языческое, а общечеловеческое наследие: все потомки Адама находятся в одних и тех же условиях своего духовного бытия.
Ср. описание преисподней в одном из кумранских документов: «Закрыта за медными воро[тами], сквозь [которые н]е [пройдет] луч света, ни [воссияет там свет] солнца, имеющего [взойти] над праведным, чтобы про [светить лицо ero]» (11QapPsaVI.10).
В первом случае вместо הדשה תיח {животные полевые} LXX читает, видимо, דשה תיח {животные бесовские}, или с другим словом от глг. דוש {расширяться, насиловать}. Свойство ада как непрерывно расширяющегося пространства было известно: «Надменный человек... расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена» (Авв 2:5). Вероятно, именно этот смысл передан словом τάρταρος {Тартар}.
Дюбарль прямо связывает это с деификацией змея в языческих религиях: Dubarle A.-M. Original Sin in Genesis // Cross Currents. 1958. № 1. P. 357.
Здесь интересно то, что речь идет в прототипе текста переводчика не просто об ангелах, но о херувимах (так понято слово ברח), которые появляются в Ветхом Завете как хранители рая и носители Божественной славы.
Murphy R.E. Wisdom Literature: Job, Proverbs, Ruth, Canticles, Ecclesiastes, and Esther. Grand Rapids, 1981. P. 44.
В греч. варианте этой речи нет обвиняющих слов: «Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию» (ст. 36:21). Вместо этого, выпуская феодотионовы фрагменты, на месте стт. 19–28 получаем речь следующего содержания: «Да не увлечет тебя вольный ум [считать] бессильными мольбы в нужде, но берегись, чтобы не сделать [чего-либо] неуместного. Ибо кто, как Он, силен? И кто исследует дела Его? Или кто скажет: Ты сделал неправду? Вспомни, что велики дела Его, которыми уязвлены смертные. Исчислены Им капли дождя: вот, осенили облака несказанное [количество] смертных. Время положил Он скотам, они знают чин соитию. От всего этого не удивляется ли твой разум, не восторгается ли сердце из тела?» Текст построен так, что указывает на Бога как умерщвляющего: дела Его так мощны, что ранят смертных, а из распадающегося тела Иова сердце должно выскочить от восторга. Но именно в том, что Бог есть умерщвляющий, предпослана и надежда на то, что Он же есть оживляющий.
Элиу также говорит: «Я хочу ведь, чтобы ты оправдался» (θέλω γὰρ δικαιωθῆναί οε, ст. 33:32).
Суть парадокса, в котором оказывается Иов, описывается им как логическое противоречие: «Если я буду праведен, то уста мои сотворят нечестие, и если буду непорочен, то окажусь строптивым» (ст. 9:20). Поэтому «я скажу Господу: не учи меня нечествовать! И зачем Ты так определил мне?» (ст. 10:2). Сатана почти достигает своей цели, когда Иов говорит: «О, если бы посредник был у нас, обличающий и рассуждающий между обоими!» (ст. 9:33). Скрытая ирония текста состоит здесь в том, что сатана как раз претендует на роль такого «посредника», – это уже было в истории с искушением Евы, – «судящего» Бога в глазах человека, тем более что ему известны условия спора и он служит фактическим посредником во «всем, что навел Господь» на Иова (ст. 42:11). Опасность заключается в самом круговом движении речи главного героя, который как бы ходит по краю бездны. По словам Элиу, Иов говорит свои речи в простоте, однако многословие может привести его ко греху (ст. 34:37). Но при всем этом Иов так и не произносит самого главного: не берет на себя суда и не признает Бога ни неправым, ни бессильным сотворить благо или осудить зло.
Из-за двойственности семантики слова םלוע, которая в греч. Библии, соответственно, переносится и на αἰών, фактически «мир» как совокупность сотворенного бытия представляет собой в большей степени временную, чем пространственную протяженность. У иудеев сохранилось предание, что «во всех заключительных славословиях, произносившихся в храме, говорили «от века»; когда же мины стали превратно учить, что есть только один мир, то постановили читать: «от века и до века"» (Берахот IX. 5). В Септуагинте имеет место похожая тенденция: выражение דעו םלוע {букв, век и еще} переводится как εἰς αἰῶνα αἰῶνος {в век века} (напр., Пс 20:5), так что создается как бы понятие «века» в квадрате, вмещающего в себя земной век. Аналогично ему понятие «дня вечности» (Сир 18:8). Это более сложное теологическое воззрение, чем разделение мира на «нынешний» (הזה םלוע) и «грядущий» (הבה םלוע) у раввинов, и оно предшествует, например, представлению о времени как о круговом движении, возвращающемся в вечность, у св. Василия Великого. Учение о двух веках в греч. Библии также присутствует: Бог «прозирает из века в век, и ничего нет дивного пред Ним» (Сир 39:26). «Век» дает Богу преимущество над историей: Он взыщет то, что было вытеснено (διωκόμενον) во времени (Екк 3:15). Учение о двух веках чрезвычайно важно ввиду того, что с ним связывается надежда возвращения в рай: «И весь праведный народ Твой вовек наследует землю, чтобы хранить сад (φυλάσσων τὸ φύτευμα), дела рук Его, во славу» (Ис 60:21, ср. Быт 2:15).
Septuaginta Deutsch, ad loc.
Collins J.J. Seers, Sibyls and Sages in Hellenistic-Roman Judaism. Leiden, 1997. P. 73.
Ibid. P. 317.
Ibid. P. 319.
См.: Lust J. Major Divirgences between LXX and MT in Ezekiel // The Earliest Text of the Hebrew Bible. Atlanta, 2003. P. 86–89.
Troxel. LXX-Isaiah as Translation and Interpretation. P. 179–187.
Horbury W. Monarchy and Messianism in the Greek Pentateuch // The Septuagint and Messianism. Leuven, 2006. P. 126.
МТ: ומל וצמי אלמ ימו םלה ומע ןכל {Потому туда же обращается народ Его, и воду полной [мерой] черпают себе}. LXX: διὰ τοῦτο ἐπιστέψει ὁ λαός μου ἐνταῦθα, καὶ ἡμέραι πλήρεις εὑρεθήσονται ἐν αὐτοῖς {Потому туда же обратится народ мой, и дни исполненные наступят у них}. В прототипе LXX читалось ימע и ימיו. Вместо הצמ {исчерпывать} переводчики читали אצמ {достигать}. Pesh, в основном, поддерживает LXX.
Евр. текст: הכפכ ילע תשתו ינתרצ םדקו רוחא הלכ תעדי הוהי ןה. Син: «Сзади и спереди Ты объемлешь меня, иполагаешь на мне руку Твою». Разница в пер. произошла, главным образом, из-за слова רצ, которое может переводиться и как «творить», и как «окружать, держать в осаде».
У Осии в тех же терминах описывается полное примирение Израиля с Богом при воцарении Мессии от колена Давидова: «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни» (Ос 3:5). Вероятно, понимание выражения םימיה תירחאב у Осии, а также у других пророков (Мих 4:1, Ис 2:2) повлияло на пер. книги Бытия, а сам этот пер., в свою очередь, был использован как прецедент в целом ряде мест, в том числе при пер. на греч. кн. Осии.
МТ: הלאה םירבדה לכ ךואצמו ךל רצב {в скорби твоей, или когда тебя постигнут все слова эти...}. LXX относит первые два слова к окончанию предыдущего ст. Благодаря этому ст. 30 начинается союзом «и», выделяясь в отдельную тему.
В греч. лекционариях добавлено сюи, видимо, во время ревизии по евр. тексту, так как в Арм, Eth, Слав и др. пер. этого нет.
О мидрашистских эсхатологических параллелях к этому ст. см. Septuaginta Deutsch, ad loc.
Буквально חצנמ – «побеждающий» (от חצינ {побеждать}). В современных переводах это слово интерпретируется как «военачальник», а применительно к надписанию псалмов как музыкальных произведений – «начальник хора». (В Конкордансе Лисовского этот перевод поставлен под знак вопроса). Сами надписания считаются инструкциями для исполнителей. В иудео-эллинистической традиции, судя по сохранившимся переводам, они рассматривались как посвящения.
См.: The Biblical Antiquities of Philo. New York, 1917. P. 100.
Так объясняется в словаре Шлейснера. См.: Книги Ветхого Завета в переводе П.А. Юнгерова. Большие пророки. С. 235, прим. 8.
Septuaginta Deutsch, ad loc.
Это представляется нам достаточной аргументацией против мнения, согласно которому словами εἰς τὸ τέλος переводчик достигал только лишенной смысла буквальности: Ausloos H. חצנמל in the Psalms Headings // XII Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Leiden, 2004. P. 139.
LXX понимают הלכ как существительное; блж. Иероним перевел его глг. в повелительном наклонении consume {истреби}. Так же, как Иероним, толкуют и переводчики Пешитты.
Юнгеров П.А. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни. С. 89.
МТ: קידצ רודב םיהלא יכ דחפ ודחפ םש {там страхом устрашились они, ибо Бог в роде праведном}.
Бабкина С. Храм, возведенный в Кумране // Библия: литературные и лингвистические исследования. Вып. 4. С. 216–218.
Садок был первосвященником при Давиде и Соломоне. После того, как род Илия лишился права на священнодействия, они перешли к потомкам Садока. «Идеал, выдвинутый пророческой литературой в период независимости древнего государства и особенно разработанный в послепленный период, представлял благочестивого царя из рода Давида, руководимого первосвященником из рода Садока» (Введение // Тексты Кумрана. Вып. 2. СПб., 2009. СП). При Хасмонеях, однако, священство было ими утрачено, что явилось, наряду с исчезновением пророческого сословия и отстранением от власти потомков Давида, одним из главных источников развития мессианской идеи в этот период (Fabry H.-J. Die Messianologie der Weisheitsliteratur in der Septuaginta // The Septuagint and Messianism. P. 263).
Ср. у апостола Павла: «Царство непоколебимое».
Согласно создателю авторитетного англ. пер. и прим. к нему, книга была составлена из ряда источников между 40 и 90 гг. н.э. (The Apocalypse of Baruch. London, 1896. P. XVI).
Vermes G. The Complete Dead Sea Scrolls in English. P. 87.
Англ. переводчик и комментатор этого текста приводит данные об имени Йахэль: а) в 4-й главе книги Судей оно, являясь именем женщины, убившей Сисару (Син: Иаиль), букв, значит «газель»; 6) в греч. Апокалипсисе Моисея оно расшифровано как имя Бога Jah El (с евр.: Йахве Бог) (Р. 157). В «Библейских древностях», где Йахэль отождествляется с Соломоном, этот образ приобретает очевидно мессианские черты.
См.: Филон. Об Аврааме 56.
Ср.: «"Призри от святого жилища Твоего, с небес», – святое жилище Твое – это место зрения, ибо сказано (Пс 85:12–13): «истина возникнет от земли, и правда зрит с небес»... «С небес» – с доброй сокровищницы, что на небе... (Втор 28:12)» (Маасер-Шени, Тосефта 5:25).
Приведем некоторые данные об этом так, как они суммированы в одном из лучших словарей: «Так, в 1 Енох 83–90 (ок. 150 до н.э.) автор представляет Храм Зоровавеля ритуально нечистым: он говорит, что священники пытались возложить на жертвенник хлеб, «но весь этот хлеб был осквернен и нечист» (1 Енох 89:72–73). В «Апокалипсисе недель» (его фрагменты теперь обнаружены в 1 Енох 91 и 93; ок. 200 до н.э. или ранее) утверждается, что все поколения после Плена – вероотступники, ибо никто не способен распознать истинный культ, или «небесное» (1 Енох 93:9). Завещание Левия (1 в. до н.э. / 1 в. н.э.) называет священников Храма, восстановленного Иродом, нечистыми. Однако в последние дни, когда явится новый священник, «небеса разверзнутся и из Храма Славы сойдет на него святость» (Зав. Лев. 17:10). Наряду со многими другими автор Книги Юбилеев (ок. 170 до н.э.) с отчаянием пишет, что единственное утешение – это представить оскверненную реальность в эсхатологической перспективе (23:21)» (Wise М.О. Храм // Иисус и Евангелия. Словарь. М., 2003. С. 704).
Введение // Тексты Кумрана. Вып. 2. СПб., 2009. С. 12.
Ср. Пс 21:4 «Ты же во Святом живешь, Хвала Израиля!» (LXX) – «А Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля!» (МТ)
(א״צתר) ב, ץיברת \\ ׳הדגאה יפ-לע אהלעמ לש שדקמה תיב׳ .א רציבוטפא. Цит. по: Гиршман М. Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней Античности. С. 137.
Напр., о продлении «последнего века», в ходе которого добродетельные не должны оставлять трудов, см. в кумранском коммент. на Авв 2:3 (lQpHab VIII. 10).
Показательна талмудическая история о царе Агриппе, который расплакался, услышав слова Закона: «Поставь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой; из среды братьев твоих поставь над собою царя; не можешь поставить над собою [царем] иноземца, который не брат тебе» (Втор 17:15), хотя бывшие при этом мудрецы говорили ему: «Ты брат наш, Агриппа». Как известно, Ироды были идумеями.
В пер. евр. текста толковники внесли глоссы: «[Беззаконник же,] заколающий вола – то же, что убивающий человека; приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса; приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам [в память] – то же, что молящийся идолу». Это говорит как о том, что для них была актуальной опасность неправильного восприятия слов пророка в духе отрицания храмового ритуала, так и о том, что они с этим активно не соглашались.
МТ: רדנ םלשי ךלו ןויצב םיהלא הלהת הימד ךל {Тебе молчание – песнь, Боже, на Сионе, и тебе воздастся обет}. Кажется, это чтение как нельзя лучше выражает самосознание иудаизма после поражения Бар Кохбы, когда исполнение обетов во святом городе сделалось невозможным. В LXX смысл прямо противоположный: σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ θεός, ἐν Σιών, καὶ σοὶ ἀποδοθήσεται εὐχὴ ἐν Ἱερουαλήμ {Тебе подобает песнь, Боже, на Сионе, и Тебе воздастся молитва в Иерусалиме}. Второе слово в стихе МТ читает как הימוד (ср. Пс 38:3), а LXX, видимо, המד {быть подобным} (ср. Septuaginta Deutsch, ad loc), сходное чтение в Пешитте. Кроме того, за счет упоминания Иерусалима версия LXX более гармонична с поэтической точки зрения.
LXX: καινιεῖ σε ἐν τῇ ἀγαπήσει αὐτοῦ {Он обновит тебя в любви Своей}. Ср. МТ: ותבהאב שירחי {умолчит в любви Своей}, т.е., наверное, перестанет гневаться. В прототипе LXX, по всей видимости, читалось: ותבהאב שרחי {обновит в любви Своей}, т.е. обновит отношения с тобой.
«Тут нет оправдания земли и плоти в том их виде, как они существуют. Они оправдываются тут только в акте преображения и спасения... Ясно, что это символизм идеальный, умный, духовный. В материи, в вещах он нуждается только как в примере и демонстрации» (Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 635).
Словом «образ» (τύπος) передан здесь термин тавнит (תינבת), что буквально значит «устройство» и лишь по экспликации – «образец». LXX, используя именно τύπος, дают начало целой экзегетической традиции, отголоски которой мы слышим в Деяниях (7:44) и особенно в Послании к Евреям, где сама скиния интерпретируется как «образ и тень небесного» (Евр 8:5).
О наличии подобных представлений в их «примитивном», нередуцируемом к посторонним влияниям виде у первобытных народов см.: Иорданский В.Б. Круг и квадрат // Вопросы философии. 2010. № 3. С. 80–89.
Это одно из благословений в составе песни трех юношей, которая, видимо, перешла в греч. текст 3-й главы из пространной версии арам.
Здесь LXX расходится с МТ, читающим: «Улетай на гору вашу, птица».
Второе расхождение LXX с МТ: ןוסרהי תותשה יכ {когда основания разрушены...}. В прототипе LXX, видимо, было וסרהי תתשת {Ты построил – они разрушили}.
Третье расхождение LXX с МТ: ושפנ האנש סמח בהא {любящий неправду – ненавистна душа его}. Может быть, переводчики читали ושפנה אנוש {ненавидит свою же душу}, или же они дали духовно-нравственную интерпретацию того же текста, что и в МТ.
Букв, нечто установленное: колонна, памятник и т.п. В МТ то же буквосочетание, но иначе огласованное, со зн. «ополчение», «стража». Глг., употребленный в евр. тексте (הנח) означает букв, «наклонять», но часто употребляется в зн. «располагаться станом». Таким образом, в этом пер. мы видим сознательную интерпретативную активность толковника, который уклоняется от более простого смысла («поставлю Храму Моему заставу») в сторону более мистического и по форме даже «странного». Примечательно, что таков же ход сир. переводчика:

{утвержу... возвышение}.
Ср. ессейскую трактовку эсхатологического святилища в Мидраше на кончину дней: «Это тот дом, который [он построит Тебе в] конце дней, как написано в книге Моисея... Это дом, в который никогда [не войдет нечистый, ни необрезанный], ни аммонитянин, ни моавитянин, ни полукровка, ни чужестранец, ни иноплеменник; ибо в нем будут Мои святые собраны. [Слава Моя]... непрестанно на нем являться будет. И иноплеменники не будут больше опустошать его, как они прежде опустошали Святое Израилево ради грехов его. Он повелел, чтобы Святое людское было построено для Него самого, чтобы в нем они воссылали, подобно каждению, дела Закона» (4Q174 I. 2–7). Заметна в этом коммент. как аллегорическая трактовка Храма, – «дела Закона» можно совершать и вне конкретного здания, особенно если не потребуется больше заместительных жертвоприношений, – так и вполне материалистическое по исполнению блюдение чистоты крови.
Horbury W. Land, Sanctuary and Worship // Early Christian Thought in its Jewish Context. P. 210–211.
Ibid.P. 210.
Ibid.
Ibid. Ср. таргум Онкелоса: ךדי אתר לבית שכינתך אתקינתא ײ מקדשא ײ אתקנהי {место для Дома Шехины Твоей, что Ты стяжал, Господи, святилище, Господи, что стяжали руки Твои}.
Аналогичная фраза в составе 3Цар 8:13 в основных списках LXX отсутствует, сохранилась в Слав: азъ же созда́хъ до́мъ имени твоем̀ ст҃ъ теб и҆ гото́въ, и҆ прⷵто́л твоем̀, еже ѡ҆бита́ти теб въ не́м во вки.
Слово תכין – имперфект 2-го лица м.р., букв, «приготовишь», переводится обычно императивом: «утверди». По аналогии с Пс 64:10 можно заключить, что LXX читали здесь תכינה.
Согласно Юнгерову, который ссылается при этом на данные современной ему немецкой филологии, слово ἑτοιμασία может быть переведено как «основа». См.: Книги Ветхого Завета в переводе П.А. Юнгерова: Пророк Даниил. Малые пророки. М., 2006. С. 253, прим. 7. Однако это скорее интерпретация, чем перевод в собственном смысле, который все-таки должен звучать как «готовность» или «приготовление».
Ср. тж.: «Ты повелеваешь числу, которое прейдет и будет сохранено, и готовишь жилище для тех, кто еще будет» (Сир Вар XLVIII. 6). Вероятно, сходными представлениями объясняется евангельская фраза: «В доме Отца Моего обителей много: а если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить (ἑτοιμάσαί) место вам» (Ин 14:2).
Впрочем, таков вообще архаический взгляд, и в этом отношении библейский мир не отличается от древней Греции времен Солона. См.: Доватур А.И. Наследственная вина в представлении Солона, Феогнида, Эсхила // Язык и литература античного мира (к 2500-летию Эсхила). Л., 1977. С. 36–45.
Греч. παρ᾿ ἑκάτου ἀγνοοῦτος καὶ ἀπὸ νηπίου {за всякого неведущего и от младенца} соотв. евр. יתפמו הגש שיאמ {от человека безумствующего и от простого}. Пер. термина יתפ, буквально – «открытый», «распахнутый», т.е. доверчивый, через νήπιος {младенец} довольно традиционен для Септуагинты. При этом он не является единственным вариантом пер., его применение зависит от контекста. Далеко не все рукописи LXX включают это чтение, так что Ральфе приводит его только в подстрочнике, а коммент. к современному нем. пер. LXX его игнорирует; но есть оно в арм. и слав. Библиях. Бохейрской рукописью Больших пророков наличие в оригинале слова νήπιος также подтверждается.
Слово רצי означает нечто «выделанное», обретшее форму, в т.ч. ремесленное изделие и помысл ума.
Существительные המכח {мудрость}, הניב {разум}, חור {дух} – ж.р.
Евр. текст этих стихов считается трудным для пер. Даже Septuaginta Deutsch уклоняется здесь от коммент. Слова καὶ οὐκ ἄλλος ἐποίησε, καὶ ὐπόλειμμα πνεύματος αὐτοῦ соотв. ול חור ראשו השע דחא אלו, что букв, означает: «и не один сотворил, и избыток духа ему». Таким образом, свой подстрочник LXX толковали в том смысле, что Адам был сотворен не один – часть его духа отдана жене.
Греч.: καὶ εὑρίσκω ἐγὼ αὐτὴν καὶ ἐρῶ πικρότερον ὑπὲρ θάνατον, σὺν τὴν <текст неразборчив – примечание эл.редакции> ἥτις{и нашел я ее, и назову более горькой, чем смерть, – женой, которая <текст неразборчив – примечание эл.редакции> текст лаконичнее и, может быть, отличается от прототипа LXX.
Согласно стт. 27–28 Екклесиаст нашел μία τῇ μιᾷ τοῦ εὑρεῖν <текст неразборчив – примечание эл.редакции> ἐπεζήτησεν ἡ ψυχή μου καὶ οὐχ εὗρον {одну ту, которой обретается <текст неразборчив – примечание эл.редакции> коего искала душа моя и не обрела}. Результат этих поисков излагается <текст неразборчив – примечание эл.редакции> καὶ ἄνθρωπον ἕνα ἀπὸ χιλίων εὸὗρον καὶ γυναῖκα ἐν πᾶσι τούτοις οὐχ εὗρον (<текст неразборчив – примечание эл.редакции> одного из тысяч я нашел, но жены во всем этом не обрел}. Весьма вероятно, что под «человеком» автор имеет в виду самого себя, жена же, которой <текст неразборчив – примечание эл.редакции> обрел Соломон за множеством других, – это некогда столь желанная <текст неразборчив – примечание эл.редакции> премудрость. В так понятом переводе LXX концентрируются фактически <текст неразборчив – примечание эл.редакции> темы корпуса Премудрости.
«Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов Закона сего». Абсолютизация проклятия есть в LXX и
самаритян, но ее нет в МТ, хотя ниже по тексту она фактически появляется (стт. 28:15–19). На различие в евр. и греч. текстах обращал внимание Иероним в комментарии на Послание апостола Павла к Галатам, где данное место цитируется в соответствии с LXX (Гал 3:10), причем апостол строит именно на равенстве заповедей свое доказательство того, что всякий человек подпал проклятию и нуждается в искуплении.
М. Мосс полагал, что жертвоприношение как таковое содержит в себе идею искупления. Как кажется, этому противоречат все самые знаменитые акты такого рода в Ветхом Завете: жертвоприношения Авеля и Каина, заклание Исаака, обречение на смерть дочери Иеффая. Очевидно, что древний мир знал идею жертвы как ритуального отказа от материальной основы жизненных благ в пользу их источника. Поэтому отмечается, что Авель приносил Богу не просто чистых, но первородных животных мужского пола. В литературе эллинистического периода один из самых ярких связанных с этим эпизодом – окончание диалога гимнософистов (индийских «голых мудрецов») и Александра Македонского. Возлив на огонь все подаренное царем драгоценное масло, мудрецы тем самым демонстрируют возвышенное отношение к материи как такой субстанции, символическая функция которой выше утилитарной. Таким образом, жертва сама по себе вовсе не обязательно есть выкуп. Но нельзя свести ее и к ритуальной инсценировке, потому что жертва отличается от любого другого обряда реальностью уничтожения вещества, жизненно необходимого для человека. Будучи просто истреблением или – в случае с принесением живых существ – пролитием крови, жертва выражает определенное отношение к этим актам, которым придается особая ценность, сакраментальность и торжественность. Иначе говоря, жертва противостоит тривиализации потребления вообще и убийства в частности. Но тем самым она выражает чувство вины за профанное совершение того же самого, потому что заставляет пережить как исключительное то, что содержательно тождественно повседневному. Поскольку же то, что совершается во время жертвоприношения, составляет основу человеческой жизни, – а именно, потребление пищи, – можно утверждать, что в акте жертвоприношения человек выражает чувство вины за свое существование как таковое, неспособное длиться без истребления живых существ.
Истории с дочерью Иеффая и приговоренным к смерти сыном Саула Ионафаном, по нашему мнению, относятся к этой же теме: невинные молодые люди, обреченные на смерть, дают почувствовать своим отцам греховность опрометчиво произнесенных заклятий. Дидактический элемент в описании этих трагических ситуаций очевиден, однако такой же элемент присутствует и вообще почти во всех сюжетах Ветхого Завета. Часто встречающееся обещание раскаявшемуся грешнику наказать его потомство вместо него – также и не проявление бессмысленного волюнтаризма, и не фатализм в духе древнегреческой трагедии, а особая форма заботы Бога о человеке, характерная именно для Библии. Она будет понята совершенно превратно при допущении, что эти люди к своему потомству равнодушны.
Непосредственное влияние перевода 50-го псалма представляется очевидным. Ср.: θυσία τῷ θεῷ πνεῦμα ουντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει (Пс. 50:19); ἀλλ‘ ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ καὶ πνεύματι ταπεινώσεως προσδεχθείημεν... οὕτως γενέσθω ἡ θυσία ἡμῶν ἐνώπιόν σου σήμερον (Дан. 3:15–16).
Об этой трактовке будет сказано в мессианском разделе. Характерен вопрос, заданный читателем этой главы Исайи апостолу Филиппу: «О ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом?» (Деян 8:34).
МТ: בויא ידבעכ הנוכנ ילא םתרבד אל יכ. LXX, видимо, читали ולא {на него}, и ידבעב {о рабе Моем}.
«Слово θεράπων в самых ранних текстах, в первую очередь у Гомера, означает «оруженосец», «спутник на войне». В этом смысле... Ахилл и другие герои – слуги Арея» (Примечания // Пир мудрецов. М., 2004. С. 575, прим. 220).
Так подводится итог жизни пророка: «Моисей, раб Мой (ידבע, ὁ θεράπων μου), скончался» (Нав 1:2). Апостол, возможно, апеллирует к этому чтению, когда пишет: «И Моисей верен во всем доме Его, как служитель (ὡς θεράπων), для засвидетельствования того, что надлежало возвестить» (Евр 3:5).
В тексте идет ряд именных предложений, которые трудно сопоставить хронологически: ὁ δὲ κύριος ηὔξησε τὸν ’Ιώβ· εὐξαμένου δὲ αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν φίλων αὐτοῦ, ἀφῆκεν αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν. ἔδωκε δὲ ὁ κύριος διπλᾶ ὅσα ἦν ἔμπροσθεν ’Ιὼβ εἰς διπλασιασμόν {Господь же возрастил Иова; когда же он помолился и о друзьях своих, [Господь] оставил им грех. Воздал же Господь Иову вдвое против того, что имел он прежде}. Возможно, глг. αὐξάνω (взращивать) указывает на исцеление от проказы. Так или иначе, повеление прийти к Иову с семью тельцами и овнами дается сразу же после окончания речи Бога к Иову (стт. 7–8).
Возможно, имеется в виду огурец, лучшие сорта которого, как считалось в поздней античности, росли в районе Антиохии (см.: Аф. Пир. II. 59 Ь).
Кроме того, дикая тыква (или дикий огурец) в древней Месопотамии считалась растением, корень которого может утолять головную боль. См.: Из книги «Злые болезни» // Ассиро-вавилонский эпос. С. 206.
Ясно, что переводчик читал הרודב {к роду ее}, а слово ж.р. הפש {край, губа} он интерпретировал как относящееся не к органу речи, но именно к самой речи.
הוהי םשל המלש עמש תא תעמש.
ומע םיוג ונינרה. Глг. ןנר означает и «ликовать», и «прославлять кого-либо». Вполне возможно, что в оригинале LXX конец фразы читался как ומע םע {вместе с Его народом}. Соответственно, начало фрагмента читалось так: ומע םימש ונינרה. Но это наводит на мысль: не было ли первоначальной версией еврейского текста все-таки ומע םיוג ונינרה, однако совершенно с иным смыслом: «Возвеселитесь, народы, вместе с Ним»?
Кумранская рукопись 4QDeutq поддерживает LXX: «Прославьте, небеса, Его! и да поклонятся Ему все боги, ибо Он отмстит за кровь сынов Своих». Однако здесь отсутствует упоминание о язычниках, которое имеет место как в LXX, так и в МТ.
Так в LXX, а в МТ – «по числу сынов Израилевых». Еще до кумранских открытий высказывались предположения, что לארשי ינב {сыны Израилевы} произведены здесь из לא ינב, что и подтвердилось.
В Евр 3:6 действительно цитируется так: «И да поклонятся Ему все ангелы Божий», причем апостол относит это ко Христу. Однако неясно, идет ли речь о другом варианте др.-греч. текста, или же в послании намеренно смешаны две части стиха. Есть точка зрения, что цитируется здесь кумранский текст (De Waard J. A Comparative Study of the Old Testament in the Dead Sea Scrolls and in the New Testament. Leiden, 1965. P. 15).
В связи с этим их явное отождествление с ангелами в кн. Иова представляется как раз отвечающим более поздним реалиям, так же как и учение о «князьях народов» в кн. Даниила. Бог вверяет ангелам попечение об уже сильно размножившемся человечестве, перешедшем в стадию государственного строительства; эти «князья» в чем-то подобны «гениям» римских императоров. Примечательно, что в кн. Иова сатана обходит всю землю, т.е. он не имеет своего удела и, пожалуй, считает всю землю своим уделом.
Для периода Второго Храма это засвидетельствовано специальной практикой оссилегиев: «Ossilegium фактически увеличивал длительность процесса смерти, скорби и оплакивания; он состоял из двух обрядов: собственно похорон и, примерно через двенадцать месяцев, когда плоть истлевала, положения костей в оссуарий» (Hachlili R. Jewish Funerary Customs, Practices and Rites in the Second Temple Period. Leiden, 2005. P. 522). Автор считает подобное внимание к человеческим останкам следствием влияния эллинистического индивидуализма, игнорируя много более ранние свидетельства текстов.
Такова логика перевода. В тексте предсказывается, что кости всех начальников Иудеи будут выброшены из гробов и рассыпаны по земле на виду небесных светил, которым они поклонялись: תומ רחבנו ויהי המדאה ינפ לע ןמדל ורבקי אלו ופסאי אל תאזה הערה החפשמה ןמ םיראשנה תיראשה לכל םייחמ {не будут собраны, ни погребены, навозом будут на земле: и предпочтется смерть жизни для всего остатка, оставшегося от этого злого племени}. Ср. греч.: οὐ κοπήσονται καὶ οὐ ταφήσονται, καὶ ἔσονται εἰς παράδειγμα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς, ὅτι εἵλοντο τὸν θάνατον ἢ τὴν ζωήν, καὶ πᾶσιν τοῖς καταλοίποις τοῖς καταλειφθεῖσιν ἀπὸ τῆς γενεᾶς ἐκείνης {не оплачут их и не похоронят, и будут примером на земле, – ибо предпочли смерть, а не жизнь, – и для всех оставшихся, кто останется из этого рода}. Понятно, что вместо ןמדל переводчик читал המדל {в пример}, что и позволило ему связать две разорванные части предложения; форму רחבנ он понял в прямом залоге, а не возвратном. Остаток народа противопоставлен убитым в силу традиционных эсхатологических представлений (см. раздел III. 2.3). Все это говорит о том, что к тексту толковник подходил с экзегетическим инструментарием.
תומ לא הביתנ ךרדו םייח הקדצ חראב (Притч 12:28). Вен: «На пути правды жизнь и уровненная тропа к бессмертию»; Син: «На пути правды – жизнь, и на стезе ее нет смерти». Поскольку сказано не תומ ןיא, а именно תומ לא {букв.: не-смерть}, можно говорить о проникновении в текст определенного понятия, содержание которого практически совпадает с тем, что выражается словом «бессмертие». (Напр., Smick E. The Bearing of New Philological Data on the Subjects of Resurrection and Immortality in the Old Testament // Westminster Theological Journal. 1968. № 11. P. 17; Vawter B. Intimations of Immortality and the Old Testament // Journal of Biblical Literature. 1972. № 6. P. 168–169). Но ср. пер. РБО: «Стезя правды – к жизни, а кривые пути – к смерти»; аналогично читают древние пер. Pesh и Vulg. Передача этого стиха в LXX: ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης ζωή, ὁδοὶ δὲ μνησικάκων εἰς θάνατον {На путях правды жизнь, пути же злопамятных – к смерти}. Различие пер. проистекает от разного огласования слова לא (в МТ оно звучит как аль {не}, в прототипе LXX и др. – эль {к}) и вариативности определения во второй части фразы: редакторы современного штуттгартского изд. МТ предлагают вместо הביתנ {[направление] тропы ее} конъектуры הבושמ {отступничество} и הבעות {мерзость}.
От глг. «кресати» {возжигать огонь}.
Напр., в представлениях шумеров «колосья, встающие из земли, несут в себе порчу Подземного мира, поэтому в это время принимаются различные меры по очищению работающих на поле людей» (Емельянов В.В. Шумерская эпическая песня. С. 375).
Об Иове в таком духе отзывается Рижский, за что его справедливо, по нашему мнению, критикует Кирсберг. О Екклесиасте пишет Шнейдер, что его мировоззрение представляет «популяризированный эпикуреизм» и к тому же выражает «усталость человека большого города» (Schneider. Kulturgeschichte des Hellenismus. Bd. 1. S. 885). Вряд ли можно характеризовать подобные оценки иначе как поверхностные.
В сохранившейся только на греческом кн. Варуха продолжается эта классическая для библейских описаний смерти линия: ὅτι οὐχ οἱ τεθνκότες ἐν τῷ ᾅδῃ, ὧν ἐλήφθη τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπὸ τῶν σπλάγχνων αὐτῶν, δώσουσιν δόξαν καὶ δικαίωμα τῷ κυρίῳ {ибо не умершие, [что] в аду, которых дух вышел из утроб их, воздадут славу и оправдание Господу}, в отличие от страдальцев (Вар 2:17–18). Важно, что слава ставится здесь в пару с оправданием, т.е. культовой практикой преодоления греха. Это располагает к трактовке славы как такого же деятельного и овнешненного акта. Иными словами, в могиле верующий не может ни искупить свои грехи, ни быть полезным Богу. В то же время он, видимо, сохраняет способность к такому интериоризированному акту, как молитва: «Услышь молитву умерших Израилевых (τῶν τεθνηκότων Ἰσραὴλ) и сынов, согрешивших пред Тобою» (Вар 3:4). Правда, может быть, об «умерших» говорится здесь метафорически; но то же самое касается и первой цитаты: ад в целом используется Варухом как метафора исторического состояния Израиля.
Согласно А.-М. Дюбарль, это место покоя и апатии, однако «пронизывающейся вспышками сознания» (см.: Кесич В. Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера. Киев, 2006. С. 28).
И наоборот, Шеол, видимо, не отождествляется с бездной, а его самовластным хозяином не считается Рахав, аналог хананейского Муту, как полагает Отвелл на основании мифологического анализа (Otwell J.H. Immortality in the Old Testament: A Review of the Evidence // Encounter. 1961. № 22. P. 20). Bee сближения такого рода представляют собой либо поэтические аллюзии, либо нравственные умозаключения, связанные с осознанием смерти как последствия грехопадения.
Имеем в виду выше упоминавшуюся статью: Тищенко С. Книга договора и культ предков // Библия: литературные и лингвистические исследования. Вып. 4. С. 165.
В этом случае Септуагинта предоставляет нам важный религиоведческий материал, когда передает евр. слово םיפרת {терафимы} при помощи греч. κενοτάφια {кенотаф, пустая могила}. Поскольку речь идет о предмете, который Мелхола положила на постель, чтобы обмануть подосланных к Давиду ночью убийц (1Цар 19:13), понятно, что переводчик этого фрагмента понимал под «терафимами» фигуры в человеческий рост, каким-то образом заменявшие покойников. С высокой долей вероятности можно предположить, что это были символические изображения предков, еще почитавшиеся в Израиле.
Евр.: הוני םיאפר להקב {упокоится в собрании рефаимов}. Син интерпретирует рефаимов как «мертвецов»; РБО переводит: «в царстве теней». Традиция LXX понимает под ними древних (преимущественно допотопных) могущественных злодеев, которые сошли в ад.
Это заставляет усомниться в верности противопоставления танатологии Премудрости Сираха и Премудрости Соломона, которое проводится как само собой разумеющееся в некоторых исследованиях: Collins J.J. Seers, Sibyls and Sages in Hellenistic-Roman Judaism. P. 352 ff.
За ним стоит евр. глг. רות {исследовать; ходить, петлять} (см.: Словарь-указатель. С. 377).
Скептик, по определению Секста Эмпирика, есть как бы осматривающийся кругом себя, и это движение оглядывания удерживает его от принятия за истину тех или иных умозрительных положений (Пирр. I. 3).
Ср. игру со значением греч. слова в коммент. св. Григория Нисского: «Сей Екклесиаст всей твари, взыскующий погибшее и заблудшее собирающий воедино, Он самый назирает земную жизнь» (Точное истолкование Екклесиаста Соломонова. Беседа 3).
Стт. 12:9–11 и 12:12–14большинство современных исследователей считает прибавлениями разных редакторов, с позицией второго из них Екклесиаст, якобы, фактически «не соглашался и спорил» (Швинхорст-Шёнбергер Л. Книга Экклезиаста // Введение в Ветхий Завет. С. 501–502). Ср., однако: Шифман. Ветхий Завет и его мир. С. 170–171, где утверждается, что заключение книги «логически вытекает» из ее основного содержания и, кроме того, «эти воззрения очень близки к идеям книги Иова».
«Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?» (Екк 3:21). Обычно эту фразу приводят как пример горького сомнения в бессмертии человеческого духа, в то время как, если понимать ее в этом залоге, она в не меньшей степени служит выражением сомнения в смертности духа животных. Впрочем, схождение в землю не обязательно есть метафора смерти, равно как восхождение вверх не означает непременно продолжения индивидуальной жизни. Если же речь идет все-таки о бессметии, то под восхождением подразумевается, скорее всего, воскресение из мертвых, а не бессмертие в том смысле, как учит о нем античный идеализм. К такому пониманию располагает контекст: «Все произошло из праха и все возвратится в прах... кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?» (стт. 20:22) В свою очередь относительно «скота» (המהבה, κτήνος) введено допущение, что его дух не спускается в землю, т.е., видимо, перерождается на земле. Именно эта вероятность обессмысливает все человеческие предприятия исходя из самоценности жизни, которая у человека и скота, в сущности, одна и та же. Заметим, что мысли о перевоплощении человеческого духа здесь не придается ценности, – хотя она имплицитно должна быть включена в гипотезу о перерождении животных, – поскольку идея воскресения, сохраняющего идентичность того, кто хотел бы «посмотреть на то, что будет после него», для библейского сознания несравненно ценнее.
Поэтому, например, такой ранний христианский памятник, как Дидахе, подспудно противопоставляет христиан иудеям как экклесию – синагоге. См.: Stanton G. Other Early Christian Writings: ‘Didache’, Ignatius, ‘Barnabas’, Justin Martyr // Early Christian Thought in its Jewish Context. Cambridge, 1996. P. 28.
ףדרנ ת אשקבי םיהלאהו {и Бог воззовет прошедшее} (Екк 3:15 Син) переведено в LXX καὶ ὁ θεὸς ζητήσει τὸν διωκόμενον {и Бог взыщет гонимого}. Это букв, пер. (ףרד означает в собственном смысле «преследовать», а שקב – «искать»). Но примечательно, что толковник избрал мужской, а не средний род объекта, как будто речь идет о восстановлении справедливости относительно человека, подвергнутого преследованию. Если учесть контекст главы, которая посвящена времени (а конкретно этот ст. начинается словами «что было, то и есть»), можно понять этот пассаж как выражение уверенности в повторном обретении жизни теми, которые были «вытеснены» из нее.
В МТ הברה םילשמ ןקת רקחו ןזאו םעה תא תעד דמל {...он учил народ знанию. Он [все] испытывал, исследовал, [и] составил много притчей} (Син). Все четыре глг. стоят в имперфекте породы пи’эль. Однако LXX читает не иззен, а озен, «ухо» (ןזא), вместо тиккен усматривает, видимо, текен, «изящество» (ןקת), а слово гарбе, «много» (הברה) относит к следующему ст.: «Много потрудился Екклесиаст, чтобы найти слова желанные, письмена правые, слова истинные» (Екк 12:10 LXX). Таким образом, Септуагинта в общем транслирует смысл 9-го стиха, каким он известен по МТ, в 10-й ст., а сам 9-й ст. приобретает в ней совершенно особый смысл, прежде всего потому, что вместо га-ам, «народ» (םעה, λαός), в оригинале LXX, видимо, читалось га-адам, «человек» (םדאה, ἅνθρωπος): такое чтение засвидетельствовано большинством рукописей, а также слав. пер. Екклесиаст, научивший знанию человека вообще, ассоциируется с библейской Премудростью, благодаря которой «ухо уразумеет красоту притчей». Еще соображения об отождествлении Пастыря с Премудростью в эпилоге греч. Екк см. в статье: Fabry H.-J. Die Messianologie der Weisheitsliteratur in der Septuaginta // The Septuagint and Messianism. P. 274.
Кирсберг. Феноменология жизни: Ветхий Завет и первые христиане. С. 23.
Ср. аналогичное утверждение в кн. Екклесиаста: «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения» (ст. 7:1). Оно прямо противоречит поверхностной «жизнеутверждающей» установке, которая иногда приписывается автору книги.
Это, кажется, общее место для всей человеческой религиозности. Ср.: Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003. С. 164.
«Жизнь смертных» (в книге Иова βροτός часто выступает как синоним слова ἄνθρωπος) – оксюморон, выражающий ту истину, что в смерти уже не может быть никакого содержания, свойственного жизни, потому что человек смертен по определению, он и жизнь должны расстаться друг с другом. Кажется, переводчик вольно передал смысл сохранившегося до нашего времени евр. текста: לפ א ומכ עפתו – «и свет как тьма». Ср. сходные по смыслу библейские выражения: Пс 138:12, Мф 6:23, Лк 11:35.
Ср.: Юнгеров. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни. С. 63.
Сама душа может быть как живой, так и мертвой (ср. Пс 118:175). В Пс 21:30 проводится противопоставление умирающего тела «могучих» и души самого Давида, которая живет Богу (ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ. В МТ др. чтение: היח אל ושפנו {и душа его не оживет}). Этот псалом в LXX – описание оклеветанного праведника (ст. 2), связанного по рукам и ногам (ст. 17).
МТ: הדבא םינוא תלחותו הוקת דבאת עשר םד אתומב (Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает}. Септуагинта здесь проявляет свое обычное понимание притчи как противопоставления (Septuaginta Deutsch, ad loc). Возможно, в прототипе читалось רשי вместо עשר).
Septuaginta Deutsch (ad loc.) приводят мнение Дж. Барра: «Хотя слово μόλις, само по себе является существенным отклонением от имеющегося у нас еврейского текста, в целом конструкция фразы отвечает форме и логике оригинала, создавая при этом ощущение соответствия глубоким потребностям эллинистического иудейства». Можно предположить, что выражение םלשי ץראב {букв.: получит мир на земле} переводчик интерпретировал в том смысле, что праведник останется жить по воскресении, и тогда уже для грешников на земле не будет места. В таком случае слово μόλις – разъяснение, которое должно быть понято в своем широком смысле: не просто «едва», но «с трудом» и «наконец» (см. значение слова в Словаре Вейсмана).
МТ: תרכת אל ךתוקתו תירחא שיו תאצמ םא {Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна}. Особенность греч. пер. – интерпретация תירח {букв.: окончание, последующее} в эсхатологическом смысле (ἡ τελευτή).
LXX: ἀγαθὴ σοφία μετὰ κληρονομίας καὶ περιοσσεία τοῖς θεωροῦσιν τὸν ἥλιον· ὅτι ἐν οκιᾷ αὐτῆς ἡ σοφία ὡς σκιὰ ἀργυρίου, καὶ περιοσσεία γνώσεως τῆς σοφίας ζωοποιήσει τὸν παρ᾽ αὐτῆς {Блага мудрость с наследством – это [как] избыток для видящих солнце; ибо в сени ее – мудрость, как сень серебряная, и избыток знания мудрости животворит тех, которые от нее}. Ключевое слово – περισσεία {избыток}, эквивалент евр. слова ןורתי, которое служит в книге для постановки проблемы: «Что пользы (ןורתי המ, τίς περισσεία) человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» (ст. 1:3) В стт. 7:11–12 МТ оно не повторяется дважды, варьируется лишь корень: «Хороша мудрость с наследством, и особенно (רתיו) для видящих солнце: потому что под сенью ее [то же, что] под сенью серебра; но превосходство (ןורתי) знания в [том, что] мудрость дает жизнь владеющему ею» (Син). Таким образом, греч. тексту этого фрагмента присущ больший параллелизм, который подчиняет себе и обозначающиеся оппозиции: наследство / продолжение жизни; солнце / тень. Оказывается, что «наследство» мудрости есть «избыток» солнечного света, т.е., метафорически, избыток жизни. Даже в тени мудрости (жизни?) есть мудрость, подобная серебряному навесу, из-под которого, видимо, выходит оживотворенный человек. Таким образом, рассматриваемая фраза служит ответом на вопрос: что пользы человеку от мудрости? Эта польза усматривается в возобновлении жизни.
МТ: םחבת םירשי תמת {совершенство правых наставит их}. Можно предположить, что LXX в оригинале читали: םחנ תומי רשי התומת {досл.: смертью праведника умрет раскаяние}. Ср.: Septuaginta Deutsch, ad loc.
Следует оговорить, что мнение, согласно которому саддукеи вовсе не признавали бессмертия, не является единственным и, к тому же, рисует слишком странную для истории религии картину. Представляется обоснованным мнение, приписывающее им доктрину «астрального бессмертия» (термин М. Хенгеля), или «бестелесного существования», в силу которой они «исключали не само дальнейшее существование как таковое, но возвращение души в новом теле» (Тарасенко А.А. Четвертое Евангелие и его палестинский контекст. СПб., 2010. С. 223).
В древности этот знаменитый фрагмент в смысле учения о воскресении толковали св. Иустин, св. Ириней, Тертуллиан, блж. Феодорит, блж. Иероним, а в смысле метафоры политического «воскресения» Израиля – Ориген, св. Ефрем, Иаков Эдесский. Среди ученых нового времени, напр., Гезений усматривал здесь идею восстания из мертвых, относя ее на счет персидского влияния (см.: Юнгеров. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни. С. 114). В современных комментариях, по непонятным для нас причинам, возобладало мнение, согласно которому как Иезекииль, так и Осия (ст. 13:14) «говорят о национальном обновлении и возвращении народа к Господу в этих терминах» (Кесич В. Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера. Киев, 2006. С. 30). Но если даже принять это мнение, хотя оно далеко отстоит от имманентной герменевтики самих текстов, то остается вопрос, откуда взялись термины? Метафора должна иметь основание в мышлении; при отрицании веры в воскресение человека говорить о «воскресении» народа – значит, в каком-то смысле, ставить под сомнение предмет своей речи.
Чтение Ис 58:11 особенно интересно в плане интерпретативного перевода. В МТ: וימימ ובזכי אל רש א םימ אצומכו הור ןגכ תייהו ץילחי ךיתמצעו {и кости твои укрепит, и ты будешь, как сад напоенный и как источник воды, который не оскудеет от вод своих}. В LXX другой порядок слов и наличествуют глоссы: ἔσῃ ὡς κῆπος μεθύων καὶ ὡς πηγὴ ἣν μὴ ἐξέλιπεν ὕδωρ καὶ τὰ ὀστᾶ οσυ ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ καὶ πιανθήσεται καὶ κληρονομήσουσι γενεὰς γενεῶν {ты будешь как сад напоенный и как источник, не оскудевающий водой, и кости твои как трава взойдут и утучнятся, и наследуют роды родов}. Здесь метафора сада поставлена в соответствие прорастанию костей, а в параллель источнику воды ставится их оживление, которое продлится в роды родов. Кажется несомненным, что 37-я гл. пророка Иезекииля оказала влияние на этот перевод; кроме того, нельзя исключать, что за текстом LXX лежит иная редакция евр. оригинала.
МТ: יבל זלעיו {и возрадовалось сердце мое}. Комментаторы Septuaginta Deutsch, ad loc, отмечают, что слово בל {сердце} регулярно интерпретируется как σάρξ {плоть, живое тело}, особенно если в ближайшем ст., как это имеет место в данном случае, оно уже переводилось термином καρδία {сердце}. Что касается передачи слова זלעי, LXX поддерживают Феодотион (ἀναθάλλω) {вновь расцветать} и Симмах (ἀνθέω) {процветать}, что указывает на глг. לעי. (См.: Боголюбский. Замечания на текст Псалтири. С. 7).
Сравнение костей и растений прочно укоренилось в традиции. Так, АН I. XXXI говорит: «В мире деревья, и в человеке деревья – это его кости».
«И осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых» (Иез 32:27).
В МТ этого окончания фразы нет, но оно могло быть в евр. прототипе Септуагинты (см.: Septuaginta Deutsch, ad loc).
Крамер. Мифология Шумера и Аккада. С. 151, прим. 43.
МТ: ליפת םיאפר ץראו ךלט תרוא לט יכ רפע ינכש וננרו וציקה ןומוקי יתלבנ ךיתמ ויחי {Будут жить мертвецы Твои, встанут трупы и пробудятся лежащие в прахе, ибо роса светлая – роса Твоя, и земля рефаимов извергнет}. Последнее слово можно интерпретировать и как «провалит», т.е. куда извергнет, неясно. Отглг. לפנ означает в том числе «выкидыш».
См.: Делич Ф. Библия и Вавилон. 6-е изд. М., 2007. С. 59. В.К. Шилейко отмечает, что «вавилонская религия приписывала способность оживлять мертвых богам врачевания Мардуку (аналог шумерского целителя Асарлухи) и Гуле» (Ассиро-вавилонский эпос. С. 604).
Греч. πλήρησ ὀργῆς является пер. с евр. זגר עבש, что в новых пер. интерпретируется как «пресыщен печалями» (Син), «полон тревог» (РБО). Слово זגר означает как «волнение», так и «гнев», поэтому и древние толковники не погрешили против букв. смысла.
Евр. ךניע תחקפ הז לע {на него отверз очи Свои} соответствует в греч. τούτου λόγον ἐποιήσω {букв.: его сделал Ты словом}, т.е. избрал в качестве предмета мысли, речи, заботы и т.п.
МТ: אמטמ רוהט ןתי ימ {кто извлечет чистое из нечистого?}. В прототипе LXX (τίς γὰρ καθαρὸς ἔσται ἀπὸ ρύπου;), видимо, подразумевается фраза היהי ימ אמטמ רוהט. Но может быть и так: переводчик истолковал букв. пер. подстрочника из МТ – «Кто даст чистое от нечистого?»
МТ: וימי םיצורח םא {если дни его ограничены}. В прототипе LXX (ἐὰν καὶ μία ἡμέρα ὁ βίος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς)» видимо, וימי םוי ץרח םא {если ограничил [один] день [все] дни его}.
МТ: ויאו {и где он?}, LXX οὐκέτι ἐστί {и нет его} соответствует евр. ויאו.
МТ: וציקי אל םימש יתלב דע. Начиная с блж. Иеронима эта фраза трактовалась в смысле: «До скончания неба не проснутся». LXX, видимо, графему ץוק читали не куц {пробуждаться}, а коц {колоть}, в значении «шить». Мотив сшивания неба имеет очевидные апокалиптичекие параллели.
МТ: היחיח {будет ли жив?} В прототипе LXX, видимо, היהיו {и будет жив}.
МТ: יתפילח אוב דע לחיא יאבצ ימי לכ {Пока тянется моя служба, буду ждать, не придет ли избавление} (РБО). В LXX первая часть фразы относится к предыдущему ст., причем читается ואבצ ימי הלכ {все дни службы / силы его} и толкуется как «закончив дни жизни своей», т.е. сколько есть сил жить (см. далее в п. 4). В конце фразы слово הפילח {смена, очередь} понято переводчиками в смысле указания на новое бытие умершего человека.
Современные комментаторы, однако, ставят под сомнение интерпретацию ст. 12 в смысле учения о воскресении, особенно ввиду отсутствия в старой редакции LXX второй половины стиха (Septuaginta Deutsch, ad loc). Дальнейший контекст главы этого мнения не поддерживает.
Ср.: ἄνες μοι, ἵνα ἀναψύξω πρὸ τοῦ με ἀπελθεῖν καὶ οὐκέτι μὴ ὑπάρξω {отпусти меня, чтобы мне передохнуть, прежде чем отойду и больше не будет меня}. Глг. ὑπάρχω {быть в наличии, присутствовать} с двойной частицей отрицания οὐκέτι μὴ {больше [никогда] не} употреблен для пер. евр. отрицания ינניאו {и нет меня}.
Рост растений также описывается как отклик и слух (Ос 2:21–22). В кумранском документе «Мессианский апокалипсис» (4Q521) можно заметить корреляцию между тем, что Мессию должны услышать небеса и земля, и тем, что он воскрешает умерших. Ср. тж. Кирсберг. Феноменология жизни: Ветхий Завет и первые христиане. С. 46.
Schnocks J. The Hope for Resurrection in the Book of Job // The Septuagint and Messianism. P. 291.
Так по пер. РБО. В Син: «Похули Бога, и умри». В евр. тексте эвфемизм: תמו םיהלא ךרב {Благослови Бога и умри}, который Септуагинта переводит эвфемизмом же: εἰπόν τι ρῆμα πρὸς κύριον καὶ τελεύτα {Скажи некое слово ко Господу, и умри}. Кроме того, греч. версия существенно расширяет речь жены, воссоздавая ее аргументацию следующим образом: «Доколе ты будешь терпеть [и думать:] вот, подожду еще немного в надежде спасения моего? Ибо погибли с земли память твоя, сыновья и дочери, болезни чрева моего и труды, которыми напрасно трудилась. Сам ты сидишь в смраде червей, проводя ночь без покрова, а я скитаюсь и служу, перехожу с места на место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет солнце, чтобы успокоиться от трудов моих и болезней, которые ныне удручают меня...» (Син). Таким образом, традиция, стоящая за греч. изводом, понимала первоначальное молчание Иова как терпение в надежде на спасение, а речь жены – как призыв к прекращению терпения.
В МТ דעל {навсегда}, в Pesh

{навеки}. Это слово в LXX перемещено из середины следующего ст. в конец 23-го, тем самым «книга», о которой идет речь, отождествляется с неразрушимыми материалами, на которых герой хотел бы запечатлеть свою речь.
Словом ἀένναός {букв, присно-текущий} передано сочетание слов ןורחאו יח {живой и будущий}, которые в МТ отнесены, соответственно, к концу первой и началу второй полустроф данного ст.
Греч. ἐπὶ γῆς соответствует евр. רפע לע {над прахом}. Ср. Pesh:

{над землей}. Возможно, как это имеет место в Слав, данные слова относились первоначально к следующему ст.: «над землей воскресит кожу мою».
Вероятно, רחאו םוקי {поднимет; и затем...} прочитано как רחאי םוקי {поднимет и соберет воедино}.
МТ: הולא הזחא ירשבמו {и я во плоти моей узрю Бога} (Син), вариант: {лишаясь плоти, я увижу Бога} (РБО). Вероятно, пер. LXX представляет собой эвфемистическую передачу фразы, тождественной по своим графическим элементам: הולאה זחא ירשבמו {а от плоти моей отнял Бог}.
Евр.: יל הזחא ינא רשא {букв.: то, что я увижу себе}.
По всей видимости, чтение LXX в этом ст. связано с глг. הלכ {кончаться, прекращаться}, который передан как ουντελέω.
В греч.: τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν αὐτῶν ἡ ὕλη. Вместо ןידש {что [есть] суд}, переводчики читали, скорее всего, ידש {что [за] основа [у них]}. Ср.: Septuaginta Deutsch, ad loc.
Schnocks J. The Hope for Resurrection in the Book of Job // The Septuagint and Messianism. P. 299.
Ср. с учением Платона о космосе как «втором боге», которое полностью отсутствует в «Александрийском каноне». Радикальная антропологизация эллинской мысли, свойственная христианской эпохе и предопределившая все догматические споры, а также – при ее отрыве от теологии – всю специфику западной цивилизации, начинается отсюда.
Аргументация бессмертия души в диалоге «Федон», представляющаяся самодостаточной, может быть, сознательно сделана философом достаточно слабой, чтобы показать ее принципиальную несамодостаточность.
МТ: ונעדי ימ אוה שנאו לכמ בלה בקע {Лукаво сердце более всего и крайне испорчено; кто узнает его?} (Син). LXX читают שנא не ануш {лукавый}, а энош {человек}. Слово בקע можно перевести как «след», что иногда является метафорой неисследимости (ср. Пс 76:20). Подстрочник LXX, скорее всего, выглядел так: «След сердца – [глубок] паче всех, и это человек, кто узнает его?»
В МТ: «Слова уст человеческих – глубокие воды; источник мудрости – струящийся поток». Представляется, что эта цитата из LXX больше помогает понять «Логос» евангелиста Иоанна, чем все сочинения Филона вместе взятые.
Например, в др.-кит. текстах (напр., Гуань-цзы), не говоря уже о будд., мы встречаем регулярное употребление слова «сердце» в значении сознающего и владычествующего в человеке.
Dafni E.J. Nouc, in der Septuaginta des Hiobbuches // Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period. 2006. № LP. 54.
Данный тезис впоследствии встречается у апостола Павла (1Кор 2:11) и играет заметную роль в антропологии св. Григория Нисского, изложенной им в трактате «Об устроении человека».
Ср. у апостола Павла: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2Кор 4:16).
МТ: תובשחמ בשחו שפנ םיהלא אשי אלו ופסאי אל רשא הצרא םירגנה םימכו תומנ תומ יכ חדנ ונממ חדי יתלבל {ибо смертью умрем, и как вода, вылитая на землю, которая не соберется, и не примет Бог душу, а думая подумает, чтобы не отвергнуть от себя отверженного}. Речь эта приточна, и в ней возможно переплетение смыслов. Так, согласно некоторым пер. (напр., Син), во второй части ст. речь идет о Боге, Который думает, как бы не отвергнуть умершего, а согласно другим (напр., РБО), она относится уже к Давиду, как призыв «думая подумать» о снятии опалы с Авессалома. LXX прежде всего вместо שפנ םיהלא אשי אלו {не примет Бог душу}, т.е. «Бог не принимает никакого человека», читают καὶ λήψεται θεὸς ψυχήν {и примет Бог душу}, что должно соответствовать евр. שפנ םיהלא אשיו. Далее, конструкцию תובשחמ בשח, которая выражает усиленное размышление, они передают глг. λογίμαι {обдумывать}.
С учетом неоднократно упоминавшейся «световой» природы зрения.
םיהלאה שיא השמל הלפת, προσευχὴ τοῦ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ. Такое наименование Моисея было традиционным. Ср.: 1Пар 23:14, 2Езд 5:48.
МТ: הפענו שיח זג יכ {ибо проходит быстро, и мы изнемогаем}. LXX: ὅτι ἐπῆλθε πρᾳότης ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ παιδευθσόμεθα. Комментаторы Septuaginta Deutsch находят восстановление прототипа греч. пер. затруднительным. Мы предполагаем, что различие могло корениться в устной практике чтений, и возможна такая конъектура: םפא ןובשח זג יכ {чтобы пришло помышление о гневе их}, т.е. о причине быстро текущих лет.
МТ: המכח בבל אבנ {дай обрести мудрость сердца} (РБО). LXX: τοὺς πεπαιδευμένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ. Восстановить прототип затруднительно. Возможны варианты реконструкции: יאיבנ {пророчествующие}, יבונ {плодоносящие}, יהונ {успокоившиеся}, но все они довольно произвольны.
Греч.: καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἡμῶν κατέθυνον. В МТ дважды повторяется «дело рук наших» (ונידי השעמ). Вероятно, lectio difficilior здесь древнее. Греч, текст, с учетом всего контекста, обобщает человеческую жизнь как «дело рук», состоящее из множества дел, тем самым интерпретируя тему псалма как итог жизни.
Юнгеров. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни. С 80.
LXX: «Бог разрушит тебя до конца: исторгнет тебя и переселит тебя из селения твоего, и корень твой – из живой земли». Фраза построена хиастически, подчеркнутый фрагмент может быть вынесен в конец. Выражение «земля живых» (γῆ ζώντων, םייח ץרא) представляет собой идиому, регулярно воспроизводимую LXX в виде гебраизма. Важно, что глг. חסנ {сдвигать} истолкован как иетстаттци {переселять}. Переводчик рассматривает смерть как пространственное перемещение – из живой земли в мертвую.
Этот ст. сделан основанием проповеди воскресения Христа (как пророческого прототипа героя псалма) в Деян 2:25–28. Вообще в различных контекстах «вселение с надеждой» означает обеспеченное, главным образом, плодами будущего урожая существование, что в контексте «вселения» плоти в могилу (как толкует апостол Лука) выглядит намеком на ее воскресное «прорастание». Иногда смысл этого выражения контекстом не разъясняется и, по-видимому, клонится просто к «безопасности» (Зах 14:11). Но не так в Пс 15, где «надежда» плоти состоит именно в том, что душа не будет оставлена в аду. По этому поводу Юнгеров замечает, что «избавление от Шеола как следствие всей настоящей жизни не может быть отождествлено с избавлением от какой-нибудь временной опасности» (Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни. С. 91). Ср.: Schaper J. Der Septuaginta-Psalter als Dokument jbdischer Eschatologie // Die Septuaginta zwischen Judentum und Christentum. S. 46.
Евр. תואצת תומל интерпретируется как «врата смерти» (Син), литературно – «путь, уводящий от смерти» (РБО), ближе всего к варианту LXX пер. «выходы из смерти» (Т-Ав).
В этом ст. происходит как бы мерцание терминов: σκήνωμα {шатер} в одних рукописях, σῶμα {тело} в других, что можно было бы объяснить и ошибкой в орфографии, но более вероятно истолкование одного слова при помощи другого, так как в контексте перевода говорится о биче (μάστιξ), который «не приблизится» к тому, что является, в зависимости от редакции, «шатром твоим» или «телом твоим». В евр. это עגנ {удар, рана}.
Так же, как и нафс в араб, источниках. В русск. пер. Корана нафс

букв. передается словом «душа», ср. евр. нефеш (שפנ). Душа признается обладающей пропорциональностью и благочестием; она может быть не только предана греху, но и очищена (сура 91. 7–10). Тем не менее чаще это слово употребляется в негативном смысле, что указывает на общую для всех авраамических религий мысль об изначальной нравственной поврежденности человека.
МТ: ושפנ תבעות עבשו הוהי אנש הנה שש {вот шесть, что ненавидит Господь, и семь, что мерзость душе Его}. LXX: ὅτι χαίρει πᾶσιν, οἷς μισεῖ ὁ θεός, συντρίβεται δὲ δι᾽ ἀκαθαρσίαν ψυχῆς {ибо он радуется всему, что ненавидит Бог, но сокрушится он из-за нечистоты души}. Реконструкции прототипа LXX в целом спорны, но ясно, что «мерзость души его» переводчики отнесли к человеку, использовав для интерпретации такую категорию, которая предполагает возможность «очищения души».
РБО: «погоня за ветром».
Евр. הבידנ חור, что можно перевести и как «дух благородный» (Т-Ав), и как «дух благой» (РБО), «дух доброй воли».
Цит. по: Юнгеров. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни. С. 95.
Хотя Филон Александрийский часто называет «ангелами» Божественные силы, так же как и Логос у него именуется Ангелом, в сущности они представляют собой безличные принципы, категории, акциденции, которыми характеризуется миротворящая и миросодержащая деятельность Бога.
'Ср. Сир. Вар. XXI. 7.
Ср. в кумранских Благодарственных гимнах: «Он создал их вечными духами во их владычестве, светилами ради их тайн, звездами ради их троп, [буйными ветрами] ради их ноши; зарницами и молниями ради их службы, кладовыми запасов... ради их тайн» (1QH I. 11–12). В неканонической части кн. Даниила по пер. Феодотиона «духом» ангел обладает как силой ветра: «Ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над рвом шумом (ῥοίζῳ) духа своего» (Дан 14:36). Ср. тж. в кн. Премудрости Сираха: «Есть духи / ветры (πνεύματα), которые созданы для отмщения и в ярости своей усиливают удары свои, во время устремления своего изливают силу и удовлетворяют ярости Сотворившего их» (Сир 39:34–35).
В язычестве «ангел» обычно выражает функцию, которую одно божество выполняет в субординации другому, более великому. Распространение инскрипций с упоминанием ангелов в Малой Азии происходит в эллинистическое время, вероятно, уже не без влияния Востока. Некоторые из них явно принадлежат иудеям и христианам. (Stuckenbruck L.T. Angel Veneration and Christology. A Study in Early Judaism and the Christology of the Apocalypsis of John. Tübingen, 1995. P. 181–183). Затем термин заимствуют в его библейском и христианском значении поздние неоплатоники, начиная с Юлиана Отступника (IV в.). Прокл во введении к своему комментарию на диалог Платона «Парменид» выражает убеждение, что «ангельские хоры» сообщают философу «подлинную явленность божественного».
Значит, поскольку в духовном мире не предполагается никакой нейтральности, благие и злые силы концентрируются на двух полюсах, и как первые получают название «ангелов», т.е. вестников Божественной воли, так вторые – «демонов», т.е. автономных духовных деятелей, этой воле противящихся. Слово «демон» в его новом отрицательном понимании (в античности оно было нейтральным) также принадлежит Септуагинте. Но такое его употребление имело причины. Переводчики знали, что состояние одержимости, которым отличались языческие оракулы, считалось имеющим «демоническое» происхождение. Отсюда отождествление демонов и языческих богов с приданием последним характера враждебных Богу частных духовных начал: «Ведь все боги народов – бесы (δαιμόνια); а Господь небеса сотворил» (Пс 95:5). Евр. текст читает здесь םילילא, что означает нечто пустое, суетное. Возможно, переводчики дают интерпретацию исходя из своих задач в полемике с язычеством. Но может быть иначе: они читают םילא {боги}, но не желают писать здесь «ангелы», или же усматривают общий корень с תיליל {ночное приведение}. В Пс 97:7 לילא переведено как «идол», что еще яснее дает понять: в 95-м псалме толковнику важно было указать на бесовское происхождение многобожия в противоположность вере в Творца.
В евр. языке утрачен глг., объясняющий эту этимологию: ср. араб.

{посылать},

– в зависимости от огласовки, «царь» (малик) и «ангел» (малак). Эфиоп.

– «ангел», но также «князь», «правитель», «начальник» и т.п., от глг.

– «посылать», «наделять властью». Таким образом, в основе слова ךאלמ, как и родственного ему слова ךלמ {царь} лежал, очевидно, глг. со значением «делегировать полномочия», а царский титул изначально понимался как дающий право назначать от своего имени областных правителей. Пер. LXX делает акцент на посланничестве, а не на власти ангелов.
Подробнее о значении манны см. в п. II. 3.2.2 а.
Енохитская традиция, как показал Франкель, в целом чужда Септуагинте: слова в кн. Бытия о том, что «преложил (μετέθηκεν) его Бог» (Быт 5:24), и упоминание о его покаянии в кн. Сираха, согласно которой Енох «преложился» (μετετέθη) и стал «образом покаяния» (ὑπόδειγμα μετανοίας Сир 44:150), указывают на то, что его не считали безусловно праведным, тем более воплощением предвечного Мессии, а скорее прообразом того праведника, который, «как живший посреди грешников, преставлен (μετετέθη), восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его» (Прем 4:10–11). См.: Frankel. Über den Einfluss der palästinischen Exegese auf die alexandrinische Hermeneutik. S. 44.
Начиная, наверное, с Минуция Феликса: «Есть лживые нечистые духи, ниспадшие с небесной чистоты в тину земных страстей. Эти духи лишились чистоты своей природы, осквернив себя пороками» (Октавий, XXVI). Эта версия поддерживалась также св. Иустином Философом, Климентом Александрийским, св. Амвросием Медиоланским. У блж. Августина она уже не находит поддержки. Вероятно, средневековые представления о суккубах и инкубах были как-то связаны с этим, хотя происходят они, скорее всего, из языческих суеверий. Но даже применительно к апокрифической литературе нельзя говорить о тотальности таких представлений. Например, версия 1 Ен вовсе не известна славяно-русской рукописной традиции. См.: Порфирьев И.Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. М., 2005. С. 2.
Ср.: «И сказал опять Господь Рафуилу: «Свяжи Азазела по рукам и ногам и положи его во мрак; сделай отверстие в пустыне, которая находится в Дудаеле, и опусти его туда. И положи на него грубый и острый камень, и покрой его мраком, чтобы он оставался там навсегда, и закрой ему лицо, чтобы он не смотрел на свет! И в великий день суда он будет брошен в жар"» (1 Ен 2:35–37).
Ср.: «И вот Он идет с мириадами святых, чтобы совершить суд над ними, и Он уничтожит нечестивых, и будет судиться с всякою плотью относительно всего, что грешники и нечестивые сделали и совершили против Него» (1 Ен 1:9).
Такие сборники обычно составлялись по тематическому принципу на основе канонических книг и устного предания, либо впоследствии утраченных книг, ранее претендовавших на канонический статус; они засвидетельствованы в ряде свитков из Кумрана; можно думать, что они были источником ряда цитат новозаветных авторов, для которых мы не находим эквивалента в каноне Нового Завета.
Charlesworth J.H. A Rare Consensus among Enoch Specialists: The Date of the Earliest Enoch Books // Henoch: The Origins of Enochic Judaism. P. 234.
Слово происходит, вероятно, от глг. לפנ {падать}, что может означать как собственно падение (לפנ выкидыш, изверг), так и выпадение из нормы (ср. תואלפנ чудеса). Но на арам.название אלפינ носило созвездие Ориона, т.е., видимо, за ним признавалось и значение ненормально большого человека.
В сектантской традиции, а именно в кн. Исполинов, сохранившейся фрагментарно (1Q23–4, 2Q26, 4Q203, 530–33, 6Q8), среди них называются герои аккадского эпоса Гильгамеш и Хобабис (Хумбаба). Первый – сын бога и смертной женщины, второй – чудовище. Книга эта принималась манихеями, следы ее употребления наличествуют и в средневековой иудейской литературе (Vermes G. The Complete Dead Sea Scrolls in English. Revised Edition. London: Penguin Books, 2004. P. 549). О сыновьях Стражей Небесных, т.е. исполинах, упоминает и Дамасский документ (CD И. 19). 2 Вар 56:10–12 утверждает, что ангелы пали из-за людей. В целом нет оснований считать это предание, носящее, судя по рецепции в манихейской среде, явные черты дуализма, более ранним или аутентичным для самого Пятикнижия.
Евр. רבג {сильный муж}.
Евр. םיאפר, «рефаимы». Точное значение этого слова неизвестно.
Евр. םיליפנ.
Евр. םיאפר. По др. спискам LXX – «сыны Рафы».
Евр. רבג.
Евр. םירבג ,םיאפר.
οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ήμέραις ἐκείναις καὶ μετ᾽ἐκεῖνο ὡς ἂν εἰσεπορύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖς ἐκεῖνοι ἧσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ᾽ αἰῶνος οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί. Ср. новый англ. пер. LXX (Оксфорд, 2007). Передавая רשא через ὡς ἄν, LXX оттеняет предшествующую часть фразы, которую поэтому правильно переводить как в Слав: во дни̑ ѻны и҆ пото́м. Ср. Быт 12:12, Исх 13:11,1Цар 2:13 и др. – словосочетание ὡς ἄν везде выражает момент времени, с которого начинается новое действие; его значение точнее, чем у רשא.
МТ: םהינכשו מים תחתמ וללוחי םיאפרה {Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них}. Греч, текст этой фразы взят из версии Феодотиона: μὴ γίγαντες ματαιωθήσονται ὑποκάτωθεν ὕδατος καὶ τῶν γειτόνων αὐτοῦ; {не мятутся ли исполины под водой и окрестностями ее?} Более распространен, однако, вариант ματαιωθήσονται {повиваются}, который соответствует тому же וללוחי понятому в пассивном залоге как «рождаться» (ср. Притч 8:25 LXX). Наличие альтернативного пер. с евр. показывает, что Феодотион не является единственным источником этого ст. Смысл его в этом варианте таков: «Разве рождают исполины под водой и окрестностями ее?» Это ставит фразу в контекст предыдущей: «Чье же дыхание, что исходит от тебя?» Исполины под водой не производят потомства, потому что источник жизни (дыхания) – только Бог.
См.: Глаголев. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. С. 201–205, прим. 1.
Там же.
Десницкий А.С. Сыны Божьи: люди или духи? История толкований на Бытие 6:2 // Вестник древней истории. 2007. № 3. С. 184–199.
Еще ранее в литературе на русск. языке об интерпретации «сынов Божиих» как хананейских богов упоминалось в источнике: Менъ А., свящ. Библиологический словарь. Т. 1. С. 61.
Ср.: «Много трудов предназначено каждому человеку, и тяжело иго на сынах Адама со дня исхода из чрева матери их до дня возвращения к матери всех» (Сир 40:1).
Ср. в кн. Сираха при характеристике доброй жены: «если есть на языке ее приветливость и кротость, то муж ее выходит из ряда сынов человеческих» (Сир 36:25).
םדא ינבל ןתנ ץראהו הוהיל םימש םימשה {небо – небо Господне, а землю дал сынам Адама} – ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ κυρίῳ, τὴν δὲ γῆν ἔδωκε τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων {небо небес Господне, землю же Он дал сынам человеческим}. Сказано это в контексте благословения Господом, сотворившим небо и землю, Которого будут хвалить «не мертвые... и не все те, которые нисходят в ад». Иными словами, здесь под сынами человеческими подразумеваются жители земли, в отличие от жителей преисподней. Это ближе всего к «ангельской» гипотезе относительно Быт 6, но и здесь ангелы не упомянуты даже намеком.
ןויבאו רישע דחי שיא ינב םג םדא ינב םג {как сыны Адама, так и сыны мужа: вместе богатый и нищий} – οἵ τε γηγενεῖς καὶ οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ τὸ αὐτὸ πλούσιος καὶ πένης {земнородные же и сыны человеческие, вместе богатый и нищий}. Первое сочетание прочитано LXX, очевидно, как המדאי נב {сыны земли}. В греч. терминологии γηγενεῖς {рожденные землей} – синоним γίγαντες {исполины}, но это в связи с эллинскими мифами, поэтому нет уверенности в том, что переводчики так использовали слово, а не просто калькировали оригинал. Гипотезу поддерживает, однако, параллель с противопоставлением «богатого и нищего»; в таком случае подтверждается толкование, согласно которому исполины были представителями допотопной знати
Так, согласно Юнгерову, в наименовании Мессии «Сыном человеческим» выражается надежда, «что Он будет новозаветным общим Адамом, что каждый в отдельности человек, к какой бы народности, племени и языку он ни принадлежал, будет ему родственен по плоти, как Адаму» (Юнгеров П.А. Вероучение Псалтири, его особенности и значение в общей системе библейского вероучения. С. 135).
Stuckenbruck L.T. Genesis 6:1–4 as the Basis for Divirgent Readings // Henoch: The Origins of Enochic Judaism: Proceedings of the First Enoch Seminar. Torino, 2002. P. 106.
Пс 28:1 «принесите Господу, сыны богов» (םילא ינב הוהיל וב / ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ υἱοὶ θεοῦ) в LXX несомненно обращается к людям, так как ниже призывает их «принести Господу овнов»; Pesh. переводит «сыны мужа»

.
Пс 88:20 «говорил Ты в видении святым Твоим» (ךידיסחל ןוזחב תרבד / ἐν ὁράσει τοῖς ὁσίοις σου) – в некоторых лекционариях LXX и слав. пер. сыновѡ́мъ твои̑мъ (τοῖς υἱοῖς σου), что, независимо от критической ценности этого чтения, важно для понимания антропологической традиции LXX.
Втор 32:8 LXX читает, очевидно, как לא ינב (такое чтение обнаружено в Кумране, 4QDeutq) и тем самым впервые вводит учение о разделении «уделов народов» по числу ангелов-наместников или, может быть, первопредков языческих народов. Ср. у Сираха: «каждому народу поставил Он вождя, а Израиль есть удел Господа» (Сир 17:14–15).
Феодотион переводит букв.: «подобный Сыну Божьему», но в этом случае может иметься в виду христологический смысл; кроме того, для Феодотиона вообще характерна ревизия текста в сторону большей дословности.
Пс 88:7 «кто... уподобится Господу из сыновей-богов?» (םילא ינבב / ἐν υἱοῖς θεοῦ): ст. должен относиться к ангелам, но далее по тексту псалма все время проводится сопоставление, параллелизация земного и небесного. Ангельский мир представляет собой проекцию Израиля, и наоборот. Эти тенденции будут активно развиваться в междузаветной литературе. Среди кумранских текстов, обогащающих наши познания о том, как в ближайшей эсхатологической перспективе мыслилось взаимопроникновение миров, особенно важны «Песни субботнего всесожжения», которые «выражают идею подобия небесного и земного богослужения» (Vermes. The Complete Dead Sea Scrolls in English. P. 329). Частое обозначение небесных духов как םילא и םיהלא в этих текстах вовсе не лишено антропологических экстраполяции. Вообще термин םיהלא не применительно к Богу современные кумрановеды склонны интерпретировать в смысле «богоподобия» (напр.: Discoveries in the Judaean Desert: XI. Qumran Cave 4. VI. Prophetical and Liturgical Texts, Part 1. Oxford, 1997. P. 178). Человек может приобрести этот статус: «Я причислен к богам (םיהלא), и мое обиталище с общиной святой» (4Q491, fr. 11. 7), что напрямую связано и с богосыновством: «Я причислен к богам, и моя слава – с сыновьями Царя» (4Q491, fr. 11.12); «Сы[новья] неба, наследие которых в вечной жизни, они поистине скажут: мы потрудились в делах правды, и мы изнуряли души наши во все времена. Разве они не будут ходить в вечном свете?» (4Q418, fr. 69 13–14) Кумранская эсхатология включала в себя представление о том, «что ангелы уже обитают среди членов общины; сожительство с ангелами отнесено не к будущему, а к наступившей реальности, включая участие в небесной литургии» (Garcίa Martίnez F. Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls // The Encyclopedia of Apocalypticism. Vol. 1. New York, 1998. P. 184). Может быть, отсюда и актуальность мнения о прелюбодеянии ангелов, тогда как ранняя и более традиционная библейская ангелология представляет их как чистых вестников Божественного присутствия, гнева и заступничества. Даже демонам, согласно традиции, группирующейся вокруг LXX, несвойственно смешение с женщинами: так, Асмодей в кн. Товита умерщвляет всех женихов Сарры из ревности к ней, однако сам не предпринимает попыток стать ее супругом.
Тищенко С. Книга договора (Исх. 20:22 – 23:19) и культ предков // Библия: литературные и лингвистические исследования. Вып. 4. С. 152.
Ее поддерживают таргумы: Онкелос, Пс.-Ионафан, Неофит. Согласно Маймониду (Мишне Тора. Судьи I. 4.4), титул םיהולא прилагался на практике по отношению к судьям высшей квалификации, получившим посвящение на обетованной земле.
Ср.: «Кто же вы, искушавшие сегодня Бога и ставшие вместо Бога посреди сынов человеческих (ἐν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων)?» (Иудифь 8:12).
Именно так, с точки зрения культа предков, трактует С. Тищенко загадочный для манифеста единобожия ст. Исх 22:28 «богов не злословь» (ללקת אל םיהלא / θεοὺς οὐ κακολογήσεις). Отсюда делаются выводы эвгемерического характера, на наш взгляд слишком умозрительные, что данную норму Закона «можно истолковать как предписание почитать умерших, что подразумевает выполнение культовых обязанностей по отношению к ним, в том числе... не забывать о приношениях мертвым» (Тищенко С. Книга договора (Исх. 20:22 – 23:19) и культ предков // Библия: литературные и лингвистические исследования. Вып. 4. С. 165). Впрочем, перевод «великого из своих предков не презирай» (Там же. С. 170), который может относиться и к живым, а не только умершим, не вызывает возражений.
Евр.: ויהלאבו וכלמב {царя их и бога / богов их}. Вероятно, LXX читали: ויהלאבו ךלמב {царя и бога / богов его}, а поняли это как относящееся к почитаемым предкам царя или вообще Израиля.
Septuaginta Deutsch, ad loc.
См.: Kreuzer S. Die Bedeutung des Antiochenischen Textes für die älteste Septuaginta (Old Greek) und für das Neue Testament. S. 35–36.
Большинство авторитетных кодексов дают в ст. 37:38 смешанную форму πατραρχον – скорее исправление греч. по арам., чем наоборот, поскольку в греч. получилась бессмыслица. Возможно, источником этого чтения послужил пер. Симмаха (в его версии πατραρχα), который озадачил, в свою очередь, сир. переводчиков Гекзапл: они передали его чтение двумя вариантами:

{идол} и

{отеческий}.
Одна из регулярных тем евр. предания, которая повторяется и в неканоническом эпизоде с Сусанной, причем эта молодая женщина оказывается не первым прецедентом, а тем случаем, на котором споткнулись «старейшины-судьи, казавшиеся управляющими народом» (Дан 13:5), – «Красота прельстила тебя... Так поступали вы с дочерьми Израиля, и они из страха имели общение с вами, но дочь Иуды непотерпела беззакония вашего» (ст. 57). Интересно, что в этом пророческом слове «зашито» объяснение исчезновения малодушных северных колен, в то время как избранное мессианское племя, в лице Сусанны предпочитая смерть бесчестию, сохраняет себя. Здесь также вероятна ассоциация с поколением потопа и Ноем.
Согласно некоторым святоотеческим толкованиям – дает 120 лет на покаяние, которые затем, вследствие нераскаянности, были сокращены. Тем самым решается противоречие с долготой жизни послепотопных патриархов.
Ср. РБО: «Мое дыхание в человеке – не навсегда. Он всего лишь плоть».
Именно так: «Адам стал как один из Нас, зная добро и зло» (Быт 3:22). Знание добра и зла есть библейское наименование способности суждения (ср. 2Цар 19:35). Не имея этой способности, Адам должен был, видимо, ей обучиться, осудив змея за клевету, а жену за доверие клевете и вероломство. Но он, вкусив плод, смог судить лишь о самом себе, что он наг.
Ср. как интерпретируется этот сюжет в сочинении пс.-Филона, где поколение потопа противопоставляется Моисею-законодателю: «Ибо в древние дни Я помышлял о нем, когда говорил, что Мой Дух не будет посредником этих людей вовеки» (Древн. IX. 8). Также в кн. Премудрости Соломона утверждается, что через изральтян, как сынов Божиих, «имел быть дан миру (τῷ αἰῶνι) нетленный свет закона» (Прем. 18:4).
Так, блж. Иероним в Еврейских вопросах на книгу Бытия, ad loc., выражает мнение, что Бог не желает осудить поколение потопа навечно – «поскольку внутреннее состояние людей хрупко, Я не буду сохранять их для вечных мучений, но теперь воздам им то, что они заслуживают». Очевидно, Иероним ориентируется в этом толковании на 1Пет 4:6.
Так истолковано, видимо, םדא [ה] ב – с артиклем, который подразумевается здесь огласовкой.
Греч.: τὸ γὰρ ἐνθυμηθῆναι περὶ αὐτῆς φρονήσεότης τελειότης. Слав: еже бо мы́слити ѡ҆ не́й, ра́зма соверше́нство.
Йегер В. Пайдейя: Воспитание античного грека. Т. 1. М., 2001. С. 21–22.
Там же. С. 23.
Там же. С. 7.
«Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание (הרסיל, τοῦ παιδεῦσαι) за грехи ваши... Если и после сего не исправитесь (ורסות אל, μὴ παιδευθῆτε) и пойдете против Меня... то и Я в ярости пойду против вас и накажу (יתרס, παιδεύσω) вас всемеро за грехи ваши».
Ср. Пс 40 LXX, где враги праведника, лежащего на одре болезни, «суетно» говорят в своем сердце, что он «собрал беззаконие себе», в то время как на самом деле Бог «принял его за незлобие» и «утвердил перед Собою вовек».
Коммент. см. в п. II. 1.2.3. в.
Ср. в Новом Завете: «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евр 5:8–9).
МТ: ךשפנ אשת לא ותימה לאו הוקת שי יכ ךנב רסי {наказывай сына своего, пока есть надежда, и стону его не внимай душой твоей}, т.е. не придавай значения. Переводчик читал, видимо, תוימה, без местоименного суффикса 3-го л. Само это слово можно перевести как «стон», «крик», «шум», «ярость».
Евр. םינב {сыновья}, если бы не эта игра слов, могло бы быть естественнее переведено как υἱοί {сыны} или τέκνα {чада}.
В кодексах А и S исправлено на παροιμίαι {притчи, подобия}, в Слав также при̑тчи.
В оригинале והננובי, что можно перевести как «заботился о нем» и «вразумлял его».
πανουργία {букв, вседетельность} означает как искусство, так и коварство. Поэтому в Син переведено: «Не научится тот, кто неспособен; но есть способность, умножающая горечь». Однако греч. текст, не имея здесь никаких частиц, соответствующих нашему союзу «но», располагает к иному толкованию: обучение горько и требует исполнять все необходимое, а кто избегает этой горечи, то не научится.
Коммент. см. в п. II. 3.1. в.
По-видимому, именно такой смысл подразумевается в букв. пер. Слав: поно́ситъ на́мъ грѣхѝ зако́на и҆ ѕлосла́витъ на́мъ грѣхѝ ѹ҆че́нїѧ на́шегѡ.
Евр.: רסומ תחק יתלבלו עומש יתלבל {чтобы не слушать и чтобы не принимать наставления}. В греч. подчеркнуто: τοῦ μὴ ἀκοῦσαί μου καὶ τοῦ μὴ δέξασθαι παιδείαν {чтобы не слушать Меня...}.
Слово םעט букв, означает «вкус», т.е. в оригинале речь идет об усвоении на уровне навыка, чему, действительно, соответствует смысл термина παιδεία как «воспитание детей».
Комментарий на разночтения см. в пункте II. 2.1. г.
В Александрийском кодексе, как и в Син, читается: «Дух премудрости». Ср. Арм: Սուրբ Հոգին իմաստութեան. Но в изд. Ральфса основное чтение – πνεῦμα παιδείας. То же в Слав: ст҃ы́й дх҃ъ наказа́нїѧ.
В евр. תעד {знание}. Когда возникло это расхождение в списках LXX, едва ли удастся установить, но можно найти параллельные тексты, повлиявшие на интересующее нас чтение. Для Притч 1:29, – «За то, что они возненавидели знание и не избрали страха Господня» (Син), – это Пс «ты же возненавидел еси наказание», а также цитировавшиеся фрагменты из Второзакония и кн. Иеремии.
Параллелизм пер. отражает аналогичные явления в оригинале. Двукратное повторение имени κύριος {Господь} передает евр. הוהי ינדא, что должно было читаться как адонай, адонай. Другая тавтология – πρωί πρωί {заутра заутра} есть пер. тавтологии רקבב רקבב. Перекличка глг. τίθημι и προστίθημι также не случайна и соответствует повторению в евр. тексте глг. דיעה {поднимать}. Термин םידומל также повторяется дважды; он представляет собой мн.ч. от דומל {обученный} и интерпретируется в современных пер. как относящийся к ученым («Господь дает мне язык ученых»). LXX восприняли это в сущностно ином ракурсе: речь идет об относящемся к учениям, т.е. к совокупной мудрости Божественных замыслов, которую Господь открывает пророку, как утренний свет, по Своей воле.
Это выражение имеется у Дж. Реати в кн. «Бог в XX веке», которая теперь не на руках у нас, и мы просим верить нам на слово.
Евр. חיכוהל от חכי {прямить}, можно перевести и как «для того, чтобы наказать», и как «для того, чтобы сделать явным».
Collins J. Hellenistic Judaism in Recent Scholarship // The Encyclopaedia of Judaism. Vol. 2. P. 974.
Данный ст., однако, может быть отнесен и к максимально широкому толкованию рассматриваемого понятия.
См. подробнее о переводческих приемах в след. разделе.
Син: «и посмотрел я... и получил урок» (רסומ יתחקל … יכנא הזחאו). В прототипе LXX, видимо, первое слово читалось иначе: רחאאו {и опоздал я}. На игре между «опоздавшим» ленивцем и «поспешившим» бедствием во многом строится композиция притчи.
В евр. דחשה {дар}, что интерпретируется обычно как «взятка». Возможно, наличие артикля навело толковника на мысль, что здесь говорится о «даре» в смысле одаренности, итог развития которой в данном случае представляет ή παιδεία.
Евр. המכח בבל יבנו {и приобретем сердце мудрое}. Коммент. см. в п. П. 3.2.1. д.
Подробнее об особенностях греч. чтения этого псалма см. в разделе III. 1.1.
В МТ: ינברת ךתונעו {и милость Твоя обогащает меня}. Ср. תונע {скорбь}, от הנע {обращать внимание, присматривать, смирять}. Вероятно, LXX ориентировались на это поле значений. Отметим, что Pesh поддерживает LXX в пер. תונע как παιδεία

, от глг.
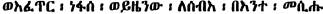
{поднимать, возносить}, при этом согласуясь с МТ в количестве употреблений.
Это одна из возможных интерпретаций. Другая уже приводилась: внук Сирахов нашел в Египте «немалое сходство» с палестинскими образовательными традициями.
Йегер. Пайдейя. Т. 1. С. 24.
Арам. שנא רבכ, греч. ὡς υἱὸς ἀνθρώπου.
Де Сильва комментирует употребленное здесь определение φιλοσοφώτατον: «Это значит не утонченная или академическая, но сущностно-философская речь» (De Silva D.A. 4 Maccabees: Introduction and Commentary on the Greek Text in Codex Sinaiticus. Leiden: Brill, 2006. P. 67).
Hengel M. Judaism and Hellenism. Studies in their Encounter in Palestine during the Early Hellenistic Period. Vol. 1. Philadelphia, 1973. P. 111.
Так считает, на основании поздней датировки 4 Мак, Н. Spieckermann (Martyrium und die Vernunft des Glaubens // Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. I. Philosophisch-historische Klasse. 2004. № 3. S. 86).
Одним из определений этого термина у римских авторов при соотнесении с греч. реалиями была παιδεία. См.: Сергеев К.А. Ренессансные основания антропоцентризма. СПб., 2007. С. 135.
У еп. Порфирия (Успенского) – «благочестивая рассудительность». Ср. NETS – pious reason. Нам такой пер. представляется неточным, излишне сгущающим рационалистический момент в позиции автора. То, что под термином λογισμός, подразумевается не просто способность, но именно внутренняя речь как движение мысли, видно из игры слов в речи четвертого брата, которому царь повелевает отрезать язык: «И молчащего услышит Бог! вот висит язык, отсекай, но этим ты не отсечешь язык нашего помышления» (стт. 10:18–19).
«Радикально стоическими» называет Шнейдер наличествующие в этой «диатрибе» представления об удовольствии и неудовольствии как главных врагах разума (Schneider. Kulturgeschichte des Hellenismus. Bd. 1. S. 887). Однако, как отмечает Шпикерман, это все же не стоическое учение, в центре которого стояла бы ἀρετή {добродетель}, а не λογισμός. Этот ключевой термин употребляется в произведении 75 раз. {Spieckermann. Op. cit. S. 73–74).
На русск. язык часто вообще не переводится, а транслитерируется как «калокагатия».
Еще прежде оно используется в Письме Аристея при описании первосвященника Елеазара (гл. 3).
Здесь также терминология, связанная с традициями физической культуры, используется не только для прославления иудейства, но и для высмеивания предрассудков эллинства: победительницей оказывается женщина, которая одерживает победу посредством самого женского и уязвимого из всего, что только можно себе представить. Однако ирония здесь, конечно, не является самоцелью, так как посредством оксюморона ставится на новую высоту человеческая природа, превозмогающая любое насилие обстоятельств благодаря воспитанию, полученному «от утробы матери».
Употреблены два разных глг.: ἑσθίω {есть} для дозволенного и σαρκοφαγεῖν {пожирать плоть} для запрещенного.
«Филон хотел показать, что греческий концепт природы является центральным для авторитета Моисеева Закона, несмотря на отсутствие подобного концепта в Писании, где не было даже слова, соответствующего ему» (Najman H. Seconding Sinai: The Development of Mosaic Discourse in Second Temple Judaism. P. 77).
По сути своей эллинизм был способом вовлечения во взаимодействие – «таким языком и такой культурой, в которых могли участвовать народы самого разного типа» (Bowersock G.W. Hellenism in Late Antiquity. Ann Arbor, 1990. P. 7).
Евр. המכחב אלו ותומי {букв, умирают, и не в мудрости} проинтерпретировано на греч.: ἀπώλοντο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς σοφίαν {погибли за то, что не имели они мудрости}.
Син переводит здесь ὑπόστασις словом «пища», так же как и NETS (sustenance). В нем. коммент. специально подчеркивается, что речь идет «не о силе или бытии Бога», но о пище как «поддержании жизни», аналогично употреблению этого слова греч. переводчиком Суд 6:4 (Septuaginta Deutsch. T. 2. S. 2154). Иным образом понимали дело древние переводчики. Так, в Vulg находим термин substantia, в Арм двусмысленно: գոյաւորութիւն {существенность, изобилие}, в Слав – сꙋщество́.
Goodenough. By Light, Light. P. 2.
Евр. יבל תוריק {стены сердца} истолковано, видимо, по связи с глг. רוק {выкапывать, источать}.
В Синодальном пер.: «Сердце знает горе души своей». Поскольку עדוי представляет собой причастие, оба пер. возможны.
Как философская категория, эта добродетель провозглашается в неканонических Псалмах Соломона: «Блажен, кто помнит Господа в умеренности самообладания (ἐν συμμετρία αὐτάρκειας), когда же человек выходит из своих пределов (ὑπερπλεονάσῃ), то согрешает» (ст. 5:16).
Первая часть в МТ понимается сейчас иначе: ךלמ והער ויתפש ןח בל רוהט בהא {Любящий чистое сердце – благодать устам его, друг его – царь}. Пер. Септуагинты грамматически безупречен, его подстрочник выглядел так: «Любит чистого сердцем, благодатью уст Своих пасет (העור) Царь».
МТ: ורצני ךיתפש תעדו {и разум устами твоими сохрани}. Конъектура: תעדו ךוצי יתפש.
Ст. 7 МТ: תעד יתפש תעדי לבו ליסכ שיאל דגנמ ךל {Иди от мужа глупого, где не узнаешь уст знающих}. Конъектура: תעד יתפש תעד ילכו ליסכ שיאל דגנמ לכ. В пер. «расщепляется» значение слова תעד на αἴσθησις и σοφός.
Вторая часть ст. по МТ: תלוא הערי םיליסכ יפו {а уста безумных пасет глупость}. Вместо תלוא הערי LXX читали תלואה ערי.
Греч. ἄνδρα ἀκάρδιον (слав. мꙋ́жа безсерде́чна) соотв. евр. בל רסח {скудного сердцем}. Ср. Иер 5:21.
Ср.: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001. С. 160.
В данном контексте: «наставление». Иудеям-эллинистам было, без сомнения, знакомо и широкое значение слова παιδεία – «образование» (см. пролог Премудрости Иисуса сына Сирахова, 29). В Притч 1:2, наряду с «премудростью» (σοφία), «образование» перечисляется в составе основных задач изучения этой книги. Об античной и эллинистической интерпретации термина см.: Йегер В. Пайдейя: Воспитание античного грека. Т. 1. С. 21–24. Ошибочность взгляда Йегера на употребление термина παιδεία в Септуагинте исключительно в значении «наказания грешника, которое ведет его к перемене ума» выявляется на материале книги Притчей, особенно на примере процитированного ст. 25:1 (см.: Jaeger W. Early Christianity and Greek Paideia. P. 24).
По словарю Бруна,

значит то же, что διάκρισις. Возможно, сирийцы воспроизвели эту глоссу по греч. тексту, прочитав αἱ διάκριτοι {избранные} вместо αἱ διάκριτοι, или, наоборот, в процессе переписки LXX одно превратилосьв другое. О соотношении текстов Притчей Септуагинты и Пешитты см.: Cook J. The Relationship between the Peshitta and the Septuagint (Proverbs) // Textus. 1994. №14. P. 117–132.
To есть, согласно Теккерею, немногим позднее 100 г. до н.э. (Thackeray. Op. cit. P. 16).
Септуагинта в данном случае несколько иначе понимает евр. текст, чем Синодальный перевод, и это понимание ближе к контексту рассматриваемого Притч 25:1 – תמא ירבד רשי בותכו ץפחי רבד אצמל תלהק שקב (πολλὰ ἐζήτησεν ἐκκλησιαστὴς τοῦ εὑρεῖν λόγους θελήματος καὶ γεγραμμένον εὐθύτητος, λόγους ἀληθείας). Относится ли это к Соломону или к Екклесиасту как идеальному образу религиозного учителя, не важно, так как в любом случае санкционирует собирание как одну из форм создания священного текста.
И в действительности, Септуагинта в главах 24–31 значительно расходится с традиционным евр. текстом по композиции. Й. Кук объясняет это целенаправленной деятельностью переводчика, склонного к тематической гармонизации материала (Cook J. To the Reader of Proverbs // A New English Translation of the Septuagint. P. 623). Однако не исключено, что уже в древности существовало несколько разных редакций оригинала, как в случае с книгой пророка Иеремии.
Последняя особенность, впрочем, связана с наличием оригинала, не совпадающего с МТ; реконструкции см. в подстрочнике Biblia Hebraica Stuttgartensia; ср. филологический коммент. П. де Лагарда.
Десницкий А. Септуагинта как художественный перевод // Библия: литературоведческие и лингвистические исследования. Вып. 3. С. 157–186.
Garrett D. Proverbs: History of Interpretation // Dictionary of the Old Testament. T. 3. Wisdom, Poetry & Writings. Downers Grove, 2008. P. 567.
Одноуровневая, чисто филологическая классификация дана в книге Clifford R.J. Proverbs: A Commentary. Louisville, 1999. P. 29.
В отличие от пословицы – простой народной метафоры, Аристотель объясняет параболу как аналитическое сравнение, метод которого восходит к Сократу (Риторика 1393b4).
См. 1Цар 24:14.
Ср. современный РБО: «Любовь друга – на все времена, и брат рожден, чтобы с братом беду разделить».
Толковник достигает своей цели, вводя выражение χρήσιμοι ἔστωσαν {да будут полезны} для более полной передачи обладающего богатой семантикой предлога -ל, и давая развернутый литературный перевод конца фразы вместо букв.. Императив «да будет» (ὑπαρχέτω) на месте «любит» (בהא), возможно, восходит к др. ред. оригинала. Мн.ч. «братья» вместо ед.ч. «брат» евр. текста, по всей видимости, есть интерпретация: друг как самый близкий человек противопоставляется «родственникам» вообще. Здесь, как и в Премудрости Сираха, можно видеть развитие учения о дружбе. В канонических книгах Библии тема дружбы так широко не осмыслялась, хотя история Давида и Ионафана представляет глубокий психологический портрет феномена дружбы.
Iustis prior est accusator sui, venit amicus eius et investigavit eum. В Пешитте приходит «товарищ» (
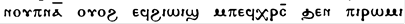
).
Der Gerechte ist seiner Sache zuvor gewiß; kommt sein Nächster, so findet er ihn also.
Для получения такого результата толковник меняет порядок слов, литературно переводит словосочетание «первый в тяжбе его» (ובירב ןשארה) – «обвинитель в начале речи», вводит конструкцию ὡς δ᾽ ἂν для контрастного перехода между двумя частями притчи, переводит слово ורקה {букв, проникает его} в пассивном залоге без местоимения.
Подчеркиванием в тексте русск. пер. выделяются комментаторские ремарки.
Cook J. To the Reader of Proverbs. P. 622.
Как представляется, δικαιοσύνη ἀκακία для переводчика – очень близкие понятия, различающиеся лишь акцентами (на правоте и невинности соответственно), для выражения которых он жертвует поэтическими преимуществами созвучия, имевшего место в оригинале.
При этом очевидно, что в евр. оригинале Септуагинты глагол «בוש» стоял в форме 3, а не 2 л.
См.: Cook J. The Septuagint of Proverbs: Jewish and/or Hellenistic Proverbs? P. 335.
Хиазм – литературный прием, «при котором ключевые слова-понятия выстроены в синонимичный, антитетический или обратный параллелизм вокруг центральной темы» (Брек Дж., прот. Хиазм в Священном Писании. С. 40).
Современные комментаторы насчитывают до 76 таких «doublets» и считают их следствием коррекции первоначально свободного пер. по евр. оригиналу, причем «в отличие от современных критиков текста переписчики тщательно копировали старые варианты вместе с новыми» (Clifford. Proverbs. P. 29). Почему такая скрупулезность проявлена предполагаемыми древними редакторами практически только в отношении книги Притчей, неясно, однако нельзя отрицать несомненного педагогического эффекта от повторения одной мысли «на разные лады».
Сходным образом на двух значениях слова תמא («истина» и «верность») построена вариация Притч 14:22.
Albright W.F. New Light on Early Recensions of the Hebrew Bible // Qumran and the History of the Biblical Text. Cambridge, 1975. P. 142.
Таубершмидт исходит из концепции «динамического параллелизма» (Дж. Кугель, Р. Альтер, А. Берлин), т.е. усматривает функцию известного приема евр. поэзии не только в симметрии формы, но и в развитии содержания. «Переводчик Притчей LXX... воспринял динамический параллелизм еврейского оригинала так, чтобы самому создавать стихи, более подходящие по смыслу и грамматически» (Tauberschmidt G. Considerations for Old Testament Translation // Journal of Translation. 2005. Vol. 1. № 1. P. 69). См. тж.: Idem. Secondary Parallelism: A Study of Translation Technique in LXX Proverbs. Leiden, 2004.248 p. Об «учебном стихотворении» (Lehrgedicht) как одном из притчевых жанров см.: Schmidt J. Studien zur Stilistik der alttestamentlichen Spruchliteratur. Miinster in Westfalen, 1936. S. 31–33.
Строго говоря, мы не можем быть уверены в том, что эти прибавления не были сделаны еще собирателями притчей на языке оригинала. Так, они наличествуют и в Пешитте, где не выглядят буквальным переводом с греческого текста. (Например, «птицы летающие» переданы как «птицы небесные», «собирает руками бесплодие» – как «собирает ничтожество»). Но в этом случае встает вопрос о том, почему их нет в редакции масоретов. Ввиду таргумического происхождения Притчей Pesh (см.: Brock. The Bible in the Syriac Tradition. P. 27) можно предположить, что местами они воспроизводят общую комментаторскую традицию с LXX.
Э. Тов приводит этот стих (17:16а) в качестве примера многочисленных «внутри-переводных прибавлений», список которых см.: Tov E. The Greek and Hebrew Bible: Collected Essays on the Septuagint. P. 423. В то же время в целом порядок ст. в этой гл. он считает признаком др. ред. оригинала (Ibid. P. 428), причем едва ли позднейшей, чем масоретская. Он отмечает: «...порядок большинства высказываний в подобных главах свободен, и, поскольку каждое более или менее независимо, можно предположить за их расстановкой две разные издательские традиции» (Ibid. P. 427). Такое предположение не противоречит парадигме нашего взгляда на Притчи как дидактический текст, что можно было бы распространить и на деятельность евр. учителей, «притчесловивших Соломона» (4 Макк 18:16) своим детям на родном языке; однако нужно заметить, что сама эта неустойчивость порядка фраз пока что нам известна именно из LXX, в то время как сохранившаяся гл. 15 из Кумрана (4QProvb) поддерживает МТ.
Cook J. The Septuagint of Proverbs. P. 327; Dick M.B. The Ethics of the Old Greek Book of Proverbs // The Studia Philonica Annual. Vol. II. Atlanta, 1990. P. 20–50.
Кирсберг. Феноменология жизни: Ветхий Завет и первые христиане. С. 21.
Idem. Ptolemy Philadelfus and Jewish Writing: Aristobulus and Pseudo-Aristeas as Examples of Alexandrian Jewish Approaches // Ptolemy II Philadelphia and his World. Leiden, 2008. P. 205; Nickelsburg G. Ancient Judaism and Christian Origins: Diversity, Continuity, and Transformation. Minneapolis, 2003. P. 152.
Кирсберг. Феноменология жизни: Ветхий Завет и первые христиане. С. 21.


