5. Александр Сергеевич Грибоедов
В комедии «Горе от ума» (1824) трудно усмотреть какую-либо религиозную проблематику. Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829) — скорее рационалист, склоняющийся к просветительским идеалам, нежели художник, осмысляющий христианские вопросы. Когда в комедии вспоминается христианское чувство, это звучит скорее как лицемерие (в реплике Хлёстовой, например: «А Чацкого мне жаль. По-христиански так, он жалости достоин»).
Но ведь и отрицательный опыт — тоже опыт. Отсутствие чего-то важного всегда показательно, и весьма. Грибоедов вывел современное ему общество, как он его увидел и понял, а в отсутствии художественной зоркости и способности к пониманию ему не откажешь. Что же до односторонности изображения, в которой обвиняли автора некоторые современники (князь Вяземский, например) — как её избежать? Всякое литературное произведение и односторонне по-своему, и субъективно, пусть даже широта охвата жизни и предельная объективность становятся главной целью автора.
Каждое время старается разглядеть в произведении искусства собственные заботы и печали — истина старая. Но злоба дня, того дня, когда произведение внове является перед читателем, зрителем, слушателем, может отвлечь внимание от важнейшего, вневременного, с прошествием же времени высвобождается более важное, сущностное для всех времён, о чём и сам автор мог порою не подозревать и чего не прозревать в собственном создании — парадокс искусства.
Ныне мы можем выделить для себя важнейшую мысль, проступающую сквозь все коллизии бессмертной комедии Грибоедова: мысль о тщете, суетности стремления к сокровищам на земле, жалкости его. Ставил ли перед собой такую цель сам автор — сказать не берёмся.
О «Горе от ума» давно сложилось мнение как о своего рода декларации дворянской революционности. Но что нам теперь до неё? Да и революционность-то в комедии весьма сомнительна: Чацкий ведь ничего особенно радикального не предлагает. Откуда взялось мнение? А прежде всего из слов Фамусова. Знаменательный диалог между ними происходит: Чацкий говорит вещи довольно умеренные, Фамусов комментирует, если непредвзято судить, слишком несоответственно.
Чацкий
Нет, нынче свет уж не таков.
Вольнее всякий дышит
И не торопится вписаться в полк шутов.
У покровителей зевать на потолок,
Явиться помолчать, пошаркать, пообедать,
Подставить стул, поднять платок
Кто путешествует, в деревне кто живёт.
Кто служит делу, а не лицам.
Фамусов
Ах! Боже мой! он карбонари!
Опасный человек!
Он вольность хочет проповедать!
Да он властей не признаёт!
Строжайше б запретил я этим господам
На выстрел подъезжать к столицам.
Терпенья, мочи нет, досадно.
Тебя уж упекут
Под суд, как пить дадут.
Почему за добросовестную службу — под суд?
Чтобы понять человека, социальную группу, общество — нужно прежде всего попытаться выяснить, выявить систему основных жизненных ценностей, которыми они живут, ради которых живут. Что является идеалом тех людей, которых мы традиционно называем «фамусовским обществом»? Отвечая на этот вопрос, не нужно упускать из виду, что перед нами не абстрактное общество, объединённое местом жительства, и не просто дворянское общество, как социально определяют этих людей чаще всего, но — чиновничество. И они в своих стремлениях едины со всеми чиновниками всех времён и народов, если угодно. Понять и чиновников наших дней можно очень легко, если всмотреться в «фамусовское общество».
Что определяет их существование? Хоть раз кто-то из них заикнулся ли о духовных потребностях, о религиозных исканиях, о мучительных раздумьях над вечными вопросами бытия? Смешно и требовать такое. Они — стихийные материалисты. Молчалин точно сформулировал вожделенную цель всеобщую: «и награжденья брать и весело пожить».
Табель о рангах — альфа и омега всей их житейской философии. Скалозуб пресерьёзно о том поведал:
Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы;
Об них как истинный философ я сужу,
Мне только бы досталось в генералы.
Они настолько сжились с этим, срослись, что ко всему прилагают табельную градацию: когда Фамусову потребовалось превознести умы московских старичков, он точно определяет их по чину, вознося на самую верхнюю ступеньку: «прямые канцлеры в отставке — по уму!»
Фамусовцы демонстрируют ущербное раздробленное сознание: из всего многообразия жизни они сумели высмотреть лишь частность, но возвели ее в абсолют. В табели о рангах — все критерии их мышления. В том числе — критерий оценки человека.
Чем хорош Скалозуб для Фамусова?
Известный человек, солидный,
И знаков тьму отличья нахватал,
Не по летам и чин завидный,
Не нынче-завтра генерал.
Чем привлекает всех Татьяна Юрьевна?
Чиновные и должностные —
Все ей друзья и все родные…
Почему Кузьма Петрович — образец для подражания?
Но память по себе намерен кто оставить
Житьём похвальным, вот пример:
Покойник был почтенный камергер,
С ключом, и сыну ключ умел доставить,
Богат и на богатой был женат…
Максим Петрович вообще держал в руках источник всех благ:
В чины выводит кто и пенсии дает?
Максим Петрович. Да.
Чем облагодетельствовал Фамусов Молчалина?
Дал чин асессора и взял в секретари…
Если нужно что-то узнать о человеке — что главное?
Ты обер или штаб?
Почему Молчалин считает себя вправе свысока взглянуть на Чацкого?
Вам не дались чины, по службе неуспех?
Разумеется и состояние при том важно, иначе же не поживёшь весело. Скалозуб не только чином вышел, но и «золотой мешок». Внутренние душевные качества? Что за вздор!
Будь плохенький, да если наберётся
Душ тысячки две родовых —
Тот и жених.
А у того же Чацкого — то ли триста, то ли четыреста, да ещё без достойного чина, оттого и получает заслуженную отповедь:
…не блажи,
Именьем, брат, не управляй оплошно,
А главное, поди-тка послужи.
Репетилов же весьма здравомысленно определяет причину жизненного неуспеха:
Приданого взял — шиш, по службе — ничего.
На том и вся система взаимодействий между людьми строится:
Кому нужда — тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесть как кружево плели.
Отсюда проистекает и совершенно извращенная реакция даже на трагические жизненные ситуации:
Довольно счастлив я в товарищах моих,
Вакансии как раз открыты,
То старших выключат иных,
Другие, смотришь, перебиты.
Да что к другим — они и себя точно так же оценивают, определяют свое место точнёхонько по той же табели о рангах:
В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь…
Ведь надобно ж зависеть от других…
В чинах мы не больших.
Самоуважения — ни на грош.
А раз так — полное раболепие перед вышестоящими. Говорить с такими о человеческом достоинстве — всё равно что растолковывать глухому от рождения свойства симфонической музыки. Фамусов почти со сладострастием повествует об унизительном шутовстве дядюшки Максима Петровича, да ещё в пример ставит
Учились бы, на старших глядя.
О Молчалине и говорить нечего:
Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья… и т.д.
При взгляде же сверху вниз — всегда самоуверенное презрение. Уже в наше время это сформулировано точно: я начальник, ты дурак. Вглядеться — это правило действует и в фамусовском обществе. А уж к тем, кто в самом низу сословной лестницы, — часто нежелание признавать самые обычные человеческие чувства: обличительные монологи Чацкого достаточно красноречивы в этом отношении.
Из всей этой системы логически же вытекает формализм в исполнении служебного долга: требовать добросовестности от таких людей нелепо, сия добродетель не входит в число их жизненных ценностей, поскольку не укладывается в ту сакраментальную фразу касательно награждений и весёлой жизни. Жить-то они умеют, живут вкусно, соблазнительно, хотя и не без своих жизненных каверз. А дела?
Боюсь, сударь, я одного смертельно,
Чтоб множество не накоплялось их…
А у меня что дело, что не дело,
Обычай мой такой:
Подписано, так с плеч долой.
Раз не требуется деловых качеств (дела можно свалить на низших) — верх берёт другое важное «достоинство»: родственная связь. Кумовство цветёт, и весьма:
При мне служащие чужие очень редки,
Все больше сестрины, свояченицы детки…
Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!..
Как известно, фамусовское общество насквозь консервативно, боится всяческих перемен, всего нового.
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма…
Вообще-то в консерватизме ничего дурного нет, часто он вполне оправдан. Важно: что он хочет сохранить и что понимается под новым, которое он не приемлет. У фамусовцев всё вполне определённо:
Но крепко набрался каких-то новых правил.
Чин следовал ему: он службу вдруг оставил,
В деревне книги стал читать.
Фамусовский консерватизм отвергает покушение на святая святых — на табель о рангах. При установлении новых отношений она уже не будет являться мерой всему — и это страшнее всего! Ради её вседневного торжества и утверждается весь этот консерватизм.
Что может противоречить такому торжеству этого специфического сокровища на земле (в ограниченном чиновничьем понимании)? По истине если — только духовные ценности. Но эти люди не имеют о том никакого понятия, да и заражены духом времени, а поэтому усматривают опасность в том, что подбрасывает им время: в просвещении.
Ученье — вот чума, учёность — вот причина,
Что нынче, пуще, чем когда,
Безумных развелось людей, и дел, и мнений.
Курьёз в том, что по-своему абсолютизирует влияние просвещения обскурант Фамусов, не догадывающийся, что и эту напасть можно укротить и подчинить всесилию табели о рангах. Поэтому он и делает из мухи слона: у страха глаза велики.
Страх же всегда апеллирует к насилию. И идеал полицейского насилия и казармы в среде чиновничества неистребим:
Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Вольтеры дам,
Он в три шеренги вас построит,
А пикните, так мигом успокоит.
Нужно что-то за душой иметь, чтобы противопоставить тому же Вольтеру. Идеи замещаются в умах идеями же. Но где их взять?
А поскольку своего-то ничего нет, они вынуждены раболепствовать перед всем чужеродным. Поэтому и «господствует смешенье языков: французского с нижегородским». Поэтому «французик из Бордо» будет иметь успех у подобной публики — во все времена. Хотя кое-кто не прочь порою поворчать на «Кузнецкий мост» и «вечных французов», но и у них «дверь отперта для званых и незванных, особенно из иностранных».
И поскольку нет ничего своего за душою истинного, поскольку лишь видимость внешняя важна, они всегда будут дрожать: как они выглядят со стороны — они всегда будут пуще всего страшиться чужого мнения:
Ах! Боже мой! что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна!
Они в полном рабстве у молвы, они живут в мире слухов, сплетен, недоговоров — и не в силах им противиться: вспомним, как устыдился Репетилов, не поверивший было в сумасшествие Чацкого:
Простите, я не знал,
что это слишком гласно.
Поработиться молве — значит обратить ее и против себя, и нет ничего ужаснее:
…злые языки страшнее пистолета.
И вот тут-то, можно утверждать, проступает, наконец, главная опасность всей этой системы жизненных ценностей, ибо она с неотвратимостью подводит человека к неосознанно гибельному убеждению. Проговорилась Лиза:
Грех не беда, молва нехороша.
В «Горе от ума» отображен отрицательный религиозный опыт — хотя творческое внимание Грибоедова лишь скользнуло мимо этой важной проблемы. Но ничто не мешает нам попристальней разглядеть её, поскольку повод имеется.
Грибоедов же устремляет внимание на иное, обозначив это иное весьма определённо в названии комедии. Вначале, правда, он сформулировал иначе: «Горе уму», определяя тем противоположный вектор направленности отрицательных начал. Если «горе уму», то опасность идет извне, ум становится объектом внешнего воздействия. Если же «горе от ума», то опасность действует изнутри, ум как бы сам её генерирует, порождает, производит, он становится своего рода субъектом действия.
В чём «горе» Чацкого? В роковом несоответствии системы его жизненных ценностей тем, с которыми он сталкивается в доме Фамусова. Он оказывается в той же ситуации, в какой примерно в то же время ощутила себя пушкинская героиня:
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
И он — один. И его — не понимают. И у него — изнемогает рассудок. И для него здесь гибель, горе, «мильон терзаний». А внутренняя причина — в нём самом. Ибо горе — от его ума. Точнее: от своеобразия его ума.
Потому что и противники его умны, весьма умны, поистине — прямые канцлеры по уму. Или хотя бы тайные советники. И он — по их неопровержимой логике — истинно безумен.
Грибоедов, хотел он того или нет, раскрыл роковое противоречие и бессилие, заложенное в основе человеческого разума. Что есть ум? Не способность ли, прежде всего, ясно сознавать смысл своего бытия, систему его ценностей, а также нахождение лучших способов их достижения? Ум сознаёт, но не создаёт. Он вспомогательный инструмент: необходимый, Богом дарованный, но и способный увлечь человека на гибельный путь, если горделиво замкнётся в себе, оторвавшись от духовной основы тварного бытия. Бессилие ума в том, что без такой основы он не способен выработать собственный абсолютный критерий истины, обречён на признание равнозначности пусть и противоречивых между собой идей.
Умны ли Фамусов, Скалозуб, Молчалин? В высшей степени. Они прекрасно сознают свои цели и столь же точно выявляют для себя способы их достижения. Их суждения о безумии Чацкого логически безукоризненны с точки зрения их собственной системы ценностей. Прав, например, Молчалин, и безусловно, когда приводит свой аргумент, утверждая сумасшествие своего оппонента:
Мне отсоветовал
в Москве служить в Архивах.
Но если не служить — как же брать награжденья и жить весело? То же можно сказать о доводах всех прочих. У них свой критерий истины, и для них несомненный. И истина их поверяется практикой:
Молчалины блаженствуют на свете.
Что тут возразить?
Чацкий, следует заметить, характеризуется в комедии в основном «апофатически»: на системе отрицаний. Он не такой, как все фамусовцы, он отвергает то, что они утверждают.
Одним ударом Чацкий опрокидывает всё здание общественного фамусовского благополучия, столь любовно всеми возведённое: он выбивает из-под него основную опору:
Чины людьми даются,
А люди могут обмануться.
Вот, собственно, и вся его революционность — остальное вытекает отсюда столь же логически безупречно, как и в противоположной системе ценностей. Но для чиновников ничего и страшнее нет.
Чацкий вовсе не против службы: «служить бы рад». Он не хочет унижаться ради чинов, поскольку они для него не имеют ценности, ему «прислуживаться тошно». Он не хочет оттого отказываться от собственного мнения, угождая высшему чину:
Помилуйте, мы с вами не ребяты,
Зачем же мнения чужие столько святы?
Татьяну Юрьевну со всеми ее чиновными связями он может обозвать «вздорною», ничуть не смущаясь. В пух и прах разносит он крепостников, о народе же отзывается с истинным уважением:
…Умный, бодрый наш народ…
Несерьёзного отношения к делу Чацкий не терпит:
Когда в делах — я от веселий прячусь
Когда дурачиться — дурачусь,
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.
Он презирает молву и не опасается того, что станет говорить та же Татьяна Юрьевна, пренебрежительно роняя: «Ей почему забота?» Но он прекрасно сознаёт, сколь страшатся обличающего слова его противники идейные:
Хоть есть охотники поподличать везде,
Да нынче смех страшит и держит стыд в узде
Новые правила ему по душе. Как по душе и «ум, алчущий познаний», как преданность науке.
Он отстаивает и национальную самобытность русского народа.
Он безумен для всех. Но и для него:
…из огня тот выйдет невредим,
Кто с вами день побыть успеет,
Подышит воздухом одним
И в нём рассудок уцелеет.
Чацкий и Фамусов никогда не смогут «договориться», придти к согласию: для этого кто-то должен полностью отказаться от своих взглядов (половинчатость тут не годится) — а это неосуществимо на рациональном уровне. Горе — от бессилия ума что-либо изменить в этом мире. Одной логике всегда будет противостоять другая. Какая истинна?
Опровергая фамусовскую систему, Чацкий апеллирует, по сути, к доводам нравственным. Тут уже не ум, а совесть вступает в права. Однако нигде у Чацкого мы не встретим апелляцию к высшему духовному началу, к Богу. Чацкий — типичный гуманист. А чтобы выработать абсолютно значимый критерий истины, нужно выйти за рамки противоборствующих ценностных систем, как они представлены персонажами комедии. Сделать это очень просто: отвергнуть абсолютизацию сокровищ на земле, но то уровень духовный. На том же поле сражения, какое избрали для себя Чацкий и Фамусов, проблема неразрешима.
Каждый останется при своём, и каждый прав по-своему. И каждый будет считать себя умнее другого.
Горе — именно от ума.
В завершение проследим одну частную проблему. Грибоедов, как и почти одновременно Пушкин, отобразил уже названную ранее особенность культуры просвещённой части общества: подражание литературным образцам в попытке достижения личного счастья. Речь идет о Софье, о мотивах её поведения. Её приверженность литературным стереотипам выявляется недвусмысленно: лишь зашла речь о Скалозубе, как Софья тут же обнаруживает себя: «не моего романа». Читает же она, как и Татьяна Ларина, сентиментальные романы — а и что ей ещё читать? «Ей сна нет от французских книг» — это прежде всего роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Перенеся на свою жизнь романную ситуацию, Софья не может не обнаружить разительного сходства: богатая знатная девушка любит бедного и неродовитого молодого человека, но между ними сословная и имущественная пропасть, а родители настаивают на браке с нелюбимым, но равным по положению человеком, что становится причиной жизненных страданий героини и завершается её смертью.
Софья хочет того же, что и все: счастья. Но представление о нём не совпадает с системами ценностей ни Фамусова ни Чацкого. В жизни, точно как в романе, она слышит:
Кто беден, тот тебе не пара.
Роман подсказывает ей: в этом источник будущих бед. Она борется, как может, за свое счастье, противится отцу и Чацкому.
Молчалина она любит за то, что он прекрасно вписывается в схему, да и ведет себя в точном соответствии со знакомым шаблоном:
Возьмет он руку, к сердцу жмёт,
Из глубины души вздохнёт,
Ни слова вольного, и так вся ночь проходит,
Рука с рукой, и глаз с меня не сводит.
Притворяется, подлец, но у девушки ещё слишком невелик жизненный опыт, чтобы то распознать.
Чацкий же ведет себя как романный злодей: над всеми насмехается, всех ругает, иронизирует — «не человек! змея!». Должно признать, что вне собственной системы Чацкий не умён — будь то по критериям закоренелого чиновника, либо по шаблонам сентиментальной барышни. Молчалин демонстрирует куда большую гибкость ума, умея приноровиться к чужим стереотипам, хоть и скучает смертельно.
Софья пускает слух о безумии Чацкого вовсе не ради его «прогрессивности» — передовые взгляды ей безразличны. Он истинно без-умен и по её логике. Ум и здесь обнаруживает свою ограниченность.
Чацкий бессилен. Горе его — от этой имманентной ограниченности ума.
Художественное исследование Грибоедова откровенно обнаружило (хотел того автор или нет), что абсолютизация принципа государственности, которая установилась в петровскую эпоху и усугубилась в екатерининскую, не может обернуться ничем иным, кроме стремления к абсурду абсолютно бюрократизированной жизни, при тайном и явном тяготении к полицейской деспотии, — поскольку в бездуховном пространстве государство просто обречено на это.
Превознесённый же разум, даже когда он готов воззвать к совести, опереться на нравственные критерии, в том же бездуховном пространстве явит собственную ограниченность и будет страдать от бессилия что-либо изменить в этом мире.
Просветительский разум отказался понять и принять, что пороки, заложенные в натуре человеческой гораздо глубже, чем он о том подозревает, станут лишь видоизменяться, приноравливаться к изменяющимся, пусть даже и с благой целью, внешним обстоятельствам.
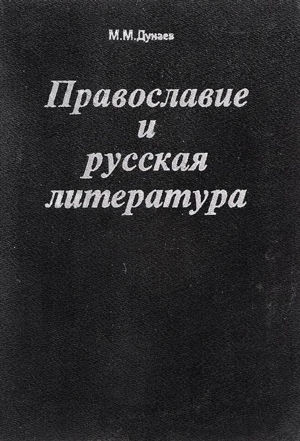
Комментировать