Оглавление
Предисловие
Художник – человек, создающий прекрасное. Цель искусства состоит в том, чтобы показать себя и спрятать художника. Критик – человек, который может по-новому отразить свои впечатления от прекрасного. Высшей и в то же время самой бездарной формой критики является автобиография. Люди, которые находят отвратительные черты в прекрасном, испорчены. У них самих не осталось ничего прекрасного. И это ошибка.
Те, кто видит в прекрасном только прекрасное, – избранные. Для них еще остается надежда. Они одни из немногих, для кого прекрасные вещи означают красоту.
Нет моральных или аморальных книг. Есть хорошо написанные книги, а есть плохо написанные книги. Вот и все.
В девятнадцатом столетии людям не нравится реализм: он делает их злыми, как Калибан[1], когда тот в зеркале видит свое лицо.
Нравственная жизнь человека – это часть работы художника, однако мораль искусства заключается в совершенном использовании несовершенных средств. Художник не стремится ничего доказывать. Даже то, что истинно может быть доказано. У художника не может быть этических пристрастий. Они приводят к недопустимой манерности стиля. Художник не воспринимает вещи болезненно. Он способен выразить все что угодно. Мысль и слово для художника – рабочий материал. Порок и добродетель для художника – рабочий материал. С точки зрения формы музыка становится прототипом всех искусств. С точки зрения чувств им становится актерская игра. Любое искусство одновременно лежит на поверхности и таит в себе символ. Те, кто пытаются углубиться в него, рискуют. Те, кто раскрывают символ, рискуют не менее. На самом деле искусство отражает зрителя, а не жизнь. Если произведение искусства вызывает разные мнения, это значит, что это произведение новое, сложное и нужное. Если критики расходятся во мнениях, то художник остался верен самому себе. Мы терпим человека, который сделал что-то полезное, пока он не начинает этим увлекаться. Единственным оправданием создания бесполезной вещи может стать страстная любовь к своему творению.
Искусство, по сути, бесполезно.
Оскар Уайльд
Глава 1
Мастерскую художника наполнял чудесный запах роз, а когда легкий летний ветерок проникал через открытые двери, он приносил с собой из сада то насыщенный аромат сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника. Лорд Генри Уоттон, по своему обыкновению, лежал на персидском диване и курил сигареты одну за другой. Отсюда он мог поймать взглядом блики солнца на золотисто-медовом цвете ивняка, хрупкие ветви которого едва держали на себе такую красоту; на шелковых портьерах, что закрывали огромное окно, время от времени появлялись странные тени птиц, которые пролетали мимо. Возникало впечатление, что портьеры японские. Это заставляло его задуматься о несчастных художниках Токио, которые пытаются средствами неизменно неподвижного искусства воспроизвести движение и скорость. Густое монотонное гудение пчел, которые пробивали себе путь сквозь некошеную траву или просто настойчиво кружили вокруг цветов в саду, делало тишину невыносимой. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа.
В центре комнаты, закрепленный на вертикальном мольберте, стоял портрет невероятно красивого юноши в полный рост, а перед ним, немного поодаль, сидел автор картины, Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад вызвало в свое время такой ажиотаж и породило столько странных домыслов.
Художник смотрел на то, как удачно он сумел отразить красоту и грацию в своем творении, довольная улыбка не оставляла его лица. И вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.
– Это твоя лучшая картина, Бэзил, лучшее из того, что ты когда-либо делал, – небрежно пробормотал лорд Генри. – Ты просто обязан выставить ее в галерее Гросвенор в следующем году. Академия искусств великовата и слишком банальна. Когда бы я туда не пришел, там или так много людей, что я не в состоянии посмотреть на картины, что просто ужасно, или так много картин, что мне некогда смотреть на людей, а это еще хуже. Так что Гросвенор – это единственное подходящее место.
– Не думаю, что выставлю ее где-либо, – ответил художник, странным движением откидывая голову назад, из-за чего друзья в Оксфорде смеялись над ним. – Я не буду ее нигде выставлять.
Лорд Генри поднял брови и в изумлении посмотрел на него сквозь тонкие голубые кольца дыма, причудливо вьющиеся от его пропитанной опиумом сигареты.
– Нигде не выставлять? Мой дорогой друг, почему? У тебя есть на это какие-то причины? Какие же вы, художники, все же чудаки. Вы идете на все, чтобы завоевать репутацию. А заработав ее, делаете все, чтобы от нее избавиться. Ты делаешь глупость, ведь хуже, чем когда о тебе говорят, бывает только тогда, когда о тебе не говорят. Этот портрет возвысил бы тебя над всеми молодыми художниками Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще способны испытывать какие-либо чувства.
– Я знаю, тебе это покажется смешным, – ответил он, – но я действительно не могу выставлять его. Я вложил в него слишком большую часть себя.
Лорд Генри вытянулся на диване и захохотал.
– Слишком большую часть себя? Честное слово, Бэзил, зря ты так говоришь: я действительно не могу найти ничего общего между твоим грубым, сильным лицом, твоими черными как смоль кудрявыми волосами и этим юным Адонисом, который, кажется, изваян из слоновой кости и лепестков роз. Действительно, дорогой Бэзил, он же Нарцисс, а ты – нет, ну у тебя, конечно, умное выражение лица и тому подобное. Но красота, подлинная красота заканчивается там, где начинается интеллектуальность. Интеллект сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начинает мыслить, его лицо превращается в сплошной нос, сплошной лоб или еще какой-то ужас. Посмотри на людей, достигших успеха в умственной работе. Ну они же абсолютно гадкие! Единственное исключение – это, конечно, церковь. Но в церкви им не надо думать. Епископ в восемьдесят лет говорит то же самое, что ему велели говорить, когда он был восемнадцатилетним юнцом, и поэтому вполне естественно, что он прекрасно выглядит. Твой таинственный молодой друг, имя которого ты никогда не называл мне, но чей портрет меня так завораживает, никогда не думает. Я полностью в этом уверен. Он – волшебное безмозглое создание, которое следует иметь при себе зимой, когда нет цветов, чтобы порадовать глаз, и летом, когда нужно что-то, чтобы расслабить ум. Не льсти себе, Бэзил: ты на него ничуть не похож.
– Ты не понимаешь меня, Гарри, – ответил художник. – Конечно, я на него не похож. Я это прекрасно знаю. На самом деле я бы и не хотел быть похожим на него. Ты пожимаешь плечами? Я говорю серьезно. Людей, которые так отличаются физически или умственно, преследуют несчастья, именно те несчастья, которые на протяжении всей истории ставят королей на колени. Лучше не отличаться от других. Дураки и уроды живут лучше всех. Они могут спокойно сидеть сложа руки. Они не знают вкуса побед, но и поражений никогда не испытают. Они живут так, как следовало бы жить нам всем: их ничто не беспокоит, они нейтральны, и главное – в их жизни нет тревог. Они не разрушают чужие жизни и не получают зла в ответ. Твой статус и богатство, Гарри, мой ум, каким бы он ни был, мои картины, чего бы они ни стоили, красота Дориана Грея – за все, что подарил нам Господь, нам придется страдать, очень сильно страдать.
– Дориан Грей? Так вот как его зовут… – переспросил лорд Генри, подойдя к Бэзилу Холлуорду.
– Да, это его имя. Я не хотел тебе говорить.
– Но почему?
– Не знаю, как это объяснить. Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать часть его самого. Со временем я полюбил таинственность. Кажется, это единственное, что может сделать современную жизнь увлекательной и загадочной. Обыкновенная безделица приобретает удивительные черты, стоит только скрыть ее. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда я направляюсь. Если бы признавался, я потерял бы всякое удовольствие. Это глупая привычка, смею заметить, но почему-то это приносит много романтики в жизнь. Ты, наверное, считаешь меня полным дураком из-за этого, не так ли?
– Нисколько, – ответил лорд Генри, – нисколько, дорогой Бэзил. Ты, кажется, забыл, что я женат, а одна из прелестей семейной жизни заключается в том, что она делает обман необходимым для обоих. Я не знаю, где моя жена, и моя жена никогда не знает, что я делаю. Когда мы встречаемся, а это приходится делать время от времени, чтобы вместе пообедать или посетить герцога, мы рассказываем друг другу всякие небылицы с самым серьезным видом. Моя жена преуспела, это у нее получается намного лучше, чем у меня. Она никогда не путается в своих рассказах, а вот со мной такое случается всегда. Однако, когда она выводит меня на чистую воду, то не устраивает ссор. Иногда мне даже хотелось бы этого, но она просто смеется надо мной.
– Я не люблю, когда ты так говоришь о супружеской жизни, Гарри, – сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. – Я считаю, что ты замечательный муж, но почему-то упорно стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек. Ты никогда не говоришь ничего нравственного и никогда не делаешь ничего безнравственного. Весь твой цинизм – это просто игра на публику.
– Быть естественным – это бездарная игра на публику, и самая раздражающая, – воскликнул лорд Генри со смехом, и двое молодых людей вышли в сад и устроились на длинной бамбуковой скамье, которая стояла в тени высокого лаврового куста. Солнце скрывалось за гладкими листьями. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.
Помолчав, лорд Генри посмотрел на часы.
– Боюсь, мне пора идти, Бэзил, – пробормотал он, – но перед тем как я уйду, ты должен ответить на мой вопрос.
– Какой именно? – спросил художник, не поднимая глаз от земли.
– Ты знаешь, о чем я.
– Не думаю, Гарри.
– Что ж, я повторюсь. Я хочу, чтобы ты объяснил, почему не собираешься выставлять портрет Дориана Грея. Я хочу знать правду.
– Я уже назвал тебе настоящую причину.
– Нет, ты сказал, что вложил в портрет слишком большую часть себя. Но это же несерьезно.
– Гарри, – сказал Бэзил Холлуорд, глядя ему прямо в лицо, – любой портрет, написанный с чувством, – это портрет художника, а не натурщика. Натурщик – это лишь случайность. Это не тот, кто изображен художником; скорее, художник отражает на холсте самого себя. Я не буду выставлять эту картину, потому что боюсь, что показал в ней тайну своей души.
– И что же это за тайна? – расхохотался лорд Генри.
– Я расскажу, – смущенно ответил Холлуорд.
– Я весь внимание, Бэзил, – продолжил его собеседник, не сводя с него глаз.
– На самом деле здесь нечего долго рассказывать, – ответил художник, – боюсь, ты вряд ли поймешь меня. Вполне возможно, даже не поверишь.
Лорд Генри улыбнулся, наклонился, чтобы сорвать маргаритку с розовыми лепестками, и начал рассматривать ее.
– Я вполне уверен, что смогу это понять, – ответил он, внимательно глядя на маленький золотистый с белой опушкой пестик. – А что касается веры, то я могу поверить во что угодно, при условии, что это невероятно.
Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев, и звездочки цвета сирени наконец встревожили застывший воздух. У стены застрекотал кузнечик, и, как длинная тонкая голубая нить, мимо проплыла стрекоза на прозрачных коричневых крылышках. Казалось, лорд Генри слышит, как бьется сердце Бэзила, и он спросил, что же было дальше.
– История простая, – сказал художник через несколько минут. – Два месяца назад мне пришлось посетить прием у леди Брэндон. Ты же знаешь, нам, бедным художникам, приходится время от времени показываться в свете, просто чтобы напомнить общественности о том, что мы не дикари. Я был во фраке и белом галстуке, которые, как ты когда-то мне говорил, могут даже биржевому брокеру придать вид приличного человека. После десяти минут разговоров со многими нарядными вдовами и скучными академиками я почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернувшись, я увидел Дориана Грея. Когда наши глаза встретились, я почувствовал, что бледнею. Какой-то необъяснимый ужас напал на меня. Я знал, что мне пришлось столкнуться лицом к лицу с тем, чья личность была настолько увлекательной, что если я поддамся его обаянию, то он поглотит всю мою сущность, всю мою душу и даже мое искусство. Я не хотел никаких посторонних влияний на свою жизнь. Ты же знаешь, Гарри, насколько у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин, по крайней мере, пока не встретил Дориана Грея. Затем… не знаю, как это объяснить. Мне показалось, что я нахожусь на грани ужасного кризиса в моей жизни. У меня было странное ощущение, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Я испугался и отвернулся, чтобы уйти из комнаты. Не совесть заставила меня поступить так, это была своего рода трусость. Я осуждаю себя за попытку к бегству.
– Совесть – это то же самое, что и трусость, Бэзил. «Совесть» просто лучше звучит. Вот и все.
– Я в это не верю, Гарри. Я не думаю, что ты и сам веришь в это. В конце концов, какие бы мотивы не двигали мной в тот момент – а это могла быть и гордость, ведь я очень тщеславен, – я отправился к выходу. А там, конечно, я наткнулся на леди Брэндон. Она сразу закричала: «Мистер Холлуорд, не собираетесь ли вы сбежать так рано?» Ты же знаешь, какой у нее удивительно резкий голос?
– Да, она настоящий павлин во всем, кроме красоты, – согласился лорд Генри, нервно разрывая маргаритку своими длинными пальцами.
– Я не мог от нее избавиться. Она знакомила меня с королевскими особами, людьми со звездами и наградами и пожилыми дамами в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Она рассказывала обо мне как о своем лучшем друге. Мы встречались лишь однажды, но она решила сделать из меня знаменитость. Я думаю, что тогда какая-то из моих картин имела большой успех, во всяком случае, о ней болтали в дешевых газетах, что для девятнадцатого века является стандартом бессмертия. И вдруг я очутился лицом к лицу с молодым человеком, чей облик вызвал в моей душе столь странное волнение. Мы стояли очень близко, практически касались друг друга. Наши взгляды снова встретились. С моей стороны это было безрассудно, но я все же попросил леди Брэндон представить меня ему. В конце концов, возможно, это было не так уж и опрометчиво. Это было просто неизбежно. Мы поговорили бы и без официального знакомства. Я в этом уверен. Позже Дориан говорил мне то же самое. Он также почувствовал, что нам суждено познакомиться.
– А что же леди Брэндон рассказала тебе об этом очаровательном юноше? – спросил его собеседник. – Я знаю, что она любит рассказывать о своих гостях как можно подробнее. Помню, как однажды она подвела меня к мужчине в возрасте с угрюмым красным лицом (он был весь в лентах и орденах) и начала в трагической манере нашептывать мне на ухо наиболее пикантные детали о нем. Скорее всего, каждый в комнате прекрасно слышал, что она рассказывала. Я просто бежал. Я хочу искать для себя людей сам. А леди Брэндон относится к своим гостям так же, как аукционист обращается со своими товарами. Она или рассказывает о них абсолютно все, или рассказывает все, кроме того, что действительно хотелось бы услышать.
– Ты слишком строго относишься к бедной леди Брэндон, Гарри, – безразлично ответил Холлуорд.
– Дорогой мой, она хотела устроить у себя салон, а преуспела только в открытии ресторана. Как я могу восхищаться ею? Но скажи мне, что она говорила о Дориане Грее?
– Что-то вроде «прелестный мальчик… мы с его бедной матерью были неразлучны… Забыть то, что он делает… ничего не делает… ах да, играет на рояле или на скрипке, дорогой мистер Грей». Ни один из нас не мог сдержать смех, и мы сразу же стали друзьями.
– Смех – это далеко не худшее начало дружбы и точно лучшее ее окончание, – отметил юный лорд, сорвав еще одну маргаритку.
Холлуорд покачал головой.
– Ты не понимаешь, что такое дружба, Гарри, – пробормотал он, – или что такое вражда, а это важно. Ты такой же, как и все, то есть безразличный ко всем.
– Это ужасно несправедливо с твоей стороны! – возмутился лорд Генри, сдвинув шляпу на затылок и взглянув на мелкие облака, которые плыли в бирюзовой пустоте летнего неба, как мотки блестящего шелка. – Да, ужасно несправедливо. Я нахожу большую разницу между людьми. Я выбираю друзей за их внешность, знакомых – за хороший характер, а врагов – за ум. Человек не может быть слишком осторожным в выборе своих врагов. Среди моих, например, нет ни одного дурака. Все они люди мыслящие, и, следовательно, все меня оценят. Пожалуй, это слишком высокомерно с моей стороны. Я высокомерен, правда?
– Я должен был бы согласиться, Гарри. Однако, согласно твоей классификации, я должен быть просто знакомым.
– Мой дорогой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем просто знакомый.
– И гораздо меньше, чем друг. Некий брат, я полагаю?
– Братья! Мне нет дела до братьев. Мой старший брат никак не умрет, а младшие братья, кажется, не делают ничего другого.
– Гарри! – воскликнул Холлуорд, нахмурив брови.
– Я шучу, мой дорогой друг. Но мне противны окружающие. Я ничего не могу с этим поделать. Думаю, это потому, что мы не можем терпеть людей с теми же недостатками, что и у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, гневающимся на то, что они называют «пороками высших классов». Массы чувствуют, что пьянка, тупость и безнравственность должны принадлежать только им, и если кто-либо из нас ведет себя, как осел, он как бы узурпирует их права. Было просто удивительно наблюдать их возмущение, когда бедняга Саузварк разводился с женой в суде. И все же, я не думаю, что хотя бы десятая часть пролетариев ведет добродетельный образ жизни.
– Я не верю ни единому слову из того, что ты только что сказал. Кроме того, Гарри, я чувствую, что ты и сам во все это не веришь.
Лорд Генри провел рукой по своей клинообразной бородке и постучал тростью из черного дерева по носку кожаного лакированного ботинка.
– Как же это по-английски, Бэзил! Ты уже второй раз обращаешь на это внимание. Если кто-то выскажет идею перед настоящим англичанином, а это всегда опрометчивый поступок, тому и в голову не придет подумать, верна эта идея или, возможно, ошибочна. Единственное, что имеет для него значение: верит ли этот кто-то в то, что он говорит. Смотри, значимость идеи никоим образом не связана с искренностью того, кто ее высказывает. На самом деле есть большая вероятность того, что чем менее этот человек искренен, тем более интеллектуальной будет эта идея, поскольку на нее не повлияют потребности, желания или предубеждения этого лица. В конце концов, я не хочу обсуждать с тобой политику, социологию или метафизику. Я люблю личности больше, чем принципы, но больше всего я люблю личности без принципов. Расскажи мне еще о Дориане Грее. Как часто вы видитесь?
– Каждый день. Я не cмогу быть счастлив, если не буду видеть его каждый день. Он абсолютно необходим мне.
– Это невероятно! Я думал, ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.
– Теперь он стал для меня моим искусством, – ответил художник серьезно. – Иногда я думаю, Гарри, что в истории мира бывает только два важных события. Первое – это появление нового средства искусства, а второе – появление новой личности в искусстве. Однажды Дориан Грей станет для меня тем, чем для Венеции стала живопись масляными красками, или чем лицо Антиноя стало для скульптуры античной Греции. Я не просто рисую его, делаю эскизы. Хотя я именно этим и занимаюсь. Но для меня он гораздо больше, чем просто модель или натурщик. Я не могу сказать, что я не доволен своей работой или что живопись не может передать его красоту. Нет ничего, что не могла бы передать живопись. И я знаю, что картины, которые я написал с тех пор, как встретил Дориана Грея, хорошие, лучшие за всю мою жизнь. Но каким-то странным образом, даже не знаю, поймешь ли ты меня, его личность открыла передо мной совершенно новую модель искусства. Я вижу вещи иначе, я осмысливаю их иначе. Я теперь могу воссоздать мир способом, о котором раньше и не догадывался. «Мечта о форме в царстве мысли» – кто это сказал? Неважно, это именно то, чем стал для меня Дориан Грей. Одно только присутствие этого парня – для меня он уже более чем парень, хотя ему лишь немного за двадцать, – одно только его присутствие, эх! Не знаю, сможешь ли ты понять всю значимость этого. Где-то на подсознательном уровне он указывает мне направление новой школы – школы, которая соединит в себе страсть романтизма и совершенство греческого стиля. Гармония души и тела – вот что это значит! Мы разделили их в порыве безумия и, как следствие, создали вульгарный реализм и пустой идеализм. Гарри! Если бы ты только знал, что для меня значит Дориан Грей! Помнишь мой пейзаж, за который Агню предлагал мне довольно кругленькую сумму, но я решил не расставаться с ним? Это одна из моих лучших картин. А знаешь почему? Потому что, когда я писал ее, рядом сидел Дориан Грей. Он придавал мне незримую силу, благодаря которой я наконец-то увидел в обычном лесу удивительную красоту, которую всегда искал, но она избегала моего взгляда.
– Бэзил, это поразительно! Я должен встретиться с Дорианом Греем.
Холлуорд поднялся с кресла и пошел в сад. Через некоторое время он вернулся.
– Гарри, для меня Дориан Грей – это просто источник вдохновения. Ты можешь и не найти в нем ничего примечательного. Для меня же он особенный. Он наиболее присутствует в тех моих картинах, на которых нет его изображения. Как я уже говорил, он указывает мне новое направление. Я вижу его в определенном изгибе линий, в красоте и нежности определенных цветов. Вот и все.
– Почему же ты не хочешь выставлять его портрет? – спросил лорд Генри.
– Потому что я неумышленно выразил в нем это свое странное идолопоклонство, о котором я, конечно, никогда не рассказывал Дориану Грею. Он ничего не знает об этом. И никогда не должен узнать. Но люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Я не позволю рассматривать собственное сердце под микроскопом. На портрете слишком много меня, Гарри, слишком много меня!
– Даже поэты не так стыдливы, как ты. Они знают, как полезна страсть к публикации. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.
– Я ненавижу их за это, – взорвался Холлуорд. – Художник должен создавать прекрасные вещи, но не вкладывать в них свою жизнь. В наше время люди так относятся к искусству, как будто оно предназначено быть разновидностью автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Однажды я покажу миру, что это значит; и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.
– Я думаю, ты не прав, Бэзил, но я не стану с тобой спорить. Только люди скудного ума прибегают к спорам. Скажи, ты очень нравишься Дориану Грею?
Художник задумался на несколько минут.
– Я нравлюсь ему, – ответил он после паузы. – Я знаю, что нравлюсь. Конечно, я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, о которых, я знаю, буду жалеть. Как правило, он обаятелен со мной, и мы сидим в студии и говорим о тысяче вещей. Однако время от времени он ведет себя бездумно, и, кажется, ему даже нравится причинять мне боль. В такие моменты я чувствую, что отдал свою душу человеку, который обращается с ней, как с цветком, который можно приколоть к своему пиджаку, – небольшое украшение, тешащее его тщеславие, украшение на один летний день.
– Летние дни проходят медленно, Бэзил, – пробормотал лорд Генри. – Быть может, ты пресытишься раньше, чем Дориан. Это грустно сознавать, но нет сомнения, что гений долговечнее красоты. Об этом свидетельствует тот факт, что мы все так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим иметь что-то, что будет оставаться неизменным, поэтому мы забиваем свои головы разным мусором и фактами в отчаянной надежде сохранить место под солнцем. Современный идеал – всесторонне образованный человек. А сознание всесторонне образованного человека – это ужасная вещь. Это как антикварная лавка, где полно пыли и чудовищ, а цены на все завышены. Несмотря ни на что, я думаю, что ты пресытишься первым. Однажды ты посмотришь на своего друга, и он станет казаться тебе несколько неподходящим, чтобы писать с него картину, или тебе не понравится цвет его кожи, или что-то в этом роде. Ты с горечью пересмотришь отношение своего сердца к нему и поймешь, что он вел себя плохо по отношению к тебе. В следующий раз, когда он появится, ты будешь сухим и безразличным к нему. Жаль, что это произойдет, ведь это тебя изменит. Твой рассказ окутан романтикой, я бы назвал ее романтикой искусства, но хуже всего то, что когда она покидает человека, то от нее не остается ни малейшего следа.
– Гарри, не надо так говорить. Пока я жив, личность Дориана Грея будет господствовать надо мной. Ты не сможешь почувствовать то, что чувствую я. Ты слишком изменчив для этого.
– Эх, дорогой Бэзил, именно поэтому я и смогу почувствовать это. Преданные люди видят банальную сторону любви, а вот предатели способны познать ее трагедию.
Лорд Генри закурил с таким самоуверенным и довольным видом, будто рассказал обо всем мире одним предложением. В зеленых листьях плюща раздавался шорох и чириканье воробьев, а голубые тени облаков гонялись по траве, словно ласточки. Как хорошо было в саду! И как упоительны чужие эмоции! Чувства казались ему гораздо приятнее, чем идеи. Наиболее интересными вещами в жизни он считал свою душу и страсти друзей. Он с тихим удовольствием представлял скучный обед, который пропустил, потому что так задержался у Бэзила Холлуорда. Если бы он пошел к своей тете, то непременно встретил бы там лорда Гудбоя и они говорили бы только о том, что нужно помогать бедным, и о важности аренды жилья. Богачи говорили бы о необходимости экономить и соревновались бы в красноречии на тему достоинства труда. Избежать всего этого было настоящим счастьем! Пока он думал о своей тетушке, к нему пришла одна мысль. Он повернулся к Холлуорду и сказал:
– Дорогой мой, я только что вспомнил.
– Что ты только что вспомнил, Гарри?
– Где я слышал имя Дориана Грея.
– И где же это? – спросил Холлуорд, несколько нахмурившись.
– Не надо сердиться, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказала мне, что познакомилась с замечательным юношей, который согласился помогать ей в Ист-Энде, и что его зовут Дориан Грей. Должен сказать, она ничего не говорила о его красоте. Женщины не ценят красоту, по крайней мере, хорошие женщины. Она говорила, что он очень искренний и имеет прекрасный характер. Я сразу представил покрытое веснушками создание в очках, с редкими волосами, которое громко топает своими длинными ногами. Мне следовало бы знать, что это твой друг.
– Я рад, что ты этого не знал, Гарри.
– Почему?
– Я не хочу, чтобы ты его встретил.
– Ты не хочешь, чтобы я встретился с ним?
– Нет.
– Мистер Грей в мастерской, – сказал дворецкий, войдя в сад.
– Теперь тебе придется представить меня ему, – сквозь смех сказал лорд Генри.
Художник повернулся к своему слуге, который стоял и щурился от солнца:
– Попроси мистера Грея подождать. Я подойду через несколько минут.
Дворецкий поклонился и пошел по тропинке к дому. Затем Холлуорд посмотрел на лорда Генри.
– Дориан Грей – мой близкий друг, – сказал он. – У него простой и замечательный характер. Твоя тетя была права относительно его. Не надо его портить. Не пытайся повлиять на него. Твое влияние не пойдет ему на пользу. Мир велик, в нем много интереснейших людей. Не надо отнимать у меня единственного человека, который придает очарование моим произведениям, – моя жизнь как художника зависит от него. Помни, Гарри, я тебе доверяю. – Он говорил очень медленно, будто слова вырывались наружу вопреки его воле.
– Что за глупости ты говоришь! – с улыбкой сказал лорд Генри, он взял Холлуорда под руку и почти силой повел к дому.
Глава 2
Войдя в мастерскую, они увидели Дориана Грея. Он сидел за роялем спиной к ним и листал страницы «Лесных сцен» Шумана.
– Ты должен одолжить мне их, Бэзил, – не удержался он. – Я хочу их разучить. Они совершенно очаровательны.
– Это зависит только от того, как ты будешь сегодня позировать, Дориан.
– Мне уже надоело позировать, я уже не хочу иметь собственный портрет, на написание которого уйдет целая жизнь, – капризно ответил юноша, своенравно повернувшись на музыкальном стуле. Заметив лорда Генри, он на мгновение смутился и резко встал. – Простите. Бэзил, я не знал, что ты не один.
– Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый оксфордский приятель. Я рассказывал ему, какой замечательный из тебя натурщик, а теперь ты все испортил.
– Однако это отнюдь не уменьшило моей радости от встречи с вами, мистер Грей, – заверил лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. – Моя тетушка часто рассказывала мне о вас. Вы один из ее любимцев, и, боюсь, одна из ее жертв.
– Сейчас я в немилости у леди Агаты, – ответил Дориан, приобретя при этом забавно озабоченный вид. – Я обещал посетить клуб в Уайтчепеле с ней в прошлый вторник и совершенно забыл об этом. Мы должны были сыграть дуэтом, кажется, должно было быть даже три дуэта. Прямо не знаю, что она теперь мне скажет. Я очень боюсь попасться ей на глаза.
– О, я помирю вас с тетей. Она очень предана вам. Кроме того, я не думаю, что ваше отсутствие действительно было заметно. Публика, скорее всего, решила, что это и был дуэт. Когда тетушка Агата садится за рояль, она способна наделать шума за двоих.
– Это ужасно по отношению к ней и не слишком приятно по отношению ко мне, – сквозь смех ответил Дориан.
Лорд Генри посмотрел на него. Да, он был, конечно, удивительно красив, с изящной формы красными губами, откровенными голубыми глазами и золотистыми кудрями. Было в его лице что-то такое, что вызывало доверие с первого взгляда. В нем чувствовалась искренность и непорочная страсть молодости. Казалось, он не позволял мирским заботам испортить себя. Неудивительно, что Бэзил Холлуорд обожал его.
– Вы слишком хороши, чтобы заниматься благотворительностью, господин Грей, слишком хороши. – С этими словами лорд Генри устроился на диване и открыл свой портсигар.
В этот момент художник был занят смешиванием красок и готовил необходимые кисти. У него был взволнованный вид, а когда он услышал последнюю фразу лорда Генри, взглянул на него и после кратких раздумий сказал:
– Гарри, я хотел бы закончить работу над этой картиной сегодня. Ты ведь не обидишься, если я попрошу тебя уйти?
Лорд Генри улыбнулся и посмотрел на Дориана Грея.
– Мне уйти, мистер Грей? – спросил он.
– Не надо, лорд Генри, пожалуйста. Я вижу, Бэзил в плохом настроении, а я не выношу, когда он дуется. Кроме того, я хочу, чтобы вы рассказали мне, почему мне не следует заниматься благотворительностью.
– Даже не знаю, стоит ли мне рассказывать вам об этом, мистер Грей. Это скучная тема, которую приходится обсуждать серьезно. Однако я точно не уйду после того, как вы попросили меня остаться. Ты не будешь возражать, Бэзил? Ты часто говорил мне, что тебе нравится, когда натурщик может с кем-нибудь поболтать.
Холлуорд закусил губу:
– Если Дориан так хочет, то, конечно, ты должен остаться. Прихоти Дориана – закон для всех, кроме него самого.
Лорд Генри взял шляпу и перчатки.
– Как бы ты ни настаивал, Бэзил, боюсь, я должен идти. У меня встреча в Орлеанском клубе. Всего хорошего, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. Я почти всегда дома в пять часов. Напишите мне, когда решите прийти. Мне будет жаль не встретиться с вами.
– Бэзил, – закричал Дориан Грей, – если лорд Генри уйдет, то и я уйду. От тебя не услышать ни слова, пока ты работаешь, а это очень скучно – стоять на платформе и еще хорошо при этом выглядеть. Попроси его остаться. Я настаиваю.
– Останься, Гарри. Дориан и я будем перед тобой в долгу, – сказал Холлуорд, глядя на свою картину. – Я действительно никогда не разговариваю, да и не слушаю, пока пишу картины, и это, видимо, несносно утомляет моих несчастных натурщиков. Умоляю, останься.
– А как же моя встреча в Орлеанском клубе?
Художник рассмеялся:
– Я не думаю, что возникнут какие-либо трудности. Садись, Гарри. А теперь, Дориан, становись на платформу, и не двигайся слишком много, и не обращай внимание на то, что говорит лорд Генри. Он очень плохо влияет на всех своих друзей, кроме меня.
Дориан Грей ступил на платформу с видом юного греческого мученика и разочарованно посмотрел на лорда Генри, который ему весьма приглянулся. Он был так не похож на Бэзила. Они составляли восхитительный контраст. И у него был такой волшебный голос. Через несколько минут он обратился к нему:
– Вы действительно очень плохо влияете на людей, лорд Генри? Бэзил прав?
– Не существует такой вещи, как плохое влияние. Любое влияние безнравственно – безнравственно с научной точки зрения.
– Почему же?
– Потому что влиять на человека – значит навязывать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями и пылать не своими страстями. Его добродетели перестанут быть настоящими. Его грехи, если все же существует такая вещь, как грехи, будут заимствованными. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни – самосовершенствование. Каждый из нас здесь для того, чтобы понять свою сущность. Сейчас люди боятся самих себя. Они забыли, что высший долг – это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они кормят голодных и помогают нуждающимся, в то время как их собственные души голодны и беспомощны. Наша раса потеряла смелость. А возможно, ее у нас никогда и не было. Страх перед обществом, на котором базируется мораль, и страх перед Богом, который является основой для религии, – вот две вещи, которые управляют нами. Но…
– Поверни голову немного вправо, Дориан, будь хорошим мальчиком, – сказал художник.
Он был погружен в работу и обратил внимание лишь на то, что раньше никогда не видел такого выражения на лице юноши.
– Однако, – продолжил лорд Генри, сопровождая свой низкий голос, звучавший будто музыка, характерным взмахом рук, который отличал его от других еще со времен учебы в Итоне, – я считаю, что если бы хоть один человек смог прожить свою жизнь целиком и полностью, смог почувствовать каждое чувство, выразить каждую мысль и осуществить каждую мечту, то мир получил бы такой огромный заряд радости, что мы смогли бы забыть о чуме Средневековья и вернуться к эллинистическому идеалу или, возможно, даже к чему-то лучшему и более высокому, чем эллинистический идеал. И самые смелые из нас боятся самих себя. Уродство дикаря отчаянно пытается выжить, несмотря на отказы самим себе, которые разрушают наши жизни. Каждый порыв, который мы сдерживаем, бродит в нашей голове, отравляя наш разум. Тело грешит, и на этом грех заканчивается, ведь действие – это способ очистки. Ничего не остается на потом, кроме упоминания об удовлетворении или роскоши почувствовать угрызения совести. Единственный способ избавиться от искушения – поддаться ему. Если же ему сопротивляться, то душу будет разрушать желание того, что она сама себе запретила, жажда к тому, что она с помощью собственных уродливых правил объявила уродливым и неправильным. Говорят, что самые выдающиеся события случаются в голове. Так же и грехи существуют в голове, и только в голове. Да и вы, господин Грей, в вашей цветущей, будто роза, юности уже чувствовали страсти, которые вас пугали, к вам приходили мысли, что вызывали у вас ужас, вы видели сны, одно лишь упоминание о которых заставляет вас краснеть.
– Подождите! – воскликнул Дориан Грей. – Подождите! Вы запутали меня. Я не знаю, что сказать. Я должен что-то вам ответить, однако не могу подобрать слова. Не говорите. Дайте подумать. Или, скорее, позвольте мне попробовать не думать.
Он стоял так, с открытыми устами и огнем в глазах, около десяти минут. Он смутно осознавал, он видел, что подвергается воздействию чего-то совершенно нового, однако чувствовал, что источник этого влияния находился внутри него. Те несколько слов, которые сказал ему друг Бэзила, слова, сказанные, без сомнения, случайно, но в которые лорд Генри намеренно вложил парадокс, задели тайную, не потревоженную ранее струну в его душе. Однако сейчас он чувствовал, как эта струна вибрирует и пробуждает в нем что-то новое.
Подобным образом его тревожила музыка. Музыка часто его тревожила. Однако музыка не членораздельная речь. Она создавала внутри не новый мир, а скорее – новый хаос. Слова! Всего лишь слова! Как же ужасны они были! Как же понятны, живы и жестоки! От них не было спасения. И в то же время в них была какая-то едва ощутима магия! Казалось, они могли придать форму бесформенным телам и несли в себе музыку, не менее прекрасную, чем звук скрипки или флейты. Пустые слова! Разве существовало что-то реальнее и весомее слов?
Да, в его юности были вещи, которых он не понимал. Он понял их теперь. Вдруг его жизнь словно охватило пламя. Ему казалось, что он идет по этому пламени. Почему же он не знал этого раньше?
Лорд Генри смотрел на него с легкой улыбкой. Он точно знал, когда психология требовала молчать. Ему было очень интересно. Он был поражен, какое внезапное впечатление произвели его слова. Он вспоминал книгу, которую прочитал, когда ему было шестнадцать и которая открыла ему глаза на многие вещи, которых он до того не знал. Ему было интересно, переживал ли Дориан Грей нечто подобное в тот момент. Он выпустил стрелу вслепую. Неужели она попала в цель? Как же увлекательно было наблюдать за парнем!
Холлуорд тем временем рисовал чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые в искусстве, во всяком случае, исходит только от силы. Он не обращал внимание на молчание.
– Бэзил, я устал стоять, – вдруг пожаловался Дориан Грей. – Я должен выйти и посидеть в саду. Здесь слишком душно.
– Мой дорогой друг, прости меня. Когда я рисую, то не могу думать больше ни о чем. Но ты позировал лучше, чем когда-либо. Ты был совершенно неподвижен. И я уловил желаемый эффект – полуоткрытый рот и огонь в глазах. Не знаю, что там тебе наговорил Гарри, но он вызвал замечательное выражение на твоем лице. Видимо, он делал тебе комплименты. Тебе не следует верить ни одному его слову.
– То, что он сказал, – точно не комплименты. Наверное, именно поэтому я ему и не верю.
– Вы знаете, что во все это верите, – сказал лорд Генри, глядя на него своими томными, мечтательными глазами. – Я выйду в сад с вами. В студии ужасно жарко. Бэзил, дай нам чего-то попить, чего-нибудь со льдом и клубникой.
– Конечно, Гарри. Позвони в колокольчик, и, когда придет Паркер, я скажу, что вам принести. Мне надо поработать над фоном, так что я присоединюсь к вам позже. Не задерживай Дориана надолго. Я еще никогда не был в такой прекрасной форме, как сегодня. Это будет мой шедевр. Это уже шедевр.
Лорд Генри вышел в сад и нашел там Дориана Грея, который утопил лицо в цветы сирени и жадно упивался их ароматом, будто вином. Он подошел ближе и положил руку ему на плечо.
– Вы все делаете правильно, – тихо проговорил лорд Генри. – Только ощущения могут исцелить душу, и только душа может исцелить ощущения.
Юноша вздрогнул и отступил на несколько шагов. На нем не было шляпы, ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди. В его глазах читался страх, который испытывает человек, если его вдруг разбудить. Его будто высеченные из мрамора ноздри расширились, а скрытое напряжение украло красный цвет его губ и оставило их дрожать.
– Именно так, – продолжил лорд Генри, – в этом состоит один из величайших секретов жизни – исцелять душу с помощью ощущений и исцелять ощущения силой души. Вы удивительный. Вы знаете больше, чем думаете, но меньше, чем вам хотелось бы.
Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему нравился высокий грациозный молодой человек, стоявший перед ним, и он ничего не мог с этим поделать. Романтическое, оливкового цвета лицо лорда Генри с выражением усталости вызвало в Дориане Грее интерес. В его низком томном голосе было что-то захватывающее. Даже его холодные белые руки несли в себе очарование. Пока он говорил, они двигались, будто в такт музыке, будто изъясняясь на своем собственном языке. Но Дориан Грей все больше боялся его и чувствовал стыд за свой страх. Почему незнакомец должен открыть ему глаза на самого себя? Он знал Бэзила Холлуорда уже несколько месяцев, однако дружба с ним не меняла его. Вдруг в его жизни появился кто-то, кто, кажется, раскрыл перед ним тайну жизни. И все же, чего же тут бояться? Он был уже не школьник. Пугаться было бессмысленно.
– Давайте пойдем присядем где-то в тени, – сказал лорд Генри. – Паркер уже принес напитки, если мы еще немного постоим под солнцем, то это вас испортит, и Бэзил больше никогда не станет вас рисовать. Вам действительно следует избегать солнечных ожогов. Это было бы недопустимо.
– Какое это имеет значение? – со смехом воскликнул Дориан Грей, приседая на скамью на краю сада.
– Это должно иметь огромное значение для вас, мистер Грей.
– Почему же?
– Потому что вы владеете очарованием молодости, а молодость – это единственная вещь, которая стоит того, чтобы ее иметь.
– Я не чувствую этого, лорд Генри.
– Конечно, сейчас вы этого не чувствуете. Но однажды, когда вы уже будете старый, сморщенный и уродливый, когда мысли оставят полосы на вашем лбу, а страсть обожжет ваши уста своим губительным огнем, вы это почувствуете, вы это невыносимо почувствуете. Сейчас, куда бы вы ни пошли, вы очаровываете весь мир. Но будет ли так всегда?.. У вас на удивление красивое лицо, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А красота – это форма гениальности, на самом деле она даже выше гениальности, ведь ее не нужно объяснять. Это одно из величественных явлений природы, таких как солнечный свет, весна или отражение серебристой луны в темных водах. Ее невозможно подвергнуть сомнению. Она удивительна в своей независимости. Она превращает тех, кто ею владеет, в принцев. Вы смеетесь? Что будет, если вы ее потеряете? Полагаю, вам будет не до смеха… Иногда люди говорят, что красота поверхностна. Может, и так, но она не столь поверхностна, как о ней думают. Люди, которые не судят по внешнему виду, не способны на глубокие суждения. Настоящая тайна мира состоит скорее в видимых вещах, чем невидимых… Да, мистер Грей, боги сделали вам щедрый подарок. Но боги быстро забирают свои подарки. У вас есть всего несколько лет, чтобы жить настоящей, совершенной и полной жизнью. Когда ваша молодость пройдет, красота пройдет вместе с ней, и потом вы вдруг поймете, что для вас больше не осталось побед, или вам придется довольствоваться подлыми победами, которые воспоминания о вашем славном прошлом сделают даже горче поражений. Каждый уходящий месяц на шаг приближает вас к ужасу. Время вам завидует и идет войной на цвет вашей юности. Вы станете бледным, с впалыми щеками и пустыми глазами. Вы будете несказанно страдать… Эх! Узнайте свою молодость, пока не поздно. Не теряйте богатство ваших дней, прислушиваясь к скучным людям, пытаясь исправить безнадежные ошибки или отдавая свою жизнь неблагодарным, простым и пошлым людям. Это неправильные цели, фальшивые идеалы нашего времени. Живите! Живите собственной прекрасной жизнью! Не упустите ничего в ней. Всегда ищите для себя новые ощущения. И ничего не бойтесь… Новый гедонизм – вот что нужно людям нашего века. Вы можете стать его живым символом. Для такой личности, как вы, нет ничего невозможного. На данный момент мир принадлежит вам. Как только я вас увидел, сразу понял, что вы не знаете, кто вы на самом деле, кем можете стать. Вы так захватили меня, что я почувствовал необходимость рассказать вам самому кое-что о вас. Я подумал о том, какой трагедией стало бы, если бы вы потеряли себя. Ведь молодость продлится так недолго. Обычные цветы вянут, но цветут снова. В следующем июне так же зажелтеют эти волшебные цветы. Через месяц зацветет ломонос, и его зеленые листья будут поддерживать пурпурные звездочки год за годом. А вот наша молодость никогда не вернется к нам. Радость, что пульсирует, когда нам двадцать, постепенно ослабевает. У нас отказывают конечности, наши чувства притупляются. Мы превращаемся в неуклюжие куклы, которых преследуют воспоминания о страстях, которых мы боялись, и искушениях, подвергнуться которым нам не хватало смелости. Молодость! Молодость! Нет в мире ничего лучше, чем молодость!
Дориан Грей слушал, широко раскрыв глаза. Веточка сирени, которую он держал в руках, упала на гравий. Прилетевшая пушистая пчела некоторое время кружила и жужжала вокруг нее. Затем она решила залезть на маленький шарик из звездочек. Он наблюдал за этим с тем странным интересом, с которым мы относимся к обыденным вещам, когда какие-то более важные вещи пугают нас, когда нас возбуждает новая эмоция, которую мы не можем выразить, или когда ужасная мысль берет наше сознание в осаду, требуя капитуляции. Через некоторое время пчела улетела. Он увидел, как она пытается залезть в пурпурный цветок вьюнка. Она задрожала, а потом легонько заколыхалась.
Вдруг в дверях мастерской появился художник и коротким взмахом руки позвал их к себе. Они обернулись друг к другу и улыбнулись.
– Я жду, – крикнул он. – Идите уже сюда. Освещение просто замечательное, так что забирайте свои напитки.
Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо них пролетели две зелено-белые бабочки, а на грушевом дереве в углу сада запел дрозд.
– Вы рады, что познакомились со мной, мистер Грей? – спросил лорд Генри, взглянув на него.
– Да, сейчас я рад. Не знаю, буду ли я радоваться этому всегда.
– Всегда! Это ужасное слово. Я содрогаюсь, когда слышу его. Женщины так любят его использовать. Они портят каждый роман, пытаясь заставить его продолжаться всегда. К тому же это слово не имеет значения. Единственная разница между прихотью и страстью на всю жизнь состоит в том, что прихоть длится несколько дольше.
Когда они вошли в мастерскую, Дориан Грей положил руку лорду Генри на плечо.
– В таком случае, пусть наша дружба будет прихотью, – пробормотал он, пораженный собственной смелостью. Затем он встал на платформу в той же позе, что и раньше.
Лорд Генри устроился в большом кресле и наблюдал за ним. Единственными звуками, наполнявшими тишину, было шуршание кистей по полотну и шаги Холлуорда, когда тот отходил, чтобы взглянуть на свое творение на расстоянии. В открытую дверь лились косые солнечные лучи, в которых плясали золотые пылинки. Тяжелый аромат роз, казалось, плавал в воздухе.
Примерно через четверть часа Холлуорд прекратил рисовать. Он долго смотрел на Дориана Грея, а потом так же долго смотрел на картину, прикусив кончик кисти и нахмурив брови.
– Готово! – сказал он в конце концов и наклонился, чтобы подписать левый нижний угол картины ярко-красными буквами.
Лорд Генри подошел и осмотрел портрет. Несомненно, это было великолепное произведение искусства, к тому же имеющее удивительное сходство с моделью.
– Дорогой мой, прими мои искренние поздравления, – сказал он. – Это лучший портрет нашего времени. Мистер Грей, подойдите и посмотрите на себя.
Юноша оглянулся, будто только что проснулся.
– Уже готово? – спросил он, ступая вниз с платформы.
– Именно так, – ответил художник. – А ты сегодня просто прекрасно позировал. Я твой должник.
– Это все благодаря мне, – перебил лорд Генри. – Правда, мистер Грей?
Дориан ничего не ответил. Он молча подошел к портрету. Увидев его, он отошел, а его щеки покрылись румянцем удовольствия. В его глазах появилась радость, как будто он впервые узнал себя. Он стоял неподвижно и очарованно, он понимал, что Холлуорд обращается к нему, но не мог уловить смысл его слов. Ощущение собственной красоты пришло к нему как откровение. Он никогда не чувствовал его раньше. Комплименты Холлуорда всегда казались ему просто дружеским преувеличением. Он слушал их, смеялся над ними и забывал о них. Они не влияли на его сущность. А потом появился лорд Генри Уоттон с его странной речью над могилой молодости, с его ужасным предупреждением о ее быстротечности.
Это взволновало его тогда, а теперь, когда он смотрел на тень собственной красоты, он осознал всю правдивость слов лорда Генри. Да, однажды его лицо покроют морщины, глаза потеряют свой цвет, его грациозная осанка покинет его. Его уста потеряют свои красные краски так же, как волосы – золотые. Жизнь, призванная создать его душу, уничтожит его тело. Он станет ужасным, отвратительным и неуклюжим.
Когда он подумал об этом, острая боль пронзила его, будто нож, и внутри дрожала каждая жилка. Глаза его потемнели, став из голубых аметистовыми, и затуманились слезами. Он чувствовал себя так, словно ледяная рука легла ему на сердце.
– Тебе не нравится? – в конце концов воскликнул Холлуорд, несколько пораженный молчанием юноши, ведь он не понимал, что это значит.
– Конечно, ему нравится, – сказал лорд Генри. – Кому это может не понравиться? Это же одно из величайших произведений современного искусства. Я готов отдать за него все, что пожелаешь. Портрет должен быть моим.
– Он принадлежит не мне, Гарри.
– А кому же он принадлежит?
– Конечно, Дориану, – ответил художник.
– Ему повезло.
– Как же жаль! – воскликнул Дориан Грей, не сводя глаз с собственного портрета. – Как же жаль! Я состарюсь, стану противным и страшным. А этот портрет навсегда останется молодым. Он никогда не станет старше этого июньского дня… Если бы все было наоборот! Если бы это я всегда оставался молодым, а портрет старел! За это я отдал бы все, что угодно! Именно так, во всем мире нет вещи, которой мне было бы жаль за это! Я за это свою душу отдал бы!
– Ты вряд ли имел бы что-то против такого соглашения, Бэзил, – засмеялся лорд Генри. – Тебя больше беспокоят линии на твоих картинах.
– Я бы очень возражал, Гарри, – сказал Холлуорд.
Дориан Грей обернулся и посмотри на него.
– Думаю, именно так и произошло бы, Бэзил. Твое искусство для тебя важнее, чем твои друзья. Я для тебя не более, чем бронзовая фигурка. Я бы даже сказал, гораздо меньше.
Художник смотрел на него в изумлении. Это было так не похоже на него. Что случилось? Он выглядел довольно злым. Его лицо покраснело, а щеки горели.
– Именно так, – продолжил Дориан Грей, – я для тебя значу меньше, чем твой Гермес из слоновой кости или серебряный фавн. Они будут нравиться тебе всегда. Как долго тебе буду нравиться я? Подозреваю, что до первой морщины. Теперь я знаю, что, как только человек теряет свою красоту, какой бы она ни была, он теряет все. Твоя картина рассказала мне об этом. Лорд Генри абсолютно прав: молодость – единственная вещь, которую стоит иметь. Когда я пойму, что старею, я покончу с собой.
Холлуорд помрачнел и схватил его за руку.
– Дориан! Дориан! – воскликнул он. – Не говори так! У меня еще никогда не было такого друга, как ты, и уже никогда не будет. Ты же не можешь завидовать вещам, правда? Ты же прекраснее любой вещи!
– Я завидую всему, чья красота не умирает. Я завидую собственному портрету, который ты написал. Почему он будет иметь то, что я должен потерять? Каждое мгновение отнимает что-то у меня и отдает это ему. О! Если бы это было наоборот! Если бы портрет мог меняться, а я мог оставаться таким, каков я сейчас! Зачем ты его написал? Наступит день, когда он станет безжалостно насмехаться надо мной.
Горячие слезы наполнили его глаза, он вырвал руку и упал на диван, нырнув в подушки, будто хотел помолиться.
– Это ты во всем виноват, Гарри, – с горечью сказал художник.
Лорд Генри пожал плечами:
– Это настоящий Дориан Грей, вот и все.
– Нет.
– Если нет, то какое я имею к этому отношение?
– Тебе стоило уйти, когда я просил, – процедил он.
– Я остался, когда ты меня просил, – ответил лорд Генри.
– Гарри, я не могу ссориться сразу с двумя своими лучшими друзьями, но вы заставили меня возненавидеть лучшую картину из тех, что я написал, и я ее уничтожу. Это же только полотно и краски. Я не позволю ей испортить отношения между нами троими.
Дориан Грей поднял голову. Лицо его было бледно, а глаза – полны слез. Он увидел, как Бэзил подошел к рабочему столу, который был установлен под высоким занавешенным окном. Что он там делает? Его пальцы перебирали разбросанные оловянные тюбики с красками и сухие кисти в поисках чего-то. Да, он искал длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием. Наконец он нашел его. Он собирался порезать полотно.
Приглушенно всхлипнув, Дориан Грей вскочил с дивана, подбежал к Холлуорду, вырвал нож из его руки и бросил его в противоположную сторону мастерской.
– Нет, Бэзил, нет! – кричал он. – Это будет убийством!
– Я рад, что ты наконец оценил мою работу по достоинству, Дориан, – холодно ответил художник, после того как справился с удивлением. – Я уже думал, что не дождусь этого.
– Оценил по достоинству! Да я просто влюблен в этот портрет, Бэзил. Он – часть меня. Я это чувствую.
– Что же, в таком случае, когда ты высохнешь, тебя покроют лаком, вставят в раму и отправят домой. А потом можешь делать с собой все, что пожелаешь. – С этими словами он пересек комнату и позвонил в колокольчик, чтобы Паркер принес чаю. – Ты выпьешь чаю, Дориан? Ты тоже, Гарри? Или ты не охотник до таких простых удовольствий?
– Я обожаю простые удовольствия, – ответил лорд Генри. – Они последнее прибежище для сложных натур. А вот сцены, разыгранные передо мной не в театре, мне не нравятся. Какие же вы оба абсурдные создания! Мне интересно, кто назвал человека рациональным животным. Это в высшей степени необоснованное утверждение. Человек может многое, но он не является рациональным. В конце концов, я даже рад этому, однако я хотел бы, чтобы вы, ребята, не ссорились из-за портрета. Лучше бы ты отдал его мне, Бэзил. Этот глупый мальчишка не хочет иметь его на самом деле, а вот я хочу.
– Если ты не отдашь его мне, я тебе никогда этого не прощу, Бэзил! – воскликнул Дориан Грей. – И я не позволю называть себя глупым мальчишкой.
– Ты же знаешь, портрет твой, Дориан, я подарил его тебе еще до того, как написал.
– Кроме того, господин Грей, вы понимаете, что вели себя глупо, и не возражаете против напоминаний о вашем весьма юном возрасте.
– Сегодня утром мне казалось, что я безумно стар, лорд Генри.
– Ах, сегодня утром! Вы так много пережили с тех пор…
В дверь постучали, и вошел дворецкий. Он поставил поднос с чаем на маленький японский столик. Раздавался звон чашек и блюдец, старинный чайник все еще шипел. Дворецкий принес две тарелки из китайского фарфора, накрытые полукруглыми колпаками, тоже фарфоровыми. Дориан Грей подошел к столу и стал разливать чай. Двое мужчин лениво поплелись к столу и осмотрели то, что было под колпаками.
– Давайте сходим в театр сегодня вечером, – сказал лорд Генри. – Где-то должны показывать что-то интересное. Правда, я уже пообещал одному старому другу, что пойду вместе с ним на ужин к Уайту, но я могу написать ему телеграмму, что я заболел или что у меня появились другие планы. Думаю, благодаря своей неожиданной откровенности это станет прекрасным оправданием.
– Как же это надоедает, когда кто-то надевает на себя театральный костюм, – пробормотал Холлуорд. – И именно этот наряд выглядит ужасно.
– Ты прав, – мечтательно ответил лорд Генри. – Наряды девятнадцатого века просто отвратительны. Они такие тусклые, такие мрачные. Грех – это единственная яркая вещь, которая осталась в нашей жизни.
– Тебе не следует говорить такие вещи при Дориане, Гарри.
– В присутствии которого из Дорианов? Того, что наливает нам чай, или того, что на портрете?
– В присутствии обоих.
– Я бы с радостью сходил с вами в театр, лорд Генри, – сказал юноша.
– Тогда пойдемте. Ты пойдешь с нами, Бэзил, правда?
– Я не могу, честно. И еще не скоро буду иметь такую возможность. У меня много работы.
– Что же, в таком случае мы с вами пойдем вдвоем, мистер Грей.
– Я был бы этому очень рад.
Художник прикусил губу и подошел к портрету с чашкой в руке.
– Я останусь с настоящим Дорианом, – мрачно сказал он.
– Это настоящий Дориан? – воскликнул оригинал, приблизившись к портрету. – Я действительно именно такой?
– Да, это твоя точная копия.
– Это прекрасно, Бэзил!
– По крайней мере, на вид ты такой же. Но он никогда не изменится, – вздохнул Бэзил. – Это многое значит.
– Ну почему люди так помешаны на верности? – воскликнул лорд Генри. – Ведь даже в любви это просто вопрос физиологии. Наша воля никак на это не влияет. Молодые люди стремятся быть верными, но предают, старики хотят быть неверными, но не в состоянии, вот и все.
– Дориан, не ходи в театр сегодня вечером, – попросил Холлуорд. – Останься и поужинай со мной.
– Я не могу, Бэзил.
– Почему?
– Потому что я пообещал лорду Генри Уоттону пойти с ним.
– От того, что ты будешь сдерживать свои обещания, он не станет относиться к тебе лучше. На самом деле он всегда нарушает собственные обещания. Пожалуйста, не ходи.
Дориан Грей засмеялся и покачал головой.
– Умоляю тебя.
Юноша засомневался и посмотрел на лорда Генри, который наблюдал за ними из-за чайного столика с довольной улыбкой на устах.
– Я должен пойти, Бэзил, – ответил он.
– Что ж, – сказал Холлуорд, вернувшись к столику и поставив свою чашку на поднос. – Уже довольно поздно, а вам еще нужно собраться, поэтому лучше не теряйте времени. Пока, Гарри. Пока, Дориан. Приходи навестить меня в ближайшее время. Приходи завтра.
– Конечно.
– Ты не забудешь?
– Конечно нет, – заверил Дориан.
– И… Гарри!
– Что, Бэзил?
– Помни, о чем я просил тебя сегодня утром в саду.
– Я уже забыл об этом.
– Я тебе доверяю.
– Если бы я мог доверять себе, – засмеялся лорд Генри. – Пойдемте, мистер Грей, мой экипаж ждет на улице, я отвезу вас домой. Пока, Бэзил, это был очень интересный вечер.
Когда дверь за ними закрылась, художник бросился на диван, а его лицо исказилось от боли.
Глава 3
На следующий день в половине первого лорд Генри Уоттон направлялся от Керзон-стрит в Олбани, чтобы навестить дядю, лорда Фермора, добродушного, с несколько грубыми манерами старого холостяка, которого общество называло эгоистом, потому что не получало от него никакой конкретной пользы, а вот бомонд считал его щедрым, ведь он обеспечивал людей, способных его поразить. Его отец был послом в Мадриде во времена, когда Изабелла была еще юной, а о Приме[2] никто и понятия не имел, но уволился с дипломатической службы из прихоти и обиды на то, что ему не предложили должность посла в Париже – должность, которая, по его мнению, должна была принадлежать ему по праву рождения, лени, прекрасно написанных дипломатических писем и безграничной жажды наслаждений.
Его сын, который работал секретарем у отца, также подал в отставку, что на тот момент казалось глупостью. А унаследовав титул через несколько месяцев после этого, он с головой погрузился в изучение высочайшего искусства аристократов – абсолютного ничегонеделания. Он имел два больших дома, однако предпочитал жизнь в квартире, ведь там было меньше хлопот, а ел, как правило, в клубе. Он интересовался делами на своих угольных шахтах в центральных графствах, объясняя нездоровый интерес к промышленности тем, что джентльмен, который владеет углем, может позволить себе топить свой камин дровами. Что касается политических взглядов, он поддерживал консерваторов всегда, кроме тех времен, когда они были в правительстве. В эти периоды он поливал их грязью за то, что они – стая радикалов. Он был героем в глазах своего дворецкого, который мог на него накричать, и ужасом в глазах своей родни, на которую он сам срывался. Он мог родиться только в Англии, хотя и говорил, что страна катится к черту. У него были устаревшие принципы и целая куча предубеждений.
Войдя в комнату, лорд Генри увидел, как его дядя в охотничьем жакете сидит с сигарой в зубах и грозно бормочет что-то в ответ на очередную публикацию «Таймс».
– О Гарри, – сказал пожилой джентльмен, – что привело тебя ко мне в такую рань? Я думал, что такой денди, как ты, встает не раньше двух и до пяти не выходит.
– Только любовь к своей семье, дядя Джордж, уверяю вас. Мне от вас кое-что нужно.
– Я так понимаю – деньги, – сказал лорд Фермор, скосив взгляд. – Ну что же, садись и расскажи, что к чему. Сейчас молодые люди считают, что деньги – это самое главное в жизни.
– Действительно, – согласился лорд Генри, поправляя пуговицу на своем жакете, – а с годами они убеждаются в этом. Но мне нужны не деньги. Деньги нужны тем, кто выплачивает свои долги, дядя Джордж, а я этим не занимаюсь. Кредит – это богатство младшего сына, он позволяет жить на широкую ногу. Кроме того, я имею дело с торговцами с Дартмура, поэтому они меня никогда не беспокоят. Мне нужна информация, но не какая-то полезная. Мне нужна бесполезная информация.
– Что ж, я могу рассказать тебе все, что написано в Синей книге[3], Гарри, хотя в последнее время там пишут много глупостей. Когда я работал дипломатом, дела с этим были намного лучше. Но я слышал, что сейчас дипломатов зачисляют на службу по результатам экзаменов. Чего же еще ожидать? Экзамены, сэр, это полнейшее очковтирательство от начала и до конца. Если человек джентльмен, он знает вполне достаточно, а если он не джентльмен, то его знания все равно не принесут ничего хорошего.
– В Синей книге не пишут о мистере Дориане Грее, дядя Джордж, – вяло сказал лорд Генри.
– Мистер Дориан Грей? А кто это? – спросил лорд Фермор, хмуря седые косматые брови.
– Я пришел как раз для того, чтобы об этом узнать, дядя Джордж. Точнее, я знаю, кто он. Он внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Девере, леди Маргарет Девере. Расскажите мне о его матери. Какой она была? За кого вышла замуж? В свое время вы знали практически всех, поэтому могли быть знакомы и с ней. Меня сейчас очень заинтересовал мистер Грей. Я только недавно с ним познакомился.
– Внук Келсо! – повторил пожилой джентльмен. – Внук Келсо!.. Конечно… Мы были близко знакомы с его матерью. Кажется, я даже присутствовал на ее крестинах. Маргарет Девере была необычайно красива. Мужчины просто взбесились, когда она сбежала с практически голым и босым мальчишкой, он был никто – младший офицер в пехотном полку или что-то вроде того. Действительно, я помню все, как будто это было вчера. Бедняга погиб на дуэли в Спа всего через несколько месяцев после свадьбы. Об этом ходили отвратительные слухи. Поговаривали, что Келсо подослал какого-то жуликоватого авантюриста, какого-то бельгийского грубияна, заплатил ему, чтобы тот публично оскорбил его зятя, а тот свернул парню шею, как птенцу. Это дело замалчивали, однако Келсо с тех пор обедал в одиночестве. Мне рассказывали, что он забрал дочь к себе, но она так и не заговорила с ним больше. Да, это очень темная история. Менее чем через год девушка тоже умерла. Так что, после нее остался сын, правда? Я уже и забыл об этом. Что он за парень? Если он похож на мать, то должен вырасти симпатичным.
– Он очень красив, – подтвердил лорд Генри.
– Надеюсь, он попадет в хорошие руки, – продолжил старик. – Скорее всего, его ждет приличное наследство, если только Келсо поступил с ним по совести. У его матери тоже были деньги. От ее деда ей досталось имение Селби. Ее дед ненавидел Келсо. Называл его скупердяем. Таким он и был. Однажды он приехал в Мадрид, когда еще я там был. К сожалению, мне было стыдно за него. Королева расспрашивала меня об английском дворянине, который всегда спорил с погонщиками о цене за проезд. Это стало целой историей. Я целый месяц не решался появиться при дворе. Надеюсь, он поступил с внуком лучше, чем обходился с теми беднягами.
– Даже не знаю, – ответил лорд Генри. – Думаю, с ним все будет в порядке. Он еще несовершеннолетний. Я знаю, что он владеет поместьем. Он рассказывал мне. А… его мать была красавицей?
– Маргарет Девере была одной из самых прекрасных женщин, которых я встречал за свою жизнь, Гарри. Я так и не смог понять, что побудило ее к тому поступку. Она могла выйти замуж за любого. Карлингтон был от нее без ума. Но, как и все женщины в той семье, она была романтичной. Мужчины были так себе, но женщины были блестящие! Карлингтон стоял перед ней на коленях. Он сам мне рассказывал. А она смеялась над ним, хотя в то время все девушки в Лондоне были влюблены в него. Кстати, Гарри, насчет безрассудных браков, что это за глупости мне рассказал твой отец, якобы Дартмур хочет жениться на американке? Неужели англичанки для него недостаточно хороши?
– Сейчас модно жениться на американках, дядя Джордж.
– Я буду защищать английских женщин перед всем миром, Гарри, – сказал лорд Фермор, ударив кулаком по столу.
– Сейчас ставят на американок.
– Говорят, они недолговечны, – пробормотал его дядя.
– Длинные дистанции истощают их, однако они созданы для бега с препятствиями. Они схватывают все на лету. У Дартмура нет шансов на спасение.
– А кто ее родня? – буркнул пожилой джентльмен. – У нее вообще есть родня?
Лорд Генри покачал головой.
– Американки так же умело скрывают своих родителей, как англичанки – свое прошлое, – сказал он, поднимаясь, чтобы уйти.
– Может, они торгуют свининой?
– Я на это надеюсь, дядя Джордж, ради Дартмурового же блага. Говорят, что торговля свининой – это второе по прибыльности занятие в Америке, после политики.
– Она хороша собой?
– Ведет себя так, будто она красавица. Большинство американок так себя ведут. В этом секрет их обаяния.
– Почему бы этим американкам не оставаться на родине? Они всегда рассказывают, что там настоящий рай для женщин.
– Так и есть. Именно поэтому они, как Ева, так безумно стремятся убежать оттуда, – произнес лорд Генри. – До свидания, дядя Джордж, я опоздаю на обед, если задержусь еще на минуту. Спасибо, что рассказали то, что меня интересовало. Я люблю знать как можно больше о моих новых друзьях и как можно меньше о старых.
– Где ты будешь обедать, Гарри?
– У тети Агаты. Я приглашен вместе с мистером Дорианом Греем. Он ее последний протеже.
– Хм! Гарри, передай своей тете Агате, чтобы она больше не надоедала мне своей благотворительностью. Почему-то эта старуха решила, что мне больше нечем заняться, кроме как выписывать чеки, чтобы оплатить дурацкие благотворительные затеи.
– Хорошо, дядя Джордж, я передам, но это не поможет. Благотворители теряют всю свою человечность. В этом заключается их отличительная черта.
Пожилой джентльмен одобрительно хмыкнул и позвал слугу. Лорд Генри вышел на Берлингтон-стрит и свернул в сторону Беркли-сквер.
Итак, такова была история происхождения Дориана Грея. Короткий рассказ взволновал его, ведь он нашел в нем странную, почти современную романтику. Прекрасная женщина, которая рискнула всем ради безумной страсти. Несколько недель безудержного счастья, оборванные преступлением и ужасной изменой. Месяцы молчаливой агонии, а затем – рожденное в муках дитя. После того как смерть отобрала у него мать, мальчик остался наедине со старым тираном, который не знал любви. И все же это был интересный фон. Он подчеркивал каждую черту лица, делал его еще более совершенным. За спиной всего прекрасного, что существует в нашем мире, стоит трагедия. Мир должен выстрадать цветение малейшего цветка…
Какой же он был волшебный вчера за ужином, когда сидел напротив него в клубе, с огнем в глазах и открытым от робкой радости ртом. Красное пламя свечей подчеркивало удивление на его лице. Разговор с ним напоминал игру на изящной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение и движение смычка… Было что-то увлекательное в том, чтобы так влиять на его разум. Это не было похоже ни на какое другое занятие. Создавать отображения собственной души и на мгновение внушать ее другому, слышать эхо собственных взглядов, к которым добавилась музыка чужой юности и страсти, накладывать собственный темперамент на чужой так, будто это легкая нотка чужих духов. Все это дарило настоящую радость, возможно, наиболее всеобъемлющую радость из тех, что остались нам в наш ограниченный и пошлый век – век, в котором господствуют телесные утехи и общие цели…
Кроме того, он имел сказочный типаж, этот парень, которого он по странной воле случая встретил у Бэзила в мастерской, или же с него в любой момент можно было слепить сказочный типаж. В нем жили чистота, грация мальчика и красота, сравнимая с той, которую хранили для нас скульптуры Древней Греции. С ним можно было сделать все, что угодно. Из него можно было вылепить игрушку или титана. Как же жаль, что такой красоте суждено увянуть!..
А Бэзил? Как же интересно за ним наблюдать с точки зрения психологии! Новая манера в искусстве, свежий взгляд на жизнь, которые ему странным образом подсказало одно только присутствие того, кто не имеет об этом ни малейшего представления. Молчаливый дух, который жил в темном лесу и оставался незамеченным, гуляя в чистом поле, вдруг проявил себя, будто дриада без страха, ведь его душе, которая ждала ее, открылось видение прекрасных вещей. Благодаря этому видению формы и очертания простых вещей превращаются в символы, как будто они были очертаниями и формами чего-то другого и более совершенного, чью тень они превратили в реальность. Как же все это было необычно!
Он вспоминал подобные примеры из истории. Разве это не Платон был художником мысли, который впервые об этом задумался? Разве это был не Буонарроти, кто описал это в цветных сонетах на мраморе? Но это странно наблюдать в нашем веке… Да, он попытается стать для Дориана Грея тем, чем он, сам того не ведая, стал для художника, который создал его замечательный портрет. Он постарается установить над ним контроль, в конце концов, он уже прошел половину пути. Он присвоит себе этот удивительный дух. Было что-то захватывающее в этом ребенке любви и смерти.
Вдруг он остановился и посмотрел на дома.
Он заметил, что уже немного прошел мимо дома своей тети, и развернулся назад, слегка улыбнувшись. Когда он вошел в мрачного вида прихожую, дворецкий сказал, что все уже ушли обедать. Он отдал шляпу и трость слуге и вошел в столовую.
– Ты, как всегда, опоздал, Гарри, – встретила его тетушка, укоризненно качая головой.
Он пробормотал что-то в свое оправдание и, заняв свободное место рядом с ней, начал рассматривать присутствующих. Дориан скромно поклонился ему с противоположного края стола. На его щеках появился радостный румянец. Напротив сидела графиня Харли, бесконечно добрая леди, с прекрасным характером, за который ее обожали знакомые, и с характерными пропорциями, которые современники назвали бы ожирением, если бы речь шла не о графине. Справа от нее сидел сэр Томас Бердон, радикальный парламентарий, который на людях следовал за своим лидером, а в личной жизни – за лучшими поварами, за обедом сидя с консерваторами, а мыслями оставаясь с либералами, согласно общеизвестному мудрому правилу. Место слева от нее занял мистер Эрскин Тредли, пожилой джентльмен, который владел значительным запасом шарма и культуры, однако обзавелся плохой привычкой молчать. Однажды он объяснил леди Агате, что сказал все, что хотел, еще до того как ему исполнилось тридцать. По соседству с ним сидела миссис Ванделер, одна из лучших подруг его тетки, – святейшая из женщин, но одетая так безвкусно и крикливо, что больше напоминала молитвенник в плохом переплете. К счастью, с другой стороны от нее сидел лорд Фодель, крайне эрудированный, но посредственный человек, такой же скучный, как и отчет министра в палате общин. Она разговаривала с ним с упорством, которое представляло собой, как он сам когда-то признал, страшную ошибку, которой не может избежать ни один порядочный человек.
– Мы как раз говорим о бедняге Дартмуре, лорд Генри, – сказала графиня, кивнув ему с противоположной стороны стола. – Как считаете, он действительно собирается жениться на этой очаровательной молодой особе?
– Я считаю, что она уже сделала ему предложение.
– Это ужасно! – воскликнула леди Агата. – Кто-то обязательно должен вмешаться.
– Я узнал из очень надежных источников, что ее отец торгует какими-то безделушками в Америке, – надменно сказал сэр Томас Бердон.
– Мой дядя уже решил, что он торгует свининой, сэр Томас.
– Безделушками! Какими еще безделушками? – спросила графиня, вскинув руки вверх, чтобы подчеркнуть собственное удивление.
– Американские романы, – ответил лорд Генри, принимаясь за куропатку.
Графиня выглядела растерянной.
– Дорогая, не обращайте на него внимания, – прошептала леди Агата. – Он никогда не говорит то, что думает.
– Когда открыли Америку, – сказал радикал и начал приводить какие монотонные факты. Как и каждый, кто пытается исчерпать тему для разговора, он исчерпал внимание слушателей. Графиня вздохнула и воспользовалась своим правом вмешаться в монолог.
– Лучше бы ее и не открывали! – воскликнула она. – Теперь наши девушки не имеют ни единого шанса! Это очень несправедливо.
– Возможно, в конце концов, Америку так и не открыли, – сказал мистер Эрскин, – я скорее сказал бы, что ее просто нашли.
– Эх, а я имела возможность пообщаться с людьми оттуда, – вяло ответила графиня. – Должна признаться, что большинство из них очень хорошие. А еще они прекрасно одеваются. Им всю одежду привозят из Парижа. Хотела бы я себе такое позволить…
– Говорят, что, когда порядочные американцы умирают, их души улетают в Париж, – хохотнул сэр Томас, который и сам владел огромным количеством устаревшей одежды.
– Действительно! А куда же попадают души плохих американцев после смерти? – поинтересовалась графиня.
– В Америку, – пробормотал лорд Генри.
Сэр Томас нахмурился.
– Боюсь, ваш племянник предвзято относится к этой величественной стране, – обратился он к леди Агате. – Я объездил ее всю с лучшими проводниками. Уверяю вас, это было крайне поучительно.
– Мы действительно должны увидеть Чикаго, чтобы чему-то научиться? – жалобно спросил мистер Эрскин. – Я абсолютно не настроен на такое путешествие.
Сэр Томас махнул рукой.
– Мистер Эрскин Тредли собрал весь мир на своих полках. А мы, практичные люди, больше любим видеть вещи, чем читать о них. Американцы – очень интересный народ. Они вполне рассудительны. Думаю, это их отличительная черта. Именно так, мистер Эрскин, вполне рассудительный народ. Уверяю вас, они не делают никаких глупостей.
– Как же это ужасно! – воскликнул лорд Генри. – Я могу стерпеть грубую силу, однако грубая рассудительность крайне невыносима. Есть в этом что-то несправедливое. Она превосходит интеллект.
– Я не понимаю вас, лорд Генри, – сказал сэр Томас, багровея.
– А я понимаю, – с улыбкой отозвался мистер Эрскин.
– Каждый парадокс хорош по-своему… – продолжил баронет.
– Разве это парадокс? – спросил мистер Эрскин. – Я так не думаю. Хотя, может, и так. В конце концов, за парадоксами кроется истина. Чтобы понять реальность, нам следует посмотреть, как она идет по тонкому канату. Только когда она выкручивается, что тот акробат, можно ее познать.
– Господи, – сказала леди Агата, – о чем эти мужчины только не спорят! Уверена, мне никогда не понять, что вы там говорите. Кстати, Гарри, я на тебя сердита. Зачем ты отговариваешь нашего милого мистера Грея работать со мной в Ист-Энде? Уверяю вас, его присутствие будет просто бесценным. Там хотели, чтобы он сыграл.
– Я просто хочу, чтобы он играл для меня, – с улыбкой сказал лорд Генри, он посмотрел через стол и поймал радостный взгляд в ответ.
– Они же такие несчастные там в Уайтчепеле, – продолжила леди Агата.
– Я способен сочувствовать всему, кроме страданий, – сказал лорд Генри, пожав плечами. – Я не могу им сочувствовать. Это слишком некрасиво, слишком ужасно, слишком огорчает. Есть нечто в высшей степени нездоровое в сочувствии к страданиям. Сочувствовать надо красоте, ярким краскам и радостям жизни. Чем меньше говорить о болячках, тем лучше.
– Однако Ист-Энд остается очень важной проблемой, – отметил сэр Томас, мрачно кивнув.
– Вы правы, – ответил юный лорд. – Это проблема рабства, а мы пытаемся решить ее, развлекая рабов.
Политик с интересом посмотрел на него.
– Что же вы предлагаете изменить? – спросил он.
Лорд Генри рассмеялся.
– Я не хочу менять в Англии ничего, кроме погоды, – ответил он. – Мне вполне достаточно философского созерцания. Однако, поскольку девятнадцатый век обанкротился, потратив все свои соболезнования, я бы предложил обратиться к науке, чтобы она исправила положение. Преимущество эмоций заключается в том, что они ведут нас в заблуждение, а ценность науки в том, что она не эмоциональна.
– Но мы несем такую огромную ответственность, – скромно вмешалась миссис Ванделер.
– Действительно огромную, – поддержала ее леди Агата.
Лорд Генри посмотрел на мистера Эрскина.
– Человечество слишком серьезно себя воспринимает. Это его величайший грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, все сложилось бы совершенно иначе.
– Вы меня утешили, – прощебетала графиня. – Раньше, когда я посещала вашу тетю, я чувствовала вину за то, что вовсе не интересуюсь делами в Ист-Энде. Отныне я смогу смотреть ей в глаза и не краснеть.
– Иногда даже полезно немного покраснеть, – отметил лорд Генри.
– Только в молодости, – ответила она. – Когда краснеет такая старуха, как я, это очень плохой знак. Ах! Лорд Генри, я хочу, чтобы вы рассказали мне, как снова стать молодой.
Он на мгновение задумался.
– Вы можете вспомнить страшную ошибку, которую вы совершили в молодости, графиня? – спросил он, не сводя с нее глаз.
– Боюсь, их было немало, – ответила она.
– Тогда совершите их все снова, – сказал он серьезно. – Чтобы вернуться в собственную молодость, достаточно просто повторить собственные глупости.
– Какая восхитительная теория! – не удержалась от восторга графиня. – Я должна испытать ее на практике.
– Опасная теория, – процедил сквозь зубы сэр Томас.
Леди Агата лишь кивнула, не в состоянии справиться со своим удивлением. Мистер Эрскин слушал.
– Да, – продолжил лорд Генри, – это один из самых удивительных секретов жизни. Сейчас большинство людей умирают под тяжестью здравого смысла, и слишком поздно понимают, что единственные вещи, о которых они никогда не будут жалеть, – это их ошибки.
За столом раздался громкий смех.
Лорд Генри играл идеей и получал от этого все больше удовольствия. Он подбрасывал ее в воздух и сразу ловил. Он давал ей бежать и снова ловил. Разрисовывал ее во все цвета радуги и отпускал лететь на крыльях парадокса. Пока он продолжал говорить, восхваление глупостей превращалось в философию, которая, в свою очередь, превратилась в юную девушку, танцевавшую, что вакханка, на холмах жизни и смеявшуюся над Силеном за его трезвость. Факты разбегались от нее, как испуганные лесные звери. Своими босыми ногами она топтала пресс, на котором сидел премудрый Омар, пока виноградный сок не омыл ее ноги и не пролился розовой пеной.
Это была блестящая импровизация. Лорд Генри чувствовал, что взгляд Дориана Грея прикован к нему, и понимание того, что среди публики был именно тот, кого он хотел захватить собой, казалось, придавало живости и красок его воображению. Он был фантастически великолепен и бесспорен. Он очаровал своих зрителей, как факир очаровывает кобру своей музыкой. Дориан Грей не сводил с него глаз, он сидел как зачарованный, время от времени на его лице появлялась улыбка, а в глазах росло удивление.
В конце концов реальность ворвалась в комнату, надев на себя костюм слуги, чтобы сообщить графине, что ее уже ждет экипаж. Она взмахнула руками в притворном отчаянии.
– Как же мне жаль, – сказала она, – что я должна уйти, чтобы забрать мужа из клуба и пойти с ним на какое-то глупейшее собрание в комнатах Уиллиса, где мой муж будет председательствующим. Если я опоздаю, он просто придет в ярость, а я не могу позволить себе ссориться в этой шляпке – она слишком хрупкая. Резкое слово разорвет ее. Поэтому я должна идти, дорогая Агата. Всего хорошего, лорд Генри, вы совершенно восхитительный и ужасно непонятный. Я даже не знаю, что думать о ваших теориях. Вы должны прийти и пообедать с нами как-нибудь вечером. Во вторник? Вы никуда не приглашены во вторник?
– Ради вас, графиня, я отменю любые планы, – сказал лорд Генри, поклонившись.
– Ох! Это так мило и одновременно так некрасиво с вашей стороны, – улыбнулась она, – поэтому имейте в виду, я жду вас. – С этими словами она оставила комнату в сопровождении леди Агаты и остальных дам.
Когда лорд Генри сел на стул, мистер Эрскин подошел к нему, сел рядом и положил руку ему на плечо.
– Вы способны переговорить кого угодно, – сказал он. – Почему же вы до сих пор не написали ни одной книги?
– Я слишком люблю читать книги, чтобы заниматься их написанием, мистер Эрскин. Конечно, я хотел бы написать роман, такой же прекрасный, как персидский ковер, и такой же волшебный. Но английских читателей ничего не интересует, кроме газет и энциклопедий. Из всех народов мира англичане хуже всего чувствуют красоту литературы.
– Боюсь, вы правы, – ответил мистер Эрскин. – Я и сам когда-то хотел писать, но уже давно бросил думать об этом. А теперь, мой дорогой друг, если вы позволите мне так к вам обратиться, я хотел бы спросить, вы действительно верите во все то, что говорили нам за обедом?
– Совершенно не помню, что я говорил, – улыбнулся лорд Генри. – Наверное, очень плохие вещи?
– Действительно, очень плохие. Собственно говоря, я считаю, что вы крайне опасны, и если с нашей дорогой графиней что-то случится, мы возложим вину за это на вас. Но я хотел бы поговорить с вами о жизни. Я представитель скучного поколения. Однажды, когда вам надоест Лондон, посетите меня в Тредли и расскажите о вашей философии наслаждений за бокалом изысканного бургундского, которое я имею счастье держать в погребе.
– Я буду в восторге. Для меня стало бы честью посетить Тредли. Имение имеет выдающегося хозяина и выдающуюся библиотеку.
– Вы ее дополните, – ответил пожилой джентльмен, уважительно поклонившись. – А теперь мне надо попрощаться с вашей прекрасной тетушкой. Мне пора в Атенеум. В это время мы обычно спим.
– Все, мистер Эрскин?
– Да, все сорок в сорока креслах. Так мы практикуемся, чтобы вступить в Английскую академию литературы.
Лорд Генри рассмеялся и встал.
– Я пойду в парк, – сказал он.
Когда он выходил из дверей, Дориан Грей взял его за руку.
– Позвольте мне пойти с вами, – сказал он.
– Но мне казалось, что вы обещали Бэзилу Холлуорду посетить его?
– Я лучше пойду с вами. Я чувствую потребность пойти с вами. Позвольте. И пообещайте все время мне что-то рассказывать. Никто не умеет так увлекательно рассказывать обо всем, как вы.
– Нет! На сегодня я уже наговорился, – с улыбкой ответил лорд Генри. – Теперь я хочу просто понаблюдать за жизнью. Можете пойти понаблюдать вместе со мной, если хотите.
Глава 4
Днем, месяц спустя, Дориан Грей сидел в роскошном кресле в маленькой библиотеке дома лорда Генри в районе Мейфэйр. Это была по-своему волшебная комната, обитая дубовыми панелями, с кремовыми бордюрами и лепниной на потолке. Персидские коврики, разбросанные на красном сукне, довершали образ. На столике из красного дерева стояла статуэтка Клодиона, а рядом лежал экземпляр «Les Cent Nouvelles»[4], переплетенный Кловис Эв для Маргариты Валуа. На книге красовались маргаритки – эмблема королевы. На каминной полке стояли голубые фарфоровые вазы с тюльпанами, а сквозь маленькие витражные окна струился абрикосовый свет летнего лондонского дня.
Лорд Генри еще не пришел. Он всегда опаздывал из принципа. Принцип этот заключался в том, что пунктуальность – это кража времени. Дориан сидел угрюмый и лениво листал страницы изысканно проиллюстрированного издания «Манон Леско», которое он нашел на одной из полок. Его раздражало однообразное тиканье часов работы Луи Кваторза. Несколько раз он даже задумался над тем, чтобы уйти.
Наконец он услышал шаги, и дверь открылась.
– Что же ты так опоздал, Гарри? – сказал он.
– Боюсь, это не Гарри, мистер Грей, – ответил резкий голос.
Дориан Грей быстро оглянулся и вскочил на ноги.
– Прошу прощения, я думал…
– Вы думали, это мой муж. А это всего лишь его жена. Позвольте представиться. Тем более что я уже вас хорошо знаю по вашим портретам. Если не ошибаюсь, мой муж приобрел уже семнадцать из них.
– Неужели семнадцать, леди Генри?
– Ну, может быть, восемнадцать. Кроме того, я однажды видела вас с ним в опере.
Она нервно смеялась во время разговора и не сводила с него своих голубых, будто незабудки, глаз. Это была интересная женщина, чей наряд всегда выглядел так, будто его шили в гневе, а одевали во время бури. Она все время была в кого-нибудь влюблена, но, поскольку ее страсть не встречала взаимности, она сохранила все свои иллюзии. Она стремилась выглядеть неотразимо, но удавалось ей выглядеть только неопрятно. Ее звали Виктория и ее болезненно тянуло в церковь.
– Кажется, это был «Лоэнгрин».
– Именно так, прекрасный «Лоэнгрин». Вагнер – мой любимый композитор. Его музыка такая громкая, что можно спокойно разговаривать без страха, что кто-то подслушает. Это огромное преимущество, вы согласны, мистер Грей?
С ее уст сорвался тот же смех, и ее пальцы начали играть с длинным черепаховым ножом для разрезания бумаги.
Дориан улыбнулся и покачал головой.
– Боюсь, я должен с вами не согласиться, леди Генри. Я никогда не разговариваю, когда звучит музыка, по крайней мере, хорошая музыка. Если же кто-то слышит плохую музыку, то он просто обязан заглушить ее разговором.
– О! Но это же слова Гарри, правда, мистер Грей? Я всегда слышу, как друзья Гарри говорят его словами. Именно так я о них узнаю. Но я не хочу, чтобы вы подумали, что я не люблю хорошую музыку. Я ее обожаю и одновременно боюсь. Она делает меня слишком романтичной. Я просто боготворю пианистов, Гарри говорит, что иногда даже двоих сразу. Я даже не знаю, что в них такого. Может, это потому, что они иностранцы? Они же все иностранцы, не так ли? Даже те, что родились в Англии, со временем становятся иностранцами, правда? Это так разумно и такой комплимент искусству. Это становится весьма космополитичным, не так ли? Вы же никогда не бывали на моих вечеринках, не так ли, мистер Грей? Вам обязательно следует прийти. Я не могу позволить себе орхидеи, однако у меня достаточно иностранцев. Они так украшают дом! А вот и Гарри! Гарри, я зашла, чтобы что-то у тебя спросить, уже и не помню что, и наткнулась на мистера Грея. Мы с ним очень мило поболтали о музыке. У нас с ним одни и те же предпочтения. Хотя нет, думаю, как раз наоборот. Но с ним очень приятно общаться. Я так рада, что познакомилась с ним.
– Я рад, дорогая, очень рад, – сказал лорд Генри, поднимая свои темные изогнутые брови и глядя на обоих с улыбкой. – Прости за опоздание, Дориан. Я заглянул на Вардур-стрит, чтобы приобрести кусок старинной парчи, и мне пришлось целый час за нее торговаться. В наше время люди знают стоимость всего, но ничему не знают цены.
– Боюсь, я должна идти, – сказала леди Генри, оборвав неловкое молчание своим внезапным бессмысленным смехом. – Я пообещала графине составить ей компанию. Всего хорошего, мистер Грей. Всего хорошего, Гарри. Я так понимаю, ты идешь куда-то на обед? Я тоже. Возможно, увидимся у леди Торнбери.
– Так и будет, дорогая, – сказал лорд Генри, закрыв дверь, после того как она, будто райская птичка, попавшая под страшный ливень, выпорхнула из комнаты, оставив за собой легкий аромат жасмина. Затем он закурил и растянулся на диване. – Никогда не женись на блондинке, Дориан, – сказал он после нескольких затяжек.
– Почему, Гарри?
– Потому что они очень сентиментальны.
– Но я тоже человек сентиментальный.
– Вообще никогда не женись, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины – из любопытства. В результате – оба разочарованы.
– Не думаю, что мне придется жениться, Гарри. Я слишком влюблен для этого. Это один из твоих афоризмов. Я воплощаю его в жизнь, как и все, что ты говоришь.
– В кого ты влюблен? – спросил лорд Генри после короткой паузы.
– В актрису, – сказал Дориан Грей и начал краснеть.
Лорд Генри пожал плечами:
– Вполне типичный предмет первой любви.
– Если бы ты ее увидел, то не говорил бы так.
– Кто же она?
– Ее зовут Сибила Вэйн.
– Ничего не слышал о ней.
– И никто не слышал. Но однажды обязательно услышат. Она гениальна.
– Мальчик мой, среди женщин нет гениев. Женщины – это декоративный пол. Им всегда нечего сказать, и они очаровательно об этом говорят. Женщины олицетворяют триумф тела над разумом, так же как мужчины олицетворяют триумф разума над моралью.
– Гарри, как ты можешь?
– Но это правда, дорогой Дориан. Я изучаю женщин, поэтому кому, как не мне, знать. Предмет не такой непонятный, как мне казалось. Я считаю, что, в конечном счете, есть только два типа женщин: некрасивые и накрашенные. Первые женщины очень полезны. Если нужно заработать репутацию уважаемого человека, достаточно просто пригласить их на ужин. Вторая категория – это крайне очаровательные женщины. Однако они совершают одну ошибку. Они добавляют себе красок, чтобы выглядеть молодыми. Наши бабушки добавляли себе красок, чтобы удачно поддерживать разговор. Румяна и красноречие шли в комплекте. Сейчас этого уже нет. Женщина довольна, пока она может выглядеть на десять лет моложе собственной дочери. А насчет бесед, на весь Лондон только пять женщин, с которыми интересно разговаривать, двух из них невозможно представить в приличном обществе. Но все-таки расскажи мне о своем гении. Как давно ты ее знаешь?
– Боже! Гарри, твои взгляды пугают меня.
– Не обращай внимания. Вы уже давно знакомы?
– Около трех недель.
– И где же вы встретились впервые?
– Я расскажу тебе, Гарри, но ты не должен быть таким черствым. В конце концов, этого не случилось бы, если бы я не познакомился с тобой. Ты наполнил меня безудержной жаждой узнать все о жизни. После нашей встречи нечто будто запульсировало в моих жилах. Когда я отдыхал в парке или прогуливался по Пикадилли, я рассматривал всех прохожих, мне было очень интересно, что у них за жизнь. Некоторые из них меня захватывали, другие наводили на меня ужас. Воздух был наполнен несравненным ароматом. Я страстно желал новых ощущений… Так однажды вечером, около семи часов, я решил отправиться на поиски приключений. Я чувствовал, что Лондон, это чудовище с его бесконечными толпами людей, с его упорными грешниками и роскошными грехами, как ты когда-то говорил, припас кое-что для меня. Множество вещей захватывали меня. Даже опасность стала удовольствием. Я вспомнил, что ты сказал мне в тот чудесный вечер, когда мы в первый раз обедали вместе, что поиск красоты есть секрет жизни. Не знаю, чего я ожидал, но я побрел на восток и очень скоро заблудился в лабиринте мрачных улиц и темных переулков, покрытых брусчаткой. Около половины девятого я набрел на жалкий маленький театр с отвратительной афишей, напечатанной отталкивающим шрифтом. Противный еврей в самом удивительном жакете, который я когда-либо видел, стоял перед входом и курил сигару. У него были сальные волосы, а на грязной манишке сверкал огромный бриллиант. Когда он увидел меня, то сказал: «Хотите приобрести билет в ложу, милорд?» – и удивительно услужливо снял передо мной шляпу. Гарри, в нем было что-то такое, что меня поразило. Это было просто чудовище. Знаю, тебе это покажется смешным, но я действительно пошел туда и заплатил целую гинею за ложу перед сценой. Я до сих пор не могу понять, почему я это сделал, однако, если бы все было иначе, дорогой Гарри, если бы все было иначе, я не встретил бы любовь всей своей жизни. Я вижу, ты смеешься. Это ужасно с твоей стороны!
– Я не смеюсь, Дориан, по крайней мере, я не смеюсь над тобой. Но не стоит называть это любовью всей твоей жизни. Лучше называй это первой любовью в твоей жизни. Тебя всегда будут любить, а ты будешь влюблен в любовь. Пламенная страсть – это привилегия людей, которым больше нечем заняться. Это единственное применение для высших слоев общества. Не стоит бояться. Тебя ждут удивительные вещи. Это всего лишь начало.
– Ты думаешь, я настолько поверхностно вижу мир? – злобно спросил Дориан Грей.
– Нет, я считаю, что ты глубоко чувствующая натура.
– Что ты имеешь в виду?
– Мальчик мой, те, кто влюбляются лишь раз, поверхностно смотрят на мир. То, что они называют преданностью и верностью, я называю летаргией привычки или просто отсутствием воображения. Верность – это то же для эмоциональной жизни, что постоянство для интеллектуальной, – признание собственной неудачи. Верность! Мне следует когда-то ее проанализировать. В ней есть жажда обладать. Мы могли бы выбросить так много вещей, если бы не страх, что их подберет кто-то другой. Но я не хотел тебя перебивать. Продолжай, пожалуйста.
– Что ж, я оказался в неприлично крохотной приватной ложе, а прямо перед моими глазами висели неуклюже раскрашенные кулисы. Я отодвинул ширму, чтобы осмотреть зал – он был безвкусно оформлен: амуры и рога изобилия, как на третьесортном свадебном торте. Галерея и задние ряды были полностью заполнены, а вот потрепанные кресла впереди пустовали. На тех местах, которые они называли балконом, не было вообще никого. Между рядами ходили продавцы апельсинов и имбирного пива, и абсолютно все ели орехи.
– Это, наверное, напоминало золотой век британской драматургии.
– Думаю, именно так, но в то же время это было крайне уныло. Я начал думать, что же делать, когда посмотрел на билет. Как ты думаешь, Гарри, что это был за спектакль?
– Скорее всего, что-то вроде «Невинный дурачок»… Думаю, нашим родителям нравились подобные произведения. Чем дольше я живу, Дориан, тем острее чувствую, что то, что подходило нашим родителям, совсем не подходит нам. В искусстве, как и в политике, старики всегда не правы.
– Этот спектакль нам подходил, Гарри. Это был «Ромео и Джульетта». Должен признать, мне стало обидно за Шекспира, которого играют в такой богом забытой дыре. И все же мной овладело любопытство. В конце концов, я решил посмотреть хотя бы первый акт. Ужасный оркестр под управлением молодого еврея, который сидел за разбитым фортепьяно, уже почти прогнал меня оттуда, но вот наконец поднялся занавес, и началось собственно представление. Ромео играл крепкий пожилой мужчина с подведенными бровями, трагическим голосом и фигурой, что у пивной бочки. Меркуцио был так же ужасен. Его играл дешевый комедиант, который вставлял собственные неудачные шутки в реплики, однако наладил дружеские отношения с задними рядами. Они оба были нелепы, как и декорации, и это выглядело так, будто они явились сюда из сельского балагана. Но Джульетта! Гарри, представь себе девушку, которой едва исполнилось семнадцать, с маленьким, прекрасным, будто цветок, личиком, глазами фиалкового цвета, напоминающими колодцы страсти, изящной головой, как у греческих статуй, на которой красуются заплетенные пряди темно-русых волос, и губами, которые больше напоминают лепестки розы. Она – самое прекрасное создание, которое я когда-либо видел. Ты когда-то говорил мне, что пафос оставляет тебя равнодушным, однако эта красота – красота в чистом виде, даже твои глаза она наполнила бы слезами. Говорю тебе, Гарри, я едва мог разглядеть ее за туманом слез, накативших на меня. А ее голос – такого голоса я еще не слышал никогда. Вначале он был очень низкий, его глубокая, ласкающая нота как будто отдельно вливалась в уши. Потом он стал громче и звучал, как флейта или далекий гобой. Во время сцены в саду в нем было трепетный экстаз, что человек слышит только перед рассветом, когда поют соловьи. Позже он иногда нес в себе безудержную страсть скрипки. Ты же знаешь, на какие удивительные вещи способен голос. Голос Сибилы Вэйн и твой – это те две вещи, которые я никогда не смогу забыть. Я слышу их каждый раз, когда закрываю глаза, и каждый из них говорит мне разные вещи. Я не знаю, который из них слушать. Почему же мне не следует любить ее? Гарри, я действительно люблю ее. Она стала для меня всем. Я каждый вечер прихожу, чтобы увидеть ее игру. В один вечер она Розалинда, а на следующий – уже Имоджена. Я видел, как она умирает в мрачной итальянской могиле, выпив яд с губ любимого. Я видел, как она бродит лесами Арденна, выдавая себя за прекрасного мальчика, одетого в камзол, панталоны и шляпу. Она впадала в неистовство, приходила к злому королю и давала ему выпить яд с горькими травами. Она была невинной Дездемоной, чью лебединую шею безжалостно сжимали черные руки ревнивца. Я видел ее в любом возрасте и каждом образе. Обычные женщины никогда не будоражат воображение. Они прикованы к своему веку. Ни одно платье не преображает их. Их мнения видно так же хорошо, как и их шляпы. Их всегда можно найти. Ни в одной из них нет тайны. Утром они катаются верхом в парке, а вечером сплетничают за чашкой чаю. У них стандартные улыбки и изысканные манеры. Все в них очевидно. Но актрисы! С актрисами все иначе! Гарри, почему же ты никогда не говорил мне, что если кого и стоит любить, то только актрис?
– Потому что я любил очень многих актрис, Дориан.
– Да, конечно, этих ужасных женщин с крашеными волосами и разрисованными лицами.
– Не своди все к крашеным волосам и разрисованным лицам. Иногда и в них бывает необыкновенная прелесть.
– Лучше бы я не рассказывал тебе о Сибиле Вэйн.
– Ты не мог удержаться, чтобы не рассказать мне. Ты всю жизнь будешь мне рассказывать обо всем, что делаешь.
– Да, Гарри, думаю, это правда. Я ничего не могу от тебя скрыть. Ты интересным образом влияешь на меня. Если бы я когда-то совершил преступление, то пошел бы и признался тебе. Ты бы меня понял.
– Такие люди, как ты, Дориан, своенравные, подобно солнечным лучам озаряющие жизнь, не совершают преступлений. Но все равно я очень благодарен за комплимент. А теперь скажи мне… будь добр, подай мне спички, спасибо… скажи мне, в каких отношениях с Сибилой Вэйн ты находишься сейчас?
Дориан Грей вскочил на ноги, его щеки покраснели, а в глазах вспыхнул огонь.
– Гарри! Сибила Вэйн священна для меня!
– Только к священным вещам и стоит прикасаться, Дориан, – сказал лорд Генри с необычной ноткой пафоса в голосе. – Но что тебя так раздражает? Предполагаю, что однажды она станет твоей. Влюбленные всегда начинают обманывать самих себя, а в результате они обманывают всех остальных. Именно это и называют любовью. В любом случае полагаю, что вы знакомы, ведь так?
– Конечно, мы знакомы. В первый же вечер, когда я был в театре, ужасный старый еврей зашел в ложу по завершению представления и предложил провести меня за кулисы и познакомить с Джульеттой. Это взбесило меня. Я сказал ему, что Джульетта уже сотни лет лежит в могиле в Вероне. Судя по его изумленному взгляду, у него сложилось впечатление, будто я выпил слишком много шампанского.
– Что неудивительно.
– Потом он спросил, пишу ли я в газеты, на что я ответил, что даже не читаю их. Похоже, он был этим крайне разочарован, он признался мне, что все театральные критики в заговоре против него и все они куплены.
– Я не удивлюсь, если он прав. Но в то же время, судя по их виду, большинство из них продаются почти даром.
– Что же, казалось, он считал, что ему они не по карману, – засмеялся Дориан. – К тому времени в театре уже погас весь свет, и я был вынужден уйти. Он настойчиво угощал меня сигарами, очень хорошими, по его словам. Но я отказался. На следующий вечер я, конечно, снова пришел в театр. Увидев меня, он низко поклонился мне и заверил, что я щедрый покровитель искусств. Крайне отталкивающий тип, однако он просто выдающийся поклонник Шекспира. Однажды он рассказал мне, что пять раз прогорал только потому, что упорно ставил «Барда». Кажется, он считал это своей отличительной чертой.
– Так оно и есть, дорогой Дориан, – в этом его огромное отличие от других. Большинство людей остаются ни с чем, потому что вкладывают огромные средства в прозу жизни. Потерять все из-за поэзии – это честь. Но когда ты впервые поговорил с Сибилой Вэйн?
– На третий вечер. Она играла Розалинду. Я просто не мог сдержаться. Я бросил на сцену цветы, а она посмотрела на меня, по крайней мере, я очень хотел, чтобы было именно так. Старый еврей был настойчив. Он, видимо, решительно был настроен отвести меня за кулисы, и я сдался. Это было странно с моей стороны – не хотеть увидеть ее, правда?
– Нет, я так не считаю.
– Почему, дорогой Гарри?
– Я расскажу об этом в другой раз. А теперь расскажи мне о девушке.
– О Сибиле? Ах, она такая нежная и скромная. Есть в ней что-то детское. Она смотрела на меня широко открытыми, полными искреннего удивления глазами, когда я рассказывал, что думаю о ее игре. Казалось, она совершенно не замечала своей власти надо мной. Старый еврей скалился на пороге грязной гримерки и произносил хитроумные речи о нас обоих, пока мы стояли и смотрели друг на друга, будто дети. Он настойчиво называл меня «милорд», поэтому мне пришлось убеждать Сибилу, что никакой я не милорд на самом деле. Она сказала мне прямо: «Ты больше похож на принца, я буду называть тебя Прекрасным Принцем».
– Честное слово, Дориан, мисс Сибила знает толк в комплиментах.
– Ты ее не понимаешь, Гарри. Я для нее просто персонаж из пьесы. Она ничего не знает о жизни. Она живет со своей угасшей, уставшей матерью, которая играла леди Капулетти в первый вечер. Выглядит она так, будто ее лучшие времена уже прошли.
– Мне знаком этот вид. Он нагоняет на меня тоску, – заметил лорд Генри, разглядывая свои кольца.
– Еврей хотел рассказать мне о ней, но я сказал, что мне это не интересно.
– И правильно сделал. В трагедиях других людей всегда есть что-то чрезвычайно низкое.
– Сибила – это единственное, что имеет для меня значение. Какая мне разница, откуда она? От головы до маленьких ножек она совершенно и полностью божественна. Каждый день я хожу смотреть на ее выступления, и с каждым днем она кажется мне все чудеснее.
– Я так понимаю, именно по этой причине ты не останешься сейчас со мной поужинать. Я предполагал, что ты в плену какого-то странного увлечения. Так и есть, но это не совсем то, чего я ожидал.
– Но, дорогой Гарри, мы ежедневно вместе обедаем или ужинаем, и я несколько раз ходил с тобой в оперу, – сказал Дориан с круглыми от удивления глазами.
– Да, но ты всегда опаздываешь.
– Но я не могу не пойти посмотреть на игру Сибилы, – ответил Дориан, – хотя бы в одном действии. Мне ее все время не хватает, а когда я думаю о чудесной душе, заключенной в этом хрупком теле цвета слоновой кости, меня охватывает трепет.
– Ты можешь поужинать со мной сегодня, Дориан?
Он отрицательно покачал головой:
– Сегодня она Имоджена, а завтра будет Джульеттой.
– А когда же она Сибила Вэйн?
– Никогда.
– Прими мои поздравления.
– Как же ты невыносим! Она олицетворяет собой всех великих героинь мира. Она больше, чем личность. Можешь смеяться, но говорю тебе: она гениальна. Я люблю ее и должен заставить ее полюбить меня. Ты же знаешь все тайны жизни, так расскажи мне, как завоевать сердце Сибилы Вэйн. Я хочу, чтобы Ромео ревновал. Я хочу, чтобы уже умершие влюбленные всего мира, слыша наш смех, грустили. Я хочу, чтобы дыхание нашей страсти пробудило их прах в сознание, чтоб их пепел почувствовал боль. Боже мой, Гарри, как я ее обожаю!
Дориан ходил взад-вперед по комнате и говорил. Лихорадочный румянец горел на его щеках. Он был очень возбужден.
Лорд Генри наблюдал за ним со скрытым удовольствием. Как же он был сейчас непохож на скромного напуганного мальчика, которого он встретил в мастерской Бэзила Холлуорда! Его личность раскрывалась, как цветок, и расцветала ярко-красным пламенем. Душа его вышла из своего тайного убежища, и желание поспешило ей навстречу.
– И что ты предлагаешь сделать? – спросил наконец лорд Генри.
– Я хочу, чтобы вы с Бэзилом как-нибудь пошли вместе со мной и увидели ее игру. Я точно знаю, что будет дальше. Вы, без сомнения, согласитесь, что она – настоящий гений. Затем мы должны вырвать ее из лап еврея. Она обязана проработать у него три года, по крайней мере, два года и восемь месяцев, если считать с сегодняшнего дня. Конечно, придется ему заплатить. Когда все образуется, я устрою ее в один из театров в Вест-Энде. Она поразит весь мир так же, как поразила меня.
– Боюсь, это невозможно, мой дорогой мальчик.
– Поразит, поразит. Она не просто несет в себе искусство, совершенное и инстинктивное, она личность, а ты часто говоришь мне, что это личности, а не принципы меняют эпохи.
– Что ж, когда мы пойдем?
– Дай подумаю. Сегодня вторник. Давай договоримся на завтра. Завтра она играет Джульетту.
– Хорошо. В восемь в Бристоле, я возьму с собой Бэзила.
– Только не в восемь, Гарри, пожалуйста. В половине седьмого. Мы должны быть на месте до того, как поднимется занавес. Вы должны увидеть, как она встречает Ромео в первом акте.
– Половина седьмого! Ну что это за время такое! Это же что-то несносное, словно мясо с чаем или чтение английского романа. Только в семь, ни один порядочный джентльмен не ужинает раньше, чем в семь. Ты увидишь Бэзила к тому времени или мне стоит написать ему?
– Добряк Бэзил! Я уже целую неделю его не видел. Это довольно грубо с моей стороны, ведь он прислал мне портрет в изысканной раме, которую сам сделал для меня. Кроме того, хотя я и завидую немного портрету за то, что он на целый месяц моложе меня, должен признать, что он мне очень нравится. Пожалуй, лучше напиши ему. Не хочу общаться с ним наедине. Он раздражает меня своими разговорами. Он дает мне добрые советы.
Лорд Генри улыбнулся:
– Люди любят раздавать то, в чем сами нуждаются больше всего. Именно это я называю верхом великодушия.
– Эх, Бэзил – замечательный друг, но он кажется мне неким обывателем. Я заметил это, когда познакомился с тобой, Гарри.
– Мальчик мой, Бэзил вкладывает все волшебное, что есть в нем, в свою работу. Как следствие, у него не остается ничего, чтобы жить, кроме его предубеждений, принципов и здравого смысла. Все приятные как личности художники, которых я знаю, – плохие художники. Хорошие художники существуют лишь в том, что они делают, поэтому они совершенно не интересны как люди. Великий поэт, действительно великий поэт, это наименее поэтичное создание из всех. А второстепенные – обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее они выглядят. Сам факт того, что он опубликовал книгу второсортных сонетов, делает человека совершенно неотразимым. Он живет поэзией, которую не может написать. Другие пишут стихи, но у них нет смелости внести их в жизнь.
– Даже не знаю, действительно ли это так, Гарри, – сказал Дориан, смачивая платок духами из большого флакона с золотой пробкой, который стоял на столе. – Раз ты так говоришь, это должно быть правдой. А сейчас мне пора уходить. Меня ждет Имоджена. Не забывай о завтра. Пока.
Когда он вышел из комнаты, лорд Генри закрыл глаза и задумался. Мало кто интересовал его больше Дориана Грея, и все же юношеская увлеченность кем-то другим не вызывала в нем ни капли раздражения или ревности. Она радовала его. Это сделало еще более интересным исследование природы Дориана. Его захватывали методы естественных наук, однако сам предмет этих наук казался ему обыденным и незначительным. Поэтому он начал заниматься вивисекцией самого себя, а потом стал заниматься вивисекцией других. Он считал, что только человеческая жизнь стоит того, чтобы ее исследовали. Все остальное не имело значения по сравнению с ней. Действительно, увидев жизнь во всем ее многообразии удовольствий и боли, никто не мог продолжать носить стеклянную маску безразличия на своем лице, чтобы уберечься от ужасных фантазий или обманчивых мечтаний. В жизни есть настолько неуловимые яды, что нужно самому пострадать от них, чтобы понять их действие. Есть такие странные болезни, что, только оправившись от них, можно понять их природу. И все же огромная награда ждет того, кто пройдет этот путь. Каким же чудесным становится для него мир! Какая же это радость – заметить странную логику страсти и эмоциональную окрашенность интеллекта, наблюдать, как они объединяются в единое целое, чтобы снова разойтись своими дорогами, замечать моменты, когда они в гармонии и когда диссонируют друг с другом! Какая разница, какой ценой. Любое ощущение – бесценно.
Он понимал, и это понимание придавало радостного блеска его агатовым глазам, что это его слова, музыка его речей, произнесенных его певучим голосом, заставили душу Дориана Грея обратиться к прелестной девушке и преклониться перед ней. Во многом парень стал его творением. Он быстро открыл юноше тайны жизни. Это многое значит. Обычные люди ждут, пока жизнь сама откроет им эти секреты, но немногим избранникам тайны жизни открываются раньше, чем поднимется завеса. Иногда это происходит благодаря искусству, в основном благодаря литературе, которая имеет дело непосредственно с умом и страстями. И время от времени сформировавшаяся личность берет на себя функцию искусства и становится своеобразным его произведением. Жизнь, так же как и литература, живопись или скульптура, имеет собственные шедевры.
Да, Дориан быстро повзрослел. Он уже собирает урожай, хотя еще весна. Он все еще чувствовал пульс и страсть молодости, однако уже осознавал себя. За ним было приятно наблюдать. Его прекрасные тело и душа делали из него настоящее чудо. Не имело значения, как это все закончится или как должно закончиться. Он был будто участник карнавала или персонаж спектакля, чьи радости кажутся нам далекими, но чьи страдания пробуждают в нас чувство прекрасного, ведь их раны похожи на розы.
Душа и тело, тело и душа, как же они загадочны! Есть что-то животное в душе, а тело также несет в себе долю духовности. Чувственные порывы способны со временем стать утонченными, а разум – угаснуть. Можно ли с уверенностью сказать, когда именно голос души начинает звучать громче, чем голос тела? Определения психологов слишком расплывчатые! Да и к тому же различные школы трактуют одни и те же вещи по-разному. Неужели душа действительно только тень в царстве греха? Или, как говорил Джордано Бруно, тело содержится в душе? Разделение тела и духа – это такая же тайна, как и их объединение.
Ему стало интересно, сможет ли психология когда-либо стать абсолютной наукой, которая объяснит нам каждую мельчайшую частичку жизни. На данный момент мы все еще слишком часто не понимаем самих себя и окружающих. Опыт не имеет никакой моральной значимости. Это только название, которое люди дали своим ошибкам. Как правило, моралисты считают его своеобразным предостережением, полезным для формирования характера, превозносят его, как учителя, который подсказывает, каким путем лучше пойти. Однако опыт не может мотивировать. В нем, как и в сознании в общем, нет движущей силы. Единственное, на что он указывает, это то, что наше грядущее обычно бывает подобно нашему прошлому и что грех, совершенный однажды с содроганием, мы повторяем в жизни много раз и с радостью.
Для него было очевидно, что научно проанализировать страсти можно только с помощью эксперимента. Дориан Грей стал для него удобным и перспективным объектом исследования. Его неожиданные безумные чувства к Сибиле Вэйн представляли собой весьма интересный психологический феномен. Несомненно, большую роль в этом сыграл интерес, любопытство и жажда новых ощущений, однако это была не простая, а весьма разносторонняя страсть. То, что было рождено чувственными юношескими инстинктами, самому Дориану кажется чем-то далеко не чувственным, а потому оно крайне опасно. Именно страсти, о природе которых мы обманываем сами себя, имеют наибольшую власть над нами. Слабее же всего на нас влияют вполне понятные нам мотивы. Часто случается так, что мы проводим эксперименты над самими собой, думая, что экспериментируем над другими.
Пока лорд Генри сидел и размышлял обо всем этом, раздался стук в дверь, в комнату вошел дворецкий и напомнил, что пора собираться на ужин. Лорд встал и выглянул на улицу. Закат окрасил пурпуром и золотом верхние окна в доме напротив. Стекла сверкали, как листы нагретого металла. Небо над головой было блекло-розового цвета. Он думал о своем молодом друге и его огненного цвета жизни, и ему было интересно, к чему все это приведет.
Вернувшись домой около половины первого, он заметил на столе в гостиной телеграмму от Дориана Грея. Он открыл ее и прочитал, что юноша помолвлен с Сибилой Вэйн.
Глава 5
– Мама, мама, как же я счастлива! – шептала девушка, склонив голову на колени пожилой женщине с усталым лицом, которая сидела спиной к яркому свету в единственном кресле, стоявшем в их мрачной гостиной. – Как же я счастлива! – повторила Сибила. – И тебе также стоит радоваться!
Миссис Вэйн вздрогнула и положила свои тонкие набеленные руки дочери на голову.
– Радоваться! – тихо проговорила она. – Я, Сибила, радуюсь, только когда наблюдаю за твоей игрой. Тебе не стоит думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс прекрасно к нам относится, мы должны ему денег.
Девушка подняла голову и недовольно поморщилась.
– Деньги, мама? – переспросила она – Что такое деньги? Любовь важнее любых денег.
– Мистер Айзекс дал нам пятьдесят фунтов вперед, чтобы мы могли оплатить долги и приобрести все необходимое для Джеймса. Тебе нельзя об этом забывать, Сибила. Пятьдесят фунтов – это огромная сумма. Мистер Айзекс чрезвычайно благосклонен к нам.
– Он не джентльмен, мама, и мне противна его манера разговаривать со мной, – сказала девушка, вставая и направляясь к окну.
– Но если бы не он, я даже не знаю, что бы мы делали, – мрачно сказала мать.
Сибила Вэйн покачала головой и засмеялась.
– Он нам больше не нужен, мама. Теперь нашу жизнь будет устраивать Прекрасный Принц.
Затем она замолчала. Кровь ударила ей в лицо, окрасив щеки в розовый цвет. Ее уста разжались и задрожали. Ветер страсти, казалось, встревожил складки ее платья.
– Я люблю его, – выдохнула она.
– Глупенькое дитя! Глупенький ребенок! – повторяла мать в ответ. А движения скрюченных пальцев с дешевыми перстнями на них делали ее слова какими-то бессмысленными.
Девушка снова засмеялась. В ее голосе звучало счастье птицы, попавшей в клетку. Ту же радость излучали ее глаза, она на мгновение закрыла их, будто пытаясь скрыть свою тайну. Когда же они вновь открылись, то были будто овеяны туманом мечтаний.
Из обтрепанного кресла с ней говорила тонкогубая мудрость, проповедуя осторожность, приводя соображения из книги трусости, которую сама называла здравым смыслом. Но она не слушала. Она чувствовала себя свободной в своей клетке страсти. Ее Принц, ее Прекрасный Принц, был рядом с ней. Она обратилась к памяти, чтобы воспроизвести его образ. Она отправила свою душу на поиски, и та вернула ей Принца. Его поцелуй еще горел на губах. Ее веки еще согревало его дыхание.
Тогда мудрость изменила тактику и заговорила о том, что следует узнать человека как можно лучше. Возможно, этот юноша состоятельный. Если так, надо подумать о браке. Но волны житейской хитрости не достигали берегов ушей Сибилы, а стрелы лукавства летели мимо. Она видела перед собой только его тонкие губы и сияла улыбкой.
Вдруг она почувствовала потребность поговорить. Громкое молчание смутило ее.
– Мама, мама, – сказала она – за что он меня так любит? Я знаю, за что я люблю его – за то, что он похож на саму любовь. Но что же он нашел во мне? Я его не сто́ю. И все же, сама не знаю почему, я не чувствую себя униженной. Я горжусь, очень горжусь. Мама, ты любила моего отца так же, как я люблю Прекрасного Принца?
Старушка побледнела под слоем дешевой пудры, а ее губы скривились от боли. Сибила подбежала к ней, обняла и прижала к себе.
– Прости, мама, я знаю, что тебе больно говорить об отце. Но ведь тебе больно, потому что ты так сильно его любила. Не стоит унывать. Я так же счастлива, как ты была двадцать лет назад. Так позволь же мне оставаться счастливой всегда!
– Крошка моя, ты еще слишком молода, чтобы влюбляться. Кроме того, что тебе известно об этом молодом человеке? Ты даже не знаешь, как его зовут. Вся эта история очень неудобная, да еще и Джеймс отправляется в Австралию, и все это мне как снег на голову. Хочу сказать, тебе стоит получше все это обдумать. Однако, если он все-таки богатый…
– Мама, ну мама, позволь мне быть счастливой!
Миссис Вэйн посмотрела на дочь и обняла ее широким театральным жестом, которые так часто становятся вполне обыденными для актеров. Тотчас в комнату вошел несколько неуклюжий молодой человек с непослушными темными волосами. У него была коренастая фигура, большие руки и ноги. Он ни в чем не был таким изящным, как его сестра. Было даже трудно поверить, что они родственники. Миссис Вэйн посмотрела на него и улыбнулась еще шире. Для нее сын стал зрителем, перед которым они с дочкой разыгрывали интересную сцену.
– Может, мне перепадет несколько твоих поцелуев, Сибила? – сказал юноша с доброжелательной улыбкой.
– Ты же не любишь, чтобы тебя целовали, – ответила она. – Ах ты медведь!
Она подбежала к нему и крепко обняла.
Джеймс Вэйн с нежностью посмотрел на лицо сестры.
– Пойдем прогуляемся, Сиб. Не думаю, что мне еще когда-нибудь придется вернуться в этот страшный город. Да я и не хочу.
– Сынок, не говори таких ужасных вещей, – сказала миссис Вэйн, вздохнув, и взялась латать какое-то театральное платье.
Она немного расстроилась из-за того, что к ним не присоединился ее сын. Это только добавило бы драматизма ситуации.
– Почему бы и нет, мама? Так оно и есть.
– Мне больно это слышать. Я надеюсь, что ты вернешься из Австралии состоятельным человеком. В колониях не сыскать приличного общества, поэтому, когда заработаешь себе состояние, возвращайся и обустраивай жизнь в Лондоне.
– Приличное общество… – пробормотал юноша. – Мне это не интересно. Я просто хочу заработать достаточно денег, чтобы вам с Сибилой больше не приходилось работать в театре. Я ненавижу театр.
– Эх, Джим, – с улыбкой сказала Сибила, – как же это невежливо с твоей стороны! Ты действительно хочешь погулять со мной? Это было бы прекрасно! Я боялась, что ты пойдешь прощаться со своими друзьями – с Томом Харди, который подарил тебе ту странную трубку, или Недом Лэнгтоном, который всегда смеется над тобой, когда ты ее куришь. Это очень мило с твоей стороны – провести свой последний вечер в Лондоне со мной. Куда пойдем? Давай пойдем в парк.
– Я плохо выгляжу для парка, – ответил он, нахмурившись. – Только хорошо одетые люди ходят в парк.
– Что за глупости ты говоришь, Джим! – Она поправила рукав его пиджака.
Мгновение он колебался.
– Ну хорошо, – сказал он наконец, – только собирайся быстрее.
Она, пританцовывая, выбежала из комнаты. С лестницы раздавалось ее радостное пение.
Он несколько раз обошел комнату, а потом обернулся к неподвижной фигуре в кресле.
– Мама, мои вещи готовы? – спросил он.
– Да, все готово, Джеймс, – ответила она, не сводя глаз со своего шитья.
Последние несколько месяцев ей было неудобно оставаться наедине со своим жестким и грубым сыном. Ее таинственная натура волновалась, когда они встречались взглядами. Она все время думала: не заподозрил он что-то? В конце концов она не выдержала молчания, которое Джеймс не собирался нарушать. Она начала жаловаться. Женщины защищаются или с помощью нападения, или с помощью внезапной и необъяснимой капитуляции.
– Надеюсь, Джеймс, ты будешь доволен своей жизнью моряка, – сказала она. – Не забывай только, что это был твой выбор. Ты мог бы стать поверенным. Адвокаты – весьма почтенное сословие, в провинции их часто приглашают в самые лучшие дома.
– Я ненавижу офисы и клерков, – ответил он. – Но ты права. Я сам выбрал для себя жизнь. Все, чего я прошу, мама, – береги Сибилу. Не допусти, чтобы с ней что-то произошло. Мама, ты должна о ней позаботиться.
– Ты говоришь странные вещи, Джеймс. Конечно, я позабочусь о Сибиле.
– Я слышал, что какой-то джентльмен каждый вечер приходит в театр и ходит к ней за кулисы. Это правда? Что ты скажешь об этом?
– Ты говоришь о вещах, которых не понимаешь, Джеймс. Для нашей профессии нормально, когда нам уделяют внимание. Когда-то мне тоже присылали множество цветов. Это было в то время, когда люди действительно знали толк в театре. А насчет Сибилы, так я еще не знаю, насколько серьезно это ее увлечение. Но этот юноша, без сомнения, настоящий джентльмен. Он всегда очень вежлив со мной. Кроме того, похоже, он весьма богат, ведь он всегда посылает Сибиле просто замечательные цветы.
– Однако ты не знаешь, как его зовут, – сухо сказал Джеймс.
– Нет, – ответила его мать с невозмутимым выражением лица. – Он все еще не открыл свое настоящее имя. Я считаю, в этом есть что-то крайне романтичное. Он явно аристократ.
Джеймс Вэйн прикусил губу.
– Позаботься о Сибиле, мама, – сказал он, – позаботься.
– Сынок, ты меня обижаешь. Сибила всегда находится под моей заботливой опекой. Этот джентльмен состоятельный, так почему бы нам не заручиться его поддержкой. Он, скорее всего, из аристократов, по крайней мере, все на это указывает. Он может стать блестящей партией для Сибилы. Из них получилась бы отличная пара. Он действительно выдающийся красавец, это все замечают.
Юноша бормотал что-то про себя и барабанил пальцами по подоконнику. Он как раз обернулся, чтобы что-то сказать, когда дверь отворилась и в комнату вбежала Сибила.
– Вы такие серьезные! – воскликнула она. – Что произошло?
– Ничего, – ответил он. – Думаю, всем иногда приходится быть серьезными. Всего хорошего, мама. Я пообедаю в пять. Не переживай: весь багаж, кроме рубашек, уже сложен.
– Всего хорошего, сынок, – ответила она и сдержанно поклонилась.
Ее очень раздражало то, как он с ней разговаривал, а его взгляд вызвал в ней страх.
– Поцелуй меня, мамочка, – сказала девушка. Ее нежные, будто лепестки цветов, губы прикоснулись к материнской щеке и на мгновение согрели ее.
– Доченька! Доченька! – воскликнула миссис Вэйн, подняв глаза вверх, чтобы увидеть галерку воображаемого театра.
– Пойдем уже, Сиб, – нетерпеливо позвал ее брат. Он терпеть не мог театральности матери.
Они вышли на улицу, где было ветрено, но солнечно, и пошли вниз по унылой Юстон-роуд. Прохожие с удивлением смотрели на мрачного неряшливо одетого юношу, который сопровождал грациозную и изящную юную леди. Он был похож на простого садовника рядом со своей розой.
Время от времени Джим хмурился, улавливая на себе любопытные взгляды незнакомцев. Он ненавидел, когда его рассматривали. Это ощущение приходит к гениям на склоне лет, но никогда не покидает простых людей. Сибила же не обращала на это никакого внимания. Ее любовь вызывала улыбку на ее лице. Сибила думала о Прекрасном Принце, но не говорила о нем, чтобы не отвлекаться от своих мыслей. Вместо этого она рассказывала о корабле, на котором Джим выйдет в море, о золоте, которое он обязательно найдет, и о прекрасной леди, которую он, конечно же, спасет из лап разбойников в красных рубашках. По ее мнению, он не должен был оставаться матросом, или помощником капитана, или кем он там собирался стать. Ни в коем случае! Жизнь матроса просто ужасна. Даже представить страшно этот плен на корабле, пока высоченные волны пытаются опрокинуть его, а неудержимый ветер со свистом ломает мачты и рвет паруса. Прибыв в Мельбурн, он должен сразу покинуть корабль, попрощаться с капитаном и отправиться на золотые прииски. Менее чем за неделю он найдет огромный слиток чистого золота, крупнейший за всю историю, его будут доставлять тележкой в сопровождении шести полицейских. Трижды на них нападут лесные разбойники и трижды потерпят поражение. Хотя нет, ему вообще не следует отправляться на рудники. Это ужасное место, где мужчины отравляют или стреляют друг в друга в баре, постоянно ругаясь при этом. Он должен вести тихую фермерскую жизнь и разводить овец. Однажды, возвращаясь домой, он заметит прекрасную леди, похищенную каким негодяем. Он догонит их и спасет ее. Понятное дело, они влюбятся друг в друга, женятся и вернутся в Лондон, где будут жить в роскошном доме. Именно так его ожидало прекрасное будущее. Но ему нужно быть добрым и терпеливым и не тратить деньги на всякую ерунду. Хотя она и старше его всего на год, но знает о жизни гораздо больше. Кроме того, он должен обязательно писать ей с каждой почтой и каждый вечер молиться перед сном. Бог милостив, и он ему поможет. Она также будет за него молиться, и через несколько лет он вернется в Лондон богатым и счастливым.
Юноша невнимательно слушал ее и ничего не говорил в ответ. Он покидал дом с тяжелым сердцем.
Однако не только это смущало его и нагоняло на него грусть. Даже его незначительного жизненного опыта хватало, чтобы понять, что Сибила в опасности. Этот юный денди, в которого она влюбилась, не предвещал ничего хорошего. Он был джентльменом, именно за это Джеймс ненавидел его – ненавидел лютой классовой ненавистью, которая была непонятной ему самому, а оттого была еще сильнее. Он также понимал, что удивительная беспечность и тщеславие собственной матери могли стать роковыми для Сибилы. Сначала дети любят своих родителей, потом осуждают их. Иногда они их прощают.
Его мать! Он собирался кое-что у нее спросить, это кое-что не давало ему покоя уже несколько молчаливых месяцев. Случайно услышанная в театре фраза, насмешливый шепот, который он уловил однажды вечером за кулисами, разбудил в нем целую армию ужасающих догадок. Он вспоминал тот момент, когда его будто ударили кнутом по лицу. Он нахмурился так, что глубокая морщина прорезалась между бровями, и с мученическим выражением лица прикусил губу.
– Ты не слушаешь ни слова из того, что я тебе говорю! – возмутилась Сибила. – Я тут строю замечательные планы твоего будущего. Скажи хоть слово.
– Что ты хочешь от меня услышать?
– Что ты будешь хорошим мальчиком и не будешь забывать о нас, – ответила она, улыбаясь.
Он пожал плечами.
– Ты забудешь обо мне быстрее, чем я о тебе, Сибила.
Она покраснела:
– Что ты имеешь в виду, Джим?
– Я слышал, у тебя новый приятель. Кто он такой? Почему ты мне о нем не рассказала? Он не принесет тебе ничего хорошего.
– Остановись, Джим, – сказала она. – Не смей плохо говорить о нем! Я люблю его.
– Да ты же даже его имени не знаешь, – ответил парень. – Кто он такой? Я имею право знать.
– Его зовут Прекрасный Принц. Разве не замечательное имя? Запомни его, глупый мальчишка. Если бы ты только увидел его, то сразу понял бы, что он прекраснее всех на свете. Однажды, когда ты вернешься из Австралии, вы познакомитесь. Он тебе понравится. Он всем нравится, а я люблю его. Как бы я хотела, чтобы ты мог прийти сегодня в театр. Он там будет, а я буду играть Джульетту. О, как же я ее сыграю! Джим, только представь – любить и играть Джульетту! В то время как он будет сидеть в зале! Играть ради его удовольствия! Боюсь, я спугну зрителей или произведу величайшее впечатление на них. Любить – значит вознестись над самим собой. Бедный мистер Айзекс опять будет кричать, что я гений, своими друзьями в баре. Он всегда верил в меня, а теперь уверует. Я это чувствую. И все это благодаря ему и только ему, моему Прекрасному Принцу, моему прекрасному повелителю. Но я такое ничтожество по сравнению с ним. Ну и что? Нищета ползет в двери, а любовь влетает через окно. Наши пословицы следовало бы переделать. Они были написаны зимой, а сейчас лето. Нет, для меня сейчас весна – мое время, танец цветов под голубым небом.
– Он джентльмен, – мрачно сказал юноша.
– Принц, – радостно воскликнула она. – Чего тебе еще нужно?
– Он хочет сделать из тебя рабыню.
– Меня ужасают мысли о свободе.
– Берегись его.
– Увидев его, нельзя не влюбиться, познакомившись с ним, нельзя ему не доверять.
– Ты просто сошла с ума из-за него, Сиб.
Она засмеялась и взяла его за руку.
– Мой дорогой Джим, ты говоришь так, будто тебе сто лет. Однажды ты сам влюбишься. Тогда ты поймешь, что это такое. Не стоит так расстраиваться. Наоборот, тебе надо радоваться, что хоть ты и уезжаешь, но оставляешь меня счастливее, чем когда-либо до этого. Нам обоим жилось нелегко, даже очень трудно. Но теперь все изменится. Ты отправляешься в новую жизнь, а я нашла ее для себя тут. Здесь есть свободные места, давай сядем и посмотрим на красивых людей.
Они сели в толпе. Тюльпаны на клумбах горели красным пламенем. Белая пыль будто наполняла воздух туманом. Над головами, будто гигантские бабочки, проплывали цветные зонтики.
Сибила заставляла брата говорить о себе, своих надеждах и перспективах. Он говорил медленно и неохотно. Они обменивались словами, как игроки – фишками. Сибила чувствовала себя подавленной, ведь она не могла передать свою радость брату. Наибольшим ее достижением была тень улыбки на его мрачном лице. Через некоторое время она замолчала. Вдруг она заметила знакомые золотистые кудри и улыбку на губах. Это Дориан Грей с двумя леди проезжал мимо в открытом экипаже. Она вскочила на ноги.
– Вот же он! – воскликнула она.
– Кто? – спросил Джим Вэйн.
– Прекрасный Принц, – ответила она, глядя вслед экипажу.
Он также вскочил и схватил ее за руку.
– Покажи его мне. Который из них? Укажи на него. Я должен его увидеть! – воскликнул он, однако в тот же миг перед ними проехала карета графа Бервика, и экипаж исчез из поля зрения.
– Он исчез, – грустно сказала Сибила. – Я так хотела, чтобы ты его увидел.
– Я тоже хотел увидеть. Честное слово, если он тебя обидит, я убью его!
Она с ужасом посмотрела на него. Он еще раз повторил свои слова. Они пронзили воздух, будто кинжал. Люди вокруг начали смотреть на них. Дама, стоявшая рядом с Сибилой, тихонько засмеялась.
– Пойдем отсюда, Джим, пойдем, – прошептала Сибила и повела брата через толпу.
Джим шел за ней и радовался сказанному.
Дойдя до статуи Ахилла, она обернулась. В ее глазах было сожаление, а на лице – улыбка. Она покачала головой.
– Какой же ты дурачок, Джим. Мальчишка с отвратительным характером, вот и все. Как ты можешь говорить такие ужасные вещи? Ты не знаешь, о чем говоришь. Ты просто ревнуешь и злишься. Эх! Тебе нужно влюбиться. Любовь меняет людей к лучшему, а то, что ты сказал, – ужасно.
– Мне уже шестнадцать, – ответил он. – И я знаю, что говорю. Мать тебе не поможет. Она не понимает, как о тебе следует заботиться. Лучше бы я вообще не собрался в Австралию. Я всерьез думаю о том, чтобы отменить все. Если бы не были подписаны все бумаги, я бы так и сделал.
– Не будь таким серьезным, Джим. Ты будто герой бессмысленной мелодрамы, в которых так любила играть мама. Я не собираюсь с тобой ссориться. Я его увидела, а один только взгляд на него дарит мне счастье. Мы не будем ссориться. Я знаю, что ты никогда не обидишь того, кого я люблю, правда?
– По крайней мере, пока ты его будешь любить, – ответил Джим.
– Я буду любить его всегда! – воскликнула она.
– А он?
– Тоже всегда.
– Для него же лучше, чтобы так и было.
Она оттолкнула его. Затем засмеялась и положила руку ему на плечо. Он был еще мальчиком.
Вблизи мраморной арки они сели в омнибус, который довез их до неопрятного дома на Юстон-роуд, где они жили. Уже пробило пять часов, а Сибила должна была обязательно полежать несколько часов перед выступлением. Джим настаивал на этом. Он сказал, что лучше попрощается с ней без матери. Она была бы рада разыграть сцену, а Джим ненавидел любые сцены. Поэтому они попрощались в комнате Сибилы. В сердце юноши бушевали ревность и ненависть к чужаку, который, как ему казалось, встал между ним и сестрой. Однако, когда она крепко обняла его и запустила пальцы ему в волосы, его сердце растаяло, и он поцеловал ее с искренней любовью. Когда он спускался по лестнице, в его глазах блестели слезы.
Внизу его ждала мать. Когда он вошел, она сразу же выразила недовольство его опозданием. Джеймс ничего не ответил, а молча сел за скромный обед. Мухи летали над столом и лазили по скатерти. Сквозь урчание омнибусов и стук экипажей он слышал отвратительный голос, который забирал у него его последние минуты дома.
Через некоторое время он отставил тарелку и подпер голову руками. Он чувствовал, что имел право знать. Если его подозрения верны, то он должен был узнать об этом уже давно. Его мать застыла от ужаса и не сводила с него глаз. Слова вылетали из ее уст автоматически. Она нервно то складывала, то раскладывала грязный маленький носовой платок. Затем он обернулся к ней, и их взгляды встретились. В ее глазах он увидел немую мольбу о пощаде. Это разгневало его.
– Мама, у меня к тебе вопрос, – сказал он. Матушка лениво разглядывала комнату. – Скажи мне правду. Я имею право знать. Мой отец был твоим мужем?
Она глубоко, с облегчением вздохнула. Ужасный момент, которого она боялась ежеминутно, днем и ночью, неделями и месяцами, наконец пришел, и вдруг ее страх отступил. От этого она испытала даже разочарование. Грубая прямота вопроса требовала столь же прямого ответа. Никто не готовил ситуацию специально. Это напоминало ей неудачную репетицию.
– Нет, – сказала она, удивляясь жестокой простоте жизни.
– Значит, он был негодяем? – воскликнул парень, сжав кулаки.
Она покачала головой:
– Я знала, что у него есть жена. И мы любили друг друга очень сильно. Если бы он был жив, то позаботился бы о нас. Не говори о нем плохо, сынок. Он был твоим отцом и джентльменом. Он был благородного происхождения.
С его уст сорвалось проклятие.
– Я не за себя переживаю, – сказал он. – Не позволь Сибиле повторить твою ошибку. Тот, кто в нее влюблен или, по крайней мере, говорит, что влюблен, как я понимаю, тоже благородных кровей?
На мгновение женщину охватило гнетущее чувство стыда. Она склонила голову и едва смогла утереть слезы дрожащей рукой.
– У Сибилы есть мать, – всхлипнула она. – У меня же не было.
Джим был тронут. Он подошел к ней, наклонился и поцеловал.
– Прости, что причинил тебе боль вопросом об отце, – сказал он, – но я не мог держать это в себе. Мне пора уходить. До свидания. Помни: теперь ты должна заботиться только об одном ребенке. Если этот человек хоть как-то обидит мою сестру, я узнаю, кто он такой, найду его и прирежу как собаку. Клянусь!
Преувеличенное безумие угрозы, страстные жесты, которые ее сопровождали, безумные слова, полные мелодрамы, – все это словно украсило жизнь миссис Вэйн яркими красками. Ей было знакомо это чувство. Она глубоко вдохнула и впервые за последние несколько месяцев восхищалась сыном, а не боялась его. Она хотела бы продолжить эту эмоционально напряженную сцену, но он оборвал ее. Нужно было снести вниз чемоданы и найти вязаный шарф. По квартире носился дворецкий, надо было еще договориться с кучером о цене. Момент был испорчен вульгарными мелочами. Когда она махала платком своему сыну, в ней возродилось чувство разочарования. Она понимала, какая замечательная возможность была утрачена. Она нашла утешение в том, что рассказала Сибиле, какой пустой стала ее жизнь теперь, когда она должна заботиться только об одном ребенке. Она запомнила это выражение. Оно ей понравилось. Об угрозе сына мать не вспоминала. Она была произнесена слишком ярко и драматично. Миссис Вэйн надеялась, что однажды они все вместе над ней посмеются.
Глава 6
– Я полагаю, ты уже слышал новость, Бэзил, – сказал лорд Генри в тот вечер, когда Холлуорд вошел в зал ресторана «Бристоль», чтобы пообедать с ним.
– Нет, Гарри, – ответил художник, отдавая свои пальто и шляпу дворецкому. – Что за новости? Надеюсь, это не связано с политикой! Ты же знаешь, политика меня не интересует. На всю палату общин не найдется достойной кандидатуры для портрета, хотя некоторых из них я бы с радостью зарисовал.
– Дориан Грей помолвлен, – сказал лорд Генри, не сводя с него глаз.
Холлуорд на мгновение замолчал и нахмурился.
– Дориан помолвлен! – воскликнул он. – Это невозможно!
– Однако это правда.
– С кем?
– С какой-то актриской или что-то вроде того.
– Не могу в это поверить. Дориан слишком здравомыслящий для такого.
– Дориану хватает мудрости делать глупости время от времени, дорогой Бэзил.
– Вряд ли брак относится к вещам, которые можно делать время от времени, Гарри.
– Если речь идет не об Америке, – лениво отметил лорд Генри. – Но я же не сказал, что он женился. Я всего лишь сказал, что он помолвлен. Это совершенно разные вещи. Я четко помню, что я женат, но не помню, чтобы я когда-либо был помолвлен. Скорее всего, я никогда и не был помолвлен.
– Но учти происхождение, статус и состояние Дориана. Это же глупость – вступать в такой неравный брак.
– Вот так ему и скажи, если хочешь, чтобы он точно женился на этой девушке. Тогда уж его точно ничто не остановит. Люди делают величайшие глупости из благородных побуждений.
– Надеюсь, она хорошая девушка. Не хочу, чтобы Дориан попал в лапы какой-то твари, которая разрушит его прекрасную натуру и светлый ум.
– Не беспокойся, она лучше, чем просто хороша, – она красавица, – сказал лорд Генри, потягивая вермут из бокала. – Дориан говорит, что она прекрасна, а в таких вещах он редко ошибается. Благодаря портрету твоей работы он стал лучше видеть красоту окружающих. Это одна из замечательных вещей, которые сделал портрет. Мы увидим ее сегодня вечером, если только мальчик не забыл, о чем мы договорились.
– Ты сейчас серьезно?
– Вполне серьезно, Бэзил. Горе мне, если когда-то придется быть еще серьезнее, чем сейчас.
– А ты одобряешь это его решение, Гарри? – спросил художник, закусив губу. – Ты не можешь это одобрять. Это какое-то глупое увлечение.
– Я никогда ни к чему не отношусь положительно или отрицательно. Это абсурдный подход к жизни. Мы живем не для того, чтобы навязывать другим собственные моральные предубеждения. Я никогда не обращаю внимания на то, что говорят простые люди, и никогда не вмешиваюсь в то, что делают люди прекрасные. Если человек меня захватывает, то что бы он ни делал, это приносит мне радость. Дориан Грей влюбился в прекрасную девушку, которая играет Джульетту, и попросил ее руки. Почему бы и нет? Если бы он женился на Мессалине, это было бы не менее интересно. Ты же знаешь, я не сторонник брака. Самый большой недостаток брака в том, что он лишает людей эгоизма. Вместе с эгоизмом люди теряют яркие цвета. Им не хватает индивидуальности. И все же некоторые личности становятся еще более разнообразными в браке. Они сохраняют свою сущность и добавляют к ней новые. Им приходится проживать несколько жизней. Это побуждает их к самоорганизации, а самоорганизация – это, по моему мнению, одна из задач человека в жизни. Кроме того, любой опыт важен, а брак – это огромный опыт, кто бы там что не говорил. Надеюсь, что Дориан Грей женится на этой девушке, будет полгода страстно любить ее, а затем найдет себе новый объект восхищения. За этим будет очень интересно наблюдать.
– Ты так не думаешь, Гарри, я это знаю. Если Дориан испортит себе жизнь, никто не будет сожалеть об этом больше, чем ты сам. Ты гораздо лучше, чем хочешь казаться.
Лорд Генри рассмеялся:
– Причина нашего желания видеть добро в других заключается в том, что мы боимся самих себя. Основой оптимизма является ужас. Мы считаем себя щедрыми, когда в мыслях наделяем ближнего качествами, которые пойдут на пользу нам самим. Мы восхваляем банкира в надежде, что тот займет нам денег. Даже в разбойнике мы ищем доброту, благодаря которой он мог бы не ограбить нас. Я имел в виду именно то, что сказал. Я крайне презираю оптимизм. А насчет испорченной жизни, так единственный способ испортить жизнь – это остановить ее развитие. Если хочешь уничтожить природу, ее достаточно просто изменить. Относительно брака, конечно, это будет ерунда, но есть и гораздо более интересные формы связи между мужчиной и женщиной, чем брак. Я их всенепременно поощряю. Они очаровательны тем, что модны. А вот, собственно, и Дориан. Он расскажет тебе больше.
– Дорогой Гарри, дорогой Бэзил, вы должны меня поздравить, – сказал юноша, сняв шляпу и поочередно пожав им руки. – Я никогда не чувствовал себя настолько счастливым. Это, конечно, неожиданно, но все приятные вещи неожиданны. И все же, кажется, это именно то, чего мне не хватало в жизни. – Он сиял от радости и возбуждения, и оттого выглядел еще лучше, чем обычно.
– Надеюсь, твое счастье не угаснет, Дориан, – сказал Холлуорд, – однако я оскорблен тем, что ты не сообщил мне о своей помолвке. Гарри же ты рассказал.
– А я оскорблен твоим опозданием на обед, – перебил лорд Генри и с улыбкой положил руку юноше на плечо. – Пойдем за стол, посмотрим, на что способен их новый шеф-повар, а потом расскажешь нам обо всем в подробностях.
– Здесь не о чем особенно рассказывать, – сказал Дориан, когда они сели за небольшой круглый стол. – Произошло вот что. Вчера вечером, Гарри, после того как я ушел от тебя, я пообедал в маленьком итальянском ресторане на Руперт-стрит, который ты мне когда-то посоветовал, и в восемь уже был в театре. Сибила играла Розалинду. Конечно, декорации были ужасные, а Орландо выглядел нелепо. Но Сибила! Вам стоит увидеть ее! Когда она вышла переодетая юношей, она была совершенно потрясающей. На ней была зеленая бархатная куртка с рукавами цвета корицы, тонкие, коричневые чулки со скрещенными подвязками, изящная зеленая шапочка с орлиным пером и темно-красный плащ на подкладке с капюшоном. Еще никогда она не казалась такой хрупкой. Своей грацией она напоминала мне изысканную танагрскую статуэтку, которая стоит в твоей мастерской, Бэзил. Темные волосы подчеркивали красоту ее лица, как темные листья подчеркивают красоту розы. А ее игру вы сами сегодня увидите. Она просто прирожденная актриса. Я сидел в крошечной ложе абсолютно пораженный. Я забыл, что нахожусь в Лондоне и за окном девятнадцатый век. Я был вместе с моей любимой в скрытом от людских глаз лесу. После завершения спектакля я пошел за кулисы, и мы разговаривали. Когда мы сидели вдвоем, в ее глазах появился неизвестный мне ранее взгляд. Мои уста сами ринулись ей навстречу. Мы слились в поцелуе. Я не могу передать свои ощущения в тот момент. Казалось, вся моя жизнь свелась к простому счастью. Она дрожала, будто нежный нарцисс. Затем она упала на колени и начала целовать мне руки. Я чувствую, что не стоило вам об этом рассказывать, но я не могу удержаться. Конечно, наша помолвка – строжайшая тайна. Она еще даже своей матери не говорила об этом. Даже не знаю, что скажут мои опекуны. Вероятно, лорд Рэдли просто придет в бешенство. Но мне все равно. Менее чем через год я стану совершеннолетним и буду сам себе хозяин. Разве это не верно с моей стороны, Бэзил, – найти любовь в поэзии и взять себе жену из пьес Шекспира? Уста, в которые сам Шекспир вложил голос, шептали мне о своих тайнах. Я был в объятиях Розалинды и целовал губы Джульетты.
– Да, Дориан, думаю, ты все сделал правильно, – медленно сказал Холлуорд.
– Ты ее уже видел сегодня? – спросил лорд Генри.
Дориан Грей покачал головой.
– Я оставил ее в Арденнском лесу, а найду в саду в Вероне.
Лорд Генри задумчиво потягивал шампанское.
– А когда же из твоих уст прозвучало слово «брак», Дориан? И что она на это ответила? Ты уже, наверное, и забыл.
– Дорогой Гарри, я не считаю это деловым соглашением, поэтому не прибегал к формальностям. Я сказал, что люблю ее, на что она ответила, что недостойна быть моей женой. Недостойна! Но для меня целый мир ничего не стоит по сравнению с ней.
– Женщины очень практичны, – сказал лорд Генри. – Они гораздо практичнее, чем мы. В подобных ситуациях мы часто забываем сказать что-то о браке, а они всегда нам об этом напоминают.
Холлуорд положил руку ему на плечо:
– Хватит, Гарри, не стоит раздражать Дориана. Он не такой, как остальные мужчины. Он никогда не заставит кого-то страдать, он слишком хорош для этого.
Лорд Генри посмотрел через стол на молодого человека.
– Дориан никогда не сердится на меня, – возразил он. – Я спросил его только по одной причине, по лучшей и самой весомой причине спросить что угодно – из чистого любопытства. Я предполагаю, что это женщины предлагают нам свои руку и сердце, а не мы просим. Конечно, это правило не работает для среднего класса. Но средний класс отсталый.
Дориан Грей засмеялся и покачал головой.
– Ты просто неисправим, Гарри. Но это не страшно. На тебя невозможно сердиться. Когда ты увидишь Сибилу Вэйн, то поймешь, что надо быть бессердечным чудовищем для того, чтобы ее обидеть. Я не понимаю, как можно желать обидеть того, кого любишь. Я люблю Сибилу Вэйн. Я хочу поднять ее на золотой пьедестал, чтобы весь мир поклонился моей любимой. Что такое брак? Это несокрушимый обет. Ты смеешься над этим. Но я сейчас не смеюсь. Я хочу дать этот несокрушимый обет. Ее доверие делает меня верным, делает меня лучше, чем я есть сейчас. Когда я вместе с ней, то жалею обо всем, чему ты меня научил. Я становлюсь другим, не таким, каким ты знаешь меня. Я меняюсь, одно только прикосновение Сибилы Вэйн заставляет меня забыть о тебе и всех твои ложных, захватывающих, ядовитых, соблазнительных теориях.
– Что же это за теории такие? – спросил лорд Генри, угощаясь салатом.
– Твои теории о жизни, о любви, об удовольствии. Все твои теории, Гарри.
– Удовольствие – это единственная вещь, о которой стоит иметь теорию, – ответил он своим мелодичным голосом. – Однако, боюсь, я не могу назвать свою теорию собственной. Ее разработала сама природа, а не я. Удовольствие – это испытание природой, признак ее одобрения. Когда мы счастливы, то всегда хорошие, но когда мы хорошие, то не всегда счастливы.
– А что же ты называешь «хорошим»? – воскликнул Бэзил Холлуорд.
– Да, – подхватил Дориан, откинувшись на спинку кресла и глядя на лорда Генри поверх тяжелых пурпурных ирисов, которые стояли в центре стола, – что для тебя значит быть хорошим, Гарри?
– Быть хорошим – значит жить в гармонии с самим собой, – ответил тот, едва коснувшись пальцами своего бокала. – Когда человек вынужден искать гармонию с другими, возникает дисбаланс. Важна только собственная жизнь. Что касается жизней остальных, то если хочешь быть снобом или пуританином, то можно выражать свое мнение относительно них, но они не касаются тебя на самом деле. Кроме того, индивидуализм стремится к высшей цели. Современная мораль базируется на восприятии норм своего времени. Я считаю, что наиболее аморальным поступком для человека или целой культуры является воспринять нормы своего времени.
– Но разве человек, живущий только для себя, не платит огромную цену за это, Гарри? – поинтересовался художник.
– Действительно, в наше время цены на все завышены. Я предполагаю, что настоящая трагедия бедных заключается в том, что они не могут позволить себе ничего, кроме самоотречения. Прекрасные грехи, как и красивые вещи, доступны только богачам.
– Платить приходится не только деньгами.
– А чем же еще, Бэзил?
– Я думаю, угрызениями совести, страданиями… в конце концов, пониманием собственного морального падения.
Лорд Генри пожал плечами:
– Дорогой мой, средневековое искусство прекрасно, однако средневековые представления уже не актуальны. Конечно, их можно использовать в литературе. Но в литературе можно использовать только то, что мы перестали использовать в жизни. Поверь: ни один цивилизованный человек не жалеет об удовлетворении, а нецивилизованные люди не знают, что это такое.
– Я знаю, что такое удовольствие, – сказал Дориан Грей. – Это любить другого человека.
– Это точно лучше, чем быть обожаемым, – ответил лорд Генри, выбирая себе фрукты. – Обожание раздражает. Женщины обращаются с нами точно так же, как человечество ведет себя со своими богами. Они поклоняются нам и все время надоедают просьбами что-то сделать для них.
– Я должен сказать, что они сначала дают нам все, что потом просят у нас, – мрачно сказал юноша. – Они пробуждают любовь в нашей душе и имеют право требовать, чтобы мы вернули ее обратно.
– Истинная правда, Дориан, – сказал Холлуорд.
– Ничто не может быть истинной правдой, – парировал лорд Генри.
– Но это правда, – перебил Дориан. – Ты должен признать, Гарри, что женщины дарят мужчинам наибольшее богатство в их жизни.
– Возможно, – вздохнул лорд Генри, – но они обязательно требуют, чтобы мы возвращали его мелочью. В этом вся беда. Как сказал когда-то один острый на язык француз, женщины вдохновляют нас на шедевры, однако мешают нам создавать их.
– Какой же ты ужасный, Гарри! Не понимаю, почему я так благосклонно к тебе отношусь.
– Так будет всегда, Дориан, – сказал он. – Выпьете кофе? Официант, принесите кофе, коньяка и сигареты. Нет, не надо сигареты, у меня есть. Бэзил, я не позволю тебе курить сигары. Тебе стоит покурить сигарету. Сигарета – это совершенное воплощение совершенного удовольствия. Она изящна и оставляет курильщика неудовлетворенным. Чего еще можно желать? Именно так, Дориан, ты всегда будешь восхищаться мной. Для тебя я воплощение всех грехов, которые ты никогда не решишься осуществить.
– Что за чушь ты говоришь, Гарри! – воскликнул юноша, закуривая сигарету от серебряного огнедышащего дракона, которого официант поставил на стол. – Пойдем лучше в театр. Когда Сибила выйдет на сцену, в твоей жизни появится новый идеал. Она воплощает в себе нечто, чего ты раньше не знал.
– Я уже все познал, – сказал лорд Генри с усталым выражением лица, – но я всегда рад новым эмоциям. В конце концов, боюсь, что для меня уже не осталось новых эмоций. И все же, может, твоя очаровательная девушка меня и поразит. Люблю театр. Он гораздо более настоящий, чем реальная жизнь. Пошли. Дориан, ты поедешь со мной. Прости, Бэзил, но в моем экипаже только два места. Тебе придется поехать вслед за нами.
Они встали и, надев пальто, допили кофе стоя. Художник был молчалив и озабочен. Его охватило мрачное предчувствие. Он не одобрял этот брак, но что-то ему подсказывало, что в случае, если Дориан не женится, могло произойти что-то гораздо худшее. Через несколько минут они спустились по лестнице. Как и договаривались, он поехал отдельно и смотрел на огоньки экипажа лорда Генри впереди себя. Он чувствовал, что что-то потерял. Он знал, что Дориан Грей больше никогда не станет для него тем, кем был раньше. Жизнь встала между ними… В глазах у него потемнело, и уличные огни расплывались перед глазами. Когда кеб прибыл к театру, ему казалось, что он постарел на несколько лет.
Глава 7
По какой-то причине в тот вечер в театре было людно, а устроитель-еврей, который встретил их у входа, улыбался от уха до уха. Он провел их в ложу, размахивая своими руками с множеством украшений и все время повышая голос. Дориан Грей презирал его как никогда. Он чувствовал себя так, будто пришел к Миранде, а взамен встретил Калибана. А вот лорду Генри он понравился. По крайней мере, он так сказал и настоял на том, чтобы с гордостью пожать руку человеку, который нашел настоящего гения и несколько раз обанкротился из любви к поэту. Холлуорд развлекался тем, что рассматривал людей на задних рядах. В зале стояла удушающая жара, а огромная люстра пылала, будто гигантский гиацинт. Юноши на задних рядах сняли свои пиджаки и жилеты и развесили их на спинках кресел. Они переговаривались друг с другом через весь зал и угощали апельсинами неуклюже одетых девушек, сидевших рядом. Время от времени раздавался женский смех. Из буфета доносился звук вылетающих из бутылок пробок.
– И в этом месте вы нашли свое божество! – сказал лорд Генри.
– Да! – отозвался Дориан Грей. – Именно здесь я нашел ее, мое волшебное божество. Когда увидите ее на сцене, забудете обо всем на свете. Эти простые неотесанные люди с их мрачными лицами и нелепыми жестами, совершенно меняются, когда она на сцене. Они молча сидят и смотрят. Они плачут и смеются по ее велению. Они откликаются на каждое ее движение, будто скрипка. Она вдохновляет их, и тогда я чувствую, что мы с ними одной крови.
– Одной крови с ними! Не надо, спасибо! – воскликнул лорд Генри, который как раз рассматривал публику на задних рядах.
– Не обращай на него внимания, Дориан, – сказал художник. – Я понимаю, о чем ты говоришь. Я верю в эту девушку. Если ты влюбился, то она должна быть действительно волшебной, а если она имеет такое влияние на публику, то, должно быть, добра и благородна. Вдохновлять людей – это благородное дело. Если эта девушка может разбудить душу тех, в ком она спала, если она может научить людей, чья жизнь была ужасной, видеть красоту, если она может оторвать их от своей самовлюбленности и заставить разделить чужие горести, тогда она стоит твоей любви. Она предназначена для того, чтобы ею восхищался весь мир. Этот брак – верный шаг. Сначала я так не думал, но сейчас признаю это. Сибила Вэйн была создана для тебя. Без нее тебе не хватало бы какой-то частички.
– Спасибо, Бэзил, – сказал Дориан Грей, пожав ему руку. – Я знал, что ты меня поймешь. Гарри просто ужасный циник. А вот и оркестр. Они играют ужасно, но всего несколько минут. Затем поднимется занавес и вы увидите девушку, которой я собираюсь отдать всю свою жизнь, девушку, которой я уже отдал все то хорошее, что есть во мне.
Через пятнадцать минут на сцену под шквальные аплодисменты вышла Сибила Вэйн. «Она действительно прекрасна», – подумал лорд Генри. Это было одно из самых прелестных созданий, которые он когда-либо видел. Своей грацией и несколько испуганным взглядом она напоминала юную лань. Она едва заметно покраснела, увидев, как радостно ее встретил переполненный зал. Она отступила на несколько шагов назад, ее губы, казалось, дрожали. Бэзил Холлуорд вскочил и стал аплодировать. Дориан Грей сидел неподвижно, словно во сне. Лорд Генри смотрел на нее в бинокль и бормотал: «Очаровательно! Волшебно!»
На сцене были декорации дома Капулетти. Вошел Ромео, одетый в пилигрима, Меркуцио и еще несколько их друзей. Оркестр снова заиграл свою отвратительную музыку, и на сцене начались танцы. Сибила Вэйн кружила между неряшливо одетых бездарных актеров, будто ангел с небес. Изгиб ее шеи напоминал прекрасную лилию, а руки были будто вырезаны из слоновой кости.
Однако она выглядела удивительно равнодушной. Она никоим образом не обрадовалась, когда увидела Ромео, а несколько слов своей реплики:
Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно
К своей руке: лишь благочестье в ней.
Есть руки у святых: их может, верно,
Коснуться пилигрим рукой своей —[5]
сказала намеренно искусственно. Ее голос был прекрасен, а вот интонации совершенно не те. Они придавали словам другую окраску. Они убили стихи и сделали страсть наигранной.
Глядя на нее, Дориан Грей побледнел. Он был обеспокоен и растерян. Ни один из его друзей не решился сказать ему ни слова. Она казалась им полной бездарностью. Они были очень разочарованы.
Однако они считали сцену на балконе во втором акте настоящим испытанием для Джульетты. Они ждали эту сцену. Если и ее она сыграет бездарно, значит, в девушке нет ни капли таланта.
Без сомнения, она выглядела очаровательно в лунном свете. Но наигранность в каждом ее движении была невыносимой. Она играла все хуже. Ее жесты стали до нелепости искусственными. Она подчеркивала каждое слово. Она прочитала прекрасные строки:
Мое лицо под маской ночи скрыто,
Но все оно пылает от стыда
За то, что ты подслушал нынче ночью —[6]
с усердием школьницы, у которой был бездарный учитель декламации. Когда же она наклонилась через балкон и дошла до прекрасных слов:
Нет, не клянись. Хоть радость ты моя,
Но сговор наш ночной мне не на радость.
Он слишком скор, внезапен, необдуман —
Как молния, что исчезает раньше,
Чем скажем мы: «Вот молния!» О милый,
Спокойной ночи! Пусть росток любви
В дыханье теплом лета расцветет
Цветком прекрасным в миг, когда мы снова
Увидимся… – [7]
то прочитала их так, будто совсем не понимала, что они значат. Это было не из-за волнения. Она не выглядела взволнованной, наоборот, полностью контролировала себя. Это было просто ужасная игра. Она играла совершенно бездарно.
Даже необразованная публика с задних рядов потеряла всякий интерес к спектаклю. Им уже не сиделось, они начали громко разговаривать и свистеть. Еврей, который стоял за кулисами, громко ругался. Только девушке было все равно.
После окончания второго акта зал наполнился шипением, а лорд Генри встал и взял свой пиджак.
– Она очень красива, Дориан, – сказал он, – но она не умеет играть. Пойдем.
– Я досмотрю спектакль, – ответил юноша мрачным голосом. – Мне очень жаль, что я испортил тебе вечер, Гарри. Я хочу извиниться перед вами обоими.
– Дорогой Дориан, возможно, мисс Вэйн просто заболела, – перебил его Холлуорд. – Мы придем в другой раз.
– Если бы она просто заболела, – ответил он. – Но она просто холодна и бездушна. Она совершенно изменилась. Еще вчера она была великой актрисой. Сегодня она просто посредственная актриска.
– Не стоит так говорить о женщине, которую ты любишь. Любовь еще более удивительна, чем искусство.
– И то и другое просто формы подражания, – отметил лорд Генри. – Но давайте пойдем. Дориан, тебе не стоит здесь оставаться. Плохая игра актеров удручает. Да и не думаю, что ты захочешь, чтобы твоя жена играла в театре, так что это не имеет значения. Из нее такая же Джульетта, как из деревянной куклы. Зато она очень красива. А если она знает о жизни столько же, как и об актерской игре, то станет неоценимым опытом для тебя. Есть только две разновидности по-настоящему захватывающих людей: те, которые знают абсолютно все, и те, которые не знают ничего. Господи, мальчик мой, не стоит смотреть на меня так, будто кто-то умер! Секрет вечной молодости в том, чтобы не позволять эмоциям владеть собой. Пойдем в клуб вместе со мной и Бэзилом. Мы будем курить сигареты и пить за красоту Сибилы Вэйн. Она прекрасна. Чего еще можно желать?
– Да иди уже, Гарри! – сказал юноша. – Я хочу побыть наедине. Ты также иди, Бэзил. Разве вы не видите, что мое сердце разбилось? – В его глазах появились горячие слезы. Его губы задрожали, он прислонился к стене ложи и спрятал лицо в руках.
– Пойдем, Бэзил, – сказал лорд Генри с удивительной нежностью в голосе, и они оба оставили ложу.
Через несколько минут после этого снова вспыхнули огни рампы, занавес поднялся и начался третий акт. Дориан Грей вернулся на свое место. Он был бледен и выглядел равнодушным. Спектакль тянулся, казалось, целую вечность. Половина зала разошлась, громко стуча сапогами и смеясь. Это было полное фиаско. Последний акт играли перед почти пустым залом. Занавес опустился под смех и недовольные возгласы.
Как только закончилось представление, Дориан отправился в гримерку за кулисами. Там была только она. На ее лице светилось торжеством. Ее глаза горели огнем. Она вся сияла. Сибила улыбалась, будто радуясь собственной тайне.
Когда он вошел, она посмотрела на него, и выражение неописуемой радости озарило ее лицо.
– Как же плохо я сегодня сыграла, Дориан! – воскликнула она.
– Ужасно! – ответил он, удивленно глядя на нее – Ужасно! Это было отвратительно. Ты заболела? Ты даже не представляешь, какой это был кошмар. Ты даже не понимаешь, сколько боли мне причинила.
Девушка улыбнулась.
– Дориан, – пропела она его имя своим мелодичным голосом, будто это была прекрасная музыка. – Дориан, ты должен был понять. Но сейчас-то ты понимаешь, правда?
– Понимаю что? – спросил он со злостью в голосе.
– Почему я так ужасно играла сегодня. Почему я всегда буду ужасно играть. Почему я больше никогда не сыграю хорошо.
Он пожал плечами.
– Я так понимаю, ты заболела. Тебе не стоит выходить на сцену больной. Ты сделала из себя посмешище. Моим друзьям было скучно. Мне также было скучно.
Казалось, она не слушала его. Ее переполняла радость. Над ней господствовало ее счастье.
– Дориан, Дориан, – сказала она, – пока я тебя не встретила, роли были единственной моей настоящей жизнью. Я жила только в театре. Я считала все это правдой. В один вечер я была Розалиндой, а в другой – Порцией. Радость Беатриче была моей радостью, а горе Корделии – моим горем. Я верила всему. Простые люди, которые играли рядом со мной, казались мне богами. Моим миром были декорации. Я не знала ничего, кроме теней, поэтому они казались настоящими. А потом пришел ты, моя прекрасная любовь, и освободил мою душу из клетки. Ты показал мне настоящую жизнь. Сегодня я впервые в жизни увидела фальшь, нелепость и бессмысленность бутафории, в которой все время играла. Сегодня я впервые осознала, что Ромео старый и гадкий, что лунный свет в саду ненастоящий, что слова, которые я должна говорить, – не мои слова и это не то, что я хочу сказать. Ты подарил мне нечто большее, то, что может быть только тускло отражено искусством. Ты подарил мне понимание настоящей любви. Моя любовь! Моя любовь! Прекрасный Принц! Принц моей жизни! Мне надоели тени. Ты для меня больше, чем любое искусство. Что мне делать со всеми этими марионетками на сцене? Когда я сегодня вышла на сцену, то думала, что сыграю прекрасно. Но поняла, что не могу ничего сделать. Вдруг моей душе открылось, почему так происходит, и это понимание стало счастьем для меня. Я слышала, как они шипели, и смеялась. Разве они знают что-то о такой любви, как наша? Забери меня, Дориан, забери меня с собой в место, где мы будем в одиночестве. Я ненавижу сцену. Я могу изобразить страсть, которой не чувствую, но я не в состоянии передать страсть, которая сжигает меня изнутри, будто огонь. Дориан, Дориан, теперь ты понимаешь, что это значит? Даже если бы я могла, это была бы профанация – играть влюбленную. Благодаря тебе я это поняла.
Он сел на диван и отвернулся от нее.
– Ты уничтожила мою любовь, – пробормотал он.
Она удивленно посмотрела на него и засмеялась. Он не ответил. Она подошла к нему и запустила пальцы ему в волосы. Она встала на колени и взяла его руки, чтобы поцеловать. Он вырвался из ее рук и вздрогнул. Затем он вскочил с дивана и пошел к выходу.
– Именно так, – сказал он, – ты уничтожила мою любовь. Ты будоражила мое воображение. Теперь ты мне даже не интересна. Ты мне безразлична. Я любил тебя, потому что ты была гениальной, ты осуществляла мечты великих поэтов и олицетворяла собой само искусство. Ты разрушила все это. Ты глупая и серая. Господи! Какое же это было безумие – влюбиться в тебя! Какой же я был дурак! Теперь ты ничего для меня не значишь. Я больше никогда тебя не увижу. Я больше никогда о тебе не вспомню. Никогда не назову твое имя. Ты даже не представляешь, чем ты когда-то была для меня. Когда-то… Я не могу об этом даже думать! Лучше бы мне было никогда тебя не видеть! Ты разрушила любовь всей моей жизни. Ты ничего не знаешь о любви, если говоришь, что она лишила тебя твоего искусства! Без искусства ты – ничто. Я сделал бы тебя выдающейся, известной, непревзойденной. Мир склонил бы перед тобой голову, а ты носила бы мое имя. А теперь кто ты такая? Третьесортная актриска с хорошеньким личиком.
Девушка побледнела и задрожала, она сжала руки и едва слышно произнесла, будто слова застревали у нее в горле:
– Ты же это не серьезно, Дориан? Это такое представление.
– Я оставлю представления тебе. Ты в них просто великолепна, – холодно ответил он.
Она поднялась с колен и подошла к нему. На ее лице было выражение невыносимой боли. Она положила руку ему на плечо и посмотрела ему в глаза. Он оттолкнул ее:
– Не трогай меня!
Она горько вздохнула и упала к его ногам, подобно сорванному цветку.
– Дориан, не оставляй меня, Дориан! – зашептала она. – Мне жаль, что я плохо сыграла. Я все время думала только о тебе. Но я буду стараться, честно, я буду стараться. Моя любовь к тебе, она так внезапно нахлынула. Я, пожалуй, и не знала бы о ней, если бы ты меня не поцеловал, если бы мы не целовали друг друга. Поцелуй же меня снова, любимый. Не уходи от меня. Я этого не переживу. Умоляю! Не уходи от меня. Мой брат… хотя нет, не обращай внимания, это он шутил, это он несерьезно. Но ты! Неужели ты не простишь мне сегодняшнюю неудачу? Я приложу все усилия, чтобы исправиться. Не будь таким жестоким, я люблю тебя больше всего на свете. В конце концов, ты остался недоволен лишь однажды. Однако ты прав, Дориан. Мне не стоило забывать, что я актриса. Я вела себя глупо, но не могла ничего с собой поделать. Не оставляй меня, пожалуйста, не оставляй.
Она так часто всхлипывала, что, казалось, вот-вот задохнется. Она свернулась на полу, будто раненый зверь, а Дориан Грей только смотрел на нее своими волшебными глазами, а его прекрасные губы исказило отвращение. Чувства людей, которых мы когда-то любили, всегда выглядят отвратительно. Эмоции Сибилы казались ему нелепыми и слишком драматичными. Его раздражали ее слезы и всхлипывания.
– Я ухожу, – сказал он наконец спокойным, тихим голосом. – Не хочу показаться грубым, но я больше не хочу тебя видеть. Ты меня разочаровала.
Она ничего не ответила, только подползла поближе. Она, как слепая, протянула руки, будто ища его. Он развернулся на каблуках и вышел из комнаты. Через несколько секунд он уже покинул театр.
Дориан и сам не знал, куда шел. Потом он смутно вспоминал, что бродил тускло освещенными улицами мимо жутких арок и неприветливых домов. Его звали женщины с неприятными голосами и громким смехом. Пьяницы, будто гигантские обезьяны, брели мимо, бормоча под нос проклятия. Он видел странных детей, спящих свернувшись на лестнице, слышал разговоры и ругательства, доносившиеся из домов.
Когда уже начинало светать, он оказался вблизи Ковент-Гарден. Темнота рассеялась, а первые робкие лучи солнца превратили небо в настоящую жемчужину. Пустыми улицами медленно катились тележки, полные нежных лилий. Густой аромат цветов наполнял воздух, а их красота, казалось, несколько унималась его боль. Он пошел на рынок и наблюдал, как мужчины разгружают свои тележки. Один из них угостил Дориана вишнями. Он поблагодарил и начал задумчиво их есть, удивляясь, почему мужчина отказался от денег. Вишни были сорваны в полночь и несли в себе прохладу лунного света. Мимо прошла целая толпа мальчишек с тюльпанами и розами в корзинах. Они прокладывали себе путь между грудами зеленых овощей. Под портиком, между серых освещенных солнцем колонн, стояли девушки и ждали, пока все разгрузят. Еще одна группка девушек ждала вблизи кафе. Утомленные ломовые лошади спотыкались о мостовую. Некоторые погонщики спали прямо на мешках. Яркие голуби шныряли вокруг в поисках пищи.
Через некоторое время он поймал кэб и отправился домой. Несколько минут он стоял на пороге, осматривая тихую площадь, дома с их плотно закрытыми или завешенными окнами. Небо стало опалового цвета, а крыши сверкали серебром. Из дымохода дома напротив поднимался дымок. Он кружил в воздухе, будто бархатная лента.
На потолке гостиной все еще горел большой венецианский фонарь, который был, скорее всего, снят с какой-то гондолы. Он погасил едва заметные огоньки, сбросил плащ и шляпу и пошел через библиотеку в спальню. Это была большая восьмиугольная комната на первом этаже, которую он заново обустроил, отдавая дань своему новому увлечению – роскоши. Он развесил там причудливые гобелены эпохи Ренессанса, найденные на чердаке имения Селби. Когда он уже взялся за ручку двери, его взгляд остановился на портрете, который для него написал Бэзил Холлуорд. От удивления он даже отступил на несколько шагов. Затем он направился в свою комнату, однако выглядел растерянным. В конце концов он вернулся в библиотеку и внимательно осмотрел картину. В тусклом свете, который пробивался сквозь кремовые шторы, лицо на портрете выглядело несколько иначе. Оно имело другое выражение. В нем чувствовалась жестокость. Это было крайне странно.
Он развернулся, подошел к окну и раздвинул шторы. Рассвет заполнил собой каждый уголок комнаты. Однако странное выражение не только не исчезло с лица портрета, но и стало более явным. Яркие лучи солнца сделали жестокую складку вблизи рта очевидной. Казалось, юноша на портрете смотрел в зеркало после того, как совершил что-то ужасное.
Дориан моргнул, взял со стола овальное зеркало с ручкой из слоновой кости с вырезанными на ней купидонами – один из многочисленных подарков лорда Генри – и внимательно всмотрелся в его глубины. Ничего подобного не было заметно на его красных губах. Что бы это могло значить?
Он протер глаза и еще раз подошел к картине, чтобы внимательнее ее осмотреть. Ничто не указывало на то, что к картине опять прикасалась кисть, и все же выражение лица портрета изменилось. Это был не плод его воображения. Слишком очевидной была эта перемена.
Дориан уселся на стул и начал думать. Вдруг ему вспомнились слова, которые он сказал в мастерской Бэзила Холлуорда еще в тот день, когда портрет был написан. Да, он прекрасно их помнил. Он выразил безумное желание иметь возможность оставаться молодым, чтобы портрет старел вместо него. Чтобы лицо на холсте несло на себе бремя грехов и страстей, чтобы изображение было искажено старческими морщинами, а сам он никогда не терял красоты и цветения молодости. Разве могло его желание осуществиться? Это же невозможно. Даже мысли о таком казались страшными. И все же прямо перед ним стоял портрет, на котором отразилась жестокость.
Жестокость! Он был жестоким? Во всем была виновата Сибила, а не он. Он считал ее великой актрисой. Он влюбился в великую актрису. А она разочаровала его. Она была мелкой и недостойной. И, тем не менее, чувство бесконечного сожаления охватило его, когда он вспомнил о ней, как она лежала у его ног, рыдая, словно маленький ребенок. Он подумал о том, с каким равнодушием смотрел на нее. Почему он создан именно таким? Почему он наделен такой душой? Но ведь он тоже страдал. В течение ужасных трех часов он пережил столетия боли и целую вечность пыток. Его жизнь значит не меньше, чем ее. Даже если он нанес ей травму на всю жизнь, на мгновение она просто уничтожила его. Кроме того, женщины лучше приспособлены к горю, чем мужчины. Они живут своими чувствами. Они только и делают, что думают о своих чувствах. Они заводят любовников только для того, чтобы было перед кем разыгрывать сцены. Так ему говорил лорд Генри. Лорд Генри знает о женщинах все. Зачем ему было переживать из-за Сибилы Вэйн? Теперь она ничего не значила для него.
Но портрет! Что он мог сказать о портрете? Он хранит тайну его жизни и может рассказать о ней. Он научил его восхищаться собственной красотой. Неужели он же научит его ненавидеть собственную душу? Посмотрит ли Дориан на портрет еще когда-нибудь?
Да нет же, это был просто плод воспаленного воображения. Ужасы минувшей ночи наложили свой отпечаток. Видимо, в мозгу Дориана появилось красное пятнышко, от которого люди сходят с ума. Картина не изменилась. Каким же дураком надо было быть, чтобы такое придумать!
И все же искаженное жестокой улыбкой лицо смотрело на него с портрета. Его золотистые волосы сверкали в солнечных лучах. Его голубые глаза смотрели прямо ему в глаза. Дориана охватила жалость, но не к себе, а к его собственному изображению на картине. Оно уже изменилось и будет меняться дальше. Золотые кудри посереют. Красные и белые розы его лица завянут. Каждый грех найдет свое ужасное отражение на портрете. Но он не станет больше грешить. Портрет, измененный или неизменный, станет символом его совести. Он больше не будет встречаться с лордом Генри, по крайней мере, не станет прислушиваться к его ядовитым речам, которые там, в саду у Холлуорда, впервые заставили его стремиться к невозможному. Он вернется к Сибиле Вэйн, женится на ней, попытается искупить свою вину и снова полюбить ее. Да, он должен поступить именно так. Она точно страдала больше него. Бедное дитя! Как же самовлюбленно и жестоко он с ней поступил. Он снова полюбит ее. Они будут счастливы. Вместе они смогут прожить прекрасную и праведную жизнь.
Он поднялся со стула и завесил портрет, вздрагивая от каждого взгляда на него.
– Какой ужас! – прошептал он самому себе.
Дориан подошел к окну и открыл его. Ступив на траву в саду, он глубоко вдохнул. Свежий утренний воздух, казалось, разогнал все его мрачные переживания. Он думал только о Сибиле. В его душе зазвучало глухое эхо бывшей любви. Он повторял ее имя снова и снова. И птицы, заливавшиеся в росистом саду, как будто рассказывали о ней цветам.
Глава 8
Он проснулся далеко за полдень. Дворецкий несколько раз на цыпочках входил в комнату, чтобы убедиться, что хозяин дышит, и удивлялся, почему он так долго спит. Наконец раздался звонок, и Виктор вошел в комнату с чашкой чаю и целой пачкой писем на подносе старого севрского фарфора, отодвинул оливковые атласные шторы с мерцающей голубой подкладкой, которые закрывали три высоких окна.
– Вижу, вам сегодня хорошо спалось, сэр, – с улыбкой сказал он.
– Который час, Виктор? – сонно спросил Дориан Грей.
– Пятнадцать минут второго, сэр.
Как же поздно! Он присел на кровати и, выпив немного чая, начал разбирать письма. Одно из них было от лорда Генри. Его принес посыльный сегодня утром. Мгновение поколебавшись, он все же отложил его в сторону. Остальные письма он открывал машинально. Это, как всегда, были визитки, билеты на частные представления, программы благотворительных концертов и прочая дребедень, которой обычно засыпали модную молодежь. Также там был достаточно солидный счет за серебряный набор, который он все еще не решался передать своим опекунам. Они были очень старомодны и не понимали, что живут во времена, когда ненужные вещи стали самыми необходимыми. Кроме того, там были написанные учтивым языком письма от кредиторов с Джермин-стрит, которые предлагали взять кредит на любую сумму под очень умеренные проценты.
Примерно через десять минут он поднялся, накинул свой изысканный кашемировый халат, вышитый шелком, и пошел в ванную. Прохладная вода привела его в чувство после долгого сна. Казалось, он забыл обо всем, что ему пришлось недавно пережить. Неуловимое ощущение того, что он принял участие в трагических событиях, несколько раз посещало его, однако это все казалось ему сном.
Одевшись, он пошел в библиотеку, чтобы приняться за легкий французский завтрак, который уже ждал его на маленьком круглом столике у окна. День стоял восхитительный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела и, жужжа, закружилась над синей китайской вазой с желтыми розами. Он чувствовал себя вполне счастливым.
Вдруг его взгляд наткнулся на занавешенный портрет. Дориан задрожал.
– Вам холодно, сэр? – спросил дворецкий, накладывая ему омлет. – Закрыть окно?
Дориан отрицательно покачал головой:
– Мне не холодно.
Неужели это была правда? Неужели портрет действительно изменился? Или это просто его воображение заставило его увидеть зло там, где на самом деле сияла радость? Не мог же измениться сухой рисунок на полотне? Все это казалось полным безумием. Однажды он расскажет об этом Бэзилу, и тот будет долго смеяться.
Однако воспоминания об этом были слишком яркими! Сначала в бледных сумерках, а затем и в ярком утреннем свете он видел печать жестокости на крепко сжатых губах. Он боялся того момента, когда дворецкий выйдет из комнаты. Он осознавал, что, оставшись наедине, еще раз осмотрит портрет. И боялся узнать правду. Когда дворецкий принес кофе и сигареты и уже развернулся, чтобы уйти, Дориан почувствовал безумное желание попросить его остаться. Когда дверь за его спиной уже закрывалась, Дориан снова позвал его. Дворецкий остановился и ждал распоряжений. Мгновение Дориан молча смотрел на него.
– Меня ни для кого нет дома, Виктор, – сказал он со вздохом.
Дворецкий поклонился и вышел из комнаты.
Тогда Дориан встал из-за стола и сел на диван напротив портрета. Ширма была старинной, из позолоченной испанской кожи, с вычурными рисунками. Дориан пристально всматривался в него, задумавшись, приходилось ли ему уже когда-либо прежде скрывать тайну человеческой жизни. Стоило ли снимать завесу? Почему бы не оставить все как есть? Какая польза от того, чтобы знать правду? Если это действительно произошло, это ужасно. Если нет, то зачем беспокоиться? Но что, если по воли жестокой шутки судьбы еще каким-то глазам, кроме его собственных, откроется ужасная перемена, которую претерпел портрет? Что ему делать в случае, если Бэзил Холлуорд придет и захочет взглянуть на портрет собственной работы? А он точно придет. Нет, нужно осмотреть портрет как можно скорее. Неопределенность была невыносимой.
Дориан встал и запер обе двери. По крайней мере, он мог взглянуть в глаза своему позору в одиночестве. Затем он снял покрывало и предстал перед собственным лицом. Это действительно произошло. Портрет изменился.
Потом он часто с огромным удивлением вспоминал, что, глядя на портрет, чувствовал почти научный интерес. Его поражал сам факт того, что такое изменение могло случиться. Оно случилась, и это был факт. Неужели существовала какая-то неуловимая связь между его душой и атомами, придававшими цвет и форму полотну? Могло ли случиться так, что они воплотили то, к чему стремилась его душа? Было ли этому другое, еще более страшное, объяснение? Он почувствовал страх, задрожал и упал на диван, с ужасом глядя на портрет.
Однако Дориан чувствовал, что картина сделала для него доброе дело. Портрет позволил ему понять, как же несправедливо и жестоко он поступил с Сибилой Вэйн. Но было еще не поздно все исправить. Они все еще могли быть вместе. На смену его ложной, эгоистической любви пришло бы высшее благородное чувство. А портрет, который написал Холлуорд, стал бы в его жизни компасом, которым для одних является святость, для других – совесть, а для всех остальных – страх Божий. Существуют средства, чтобы усыпить совесть и чувство морали. Но перед его глазами был символ грехопадения. Это был вечный знак краха, к которому людей приводят собственные души.
Часы пробили третий час. Четвертый. Прошло еще полчаса, а Дориан так и не пошевелился. Он пытался собрать вместе красные нити жизни, соткать из них какой-то узор, найти выход из кроваво-красного лабиринта страстей, в котором он заблудился. Он не знал, что ему думать и что делать. В конце концов он подошел к столу и стал писать своей любимой письмо, в котором умолял простить его и называл себя сумасшедшим. Он наполнял словами искреннего раскаяния и ужасной боли страницу за страницей. Есть что-то роскошное в унижении самого себя. Когда мы себя в чем-то обвиняем, то знаем, что больше никто не сможет нас в этом обвинить. Не священник, а именно исповедь отпускает грехи. Написав письмо, Дориан чувствовал, что Сибила уже простила его.
Неожиданно постучали в дверь, и он услышал голос лорда Генри:
– Дориан, мне нужно с тобой поговорить. Открой немедленно! Это крайне некрасиво с твоей стороны, вот так вот запираться.
Сначала Дориан не ответил и не двинулся с места. И лорд Генри продолжал все громче стучать в дверь. В конце концов Дориан решил, что лучше его впустить. Нужно объяснить ему, что он отныне начинает новую жизнь. Нужно поссориться с ним, даже порвать любые отношения, если до этого дойдет. Он вскочил на ноги, быстро завесил портрет и только после этого открыл дверь.
– Я искренне сожалею обо всей этой истории, Дориан, – сразу сказал лорд Генри. – Но тебе не стоит много об этом думать.
– Ты имеешь в виду Сибилу Вэйн? – спросил Дориан.
– Конечно. – Лорд Генри сел на стул и начал медленно снимать свои желтые перчатки. – Это, конечно, ужасно, но это не твоя вина. Скажи, ты ходил к ней за кулисы после спектакля?
– Да.
– Я так и знал. И вы поссорились?
– Я вел себя жестоко, Гарри, очень жестоко! Но теперь это в прошлом. Я не жалею о том, что произошло, – это помогло мне лучше узнать самого себя.
– Я очень, очень рад, Дориан, что ты так к этому отнесся. Я боялся, что угрызения совести заставят тебя рвать свои золотые кудри.
– Через все это я уже прошел, – ответил Дориан, с улыбкой покачав головой. – И теперь я вполне счастлив. Прежде всего, мне открылась сущность совести. Она оказалась совсем не тем, о чем ты мне рассказывал, Гарри. Она – то прекрасное, чем обладает человек. Не стоит больше смеяться над этим, по крайней мере при мне. Я хочу быть хорошим человеком. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала ужасной.
– Эстетизм – это прекрасное основание для морали, Дориан! Я могу только поздравить тебя с этим. А с чего ты собираешься начать?
– Я женюсь на Сибиле Вэйн.
– На Сибиле Вэйн! – воскликнул лорд Генри, вставая и глядя на Дориана с искренним удивлением. – Дорогой мой, но она…
– Знаю, знаю, Гарри, сейчас ты скажешь мне какую-то гадость о браке. Не стоит. Никогда больше не говори мне ничего подобного. Два дня назад я просил руки Сибилы. И я свое слово сдержу. Она станет моей женой.
– Твоей женой? Дориан, ты что, не получил мое письмо? Я написал его сегодня утром, и мой слуга отнес его тебе.
– Письмо? Да, конечно… Я его еще не читал, Гарри. Боялся найти в нем что-то отвратительное. Ты умеешь рушить жизни своими эпиграммами.
– Ты так ничего и не знаешь?
– Что ты имеешь в виду?
Лорд Генри прошелся по комнате, а потом сел рядом с Дорианом и крепко сжал его руки в своих.
– Дориан, – сказал он, – ты только не пугайся, но я написал письмо, чтобы сообщить тебе, что Сибила Вэйн умерла.
Из уст Дориана сорвался мучительный крик. Он вскочил на ноги и вырвался из рук лорда Генри.
– Умерла! Сибила умерла! Неправда! Это чудовищная ложь! Как тебе не стыдно говорить такое?
– Это правда, Дориан, – серьезно сказал лорд Генри. – Об этом сегодня сообщили во всех газетах. Я написал, чтобы ты не принимал никого, пока я не приду. Скорее всего, будет следствие и нужно сделать все для того, чтобы тебя не впутали в эту историю. В Париже люди становятся популярными из-за подобных историй, но лондонцы все еще слишком суеверны. Здесь не следует появляться перед публикой в свете скандала. Скандалы приберегают на старость, когда бывает нужно подогреть интерес к себе. Надеюсь, в театре не знали, кто ты такой? Если нет, тогда все в порядке. Кто-нибудь видел, как ты заходил в гримерку Сибилы? Это крайне важно.
Дориан некоторое время молчал – он оцепенел от ужаса. Наконец он, запинаясь, сдавленным голосом пробормотал:
– Ты сказал – следствие? Что ты имел в виду? Получается, Сибила… Ох, Гарри, это невыносимо!.. Расскажи мне скорее!
– Нет никаких сомнений в том, Дориан, что это не просто несчастный случай, но нужно, чтобы общественность думала именно так. Говорят, что вчера около половины первого, когда девушка уже возвращалась домой из театра вместе со своей матерью, она вдруг побежала наверх, потому что будто бы что-то там забыла. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. В конце концов ее нашли мертвой на полу гримерки. Она ошибочно выпила какое-то ядовитое вещество из тех, что используют в театре для грима. Не помню, что именно это было, но в состав входит то ли синильная кислота, то ли свинцовые белила. Скорее всего, синильная кислота, ведь смерть была мгновенной.
– Какой ужас, Гарри! – закричал Дориан.
– Да… Это действительно трагедия, но нельзя, чтобы тебя считали причастным к ней… Я читал в «Стандард», что Сибиле Вэйн было семнадцать. А выглядела она еще моложе. Она казалась совсем девочкой, которая ничего не знает об актерстве. Дориан, не надо слишком переживать по этому поводу. Тебе непременно следует пообедать со мной, а потом мы посетим оперу. Сегодня в театре будет все почтенное общество, ведь поет Патти. Мы сядем в ложе моей сестры. Сегодня с ней приедут несколько эффектных женщин.
– Значит, я убил Сибилу Вэйн, – сказал Дориан Грей словно про себя. – Это все равно, как если бы я перерезал ей горло ножом. И, несмотря на это, розы такие же волшебные, птицы так же весело поют в моем саду. А сегодня вечером я обедаю с тобой и поеду в оперу, потом куда-то ужинать… Как же наша жизнь необычна и одновременно трагична! Если бы я прочитал о подобном в книге, Гарри, то точно заплакал бы. А сейчас, когда это случилось со мной, я настолько поражен, что и слез нет. Вот лежит написанное мной страстное любовное письмо. Первое в моей жизни любовное письмо. Разве не удивительно, что я написал его мертвой девушке? Хотел бы я знать: они все еще что-то чувствуют, эти немые, бледные люди, которых мы называем мертвецами? Сибила! Знает ли она об этом, может ли меня услышать, хотя бы почувствовать? Ах, Гарри, как я ее любил когда-то! Мне кажется сейчас, что это было много лет назад. Тогда она была для меня всем на свете. Затем настал тот ужасный вечер – неужели это было только вчера? – когда она играла так плохо, что у меня сердце чуть не разорвалось. Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно… но я не был тронут, я назвал ее дурой. А потом кое-что произошло… я не могу тебе рассказать об этом, но это было действительно страшно. Поэтому я решил вернуться к Сибиле. Я понял, что поступил плохо… А теперь она мертва… Боже, боже! Гарри, что мне делать? Ты даже не представляешь, в какой я опасности! И теперь не осталось никого, кто мог бы уберечь меня от падения. Она могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично с ее стороны!
– Дорогой Дориан, – сказал лорд Генри, доставая сигарету из латунного с позолотой портсигара. – Женщина может сделать из мужчины праведника только одним путем – надоесть ему так, что он потеряет интерес к жизни. Если бы ты женился на этой девушке, то был бы несчастным. Конечно, ты был бы хорошим по отношению к ней. Это очень просто – быть добрым к безразличному тебе человеку. Но она быстро поняла бы, что ты равнодушен к ней. А когда жена чувствует, что ее муж равнодушен к ней, она либо начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно, или у нее появляются очень хорошие шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уже о том, что такой неравный брак, который я постарался бы не допустить, стал бы унизительным. Поверь, при любых обстоятельствах это был бы крайне неудачный брак.
– Наверное, ты прав, – пробормотал Дориан. Он был очень бледен и нервно шагал по комнате. – Но я считал, что это мой долг. И нет моей вины в том, что эта страшная драма помешала мне его выполнить. Ты когда-то сказал, что над благородными решениями тяготеет страшное проклятие – они всегда принимаются слишком поздно. Так случилось и со мной.
– Благие намерения – просто бессмысленные попытки идти против природы. Они обычно порождены высокомерием и не приводят ни к чему хорошему. Время от времени они дают нам приятные, но пустые ощущения, которым могут радоваться только слабые духом. Вот и все. Благие намерения – это чеки, которые люди выписывают в банк, где у них нет текущего счета.
– Гарри, – спросил Дориан Грей, подходя и садясь рядом с лордом Генри, – почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели я настолько бессердечный? Как ты считаешь?
– После всех тех глупостей, которые ты наделал за последние две недели, у меня язык не поворачивается назвать тебя бессердечным, – ответил лорд Генри, ласково и одновременно грустно улыбаясь.
Юноша нахмурился.
– Мне не нравится такое объяснение, Гарри. Но я рад, что ты не считаешь меня бессердечным. Это же не про меня, я знаю! Однако то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать. Я все это воспринимаю как необычную развязку какой-то удивительной пьесы. В ней – жуткая красота греческой трагедии, трагедии, в которой я сыграл главную роль, но которая не ранила моей души.
– Это интересная ситуация, – сказал лорд Генри. Он наслаждался игрой на бессознательном эгоизме юноши. – Да, очень интересная. И, думаю, объяснить ее можно следующим образом: зачастую настоящие трагедии жизни приобретают отталкивающие формы, оскорбляющие нас своим грубым неистовством, крайней нелогичностью и бессмысленностью, полным отсутствием изящества. В результате мы избегаем их, как и всего пошлого. Мы чувствуем в них только грубую силу и восстаем против нее. Но иногда в нашей жизни случаются драмы, в которых можно заметить красоту искусства. Если красота эта – настоящая, то драматизм события нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже не действующие лица, а просто зрители этой трагедии. Или, вернее, то и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя, и именно необычность такого зрелища нас увлекает. Что, по сути, произошло? Девушка покончила с собой из-за любви к тебе. Жаль, что в моей жизни не случалось ничего подобного. Я тогда сделал бы любовь смыслом своей жизни. Но все, кто любил меня, – их было не очень много, но все же они были, – упрямо жили и здравствовали еще много лет после того, как я разлюбил их или они – меня. Эти женщины растолстели, стали скучными и невыносимыми. Когда мы встречаемся, они сразу же начинают копаться в своих воспоминаниях. Какая же ужасная вещь эта женская память! И какую отсталость, какой душевный упадок она разоблачает! Человек должен впитывать в себя краски жизни, но никогда не запоминать деталей. Детали всегда банальны.
– Придется посеять маки в саду, – вздохнул Дориан.
– Это не обязательно, – возразил его собеседник. – Жизнь держит маки для нас наготове. Конечно, бывают вещи, которые упорно не хотят забываться. Однажды я в течение целого сезона носил в петлице только фиалки. Это было чем-то вроде траура по любви, которая не хотела умирать. Но в конце концов она умерла. Не помню, что ее убило. Вероятно, обещание любимой женщины пожертвовать для меня всем на свете. Это всегда ужасный момент – он вселяет в человека страх перед вечностью. Так вот, представь себе – на прошлой неделе на обеде у леди Хэмпшир рядом со мной за столом сидела именно эта дама, и она любой ценой хотела начать все сначала, раскопать прошлое и расчистить дорогу для будущего. Я похоронил эту любовь в могиле под асфоделями, а она снова вытащила ее на свет божий и уверяла меня, что я разрушил ей жизнь. Должен констатировать, что за обедом она уплетала все с большим аппетитом, так что я о ней нисколько не беспокоюсь. Но какая бестактность! Какая безвкусица! Ведь вся прелесть прошлого в том, что оно – прошлое. А женщины никогда не замечают, что занавес уже опустился. Им непременно хочется увидеть шестой акт!
Они хотят продолжать спектакль, когда всяческий интерес к нему уже исчез. Была бы их воля, каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия закончилась бы фарсом. Женщины – прекрасные актрисы, но у них нет ощущения искусства. По сравнению со мной ты счастливчик, Дориан. Клянусь тебе, ни одна из женщин, с которыми я был близок, не сделала бы ради меня того, что сделала ради тебя Сибила Вэйн. Обычные женщины всегда находят утешение. Одни – в том, что носят сентиментальные цвета. Никогда не доверяй женщине, которая, не считаясь со своим возрастом, носит яркие платья или в тридцать пять лет все еще имеет страсть к розовым лентам. Это, несомненно, женщина с прошлым. Другие неожиданно находят добродетели в собственных мужьях, и это служит им огромной радостью. Они кичатся своим супружеским счастьем так, будто это самый отчаянный из грехов. Некоторые находят утешение в религии. Таинства религии несут в себе наслаждение флирта – так мне когда-то сказала одна женщина, и я этому охотно верю. Кроме того, ничто так не радует женское тщеславие, как репутация грешницы. Совесть делает из нас эгоистов… В наше время женщины утешают себя множеством способов. А я еще даже не упомянул о важнейшем из них.
– О каком же это, Гарри? – рассеянно спросил Дориан.
– О наиболее очевидном – отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. В благородных кругах это всегда реабилитирует женщину. Подумай, Дориан, насколько Сибила Вэйн была непохожей на женщин, которых мы обычно видим вокруг! Я вижу своеобразную красоту в ее смерти и радуюсь, что живу во времена, когда такие чудеса возможны. Они вселяют в нас веру в существование настоящей любви, страсти, романтических чувств, над которыми мы привыкли только посмеиваться.
– Я был очень жесток с ней. Не забывай об этом.
– Боюсь, жестокость, откровенная жестокость, привлекает женщин больше всего на свете. В них на удивление хорошо развиты первобытные инстинкты. Мы им дали свободу, а они все равно остались рабынями, которые ищут себе хозяина. Они любят повиноваться… Я уверен, что ты был неотразим. Никогда не видел, как ты сердишься, но представляю себе, как же интересно было наблюдать за тобой в тот момент! И наконец, позавчера ты сказал мне кое-что… тогда я подумал, что это плод твоего воображения, но сейчас я вижу, что ты совершенно прав, и это все объясняет.
– Что же я такого сказал, Гарри?
– Что в Сибиле Вэйн ты видишь всех романтических героинь. Одним вечером она – Дездемона, другим – Офелия и, умирая Джульеттой, воскресает в образе Имоджены.
– Она никогда не воскреснет вновь, – прошептал Дориан, закрывая лицо руками.
– Нет, не воскреснет. Она сыграла свою последнюю роль. Но ты должен думать о ее одинокой смерти в грязной гримерке просто как о странном и мрачном отрывке из какой-нибудь трагедии, как о сцене из Уэбстера, Форда или Сирила Тернера[8]. Эта девушка, по сути, не жила, а следовательно, и не умирала. По крайней мере, для тебя она была мечтой, призраком, пронесшимся в пьесах Шекспира и обогатившим их, она была свирелью, что добавляла музыке Шекспира еще больше обаяния и жизнерадостности. Первое же прикосновение к реальности стало роковым для нее. Если захочешь, можешь оплакивать Офелию, отчаянно скучать по задушенной Корделии или проклинать небеса за то, что погибла дочь Брабанцио. Но Сибила Вэйн не стоит твоих слез. Она была еще менее реальной, чем они все.
В комнате воцарилась тишина. Вечерние сумерки постепенно окутывали комнату. Серебряные тени бесшумно приходили из сада. Медленно выцветали все краски.
Через некоторое время Дориан Грей поднял взгляд.
– Ты объяснил мне мои собственные чувства, Гарри, – сказал он, вздохнув с облегчением. – Мне и самому так казалось, но меня это несколько пугало, и я не все мог себе объяснить. Как же хорошо ты меня знаешь! Но нам не стоит больше касаться этой темы. Это был удивительный опыт – вот и все. Не знаю, суждено ли мне еще раз пережить что-то столь же удивительное.
– У тебя впереди еще целая жизнь, Дориан. С твоей красотой для тебя нет ничего невозможного.
– Но Гарри, представь, что я стану сухим, старым и сморщенным? И что тогда?
– А вот тогда, – сказал лорд Генри вставая, чтобы уже идти, – тогда, дорогой Дориан, тебе придется бороться за каждую победу, а сейчас они сами идут тебе в руки. Нет, ты должен беречь свою красоту. Ее нельзя терять, особенно в наше время, когда люди слишком много читают, чтобы быть мудрыми, и слишком много думают, чтобы быть красивыми. А теперь тебе пора одеваться и отправляться в клуб. Мы и так уже опаздываем.
– Лучше я приеду прямо в оперу, Гарри. Я так устал, что совсем потерял аппетит. Номер ложи твоей сестры?
– Кажется, двадцать семь. Она находится на самом верху. Ты увидишь ее имя на двери. Но мне жаль, что ты не хочешь со мной пообедать.
– Я просто не в состоянии, честно, – устало сказал Дориан. – Спасибо, Гарри, за все, что ты мне сказал. Я твой должник. Ты действительно мой лучший друг. Никто не понимает меня так, как ты.
– А ведь наша дружба только начинается, – ответил лорд Генри, пожимая ему руку. – Всего хорошего. Надеюсь, мы увидимся не позднее чем в половине десятого. Не забывай, сегодня поет Патти.
Когда лорд Генри вышел и закрыл за собой дверь, Дориан позвонил в колокольчик, и через несколько минут в комнате появился Виктор. Он принес лампы и опустил шторы. Дориан нетерпеливо ждал, пока он уйдет. Ему казалось, что слуга сегодня копается бесконечно долго.
Как только Виктор ушел, Дориан Грей подбежал к ширме и отодвинул ее. Нет, он больше не изменился. Он знал о смерти Сибилы Вэйн еще до того, как весть об этом дошла до Дориана. Портрет знал обо всем, что происходило в его жизни. Поэтому бездушная жестокость исказила прекрасные уста тотчас, как девушка выпила яд. Или может быть так, что на портрете отражаются не деяния живого Дориана Грея, а только то, что происходит в его душе? Размышляя об этом, Дориан Грей спрашивал себя, а что, если однажды портрет изменится у него на глазах? С одной стороны, он хотел, чтобы это произошло, а с другой – сама мысль об этом заставляла его дрожать.
Бедная Сибила! Но как же все это романтично! Она так часто изображала смерть на сцене, и вот Смерть пришла, чтобы забрать ее. Как Сибила сыграла эту свою последнюю сцену? Проклинала ли она его, умирая? Нет, она умерла от любви к нему, и отныне Любовь станет его вечной святыней. Отдав свою жизнь, Сибила искупила все. Он больше не будет вспоминать, как страдал из-за нее в тот ужасный вечер в театре. Вместо этого она останется в его памяти как прекрасный и трагический образ на большой сцене жизни, который призван показать миру высшую сущность Любви. Странный трагический образ? Воспоминания о детском лице Сибилы, ее волшебной живости и застенчивой грации наполнили его глаза слезами. Он торопливо смахнул их и снова посмотрел на портрет.
Он сказал себе, что пора сделать выбор. Или он уже сделал его? Да, сама жизнь решила за Дориана – жизнь и его безграничный интерес к ней. Вечная молодость, бесконечная страсть, утонченные и запретные утехи, безумие счастья и еще более неистовое безумие греха – все это он должен изведать! А портрет пусть несет бремя его позора – вот и все.
На мгновение его сердце защемило от мысли, что прекрасное лицо на портрете станет уродливым. Однажды он, еще совсем юный и глупый, что Нарцисс, поцеловал – вернее, сделал вид, что целует эти нарисованные губы, которые теперь с такой злостью улыбались ему. Каждое утро он долго любовался портретом. Иногда он чувствовал, что почти влюблен в него. И неужели теперь каждая слабость, которой он, Дориан, поддастся, будет отражаться на этом портрете? Неужели он станет ужасно уродливым и его придется прятать под замок, подальше от солнца, которое так часто покрывало золотом его прекрасные кудри? Как жаль! Как жаль!
В какой-то момент Дориан Грей захотел помолиться о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом. Портрет изменился, потому что он когда-то пожелал этого, – так, может, новая молитва сможет остановить эти изменения? Но… Разве человек, познавший хотя бы малейшую частицу жизни, откажется от возможности остаться вечно молодым, какой эфемерной не была бы эта возможность и какими бы роковыми последствиями она не угрожала? К тому же разве это действительно в его силах? Разве действительно прошение вызвало такое изменение? Не объясняется ли это изменение какими-то неизвестными законами науки? Если мысль способна влиять на живой организм, то, возможно ли, что она действует и на мертвые, неодушевленные предметы? Более того, даже без участия нашей мысли или сознательной воли не может ли то, что вне нас, звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами и атом стремиться к атому под влиянием какого-то таинственного притяжения или странного родства?.. Впрочем, причины уже не имели значения. Никогда больше он не станет призывать на помощь страшные, неведомые силы. Если портрету суждено меняться, пусть меняется. Какой смысл в том, чтобы искать причины?
А наблюдать этот процесс будет настоящим наслаждением! Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные свои помыслы. Портрет станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо, а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все еще оставаться на очаровательной грани между весной и летом. Когда лицо на портрете потеряет свои краски и станет меловой маской с оловянными глазами, лицо живого Дориана будет по-прежнему сохранять все сияние юности. Да, цвет его красоты не увянет, пульс жизни никогда не ослабнет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, быстроногим и жизнерадостным. Не все ли равно, что будет с его портретом? Самому-то ему ничто не угрожает, а только это и важно.
Дориан Грей, улыбаясь, завесил портрет и пошел в спальню, где его ждал камердинер. Через час он был уже в опере, и лорд Генри сидел позади, опираясь на его кресло.
Глава 9
На следующее утро, когда Дориан сидел за завтраком, пришел Бэзил Холлуорд.
– Очень рад, что встретил тебя, Дориан, – сказал он мрачно. – Я заходил вчера вечером, но мне сказали, что ты в опере. Конечно, я не поверил. Зря ты не сказал никому, куда на самом деле ушел. Я весь вечер переживал, чтобы вслед за одним несчастьем не случилось второе. Почему ты не отправил мне телеграмму, как только узнал? Я прочитал об этом случайно в выпуске «Глоуб», который попал мне на глаза в клубе. Я немедленно отправился к тебе, но, к сожалению, не застал. Я не могу передать словами, насколько меня тронуло это несчастье! Понимаю, как тяжело тебе сейчас. А где же ты вчера был? Видимо, ездил к ее матери? Сначала я тоже хотел отправиться туда – адрес я прочитал в газете. Это же где-то на Юстон-роуд? Но я побоялся, что буду там лишним. Чем можно помочь в такой ситуации? Несчастная мать! Представляю, в каком она состоянии! Ведь это ее единственная дочь? Что она говорила?
– Дорогой Бэзил, откуда мне знать? – процедил Дориан Грей с выражением крайнего недовольства и скуки на лице, потягивая желтоватое вино из прекрасного, усеянного золотыми бусинками венецианского бокала. – Я был в опере. Тебе тоже стоило бы туда приехать. Я там познакомился с сестрой Гарри, леди Гвендолен, мы сидели у нее в ложе. Она просто очаровательная женщина, да и Патти пела божественно. Не стоит говорить о неприятных вещах. Если не говорить о чем-то, то его будто бы и нет. Как говорит Гарри, слова делают вещи настоящими. А насчет матери Сибилы, так у нее есть еще сын, по-моему, славный парень. Но он не актер. Он моряк или что-то вроде того. Но расскажи лучше о себе. Что ты сейчас пишешь?
– Ты был в опере? – медленно переспросил Бэзил, и в его голосе слышалась острая боль. – Ты поехал в оперу в то время, как тело Сибилы Вэйн лежало в какой-то грязной каморке? Ты способен говорить о красоте других женщин и о божественном пении Патти, пока девушка, которую ты любил, еще даже не обрела покой в могиле? Эх, Дориан, ты бы хоть подумал о тех ужасах, через которые еще предстоит пройти ее бедному маленькому телу!
– Прекрати, Бэзил! Я не хочу этого слышать! – крикнул Дориан и вскочил на ноги. – Более ни слова об этом. Что сделано, то сделано. Оставим прошлое в прошлом.
– Вчерашний день для тебя уже прошлое?
– Время здесь ни при чем. Только ограниченным людям нужны годы, чтобы освободиться от какого-либо чувства или впечатления. А человек, имеющий хотя бы немного самоконтроля, способен покончить с грустью так же легко, как найти новую радость. Я не хочу быть рабом своих переживаний. Я хочу использовать их, чтобы наслаждаться ими, и господствовать над ними.
– Дориан, это ужасно! Что-то сделало из тебя совсем другого человека. Внешне ты все тот же замечательный мальчик, который каждый день приходил ко мне в мастерскую позировать. Но тогда ты был искренний, непосредственный и добрый, ты был самым неиспорченным юношей на свете. А теперь… Даже не знаю, что с тобой случилось. Ты говоришь как бессердечный, безжалостный человек. Все это – влияние Гарри. Теперь мне ясно…
Дориан покраснел и, отойдя к окну, с минуту смотрел на зыбкое море зелени в залитом солнцем саду.
– Я многим обязан Гарри, – сказал он в конце концов. – В отличие от тебя, Бэзил. Все, что ты сделал для меня, – это научил тщеславию.
– Что же, жизнь уже наказала меня за это, Дориан, или когда-нибудь накажет.
– Я не понимаю, зачем ты это говоришь, Бэзил, – сказал Дориан, обернувшись. – И не знаю, что ты хочешь от меня. Говори, что тебе нужно.
– Мне нужен тот Дориан Грей, которого я писал, – с грустью ответил художник.
– Бэзил, – Дориан подошел и положил руку ему на плечо, – ты пришел слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибила покончила с собой…
– Покончила с собой! Господи помилуй! Неужели? – воскликнул Холлуорд, с ужасом глядя на Дориана.
– Друг мой, как ты мог подумать, что это просто несчастный случай? Конечно, она покончила с собой.
Художник закрыл лицо руками.
– Какой ужас! – прошептал он, вздрогнув.
– Да нет же, – сказал Дориан Грей. – В этом нет ничего ужасного. Это одна из величественных романтических трагедий нашего времени. Обычные актеры, как правило, живут крайне банально. Все они – примерные мужья или примерные жены – словом, скучные люди. Мещанская порядочность и все такое, ты понимаешь. Сибила была так непохожа на них! Она пережила свою величайшую трагедию. Она всегда оставалась героиней. В последний вечер, тот вечер, когда вы видели ее на сцене, она играла ужасно, потому что познала настоящую любовь. А когда это чувство оказалось недосягаемым, она умерла, как умерла когда-то Джульетта. Она ушла из жизни, чтобы вернуться в искусство. Ее окружает ореол мученичества. Да, в ее смерти – весь бесполезный пафос мученичества, вся его бесполезная красота… Но, Бэзил, не думай, что я не страдал. Если бы ты пришел в другое время, вчера около половины шестого или за пятнадцать минут до шести, то застал бы меня в слезах. Даже Гарри, а именно он рассказал мне об этом, не подозревает, через что мне пришлось пройти. Я ужасно страдал. Но со временем это прошло. А я не могу дважды окунуться в одно и то же чувство. И никто не может, кроме крайне сентиментальных людей. Ты очень предвзято относишься ко мне, Бэзил. Ты пришел, чтобы утешить меня. Это крайне мило с твоей стороны. Но ты увидел, что я уже не нуждаюсь, чтобы меня утешали, и это тебя разозлило. Все вы, сочувствующие люди, такие! Это напоминает мне историю, которую мне рассказывал Гарри. Историю об одном филантропе, который двадцать лет потратил на борьбу с какими-то злоупотреблениями или несправедливым законом – я уже и не помню. В конце концов он достиг своей цели, и именно здесь его ждало жестокое разочарование. Его одолела скука, и он превратился в ярого мизантропа. К тому же, дорогой друг, если ты действительно хочешь меня утешить, то лучше научи, как забыть то, что произошло, или смотреть на это глазами художника. Кажется, Готье писал об утешении, которое мы находим в искусстве? Помню, однажды у тебя в мастерской мне попалась на глаза книжка в веленевой обложке, и, листая ее, я наткнулся на замечательное выражение: «consolation des arts»[9]. Действительно, я нисколько не похож на юношу, о котором ты мне рассказывал, когда мы вместе ездили в Марло. Он уверял, что желтый атлас может служить человеку утешением во всех жизненных неурядицах. Я люблю красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках. Старинная парча, зеленая бронза, изделия из слоновой кости, красивое убранство комнат, роскошь, великолепие – все это дарит столько радости! Но все равно, самым важным для меня является инстинкт художника, который они пробуждают или хотя бы обнаруживают в человеке. Стать, как говорит Гарри, зрителем собственной жизни – это значит уберечь себя от земных страданий. Знаю, тебе странно слышать такое от меня. Ты еще не понял, насколько я повзрослел. Когда мы познакомились, я был еще мальчиком, а теперь я уже мужчина. У меня появились новые увлечения, новые мысли и взгляды. Да, я стал другим. Но, Бэзил, я не хочу, чтобы ты разлюбил меня за это. Я изменился, но нам следует оставаться друзьями всегда. Конечно, я очень люблю Гарри. Но я знаю, что ты лучше, чем он. Ты не такой сильный человек, потому что слишком боишься жить, но ты лучше. А сколько счастливых мгновений мы разделили с тобой! Поэтому не оставляй меня, Бэзил, и не спорь со мной. Я такой, какой я есть, – ничего с этим не поделаешь.
Эти слова тронули Холлуорда. Юноша значил для него очень много, ведь именно знакомство с ним стало ключевым моментом для его творчества. Ему не хватало смелости, чтобы снова упрекать Дориана. В конце концов, его равнодушие могло быть вызвано проходящим перепадом настроения. В нем столько хорошего, столько благородства!
– Ну, хорошо, Дориан, – сказал он наконец с грустной улыбкой. – Я не буду больше вспоминать об этой страшной истории. Надеюсь, твое имя не будет в ней фигурировать. Следствие начинается сегодня. Тебя не вызывали?
Дориан покачал головой и раздраженно поморщился, услышав слово «следствие». Было в нем что-то грубое и вульгарное.
– Никто там не знает моей фамилии, – сказал он.
– Но девушка ведь знала?
– Только имя. К тому же я уверен, что она никому не называла его. Она мне рассказывала, что в театре все очень интересуются моей персоной, но на их вопросы она всегда отвечала, что меня зовут Прекрасный Принц. Это было так чудесно с ее стороны. Пожалуйста, Бэзил, напиши мне портрет Сибилы Вэйн. Мне хочется иметь в память о ней нечто большее, чем воспоминания о нескольких нежных поцелуях и страстных словах.
– Ладно, Дориан, попробую, если ты так хочешь. Но тебе и самому следует снова приходить позировать мне. Я не могу справиться без тебя.
– Я тебе больше никогда не будет позировать, Бэзил. Это невозможно! – почти крикнул Дориан, отступая.
Художник удивленно посмотрел на него.
– Что это еще за выдумки, Дориан? Разве тебе не нравится портрет, который я написал? А кстати, где он? Зачем ты завесил его тканью? Я хочу взглянуть на него. В конце концов, это мое лучшее произведение. Дориан, забери-ка ширму. Как твой дворецкий додумался спрятать его в самый дальний угол комнаты? Неудивительно, что, войдя в комнату, я сразу почувствовал, что чего-то не хватает.
– Дворецкий тут ни при чем, Бэзил. Неужели ты думаешь, что я позволяю ему расставлять вещи в комнатах по своему усмотрению? Он иногда выбирает для меня цветы – вот и все. Это я завесил портрет. На него падало слишком много света.
– Много света! Друг, что ты себе надумал? Это место прекрасно ему подходит. Дай-ка я посмотрю на него. – И Холлуорд отправился в тот угол, где стоял портрет.
С уст Дориана сорвался крик ужаса. Он быстро преградил художнику путь к картине.
– Не надо, Бэзил, – сказал он, очень побледнев, – тебе не стоит на него смотреть.
– Да ты шутишь?! Почему бы мне не взглянуть на свое собственное произведение? – засмеялся Холлуорд.
– Только попробуй, Бэзил, – и, честное слово, я забуду твое имя. Я говорю вполне серьезно. Я не собираюсь ничего объяснять, можешь даже не спрашивать. Но помни: одно прикосновение к картине – и нашей дружбе конец.
Такое поведение Дориана стало для Холлуорда громом среди ясного неба. Никогда еще он не видел его таким. Юноша побледнел от ярости. Его руки были сжаты, а глаза походили на очаги голубого пламени. Он весь дрожал.
– Дориан!
– Помолчи, Бэзил!
– Господи, да что случилось? Не буду я смотреть, если уж ты настолько против, – сухо сказал художник, развернувшись на каблуках и отойдя к окну. – Но это просто ерунда – запрещать мне смотреть на картину моей собственной кисти! Заметь, осенью я хочу отправить ее на выставку в Париж, а перед этим, наверное, понадобится заново покрыть ее лаком. А это значит, что мне все равно придется осмотреть ее, – так почему бы не сделать это сегодня?
– На выставку? Ты хочешь выставить портрет? – переспросил Дориан Грей, чувствуя, как его переполняет безумный страх. Следовательно, его тайна откроется всему миру? Люди будут с интересом глазеть на самое сокровенное в его жизни? Этого нельзя допустить! Надо немедленно что-то сделать, как-то помешать этому. Но как?
– Именно так. Ты же не против? – продолжал художник. – Жорж Пети намерен собрать лучшие мои работы в специальной экспозиции на улице Сэз в первых числах октября. Портрет заберут ненадолго – может быть, на месяц. Надеюсь, тебе не сложно будет расстаться с ним на такой незначительный промежуток времени. К тому же ты, скорее всего, и сам будешь за городом в это время. В конце концов, раз ты держишь его за ширмой, то не настолько уж он тебе и нужен.
Дориан Грей положил руку на лоб и вытер капли пота. Он чувствовал, что стоит на пороге гибели.
– Но месяц назад ты говорил, что ни за что его не выставишь! – воскликнул он. – Отчего же ты передумал? Ты, так же как и все люди, которые рассказывают о твердости своих намерений, с легкостью меняешь их. Разница лишь в том, что причиной этих изменений являются только вам самим понятные прихоти. Ты же помнишь, как клялся, что ни за что на свете не отправишь мой портрет на выставку? То же самое ты говорил Гарри.
Вдруг Дориан остановился, и в его глазах засиял огонек. Он вспомнил, как однажды лорд Генри сказал ему, несколько шутя: «Когда захочешь интересно провести четверть часа, заставь Бэзила объяснить, почему он не хочет выставлять твой портрет. Когда он рассказал об этом мне, это стало для меня настоящим откровением». Получается, что Бэзил также держит скелет в шкафу! Стоит узнать, что к чему.
– Бэзил, – сказал он, подойдя вплотную к Холлуорду и заглянув ему в глаза, – у каждого из нас есть своя тайна. Поделись своей со мной, а я расскажу тебе свою. Почему ты не хотел выставлять мой портрет?
Художник невольно вздрогнул.
– Дориан, если я расскажу, то ты, скорее всего, будешь хуже относиться ко мне и начнешь надо мной смеяться. А это было бы для меня невыносимо. Если ты хочешь, чтобы я больше никогда не пытался взглянуть на портрет, пусть будет так. Ведь у меня есть ты – я всегда смогу видеть тебя. Ты хочешь скрыть от мира лучшее произведение моей жизни? Ну что же, так тому и быть. Твоя дружба для меня дороже славы.
– Нет, Бэзил, ты должен ответить на мой вопрос, – настаивал Дориан Грей. – Я считаю, что имею право знать.
На смену страху пришел интерес. Он был намерен узнать тайну Холлуорда.
– Сядем, Дориан, – сказал тот со взволнованным видом. – Я должен спросить тебя кое-что. Ты не заметил ничего особенного в портрете? Ничего такого, что сначала, возможно, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось тебе?
– Бэзил! – воскликнул Дориан, дрожащими руками сжимая подлокотники кресла и глядя на художника глазами, полными ужаса.
– Вижу, что заметил. Ничего не говори, Дориан, сначала выслушай меня. С того самого момента, когда мы с тобой встретились впервые, я почувствовал, что ты влияешь на меня самым удивительным образом. Ты каким-то непонятным образом властвовал над моей душой, мозгом, талантом, был для меня воплощением того идеала, который всю жизнь витает перед художником, будто несбыточная мечта. Я обожал тебя. Стоило тебе заговорить с кем-нибудь, и я уже ревновал. Я хотел сохранить тебя только для себя и чувствовал себя счастливым, лишь когда ты был со мной. И даже когда тебя не было рядом, ты был со мной, воплощаясь в моем творчестве. Конечно, я ни слова не говорил об этом. Ты бы не понял, да я и сам не мог это полностью понять. Я чувствовал только, что имею перед глазами совершенство, и от того представлял мир прекрасным – пожалуй, слишком прекрасным, потому что такие душевные восхищения опасны. Не знаю даже, что страшнее – их власть над душой или разочарование от их потери. Шли недели, а я был все больше увлечен тобой. Наконец мне пришло в голову что-то новое. Я уже написал тебе в образе Париса в блестящих доспехах и Адонисом в костюме охотника, с острым копьем в руках. Ты сидел на носу корабля императора Адриана в венке из тяжелых цветов лотоса и смотрел на мутные воды зеленого Нила. Ты склонялся над озером в одной из рощ Греции, любуясь своей удивительной красотой в тихом серебре его вод. Эти образы, как того требует настоящее искусство, были интуитивными, идеальными, далекими от действительности. Но в один прекрасный или, как мне иногда кажется, роковой день я решил написать твой портрет, написать тебя настоящего, не в одежде прошлых веков, а в современном костюме и в современной обстановке. Не знаю, что стало решающим фактором – реалистичная манера или твое очарование, что предстало передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированное. Но когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый штрих и цвет раскрывают мою тайну. И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, как я обожаю тебя, Дориан. Я чувствовал, что высказал слишком много в этом портрете, вложил в него слишком большую часть себя. Именно поэтому я решил ни за что не выставлять его. Тебе было обидно, но ты еще не знал моих мотивов. А Гарри посмеялся надо мной, когда я рассказал ему об этом. Но это не имело значения. Когда я посмотрел на уже готовый портрет, я почувствовал, что был прав… А через несколько дней его увезли из моей мастерской, и, как только на меня перестало давить его присутствие, мне показалось, что все это выдумки и в портрете нет ничего, кроме твоей красоты и моего вдохновения. Мне до сих пор кажется, что я ошибался, что чувства художника не отражаются в его творении. Искусство гораздо более абстрактно, чем мы думаем. Форма и краски могут рассказать нам лишь о форме и красках. Мне часто приходит в голову, что искусство в большей степени скрывает художника, чем разоблачает его. Поэтому, когда я получил предложение из Парижа, я решил, что твой портрет станет центральным экспонатом моей выставки. Я и представить не мог, что ты станешь возражать. Но я понял, что ты прав, – не следует выставлять портрет. Не сердись, Дориан. Как я говорил прежде Гарри, ты просто создан для того, чтобы тебя любили.
Дориан Грей облегченно выдохнул. Его щеки снова порозовели, а на устах появилась улыбка. Опасность миновала. Пока ему ничто не угрожает. Он невольно сочувствовал художнику, услышав его странную исповедь, и спрашивал себя, способен ли и он когда-то настолько увлечься своим другом. Лорд Генри привлекал его только как источник риска и опасности. Он слишком умен и слишком циничен, чтобы восхищаться им. Найдет ли Дориан собственного кумира? Суждено ли ему познать и это?
– Дориан, я поражен тем, что ты разглядел это в портрете, – сказал Бэзил Холлуорд. – Ты действительно это заметил?
– Я заметил кое-что, что поразило меня до глубины души.
– Ну а теперь я могу взглянуть на портрет?
Дориан покачал головой:
– Нет, Бэзил, даже не проси. Я не позволю тебе открыть картину.
– Так, может, в другой раз?
– Никогда.
– Что ж, пожалуй, ты имеешь на это причины. Всего хорошего, Дориан. Ты – единственный, кто по-настоящему повлиял на мое творчество. И всем тем прекрасным, что я написал, я обязан тебе. Ты даже не представляешь, как сложно мне было говорить тебе все то, что я сказал.
– Да что же ты такого сказал, дорогой Бэзил? Что ты увлекался мной больше, чем следовало? Это же даже не комплимент.
– Это действительно был не комплимент. Это была исповедь. И после нее я будто что-то потерял. Пожалуй, никогда не следует вкладывать свои чувства в слова.
– Я ожидал большего от твоей исповеди, Бэзил.
– Ты о чем? Чего ты ожидал, Дориан? Ты еще что-то заметил в портрете?
– Да нет. А почему ты спрашиваешь? Я не о том. Это глупо с твоей стороны – говорить об обожании. Бэзил, мы с тобой друзья и так должно быть всегда.
– У тебя есть Гарри, – мрачно сказал Холлуорд.
– Гарри! – Дориан рассмеялся. – Гарри днями занят тем, что говорит невозможные вещи, а по вечерам воплощает их в жизнь. Такая жизнь мне по вкусу. Но в трудную минуту я вряд ли обратился бы к Гарри. Скорее к тебе, Бэзил.
– Ты будешь снова позировать мне?
– Ни в коем случае!
– Своим отказом ты убиваешь меня как художника. Никто не встречает свой идеал дважды в жизни. Даже однажды встретить его – огромная удача.
– Я не смогу тебе этого объяснить, Бэзил, но я не смогу больше позировать тебе. Каждый портрет имеет свою судьбу. Он живет собственной жизнью. Я буду приходить к тебе на чай. Это не менее приятно.
– Для тебя, наверное, даже приятнее, – огорченно пробормотал Холлуорд. – До свидания, Дориан. Очень жаль, что ты не позволил мне взглянуть на портрет. Но ничего не поделаешь. Я тебя понимаю.
Когда он вышел из комнаты, Дориан усмехнулся про себя. Бедный Бэзил, он и представить не мог истинной причины! И как же странно, что Дориану удалось не только сохранить свою тайну, но и вытянуть тайну из друга! После исповеди Бэзила Дориан наконец понял, что было причиной его бессмысленных вспышек ревности и его страстной привязанности, восхищенных дифирамбов, а иногда его странной сдержанности и таинственности. Это навеяло грусть на Дориана. Было в такой дружбе на грани влюбленности что-то трагичное.
Он вздохнул и вызвал звонком дворецкого. Портрет нужно было спрятать во что бы то ни стало. Нельзя рисковать этой тайной. Даже на час оставить портрет в комнате, куда может прийти любой из знакомых, было страшной глупостью с его стороны.
Глава 10
Когда дворецкий вошел, Дориан пристально посмотрел на него, размышляя, не надумал ли он случайно взглянуть за ширму. Тот стоял с равнодушным видом и ждал распоряжений. Дориан закурил и, подойдя к зеркалу, посмотрел туда. В нем он четко видел лицо Виктора. На нем было невозмутимое и услужливое выражение. Тут нечего бояться. И все же лучше быть настороже.
Он попросил Виктора позвать экономку и сходить к багетному мастеру, чтобы тот прислал ему двух своих помощников. На мгновение ему показалось, что Виктор с интересом смотрел в сторону портрета. Или это ему просто почудилось?
Через несколько минут в библиотеку прибежала миссис Лиф в черном шелковом платье и старомодных перчатках на морщинистых руках. Дориан попросил у нее ключ от бывшей классной комнаты.
– От старой классной комнаты, мистер Дориан? – переспросила она. – Там же полно пыли! Нужно для начала убрать и навести порядок. А сейчас вам не следует ходить туда!
– Мне не надо, чтобы там убирали, миссис Лиф. Мне нужен только ключ.
– Но, сэр, вы будете весь в паутине, если войдете туда. Комнату уже лет пять не открывали – с тех пор как умерли их светлость.
Дориан вздрогнул при мысли о своем деде. Он всегда вспоминал старика с ненавистью.
– Это не имеет значения! – ответил он. – Я просто хочу осмотреть комнату, вот и все. Дайте мне ключ.
– Пожалуйста, вот он, – сказала пожилая женщина, перебирая дрожащими пальцами связку ключей. – Сейчас сниму со связки. Но вы же не думаете перебираться туда, сэр, вам ведь и здесь удобно?
– Никуда я не собираюсь, – раздраженно сказал Дориан. – Спасибо, миссис Лиф. Это все.
Она еще несколько минут постояла, расспрашивая, как ей лучше вести хозяйство. Вздохнув, Дориан сказал, что полностью доверяет ей. Экономка, улыбающаяся и счастливая, наконец вышла из комнаты.
Когда дверь за ней закрылась, Дориан положил ключ в карман и осмотрел комнату. Ему на глаза попало пурпурное атласное покрывало, богато расшитое золотом, – замечательный образец венецианского искусства конца семнадцатого века. Его дед нашел это покрывало где-то в монастыре близ Болоньи. Именно в него он завернет эту ужасную вещь. Его, видимо, часто использовали, чтобы укрывать покойников. А теперь оно будет прятать гниения страшнее и отвратительнее, чем гниения трупа, ведь они могут вызвать такой же ужас, но никогда не закончатся. Как черви точат мертвеца, так грехи Дориана будут разъедать его образ на холсте. Они уничтожат его красоту. Они осквернят этот портрет и покроют его позором. Но, несмотря на все это, портрет будет жить.
Дориан вздрогнул. На мгновение он пожалел, что не сказал художнику, почему завесил портрет. Бэзил помог бы ему сопротивляться и влиянию лорда Генри, и еще более губительному влиянию собственного характера. Любовь Безила к нему – потому что это действительно любовь – чувство высокое и благородное. Это не просто порожденное физическими ощущениями восхищение красотой – увлечение, которое умирает, когда ощущения слабеют. Нет, это такая любовь, которую познали Микеланджело, Монтень, Винкельман[10] и Шекспир. Да, Бэзил мог бы спасти его. Но теперь уже слишком поздно. Прошлое всегда можно исправить – искуплением, отречением или забвением, но будущее неизбежно. Он чувствовал, как в нем кипели страсти, которые не приведут его ни к чему хорошему, как пробуждались фантазии, что, осуществившись, покроют его жизнь мрачной тенью.
Он снял с кушетки пурпурно-золотую ткань и, держа ее в руках, зашел за ширму. Не стало ли лицо на полотне еще уродливее? Вроде бы нет, однако Дориану стало еще отвратительнее смотреть на него. Золотистые кудри, голубые глаза, красные губы – все, как было. Только выражение лица изменилось. Оно ужасало своей жестокостью. По сравнению с тем, что он видел на портрете, упреки Бэзила казались такими ничтожными! Его собственная душа смотрела на него с полотна и требовала поплатиться за все. Обожженный болью, Дориан быстро накрыл портрет. В тот же миг постучали в дверь и в комнату вошел дворецкий.
– Люди уже пришли, мсье.
Дориан решил, что от Виктора надо сразу же избавиться. Нельзя, чтобы он знал, куда спрячут портрет. Было в нем что-то ненадежное, в его глазах светились ум и хитрость. Сев за стол, Дориан написал записку лорду Генри, в которой попросил посоветовать ему какую-нибудь интересную книгу и напомнил, что сегодня они должны встретиться в четверть девятого.
– Дождетесь ответа, – сказал он, отдавая записку слуге. – А рабочих проведите сюда.
Через несколько минут в дверь снова постучали, и появился сам мистер Хаббард, известный багетный мастер с Саут-Одли-стрит, вместе со своим молодым, несколько грубоватым на вид помощником. Мистер Хаббард был маленького роста человек с рыжими бакенбардами. Его увлечение искусством в значительной степени ослабляла беспросветная нищета большинства художников, которые имели с ним дело. Обычно он не оставлял своей мастерской, предпочитая, чтобы заказчики сами приходили к нему. Но для Дориана Грея он всегда делал исключение. Дориан привлекал всех – даже видеть его было приятно.
– Чем могу помочь, мистер Грей? – спросил мастер, потирая свои широкие руки. – Это для меня честь – лично посетить вас. Я только что получил прекрасную раму, сэр. Приобрел на аукционе. Старинная флорентийская работа, из Фонтхилла, кажется. Подходит к картинам на религиозную тематику, мистер Грей.
– Простите, что вам пришлось покинуть мастерскую, мистер Хаббард. Я обязательно загляну к вам, чтобы взглянуть на раму, хотя в последнее время не слишком интересуюсь религиозной живописью. А сегодня мне надо просто перенести одну картину наверх. Она довольно тяжелая, поэтому я и попросил у вас людей.
– Не стоит извиняться, мистер Грей! Я очень рад вам пригодиться. Где эта картина, сэр?
– Вот она, – ответил Дориан. – Вы сможете перенести ее, как она есть, накрытой? Я боюсь, чтобы ее не поцарапали на лестнице.
– Конечно, сэр, – любезно ответил мастер, снимая вместе с помощником картину с длинной медной цепи, на которой она висела. – Куда несем, мистер Грей?
– Я покажу дорогу, мистер Хаббард. Следуйте за мной, пожалуйста. Хотя, вам, наверное, лучше идти впереди. К сожалению, это под самой крышей. Мы пойдем парадным ходом, там широкие лестницы.
Он открыл перед ними дверь, и, пройдя через зал, они начали подниматься. Картина имела массивную резную раму, и нести ее было очень неудобно, поэтому иногда Дориан пытался помочь рабочим, несмотря на льстивые протесты мистера Хаббарда – багетчику, человеку труда, было крайне странно видеть, как джентльмен делает что-то полезное.
– Да уж, сэр, груз и впрямь немаленький, – пытаясь отдышаться, сказал мастер, когда они поднялись по лестнице, и вытер вспотевший лоб.
– Да, картина тяжеловата, – сказал Дориан, открывая дверь в комнату, которая должна была отныне хранить странную тайну его жизни и прятать его душу от людских глаз.
Прошло более четырех лет с тех пор, как он в последний раз сюда заходил. Когда он был ребенком, здесь была его детская комната, а когда подрос – классная. Покойный лорд Келсо специально обустроил это просторное помещение для своего маленького внука, которого ненавидел за то, что он был очень похож на мать, да и по другим причинам тоже, и поэтому старался держать подальше от себя. По мнению Дориана, комната почти не изменилась. Так же стоял тут массивный итальянский сундук кассоне с причудливо раскрашенными стенками и потускневшими золочеными украшениями – Дориан в детстве часто прятался в нем. На месте был и книжный шкаф из атласного дерева с множеством потрепанных учебников на полках. А за ним на стене висел все тот же затертый фламандский гобелен, на котором выцветшие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо проезжала верхом группа охотников, держа на латных рукавицах соколов. Насколько же ярки все эти воспоминания! Каждое мгновение его одинокого детства представало перед ним, пока он оглядывался вокруг. Он вспомнил незапятнанную чистоту своих мальчишеских лет, и ему стало не по себе от мысли, что этот роковой портрет будет скрыт именно здесь. Разве мог он тогда подумать, что его ждет такое будущее…
Но в доме нет тайника надежнее. Ключ у него, поэтому никто посторонний не сможет сюда войти. Укрытое пурпурным саваном, лицо на полотне может тупеть, становиться похотливым и развратным. Что с того? Никто этого не увидит. Он и сам не будет на это смотреть. Зачем ему смотреть на гадкий упадок собственной души? Он будет оставаться юным – и этого достаточно… В конце концов, почему бы ему не исправиться? Разве ему суждено совсем позорное будущее? Он еще может встретить любовь, которая очистит его и защитит от тех грехов, которые уже поселились в его душе и теле, – от тех странных, еще неизведанных грехов, окутанных соблазнительными чарами таинственности. Может, когда-то с его прекрасных уст исчезнет жестокое выражение, и он сможет показать миру шедевр Бэзила Холлуорда…
Нет, не бывать этому никогда! Образ на холсте будет стареть день за днем. Он может избежать отблеска безнравственности и разврата, но безобразная старость неизбежно победит его. Его щеки станут впалыми. В уголках потускневших глаз появятся отвратительные морщинки. Волосы потеряют свой блеск, а рот исказит бессмысленная гримаса, присущая всем старикам, губы же обвиснут. Шею покроют морщины, на холодных руках вздуются синие вены, спина станет согбенной, как у его деда, который так строго относился к нему. Нет, у него нет выбора. Портрет нужно спрятать.
– Пожалуйста, внесите картину внутрь, мистер Хаббард, – устало сказал Дориан, обернувшись к мужчинам. – Извините, что задержал вас. Я немного задумался.
– Не беспокойтесь, мистер Грей, я был рад отдохнуть, – ответил мастер, все еще тяжело дыша. – Где мы ее поставим, сэр?
– Да где угодно. Вот хотя бы здесь. Вешать не надо. Только прислоните ее к стене. Спасибо.
– А можно хотя бы одним глазком взглянуть, что там нарисовано, сэр?
Дориан вздрогнул.
– Вас это не заинтересует, мистер Хаббард, – сказал он, не сводя глаз с мастера. Он был готов наброситься на него, как дикий зверь, если бы тот только попробовать приподнять завесу над тайной его жизни. – Что ж, не буду вас больше задерживать. Спасибо, что потрудились прийти лично, мистер Хаббард.
– Ничего, мистер Грей, пустое. Я всегда к вашим услугам, сэр.
И мистер Хаббард, тяжело ступая, двинулся вниз, за ним последовал и его помощник, который не сводил восторженных глаз с Дориана, ведь ему еще никогда не приходилось встречать столь красивых людей. Когда их шаги стихли, Дориан запер дверь и положил ключ в карман. Теперь ему ничто не угрожает. Теперь никто уже не сможет увидеть этот ужасный портрет. Только он сможет наблюдать собственный позор.
Спустившись в библиотеку, он заметил, что уже пошел шестой час и его ждал чай. На восьмиугольном столике из темного дерева, щедро инкрустированном перламутром (это был подарок леди Рэдли, жены его опекуна, вечно больной женщины, которая этой зимой жила в Каире), лежала записка от лорда Генри и рядом книжка в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе – свежий выпуск газеты. Очевидно, Виктор уже вернулся. А не встретил ли он рабочих, когда те выходили из дома? И не разузнал ли у них, чем они здесь занимались? Виктор, конечно, заметит, что портрет исчез, наверное, уже заметил, когда подавал чай. Пустое место на стене было четко видно. Возможно, одной ночью он заметит, как Виктор крадется вверх, чтобы выломать дверь в комнату. Как это ужасно – жить в одном доме со шпионом. Дориан слышал множество рассказов о том, как богачей всю жизнь шантажировали собственные слуги, которым удалось прочитать хозяйское письмо, подслушать разговор, найти визитку или обрывок кружева на кровати.
Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал записку. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая может заинтересовать Дориана, и что он будет в клубе в четверть девятого. Дориан взял в руки газету и безразлично стал ее просматривать. На пятой странице его взгляд наткнулся на отметку красным карандашом. Он прочитал выделенное место: «Следствие по делу о смерти актрисы. Сегодня утром в Бел-Теверн на Гокстон-род участковый следователь мистер Денби провел допрос по поводу смерти Сибилы Вэйн, молодой актрисы, недавно приглашенной на контракт в театр «Роял» в Голборне. Констатирована смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызвала мать покойной, которая была в чрезвычайно взволнованном состоянии, когда давала показания, а также когда показания давал доктор Бирел, который совершил вскрытие тела покойной».
Дориан нахмурился и, разорвав газету, выбросил ее из окна. Какая мерзость! Зачем эти гадкие детали?! Он даже несколько обиделся на лорда Генри за то, что тот прислал ему эту заметку. И уж совсем глупо было отмечать ее красным карандашом – Виктор мог же прочитать! Для этого он достаточно хорошо знает английский.
А может, Виктор уже прочитал и что-то заподозрил? И все же, какое это имело значение? Разве Дориан Грей имеет хоть какое-то отношение к смерти Сибилы Вэйн? Он не убивал ее, поэтому и бояться ему нечего.
Взгляд Дориана остановился на желтой книге, присланной лордом Генри. Что же там в ней такого интересного? Подойдя к перламутровому столику, который всегда казался ему изделием странных египетских пчел, что лепили серебряные соты, он удобно устроился в кресле и раскрыл книгу. Прошло всего несколько минут, а произведение уже поглотило Дориана. Это была удивительнейшая книга из всех, что он когда-либо читал. Дориан чувствовал, как под нежные звуки флейты перед ним немым калейдоскопом проходят грехи всего мира! То, о чем он только бессознательно мечтал, теперь он видел перед собой. И даже то, о чем он никогда не решался мечтать, разворачивалось у него на глазах.
Это был роман без сюжета и только с одним героем. Это было что-то вроде психологического исследования о молодом парижанине, который в девятнадцатом веке пытался совместить в себе все страсти и мировоззрения прошлого, чтобы познать все те состояния, через которые в разное время проходила человеческая душа. Он увлекался искусственностью самоотвержений, которые ограниченные люди называют добродетелями, а также восстаниями плоти, которые мудрецы до сих пор называют грехами. Роман был написан в филигранном стиле, одновременно ярком и непонятном. Он был насыщен жаргоном, архаизмами и выражениями из сферы техники. Без сомнения, роман принадлежал перу одного из самых выдающихся представителей французской школы символистов. В нем были огромные, как орхидеи, метафоры с таким же нежным окрасом. Чувственная жизнь изображалась средствами мистической философии. Иногда было даже сложно сказать, о чем читаешь – о духовных переживаниях некоего средневекового святого или о мрачной исповеди современного грешника. Книга была будто бы пропитана ядом. С ее страниц поднимался густой аромат, затуманивая сознание. Ритм ее предложений, успокаивающая монотонность их музыки, осложненные рефрены и частые повторы – все это возбуждало в воображении Дориана причудливые мечты. Он читал главу за главой, не замечая, что уже вечереет.
На безоблачном небе за окном уже показалась первая звезда. Дориан читал, пока темнота вовсе не поглотила буквы. И только тогда, после нескольких напоминаний дворецкого о том, что уже поздно, он встал и, пройдя в смежную комнату, положил книгу на маленький флорентийский столик рядом со своей кроватью. Затем начал переодеваться к ужину.
Был уже почти девятый час, когда он прибыл в клуб, где, ожидая его, в одиночестве скучал в небольшом салоне лорд Генри.
– Прости, Гарри, – сказал Дориан, – но ты сам виноват. Эта твоя книга так увлекла меня, что я совсем забыл о времени!
– Я знал, что она тебе понравится, – ответил лорд Генри, вставая с кресла.
– Я не сказал, что она мне понравилась. Я сказал, что она увлекла меня. Это совершенно разные вещи.
– Ты уже понял разницу? Замечательно, – улыбнулся лорд Генри, и они пошли в столовую.
Глава 11
Дориан Грей на протяжении долгих лет не мог освободиться из-под власти этой книги. А точнее, даже не пытался. Он выписал из Парижа целых девять экземпляров, роскошно изданных, и заказал для них переплеты разных цветов, так чтобы они гармонировали с его настроениями и прихотями изменчивой фантазии, над которой он, казалось, уже почти полностью потерял контроль. Герой книги, прекрасный молодой парижанин, в котором удивительным образом сочетались характер романтика и ум ученого, стал для Дориана словно собственным отражением. И роман в целом казался ему историей его собственной жизни, написанной еще до того, как он прожил эту жизнь на самом деле.
Но в одном Дориану повезло больше, чем герою романа. Он никогда не знал – и ему не суждено было узнать – того жуткого ужаса перед зеркалами, перед гладкими металлическими поверхностями или тихими водами, ужаса, что так быстро охватил юношу из книги, когда он вдруг потерял свою волшебную красоту. Дориан с жестокой радостью – ведь радость, а тем более наслаждение всегда несут в себе долю жестокости – перечитывал последнюю часть книги, в которой крайне эмоционально, хотя и несколько преувеличенно изображалось отчаяние человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других.
Действительно, Дориану было чему радоваться, ведь, судя по всему, его красота, которая так очаровала Бэзила Холлуорда и многих других, никогда его не покинет. Даже те, кто слышал самые гадкие слухи о Дориане и его распутном образе жизни, которые время от времени ходили по всему Лондону, не могли поверить в его бесчестье, когда видели мистера Грея собственными глазами. Он всегда выглядел так, будто его не задел грязный грех. Те, кто рассказывали ужасные вещи о нем, смущались и замолкали, как только он заходил в комнату. Казалось, незыблемая чистота его лица была для них укором. Одним своим присутствием он будто напоминал им о собственном несовершенстве. Они удивлялись тому, как такой обаятельный человек избежал соблазнов и грехов своего низменного и развращенного времени.
Часто он надолго исчезал из общества, порождая таким образом различные подозрения среди друзей и тех, кто себя таковыми считал, а вернувшись, тайком поднимался в замкнутую классную комнату, ключ от которой всегда имел при себе, открывал ее и становился с зеркалом в руках перед собственным портретом, глядя то на злобное, все более стареющее лицо на полотне, то на прекрасное и все еще юное лицо, которое смотрело на него из зеркала. Чем большей становилась разница, тем больше наслаждения это ему приносило. Он все больше влюблялся в собственную красоту и все более заинтересованно наблюдал за гибелью собственной души. Так с тревогой, а то и с жутким восторгом он смотрел на гадкие складки, что вспахивали морщинистый лоб и чувственные губы, и спрашивал себя иногда: что более отталкивающе – отражение распущенности или отпечаток возраста? Он прикладывал свои белые руки к грубым и сухим рукам на портрете и смеялся. Он смеялся над искореженным и изуродованным телом на картине.
Однако иногда, по ночам, лежа без сна в собственной спальне или в грязной каморке таверны у доков, куда он часто наведывался переодетый и под чужим именем, Дориан с сожалением думал о тех ужасных вещах, которые он совершил с собственной душой, а хуже всего было то, что это сожаление было вызвано лишь эгоизмом. Впрочем, такое случалось нечасто. Чем активнее он утолял жажду жизни, которую разбудил в нем лорд Генри в саду у Бэзила, тем острее он чувствовал ее. Чем больше он узнавал, тем больше он стремился узнать. Он никак не мог утолить эту безумную жажду.
Несмотря на это, ему хватало благоразумия, чтобы не пренебрегать законами светской жизни. Раз или два в месяц зимой и каждую среду летом он принимал у себя гостей, которые имели возможность наслаждаться игрой лучших в этом сезоне музыкантов. Его обеды, в организации которых ему всегда помогал лорд Генри, отличались как тщательным отбором и расположением гостей, так и утонченным вкусом в убранстве стола: экзотические цветы, роскошно вышитые скатерти, старинная серебряная и золотая посуда представляли собой настоящую симфонию. Многие, особенно среди молодежи, видели в Дориане Грее воплощение идеала своих студенческих лет в Итоне или Оксфорде, идеала, который должен был совместить в себе высокую культуру ученого с изяществом и совершенными манерами светского человека. Дориан Грей казался им одним из тех, кто, как говорил Данте, «стремятся облагородить душу поклонением красоте». Он был тем, для кого, как для Готье, «существует видимый мир».
Сама жизнь была для Дориана важнейшим и самым прекрасным из искусств, к которому остальные искусства только готовили человека. Он не пренебрегал ни модой, которая может воплотить невероятное, ни дендизмом, который, по его мнению, стремился сделать относительное понимание красоты абсолютным. Его одежда и стиль, который он иногда менял, оказывали значительное влияние на молодых щеголей на балах в Мейфеэйре и в клубах Пэлл-Мэлл. Они стремились подражать ему даже в мелочах, на которые сам Дориан никогда не обращал внимания.
Он охотно занял место в обществе, предоставленное ему сразу после достижения совершеннолетия. Его радовала мысль о том, что он может стать для Лондона тем, чем автор «Сатирикона»[11] был для Рима эпохи Нерона. Правда, он стремился быть чем-то большим, чем arbiter elegantiarum[12], с которым советуются, какие выбрать украшения, как завязать галстук или как носить трость. Он хотел сформировать целый новый образ жизни, который исходил бы из разумных философских основ и должен был иметь свои упорядоченные принципы. Высшим смыслом такого образа жизни он считал обретение духовного смысла для чувств и ощущений.
Культ чувственного часто, и не без основания, осуждали – люди инстинктивно боятся страстей и чувств, которые кажутся им сильнее их самих и которые присущи и низшим существам. Но Дориан Грей считал, что истинная природа этих чувств еще не открыта и они остаются животными в глазах людей только потому, что те все время пытаются обуздать их голодом или убить болью, вместо того чтобы сделать из них элементы новой духовности, основой которой стала бы жажда красоты. Когда Дориан думал об истории человечества, его не отпускало чувство утраты. Сколько же всего было забыто! Ради чего?! Следствием всех этих упрямых и глупых отречений, уродливых форм самоистязаний, причиной которых был страх, стала деградация, намного более страшная, чем та мнимая, которой люди стремятся избежать. Природа с великолепной иронией отправляет отшельников в пустыни и дает им в товарищи диких животных…
Да, лорд Генри прав. Нашему времени нужен новый гедонизм, который вдохнет новую жизнь в общество и освободит его от пуританства, которое странным образом вновь настигло его. Конечно, этот гедонизм не будет пренебрегать интеллектом, однако он не согласится ни на одну теорию или учение, требующие пожертвовать хотя бы долей чувственного опыта. Ведь цель гедонизма – это сам опыт, а не его плоды, сладкие или горькие. Он не должен иметь ничего общего ни с аскетизмом, который убивает чувства, ни с вульгарным развратом, притупляющим их. Новый гедонизм научил бы человека наслаждаться каждым мгновением жизни, ведь жизнь длится всего лишь мгновение.
Среди нас немного найдется таких, кто никогда не просыпался бы на рассвете – или ото сна без сновидений, когда вечный сон смерти кажется чуть ли не желанным, или после ночи ужасов и уродливого веселья, когда перед глазами проносятся призраки, страшнее самой действительности, ярко гротескные, полные той сильной жизни, которая дает готическому искусству такой жизнеутверждающий оттенок, словно оно создано для пораженных болезненными грезами. Вы помните эти пробуждения? Белые пальцы рассвета слегка раздвигают завесы. Черные причудливые тени молча разбегаются по углам комнаты и падают на пол. С улицы доносится возня птиц в листве, шум людей, идущих на работу, вздохи и плач ветра, который налетает с холмов и кружит вокруг молчаливого дома, будто боясь разбудить спящих, хотя и должен выгнать сон из его пурпурного хранилища. Предрассветный туман отступает вверх, медленно восстанавливаются привычные формы и цвета вещей, и рассвет снова открывает перед нашими глазами мир в его извечном виде. Возвращает серым зеркалам способность отражать жизнь. Потухшие свечи стоят там, где они оставлены вечером, а рядом лежит увядший цветок, который вы носили вчера на балу, или письмо, которое вы боялись прочитать или перечитывали слишком часто. Кажется, ничто не изменилось. Из-за нереальных теней ночи снова появляется знакомая реальная жизнь. И мы должны тянуть ее дальше с того места, где она остановилась вчера, и нам становится больно, что мы обречены вечно вертеться все в том же кругу стереотипной повседневности… А иногда в нас просыпается желание, открыв глаза, увидеть новый мир – мир, в котором вещи приобрели бы необычные очертания и свежие цвета, где все было бы иначе и несло бы в себе новые тайны, мир, где прошлого не было бы вовсе или же было бы очень мало – так, чтобы оно, во всяком случае, не заставляло думать о долге или каяться, поскольку сейчас даже упоминания о радости горькие, а воспоминания о наслаждениях пронизывают болью.
Именно в создании таких миров Дориан Грей видел цель жизни или, по крайней мере, одну из таких целей. В поисках новых и увлекательных чувств, в которых имелся бы существенный для романтики элемент необычного, он часто сознательно воспринимал идеи, которые были ему непонятны или даже чужды, позволял им влиять на себя, а потом, попробовав их на вкус и удовлетворив свой интеллектуальный интерес, он оставлял их с тем удивительным равнодушием, которое не только не противоречит вспыльчивому характеру, но даже, по мнению некоторых современных психологов, является его частью.
Однажды в Лондоне заговорили, что Дориан Грей собирается принять римско-католическое вероисповедание. Католические ритуалы действительно привлекали его. Ежедневный обряд жертвоприношения, который на самом деле страшнее всех жертвоприношений древних времен, трогал Дориана – как своим величественным пренебрежением наших чувств, так и своей примитивной простотой и вечным пафосом человеческой трагедии, которую он должен был символизировать. Дориан любил стоять на коленях на холодных мраморных плитах и наблюдать, как священник в плотной парчовой далматике медленно поднимал белыми руками покрова с дарохранительницы или подносил похожую на стеклянный фонарь и украшенную драгоценностями дароносицу с бледной облаткой внутри – можно было представить, что это действительно «panis caelestis», хлеб ангелов, – или когда священник, в наряде Страстей Господних, крошил гостию[13] над чашей и ударял себя в грудь, устыдившись грехами человеческими. Его завораживало курение кадил, которыми, как пышными золотыми цветками, размахивали серьезные мальчики в пурпуре и кружевах. А выходя из церкви, Дориан не без любопытства смотрел на мрачные исповедальни и время от времени засиживался в их темноте, прислушиваясь к шепоту мужчин и женщин, которые рассказывали историю своей жизни сквозь потертые решетки.
Однако Дориан никогда не ограничивался определенной верой или догмами, осознавая, что это помешало бы его интеллектуальному развитию, – он не имел никакого намерения постоянно жить в гостинице, пригодной только на то, чтобы один раз переночевать. Некоторое время Дориана интересовал мистицизм с его удивительной способностью превращать все обыденное в необычное и таинственное, рядом с которым всегда идет антиномизм[14], который коварно отрицает потребность нравственности. Впоследствии он склонялся к материалистическим доктринам немецкого дарвинизма, захваченный концепцией абсолютной зависимости духа от определенных физических условий, патологических или здоровых, нормальных или видоизмененных. Дориан с острым удовольствием сводил человеческие мысли и страсти к функции какой-либо клетки серого вещества мозга или белого нервного волокна. Однако любые теории о жизни казались Дориану мелочами по сравнению с самой жизнью. Он прекрасно понимал бессмысленность любых соображений, оторванных от опыта и действительности. Он знал, что человеческие чувства несут в себе не меньше духовных тайн, чем душа.
Однажды он взялся за изучение ароматических веществ и секретов их производства – собственноручно перегонял пахучие масла, жег душистые восточные смолы. Он осознал, что каждое состояние души имеет двойника в мире чувств, и поставил себе цель понять взаимосвязь между ними. Почему, скажем, ладан пробуждает в нас чувство мистики, серая амбра разжигает страсти, фиалка пробуждает воспоминания о погибшей любви, мускус туманит мозг, а чампак возбуждает воображение? Он хотел систематизировать психологическое воздействие запахов на человека, изучая своеобразные влияния разных растений: нежно-пахучих корней, ароматных цветков, отяжелевших от пыльцы, ароматных бальзамов темноокрашенной душистой древесины, нарда, вызывающего слабость, говении, лишающей людей разума, алоэ, как говорят, исцеляющего душу от тоски.
В другой же раз он погрузился в музыку и устраивал необычные концерты в своем доме, в длинном зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан киноварью с золотом, а стены покрывал оливково-зеленый лак. Страстные цыгане исторгали дикие ноты из своих маленьких цитр, степенные тунисцы в желтых шалях перебирали туго натянутые струны огромных лютней, негры, скаля зубы, монотонно били в медные барабаны, а стройные индусы в белых чалмах, скрестив ноги, сидели на красных циновках и, играя на длинных камышовых и медных свирелях, завораживали или делали вид, что завораживают, больших кобр и ужасных рогатых змей. Резкие паузы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки иногда трогали Дориана, ведь грация Шуберта, прекрасная элегичность Шопена, мощная гармония самого Бетховена уже нисколько не задевали его.
Он собирал необычные музыкальные инструменты со всех уголков мира – даже из могильников вымерших народов и в немногих диких племенах, которым удалось пережить встречу с западной цивилизацией. Он любил держать их в руках, прислушиваясь к странным звукам. У него был таинственный «джурупарис» индейцев из Рио-Негро, смотреть на который женщинам было вообще запрещено, а юноши могли увидеть его только после поста и самоистязания; а также глиняные кувшины перуанцев, которые звучат, как пронзительные птичьи крики; были у него и флейты из человеческих костей, которые слышали Альфонсо де Овалле в Чили, и удивительно нежные и звонкие камни зеленой яшмы из-под Куско. Были в Дориановой коллекции также разрисованные тыквы с галькой внутри, тарахтевшие при встряхивании, и длинная мексиканская труба, играя на которой, в отличие от обычного кларнета, втягивают воздух в себя, и неприятный на слух «туре» амазонских племен, которым подают сигналы часовые, целыми днями сидящие на высоких деревьях (этот «туре», говорят, слышен на расстоянии трех лиг), и «тепоназтли» с двумя вибрирующими деревянными язычками (палочки к этому барабану из Мексики смазывают камедью из млечного сока растений), и «йотлы» – колокольчики ацтеков, подвешиваемые гроздьями, как виноград, и огромный цилиндрический барабан, обтянутый змеиной кожей, который в мексиканском храме видел спутник Кортеса Бернал Диас и оставил красочное описание меланхолического звучания этого инструмента.
Дориана влекла вычурность этих инструментов, он был в восторге от мысли о том, что у искусства, как и у природы, тоже есть свои чудовища – вещи с ужасной формой и гадким голосом. Однако через некоторое время они ему надоели, и вот уже он, сидя снова в опере, один или с лордом Генри, восторженно слушал «Тангейзера» и в увертюре к этому величественному произведению находил нотки трагедии собственной души.
Чуть позже Дориан начал изучать драгоценные камни. Он появился на бале-маскараде в костюме Анн де Жуайоз, адмирала Франции, – наряд был украшен пятьюстами шестьюдесятью жемчужинами. Эта тяга к драгоценностям пленила Дориана на много лет и, собственно, никогда не оставляла его. Часто, бывало, он весь день сидел, то перебирая, то раскладывая по ящикам камни из своих сокровищ – оливково-зеленые хризобериллы, краснеющие при искусственном освещении; кимофаны, перевитые серебристыми волосками; фисташкового цвета перидоты; розоватые и золотистые, как вино, топазы; пламенно-красные кобальты с мерцающими четырехгранными звездочками внутри; огненные гранаты; оранжевые и сиреневые шпинели; аметисты, отливающие то рубином, то сапфиром. Его восхищало красное золото солнечного камня, и жемчужная белизна лунного камня, и переменная радуга молочного опала. Он раздобыл в Амстердаме чрезвычайные по размерам и разнообразию красок изумруды и обладал ценным видом бирюзы, из-за чего на него завистливыми глазами смотрели знатоки.
Дориан прочитал множество историй о драгоценных камнях. Так, в произведении Альфонсо «Clericalis Disciplina»[15] упоминается змея с глазами из настоящего гиацинта; в романтической легенде об Александре Македонском, завоевателе Эматии[16], сказано, что он нашел в Иорданской долине змей, «кольца на спинах которых были из настоящих изумрудов». Филострат рассказывает о драконе с самоцветом в мозге и замечает, что, «увидев золотые письмена и пурпурные одежды», чудовище впадает в волшебный сон, и тогда его можно убить. Великий алхимик Пьер де Бонифас утверждает, что бриллиант делает человека невидимым, а индийский агат добавляет красноречия. Сердолик успокаивает гнев, гиацинт навлекает сон, аметист развеивает винные испарения. Гранат выгоняет бесов из человека, а от гидрофана бледнеет месяц. Селенит растет и стареет вместе с луной, а обезвредить мелоций, разоблачающий воров, можно только кровью козленка. Леонард Камилл видел добытый из мозга только что убитой лягушки белый камешек, который оказался сильным противоядием. Безоар, найденный в сердце аравийского оленя, – чудодейственный амулет против чумы. В гнездах аравийских птиц можно найти аспилат, который, по словам Демокрита, предохраняет от огня того, кто носит этот камень.
На церемонии коронации король Цейлона проезжал верхом по улицам столицы с большим рубином в руке. В дворцовые ворота короля-священника Иоанна, «сделанные из халцедона, был вмурован рог змеи, чтобы никто не мог пронести яд во дворец». Над фронтоном содержались «два золотых яблока с карбункулом внутри каждого», чтобы днем сияло золото, а ночью карбункулы. Лодж в своем причудливом романе «Жемчужина Америки» описывает, что в покоях королевы можно было увидеть «серебряные фигуры целомудренных дам со всего мира, которые смотрелись в прекрасные зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов». Марко Поло видел, как жители Чипангу (так в Средние века называли Японию) вкладывали в рот покойникам розовые жемчужины. Существует легенда о Морском чудовище, влюбившемся в жемчужину, – оно убило ныряльщика, который выловил ее и отдал персидскому царю Перозу, а затем семь месяцев оплакивало свою утрату. Когда же впоследствии гунны заманили Перозу в большую ловушку, он выбросил жемчужину – так утверждает Прокопий, и ее никогда уже не нашли, хотя император Анастасий обещал за нее пятьсот фунтов золотом. Король Малабара показывал одному венецианцу четки из трехсот четырех жемчужин – по числу богов, которым он поклонялся.
Согласно Брантому, когда герцог Валентинуа, сын папы римского Александра Шестого, прибыл в гости к французскому королю Луи Двенадцатому, его конь был весь покрыт золотыми листами, а шапку герцога венчал двойной ряд ослепительно сияющих рубинов. Четыреста двадцать один бриллиант украшал стремена лошади, на которой ездил Карл, король английский. У Ричарда Второго был плащ, весь усеянный лалами, – он стоил тридцать тысяч марок. Холл пишет, что Генрих Восьмой ехал в Тауэр на коронацию одетый в «камзол из золотой парчи, его нагрудник был расшит бриллиантами и другими драгоценными камнями, а широкую перевязь украшали большие нежно-красные лалы». Фаворитки Якова Первого носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдвард Второй подарил Пирсу Гевстону доспехи из червоного золота, украшенного гиацинтами, колет из золотых роз, усыпанный бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугом. Генрих Второй носил перчатки до локтя, унизанные самоцветами, а на его охотничьей рукавице красовалось двенадцать рубинов и пятьдесят две крупные жемчужины. Шапку Карла Смелого, последнего из династии бургундских герцогов, украшали грушевидные жемчужины и сапфиры.
Какой же роскошной была когда-то жизнь! Такая удивительная в своем великолепии! Одно только чтение об этих чудесах дарило ему наслаждение.
Позже Дориан переключил свое внимание на вышивки и гобелены, заменившие фрески в прохладных домах народов Северной Европы. Знакомясь ближе с вышиванием, а Дориан умел невероятно тщательно углубляться в предмет, который на данный момент его интересовал, он с сожалением думал о разрушении, которое время приготовило всему прекрасному и великолепному. Так или иначе, но ему удалось избежать этой участи. Проходило одно лето за другим, желтые жонкили расцветали и увядали уже много раз, и позор ужасных ночей повторялся вновь и вновь, но его красота оставалась неизменной. Ни одна зима не исказила его лицо, не сорвала цветов его красоты. С вещами же все иначе! Куда они исчезают? Где те величественные шафранного цвета одежды со сценами борьбы богов и титанов, сотканные смуглыми девушками на радость Афине? Где тот огромный велариум, который Нерон приказал натянуть над римским Колизеем, – то громадное пурпурное полотнище с изображенным на нем небом и Аполлоном в колеснице, которую везли белые кони в золотой упряжи? Дориану было бесконечно жаль, что ему не суждено увидеть салфеток для жреца Солнца – Гелиогабала, расшитых всеми блюдами, которые только возможны на пирах; или погребальный наряд короля Хильперика, усеянный тремя сотнями золотых пчел; или фантастические одежды, которые так возмутили епископа Понтийского, – на них были нарисованы «львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники – то есть все, что художник мог увидеть в природе»; или камзол Карла Орлеанского, рукава которого были расшиты нотами и текстом песни, которая начиналась словами: «Madame, je suis tout joyeux»[17], – нотные линейки там были вышиты золотом, а каждый нотный знак, квадратный в то время, состоял из четырех жемчужин.
Дориан прочитал об оборудованном для королевы Иоанны Бургундской покое в Реймском дворце, где на стенах были вышиты «тысяча триста двадцать один попугай с гербом короля на крыле каждого и пятьсот шестьдесят одна бабочка с гербом королевы на крыле каждой, и все это из чистого золота». Смертное ложе Екатерины Медичи покрывал черный бархат, усеянный полумесяцами и солнцами; вышитые зеленые венки и гирлянды украшали серебряный и золотой фон полога, а бахрома переливалась жемчужинами. Это ложе находилось в спальне, увешанной эмблемами королевы из черного бархата на серебряной парче. Луи Четырнадцатый имел в своих палатах расшитые золотом кариатиды высотой в пятнадцать футов. Парадное ложе Яна Собеского, короля Польши, стояло под шатром из золотого смирнского грезета, на котором были вышиты бирюзой строки из Корана. На прекрасных выточенных колоннах из золоченого серебра, которые поддерживали шатер, красовалось множество медальонов, украшенных эмалью и драгоценными камнями. Шатер этот поляки захватили в турецком лагере близ Вены – под его золоченым куполом стояло тогда знамя пророка Магомета.
Целый год Дориан коллекционировал самые лучшие ткани и вышивки. Был у него замечательный муслин из Дели, затканный узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек жуков; газ из Дакки, за свою прозрачность известный на всем Востоке под названиями «тканый воздух», «водяная струя» и «вечерняя роса»; удивительно разрисованные ткани с Явы; желтые китайские драпировки изящной работы; книги в переплете из коричневого атласа и красивого голубого шелка, затканного лилиями, цветком французских королей, птицами и другими рисунками; кружевные венгерские покрывала; сицилийская парча и жесткий испанский бархат; грузинские изделия, украшенные золотыми монетами; зелено-золотистые японские ткани с вышитыми на них замечательными птицами.
Был у Дориана страстный интерес и к культовым облачениям, как и вообще ко всему, что связано с религиозными обрядами. В длинных кедровых сундуках, стоявших вдоль западного крыла его дома, хранилось немало редких и прекрасных нарядов, действительно достойных того, чтобы их носили невесты Христовы, которые должны одеваться в бархат, драгоценности и тонкое полотно, чтобы укрыть свои бледные тела, истощенные в праведных страданиях и израненные самобичеванием.
Дориан был обладателем и пышной ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся рисунком из плодов граната, венков из шестилепестковых цветков и ананасов, расшитых мелким жемчугом. На ораре были изображены сцены из жизни Пресвятой Девы, а сцена ее освящения была вышита цветным шелком на капюшоне. Это была итальянская работа пятнадцатого века. На другой ризе, из зеленого бархата, были вышиты серебряными нитями и цветным бисером листья аканта, собранные в пучки в виде сердец, и белые цветы на длинных стеблях, а застежку украшал расшитый золотом лик серафима. Орарь был заткан узорами из красного и золотого шелка, на нем сверкали медальоны с образами святых и великомучеников, в том числе и святого Себастьяна.
Имел Дориан и другие облачения священнослужителей – из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, камки и грезета, на которых были изображены Страсти Господни и Распятие, вышиты львы, павлины и другие эмблемы; были у него и далматики из белого атласа и розового лудана, украшенные узором из тюльпанов, дельфинов и лилий, и покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, и священные хоругви, и множество антиминсов и покровов на потиры. Мистические обряды, для которых эти вещи предназначались, волновали воображение Дориана.
Все эти роскошные сокровища Дориан собирал в своем доме только для того, чтобы забыться, хоть на миг избавиться от страха, который иногда становился уже почти невыносимым. В пустой запертой комнате, где прошло детство Дориана, он сам повесил на стену ужасный портрет, постоянно изменяющиеся черты которого открывали ему правду об упадке его души. Портрет был закрыт пурпурно-золотой тканью. Иногда Дориан не заглядывал сюда целыми неделями и, забывая о существовании своего отвратительного подобия, снова становился беззаботным и веселым, горячо влюбленным в жизнь. Потом вдруг среди ночи он тайком выбирался из дома в один из гнусных вертепов в Блу-Гейт-Филдс и оставался там по нескольку дней, пока его оттуда не выгоняли. Вернувшись домой, он садился перед портретом и смотрел на него – порой с ненавистью и к нему, и к себе, а иногда с наглой гордостью индивидуалиста, которая и влекла его навстречу греху, – и злорадно улыбался своему уродливому двойнику, который был вынужден нести бремя, принадлежавшее ему самому.
Через несколько лет Дориан уже не мог долго находиться вне Англии и должен был отказаться и от виллы в Трувиле, которую они снимали вдвоем с лордом Генри, и от маленького огороженного белым забором домика в Алжире, где они провели не одну зиму. Он просто не мог быть вдалеке от портрета, который стал такой важной частью его жизни. К тому же Дориан боялся, что в его отсутствие кто-то может проникнуть в комнату, хоть он и укрепил двери, как мог.
Дориан хорошо понимал, что портрет все равно никому ничего бы не сказал. Отвратительные следы безнравственности, правда, не сделали портрет совсем непохожим на него, но это ничего не доказывало. Дориан высмеял бы каждого, кто попытался бы упрекнуть его этим. Не он же рисовал портрет! Разве он имеет отношение к распущенности и безнравственности, которые отражаются на нарисованном лице? Но даже если бы он и поделился с кем-то своими страхами – кто бы ему поверил?
И все же он боялся. Время от времени, развлекая гостей в своем доме в Ноттингемшире – аристократическая молодежь была его обычным обществом – и поражая целое графство расточительной роскошью и шумным великолепием своего образа жизни, он вдруг в самом разгаре покидал веселье и стремглав мчался в Лондон убедиться, не выбил ли кто дверь той комнаты и на месте ли портрет. Одна только мысль об этом нагоняла ужас на Дориана. Ведь мир узнает его тайну! А может, у кого-то уже есть подозрения?
Хотя он и очаровывал многих людей, немало было и таких, кто не доверял ему. Его неохотно приняли в один клуб в Вест-Энде, быть членом которого он имел полное право в силу своего происхождения и положения. Также ходили слухи, что, когда один приятель Дориана привел его в курительную комнату в клубе «Черил», герцог Бервик и еще какой-то джентльмен демонстративно встали и вышли. Дориану было лет двадцать пять, когда о нем начали распространяться недобрые слухи. Поговаривали, что его видели в каком-то грязном притоне в районе Уайтчепел, где он сцепился с иностранными матросами; говорили еще, что он дружит с ворами и фальшивомонетчиками и знает секреты их ремесла. Дурная слава сопровождала его загадочные исчезновения, и каждый раз, когда он снова появлялся в свете, мужчины шептались по углам, а проходя мимо, презрительно улыбались или бросали холодные испытующие взгляды, будто пытаясь узнать его тайну.
Дориан не обращал внимания на подобные проявления дерзости и неуважения, а его общительность, волшебная мальчишеская улыбка, красота удивительной молодости, которая, казалось, никогда не оставит его, для большинства людей уже были достаточным ответом на клевету, которой они считали любые слухи о Дориане. Однако нельзя было не заметить и то, что некоторые из ближайших его друзей со временем стали избегать его. Женщины, которые когда-то безумно любили Дориана, презрев ради него приличия и общественное мнение, теперь бледнели от стыда и ужаса, стоило Дориану Грею войти в комнату.
Но в глазах многих слухи о Дориане только усиливали его опасные чары. А большое состояние свидетельствовало в его пользу. Общество, по крайней мере цивилизованное, не слишком склонно осуждать богатых и привлекательных людей. Оно инстинктивно чувствует, что хорошие манеры важнее морали и иметь хорошего повара гораздо почетнее, чем быть приличным человеком. Действительно, попробовав плохого вина или неудачно приготовленное блюдо, вряд ли можно исправить ситуацию, сказав о хозяине дома, что он высоконравственный человек. Лорд Генри как-то заметил в разговоре, что подача на стол едва теплых блюд – вина, которую не искупают никакие добродетели. И в защиту этого мнения можно сказать много. Потому что в порядочном обществе действуют, по крайней мере должны действовать, те же правила, что и в искусстве. Самое главное – форма. Она должна совмещать в себе высокую торжественность с условностью церемонии, сочетать неискренность романтической пьесы с остроумием и красотой, благодаря чему мы и восхищаемся такими пьесами. Разве неискренность такая уж страшная вещь? Конечно же нет. Это же только средство, позволяющее человеку проявлять свою индивидуальность!
По крайней мере, так считал Дориан Грей. Он все время удивлялся недалекости тех, кто представляет себе наше «я» простым, постоянным, надежным и однородным. По мнению Дориана, человек – это существо с множеством жизней и чувств, сложное многообразное существо, которое несет в себе непостижимое наследие мыслей и страстей, и сама его плоть заражена устрашающими недугами предков.
Дориан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее в своем имении и вглядываться в такие разнообразные портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в «Мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Иакова» рассказывает, что «при дворе восхищались его красотой, которой он, однако, недолго радовался». Не является ли его, Дориана, жизнь повторением жизни Герберта? Может, это какой-то болезненный микроб переходил из тела в тело, пока не достался Дориану? И не подсознательное ли воспоминание о той рано угасшей красоте заставило Дориана, неожиданно и почти без причины, выразить в мастерской Бэзила то сумасшедшее желание, так изменившее всю его жизнь?..
А вот в красном камзоле с золотым шитьем и коротком плаще, украшенном драгоценностями, стоит сэр Энтони Шерард, а у его ног сложены серебряные с чернью доспехи. Какое наследство он оставил после себя? Может, это от него, любовника Джованны Неаполитанской, перешли к нему, Дориану, грех и позор? Может, Дориан просто воплощает в жизнь то, о чем лишь робко мечтал этот его давно почивший предок?..
Вот на уже поблекшем полотне улыбается леди Елизавета Девере – на ней газовая шляпка и расшитый жемчугом корсаж с разрезными розовыми рукавами. В ее правой руке цветок, а левой она сжимает эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандолина и яблоко. Ее остроносые туфли украшают большие зеленые розетки. Дориан знал о ее жизни, слышал удивительные истории о влюбленных в нее мужчинах. Не было ли в нем чего-то от характера этой женщины? Ее удлиненные глаза под тяжелыми веками смотрели на него как будто с интересом…
А Джордж Уиллоуби в напудренном парике и с причудливыми мушками на лице, что он завещал Дориану? Он выглядит сердитым – его смуглое лицо насуплено, сладострастные губы пренебрежительно искривлены. Пышные кружевные манжеты облегают его худощавые руки, а пальцы унизаны множеством колец. Этот щеголь восемнадцатого столетия в молодости дружил с лордом Феррарсом…
А второй лорд Бэкингем, товарищ принца-регента, будущего Георга Четвертого, в дни его отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт? Какие страсти передал потомкам этот красавец с каштановыми кудрями и вызывающе горделивой осанкой? Общество осуждало его за разврат – он был среди постоянных участников печально известных оргий в Карлтон-Хаус. Орден Подвязки сияет у него на груди… Рядом портрет его жены, бледной, с тонкими губами, женщины в черном. Ее кровь также течет в Дориане… Как же любопытно все это!
Вот и его мать – женщина с лицом леди Гамильтон, с влажными, словно смоченными вином, устами. Дориан знал, что унаследовал от нее. От нее ему достались красота и страстное влечение к красоте других. Она улыбается ему с портрета. В ее волосах виноградные листья, пурпурный напиток выплескивается из бокала в руке. Краски уже поблекли на холсте, но глаза все еще привлекают к себе глубиной и яркостью. Дориану казалось, что они следят за ним, куда бы он ни пошел…
Однако человек имеет предков не только в собственном роду, но и в литературе. И многие из них, может, даже ближе ему по характеру, и их влияние гораздо более очевидно. Иногда Дориан смотрел на историю человечества просто как на летопись собственной жизни – не той, что воплощалась в конкретных поступках и обстоятельствах, а той, которую создавало его воображение и к которой влекли Дориана его мозг и страсти. Он чувствовал, что они все близки ему – странные и ужасные фигуры, что прошли по сцене мира и сделали грех таким соблазнительным, а зло наполнили такой изящной прелестью. Казалось, их жизни каким-то таинственным образом переплелись с его собственной.
Герой удивительного романа, так изменившего жизнь Дориана, тоже был одержим этой причудливой фантазией. В седьмой главе он рассказывал о себе, как в убранстве Тиберия сидел бывало в саду на Капри, увенчанный лаврами, предохраняющими от молнии, и читал непристойные книги Элефантиды, а вокруг него важно прохаживались карлики и павлины, и флейтист передразнивал кадильщика фимиама. Он был и Калигулой, и пировал на конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из яслей слоновой кости вместе со своим конем, украшенным самоцветной повязкой на лбу. Как Домициан, он сновал вдоль коридора, облицованного блестящим мрамором, и искал запавшими глазами отражение кинжала, которому суждено было лишить его жизни, и его мучила taedium vitae – эта ужасная пресыщенность жизнью, от которой страдают те, кому жизнь дарит все возможное. Сквозь прозрачный изумруд он всматривался в кровавую бойню на арене цирка, а затем подкованные серебром мулы везли его в жемчужной и пурпурной колеснице к золотому дворцу, и раздавались проклятия в его, императора Нерона, адрес. И как Гелиогабал, он разрисовал себе лицо, прял вместе с женщинами, приказал привезти из Карфагена богиню Луны и обвенчал ее мистическим браком с богом Солнца.
Снова и снова перечитывал Дориан эту фантастическую главу и две следующих, где, как на каких-то удивительных гобеленах или тонкой работы эмалях, проступали жуткие и прекрасные фигуры тех, кого Распущенность, Кровожадность и Пресыщенность сделали чудовищами или безумцами. Филиппо, герцог Миланский, который убил свою жену и смазал ее губы красным ядом, чтобы ее любовник с поцелуем принял смерть из уст той, кого он ласкал. Венецианец Пьетро Барби, известный как папа Павел Второй, смог в своем тщеславии добиться, чтобы его величали Формозус, то есть Прекрасный; его тиару стоимостью двести тысяч флоринов он получил ценой ужасного преступления. Миланец Джиан Мария Висконти, натравливавший гончих на живых людей; когда он был убит, его тело усыпала розами какая-то влюбленная проститутка. Чезаре Борджиа на белом коне – верхом рядом с ним скакало Братоубийство, и на его плаще запеклась кровь Перотти. Пьетро Риарио – сын и любимец папы Сикста Четвертого – молодой кардинал, архиепископ флорентийский, чья красота могла сравниться только с его развращенностью; Леонору Арагонскую он принимал в шатре из белого и малинового шелка, украшенном статуэтками нимф и кентавров; он велел позолотить мальчика, который должен был изображать на пиру Ганимеда или Гиласа. Эдзелино, чью меланхолию излечивало только зрелище смерти, – он был одержим страстью к крови, как другие одержимы страстью к красному вину; легенда называет его сыном дьявола, который обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Джиамбаттиста Чибо, став папой, будто в насмешку взял себе имя Иннокентий, то есть Невинный; в его жилах текла кровь трех юношей, которую ему перелил врач-еврей. Сиджизмондо Малатеста, любовник Изотты и властитель Римини, его изображения, как врага Бога и человека, были сожжены в Риме: он салфеткой задушил Поликсену, а Джиневре д’Эсте поднес ядовитое питье в изумрудном кубке; для культа своей постыдной страсти он воздвиг языческий храм, где проводились христианские богослужения. Карл Шестой так безумно влюбился в жену брата, что один прокаженный предсказал ему скорое безумие от любви; и когда он-таки стал слабоумным, успокоить его могли только сарацинские карты с изображениями Любви, Смерти и Безумия. Грифонетто Бальони, в нарядном камзоле и украшенной самоцветами шапке на своих кудрях, похожих на листья аканта, убил Асторре вместе с его невестой, а также Симонетто вместе с его пажом, а сам был настолько красив, что, когда он умирал на желтой базарной площади в Перуджии, то даже те, кто его ненавидел, не могли сдержать слез, а проклявшая его Атланта благословила его…
Все эти люди обладали какой-то жуткой завораживающей силой. Дориан видел их во сне по ночам и в своих возбужденных фантазиях днем. Эпоха Возрождения знала необычные способы отравления – с помощью шлема и зажженного факела, вышитой перчатки и драгоценного веера, позолоченного мускусного шарика и янтарного ожерелья. Дориана Грея отравила книга. И бывали мгновения, когда он воспринимал зло только как средство, помогающее ему воплотить свое понимание прекрасного.
Глава 12
Это случилось девятого ноября, накануне его тридцать восьмого дня рождения, как часто потом вспоминал Дориан.
Около одиннадцати часов он пешком возвращался домой с обеда у лорда Генри, закутанный с головы до пят, ведь ночь была холодная и туманная. На углу Гросвенор-сквер и Саут-Одли-стрит мимо него почти трусцой пробежал человек с чемоданом в руке. Дориан узнал его, несмотря на поднятый воротник пальто. Это был Бэзил Холлуорд. Его охватил странный, непонятный ему самому страх. Он никак не показал, что узнал Бэзила, и пошел в сторону дома.
Но Холлуорд заметил его. Дориан услышал, как он остановился и поспешил за ним. Уже через мгновение Бэзил положил руку ему на плечо.
– Дориан! Как же повезло, что я тебя встретил! Я ждал тебя в твоей библиотеке с девяти вечера. В конце концов я пожалел твоего слугу и сказал ему, чтобы он шел спать, когда тот проводил меня из дома. В полночь я отправляюсь в Париж, но перед тем я очень хотел увидеть тебя. Я подумал, что это ты, когда прошел мимо, по крайней мере меховое пальто очень похоже на твое. Но сомневался. Ты что, не узнал меня?
– В таком-то тумане, Бэзил? Да я даже Гросвенор-сквер не узнаю. Я чувствую, что мой дом где-то рядом, однако я не уверен. Жаль, что ты уезжаешь, мы же так давно не виделись. Но ты же скоро вернешься, правда?
– Нет, меня не будет в Англии полгода. Я планирую снять мастерскую в Париже и запереться там, пока не закончу одну замечательную картину, которую держу в голове. Однако я хотел поговорить не о себе. А вот мы и пришли к твоей двери. Позволь мне войти на минутку. Я должен кое-что сказать тебе.
– С удовольствием, но ты точно не опоздаешь на поезд? – сказал Дориан Грей, медленно открывая дверь.
Свет ламп пробился сквозь туман, и Холлуорд посмотрел на часы.
– У меня еще куча времени, – ответил он. – Поезд отправится в пятнадцать минут первого, а сейчас только одиннадцать. Я ведь как раз направлялся в клуб в надежде встретить тебя там, когда мы встретились на улице. К тому же весь тяжелый багаж уже отправлен. Все, что мне нужно, лежит в этом чемодане, поэтому я запросто доберусь до вокзала Виктория минут за двадцать.
Дориан посмотрел на него и улыбнулся.
– Так вот как путешествуют модные художники! Небольшой чемодан и осеннее пальто! Ну что же, заходи скорее, пока мы не впустили туман в дом. И заметь, что не стоит начинать серьезных разговоров. В наше время не бывает ничего серьезного. По крайней мере, не должно быть.
Холлуорд покачал головой и пошел вслед за Дорианом в библиотеку. В камине весело пылал огонь, светили лампы, а на столе стояли разнообразные напитки, содовая вода и хрустальные бокалы.
– Как видишь, твой слуга помог мне чувствовать себя как дома. Он принес мне все, чего я хотел, и даже лучшие твои сигареты. Он очень вежливый. Мне он понравился гораздо больше, чем тот твой предыдущий француз. А куда он делся, кстати?
Дориан пожал плечами:
– Кажется, он женился на горничной леди Рэдли и они уехали в Париж, где она стала английской портнихой. Я слышал, что все английское там сейчас в моде. Разве не дураки французы? Впрочем, ты знаешь, он был довольно неплохой слуга. Он никогда мне слишком не нравился, однако и оснований жаловаться на него у меня не было. Он был очень предан, и было видно, что ему очень жаль покидать этот дом. Будешь еще бренди с содовой? Или лучше рейнского с сельтерской? Я, например, предпочитаю рейнское. В соседней комнате должно быть.
– Спасибо, я больше не хочу пить, – ответил художник, положив пальто и шляпу на чемодан, который он поставил в углу комнаты. – А теперь, друг, у меня к тебе серьезный разговор. И не надо так хмурить брови, этим ты осложняешь мою задачу.
– Что же это за разговор? – недовольно поинтересовался Дориан, устроившись на диване. – Надеюсь, ты будешь говорить не обо мне. Я за сегодня уже надоел себе. Я бы с удовольствием стал кем-то другим.
– О тебе, – ответил Холлуорд своим мрачным голосом. – Я должен сказать тебе об этом. Я отниму у тебя только полчаса.
«Целых полчаса!» – вздохнул Дориан и закурил.
– Это не так уж и много, Дориан, к тому же все, что я скажу, – ради твоего же блага. Думаю, тебе стоит знать, что в Лондоне о тебе ходят ужасные слухи.
– Я не хочу ничего знать об этом. Я люблю, когда кто-то другой оказывается в центре скандала, но скандалы с моим участием меня не интересуют. В них нет ничего нового.
– Ты должен интересоваться ими, Дориан. Любой джентльмен заинтересован в том, чтобы иметь доброе имя. Ты же не хочешь, чтобы окружающие считали тебя пропащим человеком. Конечно, у тебя есть положение в обществе, богатство и все такое. Однако богатство и положение – это еще не все. Заметь, я не верю ни одному слову из этих слухов. По крайней мере, я не могу в них поверить, когда вижу тебя перед собой. Грехи оставляют свой след на лице человека. Их невозможно скрыть. Иногда рассказывают о тайных грехах. Их не существует. Когда человек грешит, это отражается в линиях его рта, в тяжелых веках и даже в форме рук. В прошлом году один человек, я не буду называть его имени, но ты его знаешь, попросил меня написать его портрет. До того дня я никогда с ним не встречался и ничего не слышал о нем, хотя уже потом мне пришлось немало о нем узнать. Он предлагал мне кругленькую сумму. Но я отказался. Было что-то отталкивающее в форме его пальцев. Теперь я знаю, что был прав в своих предположениях или, вернее, предчувствиях. Он живет ужасной жизнью. Но ты, Дориан, с твоим чистым, невинным лицом, которое несет в себе красоту неиспорченной молодости, ты просто не можешь жить так, как о тебе говорят. И все же мы видимся очень редко, потому что ты теперь никогда не посещаешь моей мастерской, и когда я слышу все эти ужасные вещи о тебе, то даже не знаю, что на них ответить. Дориан, почему люди вроде герцога Бервика выходят из комнаты в клубе, как только там появляешься ты? Почему так много лондонских джентльменов никогда не бывают у тебя в доме и не приглашают тебя к себе? Ты раньше дружил с лордом Стевли. Я встретил его за обедом на прошлой неделе. Твое имя прозвучало в связи с теми миниатюрами, что ты предоставил для выставки в Дадли. Стевли поморщился и сказал, что, быть может, у тебя и замечательный вкус к искусству, но с тобой нельзя знакомить невинных девушек, а ни одной порядочной женщине не стоит даже находиться с тобой в одной комнате. Я напомнил ему, что ты мой друг, и попросил объяснить, что он имеет в виду. И он объяснил. Прямо при всех. Это было ужасно! Почему же дружба с тобой становится роковой для юношей? Хотя бы этот несчастный парень из гвардии, который покончил с собой. Ты был его близким другом. Или сэр Генри Эштон, которому пришлось покинуть Англию из-за запятнанной репутации. Вы же были неразлучны. А как насчет Эдриана Синглтона и его бесславного финала? Или единственного сына лорда Кента и его карьеры? Я вчера встретил его отца на Сент-Джеймс-стрит. Сразу видно, что он убит стыдом и горем. А как насчет юного графа Перта? Что за жизнь он ведет! Какой порядочный джентльмен теперь захочет иметь дело с ним?
– Прекрати, Бэзил, ты говоришь о вещах, о которых ничего не знаешь, – сказал Дориан Грей, кусая губы, в голосе его чувствовалось безграничное пренебрежение. – Ты хочешь знать, почему Бервик не хочет находиться со мной в одной комнате? Да потому что я знаю о нем все, а не потому что он что-то там знает обо мне. С такими-то родственниками, как он может быть честным человеком? Ты спрашиваешь меня о Генри Эштоне и юном Перте. Разве это я приучил их к порокам и разврату? Если этот глупец, сын Кента, нашел себе жену на улице, то при чем здесь я? Разве это мое дело – отвечать за Эдриана Синглтона, который решил подделать подпись на векселе? Я прекрасно знаю, насколько англичане любят сплетничать. Мещане любят рассуждать о своей морали за щедро накрытыми столами, показывая тем самым, что они близки к аристократам и лично знают тех, чьи имена они порочат. В нашей стране, стоит тебе только хоть чего-то достичь или проявить свой ум или талант, как сразу же поднимется ураган сплетен. А как же ведут себя сами эти моралисты? Дорогой друг, не забывай, что мы живем на родине лицемерия.
– Дориан, – нетерпеливо сказал Холлуорд – дело не в этом. Я знаю, что в Англии не все хорошо, а общество вообще полно негодяев. Именно поэтому я хочу, чтобы ты был лучше них. А ты такой же. Это вполне справедливо – оценивать человека по влиянию, которое он оказывает на своих друзей. А твои друзья потеряли всякую честь, доброту и порядочность. Ты заражаешь своих друзей сумасшедшей жаждой наслаждения. Они упали в пропасть. И ты столкнул их туда. Именно так, ты столкнул их в пропасть и можешь и дальше себе улыбаться, как делаешь это сейчас. Это еще хуже. Я знаю, что вы с Гарри неразлучны. Хотя бы по этой причине тебе не стоило порочить имя его сестры.
– Прекрати, Бэзил, ты заходишь слишком далеко.
– Я должен сказать это, а ты должен меня выслушать. И выслушаешь. Когда ты познакомился с леди Гвендолен, никто и представить не мог, что она способна попасть в грязную историю. А теперь ни одна порядочная женщина в Лондоне не желает появляться на людях вместе с ней. Ей даже запретили жить со своими детьми. О тебе еще многое рассказывают, например, что видели, как ты на рассвете выходил из ужасных притонов или тайком пробирался в самые грязные трущобы Лондона. Это правда? Может ли это быть правдой? Когда я впервые услышал такие рассказы, то засмеялся. Теперь же они заставляют меня дрожать. А как насчет твоего загородного поместья и всего, что там происходит? Дориан, ты даже не представляешь, какие гадости говорят о тебе. Я не стану отрицать, что пришел, чтобы поучать тебя. Помню, однажды Гарри сказал, что каждый, кто хотя бы на мгновение делает из себя проповедника, обещает, что это было в последний раз, но впоследствии обязательно нарушает свое обещание. Вот и я пришел, чтобы поучать тебя. Я хочу, чтобы мир уважал тебя за твой образ жизни. Я хочу, чтобы твое имя оставалось чистым. Тебе больше не стоит иметь дело с плохими людьми. Не пожимай плечами. Не будь таким равнодушным. Ты можешь удивительным образом влиять на людей. Используй же эту способность во благо. Говорят, что ты развращаешь каждого, с кем становишься близким, и тебе достаточно войти в дом, чтобы его жителей постигло бедствие. Я не знаю, правда ли это. Откуда мне знать? Но так о тебе говорят. Мне рассказывали вещи, в которых невозможно усомниться. Лорд Глусестер был одним из моих лучших друзей в Оксфорде. Он показывал мне письмо, которое написала его жена, умирая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Твое имя фигурировало в самой ужасной исповеди, которую мне когда-либо приходилось читать. Я сказал ему, что это невероятно, что я прекрасно тебя знаю и ты не способен на вещи, описанные в письме. Знаю тебя? Я уже не уверен, а знаю ли я тебя? Я хотел бы увидеть твою душу, чтобы иметь возможность ответить на этот вопрос.
– Увидеть мою душу, – пробормотал бледный от страха Дориан Грей, вставая с дивана.
– Именно так, – мрачно ответил Холлуорд, и в его голосе слышалось уныние, – увидеть твою душу. Но на это способен только Господь.
Дориан засмеялся.
– Ты сможешь увидеть ее прямо сейчас! – воскликнул он, беря лампу со стола. – Пойдем. Почему бы тебе не взглянуть на собственное творение? Можешь даже рассказать об этом всему миру, если захочешь. Все равно тебе никто не поверит. А если кто-то и поверит, то станет только больше восхищаться мной. Я знаю наше время лучше тебя, какие бы ты мне не читал проповеди. Говорю же, пойдем. Ты уже достаточно болтал о духовном упадке. Теперь взгляни ему в глаза.
В каждом его слове слышалась какая-то сумасшедшая гордость. Он топал ногами, как мальчишка. Он очень радовался возможности поделиться своей тайной и тому, что человек, который написал портрет и стал причиной его падения, до конца жизни будет нести груз вины за то, что он натворил.
– Да, – продолжал он, подойдя ближе к художнику и не сводя с него глаз, – я покажу тебе свою душу. Ты увидишь то, что, по-твоему, может видеть только Господь.
Холлуорд отшатнулся.
– Это же богохульство, Дориан! – воскликнул он. – Никогда такого не говори, это ужасно и нелепо.
– Ты так считаешь? – снова засмеялся Дориан.
– Я это знаю. Относительно того, что я сказал тебе, то все это ради твоего же блага. Ты же знаешь, что я всегда был твоим верным другом.
– Не трогай меня. Договаривай все, что хотел.
Лицо художника исказилось от боли. На мгновение он замолчал и сразу же почувствовал глубокое сожаление. В конце концов, какое он имел право вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если он совершил хотя бы малую долю того, что о нем рассказывали, то как же он наверняка страдал! Затем он встал и подошел к камину. Он смотрел, как догорали дрова, и любовался снежно-белым пеплом и причудливыми язычками пламени.
– Я жду, Бэзил, – сухо сказал Дориан.
Художник обернулся и сказал:
– Я вот что хочу сказать, Дориан. Ты должен дать мне ответ на ужасные обвинения против себя. Если скажешь, что все они – полная ложь, то я поверю тебе. Опровергни их, Дориан, опровергни их! Разве ты не видишь, через что мне пришлось пройти? Господи, не дай мне поверить, что ты пал как человек.
Дориан только презрительно усмехнулся.
– Пойдем со мной, Бэзил. Я веду дневник своей жизни, но никогда не выношу его из комнаты, в которой он находится. Пойдем со мной, и я покажу его тебе.
– Я пойду с тобой, если хочешь, Дориан. Все равно я уже опоздал на поезд. Ничего, поеду завтра. Но не заставляй меня ничего читать. Я хочу просто услышать ответ на свой вопрос.
– Он ждет тебя наверху. Я не могу ответить тебе здесь. Тебе не придется долго читать.
Глава 13
Они вышли из комнаты и начали подниматься по лестнице. Инстинктивно они пытались идти как можно тише, ведь на дворе стояла ночь. Причудливые тени от лампы плыли по стенам и лестнице. От порыва ветра задребезжали стекла.
Когда они пришли на самый верх, Дориан поставил лампу на пол, достал ключ и открыл дверь.
– Ты точно хочешь знать правду, Бэзил? – тихо спросил он.
– Да.
– Вот и отлично, – улыбнулся Дориан и несколько резким тоном добавил: – Ты единственный, кто имеет право знать обо мне абсолютно все. Ты повлиял на мою жизнь гораздо больше, чем можешь себе представить.
С этими словами он снова взял в руки лампу и вошел в комнату. Подул холодный ветерок, и на мгновение пламя в лампе стало ярко-красным. Дориан вздрогнул, поставил лампу на стол и прошептал:
– Закрой за собой дверь.
Холлуорд растерянно осматривал комнату. Все указывало на то, что сюда никто не заходил годами. Кроме стола и стула здесь еще был выцветший фламандский гобелен, какая-то завешенная картина и книжный шкаф почти без книг. Пока Дориан зажигал огарок свечи, стоявшей на каминной полке, он увидел, что вся комната была покрыта пылью, а на ковре светились дырки. Мимо прошмыгнула мышь. В комнате было влажно и стоял запах плесени.
– Ты говоришь, что только Господь может увидеть душу, Бэзил? Сними вон то покрывало, и ты увидишь мою душу.
Это было сказано холодным и жестоким голосом.
– Дориан, ты или спятил, или все это какой-то глупый розыгрыш, – нахмурившись, пробормотал Холлуорд.
– Не хочешь? Что ж, придется самому, – сказал Дориан и сорвал покрывало с картины.
Художник даже закричал от ужаса, когда увидел жуткое лицо, скалившееся на него с полотна. Было в нем что-то такое, что наполняло его пренебрежением и презрением. Господи! Но это же лицо Дориана Грея! Какие бы ужасы его не изуродовали, они еще не совсем стерли удивительную красоту Дориана. Поредевшие волосы все еще отливали золотом, а на чувственных устах остался прекрасный цвет юности. Затуманенные глаза по-прежнему несли в себе волшебную синеву, а нос и шея не потеряли своих благородных линий. Да, это был Дориан. Но кто же написал его таким? Это было похоже на его работу, и рама была та, которую он сделал сам. Это было слишком невероятно, и все же он почувствовал, как им овладевает страх. Он схватил свечу и склонился над картиной. В левом углу длинными алыми буквами было выведено его имя.
Это была какая-то неудачная шутка, какая-то нелепая, глупая пародия. Он никогда этого не писал. И все же он знал, что это именно его картина. Огонь в его жилах застыл и превратился в лед. Его картина! Что это значит? Почему она так изменилась? Он посмотрел на Дориана Грея глазами безумца. Его рот перекосился, он не мог пошевелить языком. Он схватился руками за голову и почувствовал, что на лбу выступил пот.
А Дориан наблюдал за ним, как внимательный зритель наблюдает за спектаклем, когда на сцене выдающийся актер. В его взгляде не было ни искреннего сожаления, ни настоящей радости. Только восхищение зрителя и, пожалуй, нотка торжества. Он вынул цветок из петлицы своего пиджака и принялся его нюхать или, по крайней мере, делать вид, что нюхает.
– Что это значит? – в конце концов выдавил из себя Холлуорд. Однако собственный голос показался ему незнакомым.
– Много лет назад, когда я еще был мальчиком, – начал Дориан Грей, сминая цветок в руке, – ты встретил меня, делал мне комплименты и научил гордиться своей красотой. Однажды ты познакомил меня со своим другом, который объяснил мне, какая удивительная вещь молодость. В тот же день ты закончил работу над портретом, который дал мне понять, насколько удивительна моя красота. А потом наступил момент моего безумия (я до сих пор не решил, жалеть мне о нем или нет), я загадал желание или, как ты сказал, помолился…
– Я помню, прекрасно помню! Да нет! Не может быть. Просто в комнате очень влажно. Вот плесень и проникла в полотно. Может, в краски попал какой-то яд. То, о чем ты говоришь, просто невозможно.
– Разве бывает что-то невозможное? – тихо произнес Дориан, подойдя к окну и прислонившись лбом к холодному стеклу.
– Ты же говорил, что уничтожил картину.
– Я солгал. Это она уничтожила меня.
– Я не верю, что это моя картина.
– Разве ты не видишь на ней свой идеал? – язвительно спросил Дориан.
– Мой идеал, как ты его назвал…
– Как ты его назвал.
– В нем не было ничего, что вызвало бы страх или стыд. Ты был для меня идеалом, который мне не суждено встретить вновь. А это – лицо сатира.
– Это лицо моей души.
– Господи, чему же я поклонялся? У него глаза дьявола.
– Каждый из нас несет в себе и рай и ад, Бэзил! – в отчаянии воскликнул Дориан.
Холлуорд снова обернулся к портрету и начал внимательно рассматривать его.
– Господи! Если это действительно правда, и это то, что ты сделал с собственной жизнью, то получается, что ты гораздо хуже, чем о тебе говорят!
С этими словами он снова поднес свечу к портрету. На поверхности все осталось таким же, как после окончания работы над картиной. Этот ужас и упадок пришел изнутри. Под влиянием какой-то неестественной жизни грехи медленно разъедали картину. Даже гниение трупа в могиле не столь ужасно.
Руки Холлуорда дрожали так, что свеча упала на пол. Он погасил ее ногой и сел на расшатанный стул в углу, подперев голову руками.
– Боже мой, Дориан! Какой же это урок! Какой же это ужасный урок! – Он не услышал никакого ответа, только сдавленные рыдания Дориана у окна. – Молись, Дориан, молись. Как там нас учили в детстве? «Прости нам грехи наши, как и мы их прощаем, не введи нас во искушение…» Давай вместе помолимся. Если молитва твоей гордости была услышана, то молитву твоего раскаяния тем более услышат. Я слишком увлекался тобой. Я наказан за это. Ты слишком увлекался сам собой. Мы оба наказаны.
Дориан Грей медленно повернулся и посмотрел на него глазами, полными слез.
– Уже поздно, Бэзил, – ответил он.
– Никогда не поздно, Дориан. Давай встанем на колени и попробуем вспомнить молитву. Разве не сказано в Библии: «Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю».
– Теперь это для меня пустые слова.
– Прекрати! Не говори так. В твоей жизни и так уже много зла. Господи! Ты видишь, как это проклятое существо смотрит на нас?
Дориан посмотрел на портрет, и вдруг его охватила ненависть к Бэзилу Холлуорду. Она была будто бы навеяна изображением на холсте, казалось, эти злобно улыбающиеся уста нашептывали ее ему на ухо. В нем бушевали чувства загнанного зверя, и он возненавидел человека, сидящего за столом больше, чем он ненавидел кого-либо ранее. Он безумно оглянулся вокруг. Он заметил кое-что на комоде. Он знал, что это. Это был нож, который он принес несколько дней назад, чтобы отрезать кусок веревки, и забыл забрать назад. Он медленно пошел мимо Холлуорда. Только оказавшись позади него, Дориан схватил нож и обернулся. Холлуорд, казалось, собирался встать со стула. Он подскочил к нему и вонзил нож прямо в вену за ухом, затем, прижав голову Холлуорда к столу, стал наносить удар за ударом.
Раздался приглушенный стон и ужасный звук того, как человек захлебывается кровью. Холлуорд трижды протягивал руки вперед, бессмысленно шевеля пальцами. Дориан ударил его еще дважды, но он больше не двигался. Что-то закапало на пол. Дориан подождал мгновение, все еще прижимая голову к столу, затем положил нож на стол и прислушался.
Слышно было только, как капли крови падают на ковер. Он открыл дверь и вышел на лестницу. В доме царила полная тишина. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через перила и вглядываясь в темный колодец. Затем он вернулся в комнату и заперся изнутри.
Труп так и сидел на стуле, склонившись к столу и протянув руки вперед. Если бы не красное пятно на шее и лужа крови на столе, можно было бы подумать, что он просто уснул.
Как же быстро все кончилось! Дориан чувствовал себя на удивление спокойным, подошел к окну и вышел на балкон. Ветер развеял туман, и небо стало похоже на гигантский хвост павлина с миллионами пятнышек-звезд на нем. Внизу он увидел полицейского, который патрулировал улицу и светил своим фонарем на двери молчаливых домов. На углу улицы показался красный кэб и сразу же исчез. Какая-то женщина в шали, нетвердо стоящая на ногах, плелась по улице. Время от времени она останавливалась, чтобы отдохнуть, и даже начала петь хриплым голосом. К ней сразу же подошел полицейский. Она выслушала его, засмеялась и побрела дальше. Резкий порыв ветра пронесся по улице. Огоньки в газовых фонарях замигали, а деревья закачали своими уже облысевшими ветвями. Дориан задрожал и вернулся в комнату, закрыв за собой балкон.
Подойдя к двери, он повернул ключ и открыл ее. Он даже не посмотрел на мертвеца. Он чувствовал, что лучше об этом не думать. Его друг, который написал портрет, ставший причиной всех его несчастий, ушел из жизни. Вот и все.
Затем он вспомнил о лампе. Это был довольно редкая вещь ручной работы из Мавритании; ее темное серебро украшали стальные арабески и драгоценные камни. У дворецкого могут возникнуть вопросы, когда он увидит, что лампа исчезла из библиотеки. Мгновение он колебался, но в конце концов вернулся и забрал ее со стола. Он никак не мог не посмотреть на мертвеца. Как же он невозмутим! Как же ужасна белизна его длинных рук! Он был похож на ужасную восковую фигуру.
Закрыв за собой дверь, Дориан начал тихонько спускаться по лестнице. Дерево скрипело так, будто кто-то кричал от боли. Он несколько раз останавливался и прислушивался к темноте. Да нет, все было тихо. Это только звуки его собственных шагов.
Войдя в библиотеку, он заметил в углу чемодан и пальто. Их надо куда-то спрятать. Он открыл свой секретный шкаф, в котором держал костюмы для ночных похождений, и положил их туда. Потом нужно будет просто сжечь их. Затем он достал из кармана часы. Было двадцать минут второго.
Он сел и задумался. Ежегодно, почти ежемесячно, в Англии вешали кого-то за преступление, которое он только что совершил. Кажется, жажда убийства витает в воздухе. Какая-то красная звезда подошла слишком близко к земле… Но разве есть какие-то улики против него? Бэзил Холлуорд ушел из дома в одиннадцать. Никто не видел, как он возвращался. Большинство прислуги в Селби. Дворецкий спит… Париж! Именно так. Бэзил отправился в Париж двенадцатичасовым поездом, как и планировал. Принимая во внимание его удивительно замкнутый характер, пройдут месяцы, прежде чем у кого-то возникнут хоть какие-то подозрения. Месяцы! К тому времени можно будет замести все следы.
Вдруг его осенила здравая мысль. Он надел пальто и шляпу и вышел в переднюю. Там он несколько минут простоял, затаив дыхание и прислушиваясь к шагам полисмена, который как раз проходил мимо.
Затем он тихонько открыл дверь и вышел на улицу, бесшумно закрыв за собой дверь. После этого он стал звонить в дверь. Минут через пять появился его дворецкий, полуодетый и крайне сонный.
– Простите, что пришлось разбудить вас, Фрэнсис, – сказал Дориан, переступая через порог, – но я забыл дома свой ключ. Который сейчас час?
– Десять минут третьего, сэр, – ответил тот, сонно глядя на часы.
– Десять минут третьего? Ничего себе, как поздно! Разбудите меня завтра в девять. У меня есть некоторые дела.
– Как скажете, сэр.
– Никто не заходил вечером?
– Был мистер Холлуорд, сэр. Он ждал до одиннадцати, но потом ушел, чтобы успеть на поезд.
– Как жаль, что мы разминулись. Он просил что-то передать?
– Только то, что напишет вам из Парижа, если не найдет вас в клубе.
– Спасибо, Фрэнсис, не забудьте разбудить меня завтра в девять.
– Не забуду, сэр.
С этими словами дворецкий отправился спать дальше.
Дориан Грей положил пальто и шляпу на стол и пошел в библиотеку. Четверть часа он шагал по комнате, задумчиво покусывая губы. В конце концов он достал с одной из полок Синюю книгу и начал листать ее страницы. «Алан Кэмпбелл, 152, Хертфорд-стрит, Мейфэйр». Да, вот кто ему сейчас нужен.
Глава 14
На следующее утро в девять дворецкий вошел в комнату Дориана с чашкой шоколада на подносе и раздвинул шторы. Дориан спокойно спал на правом боку, подложив одну руку себе под щеку. Он был похож на маленького мальчика, уставшего от игр или учебы.
Дворецкому пришлось дважды потрогать его за плечо, чтобы разбудить. Когда же Дориан наконец открыл глаза, его лицо озарила улыбка, будто он еще не совсем вынырнул из волшебного сновидения. Но он не видел снов той ночью. Его не беспокоили ни видения радости, ни видения боли. Молодые обычно улыбаются без причины, именно этим они завораживают других.
Он обернулся и начал мелкими глоточками пить шоколад, опершись на локоть. Ласковое осеннее солнце озарило комнату. Небо было чистое, а в воздухе чувствовалось приятное тепло. Это все было похоже на майское утро.
Постепенно события прошлой ночи кровавой походкой возвращались к его памяти, воспроизводя себя в ужасных деталях. Он вздрогнул при мысли о том, что ему пришлось пережить, и на мгновение то же самое непонятное ощущение ненависти к Бэзилу Холлуорду, которое заставило его убить художника, снова овладело им. Он даже весь похолодел. Мертвец все еще сидел там, озаренный солнечными лучами. Как же это ужасно! Такие отвратительные вещи предназначены для ночи, а не для дня.
Он чувствовал, что если будет думать о том, через что прошел, то или заболеет, или сойдет с ума. Есть такие грехи, которые приносят больше наслаждения, когда вспоминаешь о них, чем когда их совершаешь. Странные победы, которые удовлетворяют гордыню даже больше, чем чувства, и пробуждают радость ума – радость, которую они никогда не смогли бы пробудить в чувствах. Но это не тот случай. Мысли об этом нужно изгнать из памяти, усыпить маковыми зернами, уничтожить, пока они не уничтожили самого Дориана.
Когда часы пробили половину десятого, Дориан быстро вскочил и начал одеваться, еще тщательнее, чем обычно, долго подбирал галстук и булавку к нему и несколько раз менял кольца. Он и на завтрак выделил много времени, пробуя разные блюда, обсуждая с дворецким новые ливреи, которые он собирался заказать для слуг в имении Селби, и просматривая утреннюю почту. Некоторые письма вызвали у него улыбку, три письма показались ему скучными, одно он перечитал трижды, а потом раздраженно разорвал. Как когда-то говорил лорд Генри, «женская память – это ужасная вещь».
Выпив утренний кофе, Дориан медленно вытер губы салфеткой и, дав дворецкому знак подождать, написал два письма. Одно из них он положил себе в карман, а другое отдал дворецкому.
– Отнесите это на Хертфорд-стрит, 152, Фрэнсис. А если мистера Кэмпбелла нет сейчас в городе, узнайте, по какому адресу его можно найти.
Оставшись наедине, он закурил и начал рисовать на листке бумаги. Сначала это были цветы, потом различные здания, а затем – человеческие лица. Вдруг он заметил, что каждое лицо, нарисованное им, было очень похоже на Бэзила Холлуорда. Он нахмурился, встал из-за стола, подошел к книжному шкафу и взял оттуда первую попавшуюся книгу. Он твердо решил не думать о том, что произошло, без крайней на то необходимости.
Удобно устроившись на диване, он посмотрел на титульную страницу книги. Это были «Эмали и камеи» Готье, издание Шарпантье, напечатанное на японской бумаге с гравюрами Жакмара. На обложке из лимонно-желтой кожи был тисненый узор – золотая решетка и нарисованные пунктиром гранаты. Это был подарок Эдриана Синглтона. Листая страницы книги, он наткнулся на стихотворение о руке Ласнера, «холодной желтой руке, с которой еще не смыт след преступления, руке с рыжим пушком и пальцами фавна». Он посмотрел на собственные бледные тонкие пальцы и невольно вздрогнул. Он листал страницы дальше, пока не нашел прекрасные строки о Венеции:
В волненье легкого размера
Лагун я вижу зеркала,
Где Адриатики Венера смеется, розово-бела.
Соборы средь морских безлюдий
В теченье музыкальных фраз
Поднялись, как девичьи груди,
Когда волнует их экстаз.
Челнок пристал с колонной рядом,
Закинув за нее канат.
Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд[18].
Какие прекрасные слова! Когда читаешь их, кажется, будто плывешь зелеными водами розово-пурпурного города в черной гондоле с серебряным носом и красными занавесками. Даже сами строки в этой книге напоминали Дориану линии на воде, которые образуются за лодкой, идущей в Лидо. Краски этого стихотворения напомнили ему о разноцветных птичках, кружащихся вокруг медово-золотистой Кампанилы[19] или с важным видом прогуливающихся под покрытой пылью аркадой. Откинув голову на подушки, он лежал с полузакрытыми глазами и повторял про себя:
Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд.
В этих двух строках была выражена вся Венеция. Он вспомнил осень, проведенную в этом городе, и страстную любовь, подтолкнувшую его к приятным неистовствам. Каждое место имеет свою романтику. Но Венеция, как и Оксфорд, создает для нее красивый фон, а для настоящей романтики фон – это самое важное. Некоторое время с ним там жил Бэзил. Он просто влюбился в Тинторетто. Бедный Бэзил! Какая ужасная смерть его постигла!
Он вздохнул и, чтобы прогнать от себя эти мысли, стал дальше листать книгу. Он читал о ласточках, что влетают в окна кафе в Смирне, где хаджи считают свои янтарные бусины, а купцы в тюрбанах курят длинные трубки, важно общаясь между собой. Он читал об Обелиске на площади Согласия, который в своем одиноком изгнании льет гранитные слезы, тоскуя по солнцу и теплому, покрытому лотосами Нилу, стремясь туда, в страну сфинксов, где живут нежно-розовые ибисы, белые грифы с золотыми когтями, где маленькие крокодилы с берилловыми глазами возятся в грязи. Дориан задумался над стихами, которые, превращая мрамор в музыку, рассказывают об удивительной статуе, которую Готье сравнил с голосом контральто, о «волшебном чудовище», покоящемся в порфировых залах Лувра. Но спустя некоторое время книга выпала из его рук. Он все больше нервничал, и наконец его охватил ужас. А что, если Алан Кэмпбелл сейчас вообще не в Англии? Может пройти несколько дней, пока он вернется. Он может просто не прийти. И что тогда ему делать? Каждое мгновение было на вес золота.
Пять лет назад они были близкими друзьями, почти неразлучными. Но со временем их дружбе пришел конец. Теперь, когда они встречались в обществе, только Дориан Грей улыбался своему бывшему другу, а вот Алан Кэмпбелл – никогда.
Он был удивительно умный юноша, однако ничего не понимал в изобразительном искусстве, а зачатки вкуса к поэзии ему привил Дориан. В свою очередь, его страстью была наука. В Кембридже он большую часть времени проводил в лаборатории и был лучшим студентом курса естественных наук. Он и сейчас посвящает себя изучению химии и даже имеет собственную лабораторию, из которой не выходит целыми днями, чем очень раздражает свою мать, которая хочет, чтобы он сделал карьеру в парламенте, и не слишком понимает, кто такие химики, путая их с фармацевтами.
В то же время он был замечательным музыкантом и играл на рояле и скрипке лучше, чем большинство любителей. Собственно, именно благодаря музыке они и познакомились. Благодаря музыке и невероятному умению Дориана привлекать людей, когда он того хотел, а часто и бессознательно. Впервые они встретились на приеме у леди Беркшир, когда у нее играл Рубинштейн, и с тех пор их можно было увидеть вместе в опере или на любом мероприятии, связанном с хорошей музыкой.
Их дружба продолжалась полтора года. Кэмпбелла всегда можно было найти в имении Селби или на Гросвенор-сквер. Для него, как и для многих других, Дориан воплощал все то удивительное и захватывающее, что есть в жизни. Никто так и не узнал, поссорились ли они, или случился какой-то другой неприятный случай. Но вдруг стало заметно, что они перестали разговаривать между собой, а Кэмпбелл всегда первым уходил с вечеринок, на которых присутствовал Дориан Грей. Да и сам он изменился – временами впадая в меланхолию, он, казалось, совсем потерял интерес к музыке и наотрез отказывался играть сам, объясняя это тем, что очень занят и не имеет времени для практики. Это было похоже на правду. День за днем он все больше погружался в биологию, а его имя несколько раз появлялось в научных журналах в связи с его любопытными экспериментами.
Этого человека ждал Дориан Грей. Он ежесекундно поглядывал на часы. С каждой минутой он волновался все больше. В конце концов он вскочил и начал шагать по комнате, будто великолепное животное, загнанное в клетку. Он делал широкие бесшумные шаги. Его руки стали холодными.
Ожидание становилось невыносимым. Время еле-еле передвигало свои свинцовые ноги, пока безумный вихрь нес Дориана на край пропасти. Он знал, что ждет его там, он это ясно видел, а потому закрыл глаза холодными дрожащими руками, будто пытаясь вдавить их внутрь, чтобы лишить и себя, и свой мозг зрения. Но все было напрасно. У мозга есть собственные ресурсы, а воображение, искаженное страхом и болью, уже плясало, как уродливая марионетка, и хищно скалилось из-под масок.
Вдруг время для него остановилось. Именно так, это слепое существо больше даже не ползло никуда, а его собственные ужасные мысли проносились перед глазами и показывали ему ужасную могилу его будущего. Он смотрел на нее, застыв от ужаса.
Наконец дверь открылась, и в комнату вошел дворецкий. Дориан посмотрел на него будто сквозь туман.
– Мистер Кэмпбелл, сэр, – сказал дворецкий.
Дориан облегченно вздохнул, а его щеки стали уже не так бледны.
– Зови его сюда немедленно, Фрэнсис. – Он снова чувствовал себя самим собой. Его слабость прошла.
Дворецкий поклонился и вышел.
Через несколько секунд в комнату с суровым видом вошел Алан Кэмпбелл. Он был очень бледен, это подчеркивали его черные как смоль волосы и темные брови.
– Алан! Это очень мило с вашей стороны. Спасибо, что пришли.
– Я обещал себе больше никогда не переступать порог вашего дома, Грей. Но вы написали, что речь идет о деле жизни и смерти, – сказал вошедший сухим холодным голосом.
Он говорил намеренно медленно и четко. Он не сводил глаз с Дориана, и в его взгляде читались пренебрежение и презрение. Он держал руки в карманах и сделал вид, что не заметил приветственного жеста.
– Именно так, Алан, дело жизни и смерти не одного человека. Садитесь.
Кэмпбелл сел у стола, а Дориан устроился напротив. Двое мужчин встретились взглядами. В глазах Дориана читалось сожаление. Он осознавал, насколько ужасно то, что он собирался сделать.
После минуты напряженного молчания Дориан склонился над столом и начал подчеркнуто спокойно говорить, наблюдая за реакцией Кэмпбелла:
– Алан, на последнем этаже этого дома, в комнате, в которую могу войти только я, за столом сидит труп. Прошло уже десять часов с тех пор, как он умер. Не надо на меня так смотреть. Вас не касается, кто этот человек, почему и как он умер. Все, что вам нужно сделать, это…
– Остановитесь, Грей. Я больше ничего не хочу знать. Мне не интересно, правда ли то, что вы мне только что рассказали. Я решительно отказываюсь иметь дело с вами и вашей жизнью. Оставьте себе свои ужасные тайны. Они меня больше не интересуют.
– Алан, вам придется заинтересоваться этой тайной. Мне очень вас жаль. Но сам я ничего не смогу с этим поделать. Вы – единственный, кто может спасти меня. Я вынужден заставить вас ввязать в это. У меня нет выбора. Алан, вы ученый. Вы разбираетесь в химии и всем таком. Вы проводили различные эксперименты. Все, что вам нужно сделать, это уничтожить тело наверху, уничтожить так, чтобы от него не осталось и следа. Никто не видел, как этот человек заходил в дом. Он сейчас должен быть в Париже. Его начнут искать лишь через несколько месяцев. К тому времени здесь от него не должно остаться ни следа. Алан, вы должны превратить его и все, что ему принадлежит, в кучку пепла, который я смогу развеять по ветру.
– Дориан, вы сумасшедший.
– Ага! Вы назвали меня Дорианом, именно на это я и надеялся.
– Говорю же, вы сумасшедший. Это безумие с вашей стороны – считать, что я хоть пальцем пошевельну, чтобы вам помочь, так же, как ваша эта исповедь – сплошное безумие. Я не буду вмешиваться в эту историю, что бы там ни было. Неужели вы считаете, что я пожертвую своей репутацией ради вас? Какое я имею отношение к вашим дьявольским планам?
– Это было самоубийство, Алан.
– Рад это слышать. Но кто же довел его до самоубийства? Думаю, вы.
– Вы все еще отказываетесь помочь мне?
– Конечно, я отказываюсь. Я не стану иметь никакого отношения к этому. Мне плевать на ваш позор. Вы этого заслуживаете. Мне будет не жалко увидеть, как на вашей репутации публично поставят крест. Как вы могли попросить именно меня вмешаться в такую ужасную историю? Я думал, что вы лучше разбираетесь в людях. Ваш друг, лорд Генри Уоттон, пожалуй, вовсе не учил вас психологии среди других вещей, которым вас обучал. Вы не к тому обратились. Идите просите помощи у кого-то из своих друзей. Я здесь ни при чем.
– Алан, это было убийство. Я убил его. Вы не представляете, как я страдал из-за него. Как бы ни сложилась моя жизнь, он сделал гораздо больше для того, чтобы создать или разрушить ее, чем бедный Гарри. Может, он и не желал этого, но так вышло.
– Убийство! Боже мой, Дориан, так вот до чего вы докатились? Я не стану сообщать об этом полиции. Это не мое дело. К тому же вас арестуют и без моей помощи. Не бывает преступлений без оплошностей. Но я не стану в это вмешиваться.
– Вы должны вмешаться. Подождите, подождите минутку. Послушайте меня. Просто послушайте, Алан. Я прошу вас только провести научный эксперимент. Вы же ходите в больницы и морги, и то, что вы там делаете, не кажется вам ужасным. Если бы этот труп лежал где-то в анатомическом театре или лаборатории на свинцовом столе и из него торчали бы трубки для отвода крови, вы видели бы в нем просто объект для исследования. Вы бы и глазом не моргнули. Вам бы и в голову не пришло, что вы делаете что-то плохое. Напротив, вы, скорее всего, чувствовали бы, что работаете во благо человечества, пополняете науку новыми знаниями, удовлетворяет похвальную любознательность или что-то вроде того. Все, что я прошу, – это просто сделать то, что вы уже делали раньше. Я уверен, что уничтожить тело – это далеко не самый страшный из ваших экспериментов. К тому же это единственное доказательство против меня. Если его найдут, мне конец. А его точно найдут, если вы мне не поможете.
– Я не имею никакого намерения помогать вам. Забудьте об этом. Мне просто безразлично все это. Меня это совершенно не касается.
– Алан, умоляю вас. Подумайте о положении, в котором я оказался. Как раз перед тем как вы пришли, я чуть не умер от страха. Возможно, вам и самому придется однажды познать ужас. Нет! Не думайте об этом. Посмотрите на дело с исключительно научной точки зрения. Вы же не интересуетесь происхождением трупов, на которых вы проводите эксперименты. Вот и сейчас не интересуйтесь. Я и так много рассказал вам. Но прошу вас сделать это. Мы же были прежде друзьями, Алан.
– Не смейте упоминать о тех временах, Дориан. Наша дружба мертва.
– Мертвые не всегда оставляют нас в покое. Мужчина наверху никуда оттуда не уйдет. Он будет сидеть там со склоненной головой и протянутыми вперед руками. Алан! Алан! Если вы не поможете мне, мне конец. Меня повесят, Алан! Разве вы не понимаете? Меня повесят за то, что я сделал.
– Нет смысла продолжать эту сцену. Я отказываюсь любым образом вмешиваться в это дело. Было бессмысленно с вашей стороны обращаться ко мне.
– Вы отказываетесь?
– Да.
– Умоляю вас, Алан.
– Это бесполезно.
В глазах Дориана снова появилось сожаление. Он написал что-то на клочке бумаги, свернул его вчетверо и протянул Кэмпбеллу, а сам поднялся из-за стола и отошел к окну.
Кэмпбелл удивленно посмотрел на него, а затем развернул бумажку. Читая ее, он побледнел еще сильнее и упал на стул, будто потерял все свои силы. Он почувствовал невероятную слабость. Казалось, сердце вот-вот выскочит у него из груди.
После двух-трех минут невыносимого молчания Дориан обернулся, встал позади него и положил руку ему на плечо.
– Мне действительно очень жаль вас, Алан, – сказал он, – но вы не оставили мне выбора. Письмо уже написано. Вот оно. Видите адрес? Если вы мне не поможете, я буду вынужден отправить его. Я отправлю его, если вы мне не поможете. Вы знаете, к чему это приведет. Но вы поможете мне. Теперь вы уже не можете отказаться. Я пытался вас пощадить. Справедливости ради вы должны это признать. Но вы вели себя упрямо, грубо, агрессивно. Вы вели себя со мной так, как не решается ни одна живая душа. А я все это стерпел. Но теперь моя очередь выдвигать условия.
Кэмпбелл спрятал лицо в ладонях и задрожал.
– Именно так, теперь я буду диктовать условия. Вы их уже знаете. Все очень просто. Хватит, у вас так жар начнется. Это должно быть сделано. Смиритесь и сделайте это.
Кэмпбелл застонал, не переставая дрожать. Щелчки часов на каминной полке, казалось, разделяли время на отдельные дольки агонии, каждая из которых была все более невыносимой. Он чувствовал, будто металлическое кольцо все сильнее сжимается на лбу, будто позор, который постоянно ему угрожал, наконец стал неизбежным. Рука на его плече была как из свинца. Это было невыносимо. Казалось, она его вот-вот раздавит.
– Давайте уже, Алан, решайтесь.
– Я не могу этого сделать, – машинально ответил он, как будто слова могли что-то изменить.
– Вы должны. У вас нет выбора. Не стоит тянуть время.
Мгновение Кэмпбелл колебался.
– В той комнате есть камин?
– Да, газовый, с асбестом.
– Мне нужно попасть домой, чтобы взять все необходимое из лаборатории.
– Нет, Алан, вам нельзя покидать дом. Напишите на бумаге, что вам нужно, и мой дворецкий наймет кэб и все вам сюда доставит.
Кэмпбелл написал несколько строк и имя своего ассистента на конверте. Дориан внимательно перечитал записку и только потом позвал дворецкого, приказав тому возвращаться как можно быстрее со всем необходимым.
Кэмпбелл вздрогнул от стука дверей, поднялся и подошел к камину.
Его трясло, как в лихорадке. В течение двадцати минут оба не сказали ни слова. Было слышно лишь жужжание мухи, да часы стучали в тишине, будто кувалда.
Когда часы пробили час, Кэмпбелл обернулся, посмотрел на Дориана Грея и увидел, что его глаза наполнены слезами. Чистота и невинность его лица разгневали Кэмпбелла.
– Подонок! Какой же вы подонок! – закричал он.
– Прекратите, Алан. Вы спасли мою жизнь, – сказал Дориан.
– Ваша жизнь? Да что же это, черт побери, за жизнь такая! День за днем вы грешили и докатились в конце концов до убийства. То, что я делаю, то, что вы заставляете меня делать, я делаю точно не ради вашей жизни.
– Эх, Алан, – вздохнул Дориан, – если бы вы чувствовали ко мне хоть сотую долю того сострадания, которое я чувствую к вам.
С этими словами он отвернулся и стал смотреть в сад. Кэмпбелл ничего не ответил.
Минут через десять в дверь постучали, и в комнату вошел дворецкий с большим ящиком из красного дерева, наполненным химическими веществами, стальными и платиновыми проводами и двумя железными сосудами причудливой формы.
– Мне оставить это здесь, сэр? – спросил он у Кэмпбелла.
– Да, оставьте, – ответил Дориан, – боюсь, у меня есть для вас еще одно поручение, Фрэнсис. Как зовут садовника из Ричмонда, который поставляет орхидеи для имения Селби?
– Харден, сэр.
– Да, Харден. Немедленно отправляйтесь в Ричмонд и скажите этому Хардену лично, чтобы он отправил вдвое больше орхидей, чем я заказал. И чтобы было поменьше белых. Даже, знаете, я вообще не хочу белых. Сегодня просто замечательный день, а в Ричмонде очень славно, иначе я не стал бы вас беспокоить.
– Ах, разве это труды, сэр, о чем вы? К которому часу мне вернуться?
Дориан посмотрел на Кэмпбелла.
– Как долго продлится ваш эксперимент, Алан? – спросил он равнодушным тоном. Присутствие третьего человека в комнате придавало ему смелости.
Кэмпбелл нахмурился, прикусил губу:
– Около пяти часов.
– Значит, будет как раз хорошо, если вы вернетесь в половине восьмого. Впрочем, приготовьте только мой наряд – и весь вечер в вашем распоряжении. Я буду обедать не дома, так что вы мне не нужны.
– Спасибо, сэр, – сказал дворецкий, выходя из комнаты.
– Что же, Алан, не стоит терять ни минуты. Какой же тяжелый этот ящик! Я понесу его, а вы берите остальные вещи. – Он говорил быстро и командным тоном.
Кэмпбелл молча повиновался. Вместе они вышли из комнаты.
Когда они поднялись наверх, Дориан достал ключ и прокрутил его в замке. Затем он остановился на мгновение, и в его глазах мелькнула обеспокоенность.
– Не думаю, что я смогу войти, Алан.
– Что мне с того… Вы мне не нужны, – сухо ответил Кэмпбелл.
Дориан приоткрыл дверь и сразу увидел освещенное солнечными лучами лицо портрета. На полу перед ним лежало разорванное покрывало. Он вспомнил, что прошлой ночью впервые в жизни забыл завесить портрет, и уже собирался подбежать к нему, как увидел нечто, что заставило его отпрянуть.
Что это была за гадкая жидкость на одной руке, которая отблескивала так, будто портрет кровоточил? Как же это ужасно! Это показалось ему еще более ужасным, чем безмолвная фигура, которая, как он знал, сидела за столом и чья тень напоминала ему, что фигура эта никуда не делась.
Дориан глубоко вдохнул, открыл дверь немного шире и с прищуренными глазами и отвернутой головой вошел в комнату, полный решимости не смотреть в сторону стола, где находился мертвец. Он взял золотистую ткань и завесил портрет.
Боясь оглянуться, он сосредоточенно рассматривал узор на ткани. Он слышал, как Кэмпбелл заносил в комнату тяжелый ящик, железки и другие вещи, необходимые для его ужасной работы. Ему стало интересно, были ли они знакомы с Бэзилом Холлуордом, и если да, то как относились друг к другу.
– Оставьте меня, – прозвучал у него за спиной суровый голос.
Дориан развернулся и поспешно вышел из комнаты, заметив лишь, что Кэмпбелл прислонил тело к спинке стула и пристально смотрел в его желтое лицо. Спускаясь по лестнице, он услышал, как в замке поворачивается ключ.
Кэмпбелл вернулся в библиотеку гораздо позже семи. Он был бледен, но совершенно спокоен.
– Я выполнил то, о чем вы меня просили, – сказал он. – Всего хорошего. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся.
– Вы спасли мою жизнь, Алан. Я никогда этого не забуду, – просто ответил Дориан.
Как только Кэмпбелл ушел, он поднялся по лестнице. В комнате стоял тяжелый запах азотной кислоты. Мертвый человек, сидевший за столом, исчез.
Глава 15
В тот же вечер, в половине девятого, изысканно одетый Дориан Грей с бутоньеркой пармских фиалок в петлице вошел в гостиную леди Нарборо. Он был очень возбужден, в его висках бешено пульсировала кровь, но он поцеловал руку хозяйки с той же непринужденной элегантностью, что и всегда. Пожалуй, лучший способ выглядеть непринужденно – притворяться. Взглянув на Дориана Грея, нельзя было даже представить, что он пережил одну из самых больших трагедий нашего времени. Не могли же эти изящные руки наносить смертельные удары ножом, а эти улыбающиеся уста – проклинать Господа и все святое. Он и сам был удивлен своему спокойствию, и на мгновение эта его двойная жизнь подарила ему необъяснимое наслаждение.
Людей было немного, ведь прием был устроен на скорую руку. Леди Нарборо была умная женщина, которая, как говорил лорд Генри, была прекрасна в своем отсутствии красоты. Долгие годы она была верной женой для одного из самых скучных дипломатов, а затем похоронила его, как положено, в мраморном мавзолее, построенном по собственному проекту. Отдав дочерей замуж за уже немолодых, но весьма состоятельных джентльменов, она проводила свободное время, наслаждаясь французской литературой, французской кухней и французским юмором, когда ей удавалось его обнаружить.
Дориан был одним из главных ее любимцев, она любила повторять, как она рада, что они не встретились во времена ее юности.
«Я бы обязательно безумно влюбилась в вас, Дориан, – повторяла она, – и, конечно, забросила бы свой чепец за мельницу. Какое же счастье, что в то время вы еще и не родились. К сожалению, чепцы наши в то время были уродливы, а мельницы заняты, так что мне и пофлиртовать-то ни с кем не пришлось. В конце концов, в этом была вина Нарборо. Он был удивительно близорукий, а какой смысл обманывать мужа, который никогда этого не заметит?»
В тот вечер собралось довольно скучное общество. Леди Нарборо тихонько пояснила Дориану, прикрываясь весьма потрепанным веером, что это из-за того, что к ней неожиданно приехала одна из ее дочерей и, что еще хуже, привезла с собой своего мужа.
– Я считаю, что это крайне некрасиво с ее стороны, – прошептала она. – Конечно, я и сама каждое лето наведываюсь к ним, возвращаясь из Гамбурга, но в моем возрасте просто необходимо время от времени дышать свежим воздухом, да и кроме того, должен же кто-то их расшевелить. Вы даже не представляете, что у них там за жизнь. Настоящая провинция! Они просыпаются рано, потому что у них много дел, и рано ложатся спать, потому что у них совсем не о чем поговорить. Последний громкий скандал там случился еще во времена королевы Елизаветы, вот они и засыпают сразу после обеда. Но вы будете сидеть не с ними. Вы сядете рядом со мной и будете меня развлекать.
Дориан ответил ей комплиментом и осмотрелся вокруг. Действительно, прием обещал быть крайне скучным. Двоих из присутствующих он раньше никогда не встречал, а остальную публику составляли Эрнест Гароуден – посредственный человек среднего возраста, которых так много в лондонских клубах, у которого не было врагов, но которого недолюбливали собственные друзья; леди Ракстон – слишком старательно одетая сорокасемилетняя дама, которая упрямо пыталась себя скомпрометировать, однако ей не хватало привлекательности, чтобы хоть кто-то поверил слухам о ней; миссис Эрлин, которая еще только пыталась сделать себе имя в почтенном обществе, – она крайне мило картавила и была такая рыжая, будто родилась в Венеции; леди Элис Чэпмен – дочь хозяйки, еще молодая, но уже одетая без всякого вкуса девушка, с типично английским лицом, которое невозможно было запомнить; и ее краснощекий светловолосый муж, который, казалось, считал, что чрезмерной жизнерадостностью можно компенсировать полное отсутствие идей.
Дориан пожалел, что пришел, но тут леди Нарборо взглянула на большие бронзовые часы, стоявшие на камине, и воскликнула:
– Генри Уоттон просто неприлично опаздывает! Я намеренно заглянула к нему сегодня утром, и он заверил меня, что приедет.
Это была большая радость, что Гарри должен был приехать, а когда дверь открылась и стало слышно, как он своим прекрасным голосом делает ленивые извинения убедительными, Дориан забыл о своей скуке.
Но он был не в состоянии есть за обедом. Блюда меняли одно за другим, но ни к одному из них Дориан даже не притронулся. Леди Нарборо все время упрекала его за то, что он «оскорбляет бедного Адольфа, который приготовил новое меню специально по его вкусу», а лорд Генри издали поглядывал на друга, удивленный его молчаливым и отстраненным поведением. Время от времени дворецкий наполнял бокал Дориана шампанским. Он пил жадно, но жажда мучила его все больше.
– Дориан, – в конце концов не выдержал лорд Генри, когда подали заливную птицу, – что с тобой сегодня? Ты сам на себя не похож.
– Кажется, он влюбился, – сказала леди Нарборо, – и боится признаться, чтобы я не ревновала. Правильно делает.
– Дорогая леди Нарборо, – улыбнулся Дориан, – уже целую неделю я не влюблен – как раз с тех пор, как госпожа де Феррол уехала из города.
– Что вы, мужчины, находите в этой женщине? – воскликнула пожилая леди. – Не могу понять, честное слово.
– Это все потому, что она помнит вас юной, леди Нарборо, – сказал лорд Генри. – Она – единственный мостик между нами и вашими короткими платьицами.
– Она совсем не помнит мои короткие платьица, лорд Генри, а вот я прекрасно помню ее тридцать лет назад в Вене. Ее и ее декольте.
– Она до сих пор носит такое декольте, – ответил он, взяв длинными пальцами оливку, – а когда она надевает действительно изысканное платье, то выглядит как роскошное издание неважного французского романа. Она на самом деле удивительна и полна сюрпризов. Ее способность к семейной жизни просто поражает. Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотыми.
– Гарри, как тебе не стыдно! – воскликнул Дориан.
– Это наиболее романтическое объяснение, – засмеялась хозяйка. – Но погодите, лорд Генри, вы сказали – ее третий муж! Неужели Феррол уже четвертый?
– Именно так, леди Нарборо.
– Не может быть.
– Можете спросить мистера Грея. Он один из ближайших ее друзей.
– Это правда, мистер Грей?
– По крайней мере, она мне так говорит, – ответил Дориан. – Я спросил, не бальзамирует ли она сердца своих мужей, как Маргарита Наваррская, чтобы потом носить их на поясе. А она ответила, что это невозможно, поскольку ни один из них не имел сердца.
– Четверо мужей! Вот это я называю чрезмерным усердием.
– А я – чрезмерной смелостью. Я так ей и сказал.
– Действительно, смелости ей хватит на что угодно. А что же за человек этот Феррол? Я его не знаю.
– Для меня мужья прекрасных женщин – преступники, – отметил лорд Генри, попивая вино.
– Эх, лорд Генри. Неудивительно, что весь свет говорит о том, какой вы пропащий человек.
– Какой такой свет? – спросил лорд Генри, поднимая брови. – Такое можно услышать разве что на том свете. С этим светом мы в прекрасных отношениях.
– Все мои знакомые говорят, что вы вполне падший человек, – заметила хозяйка, покачав головой.
На мгновение лорд Генри принял серьезный вид.
– Как же это ужасно, – наконец сказал он, – как же невыносима эта привычка современных людей говорить за спиной у других чистую правду о них.
– Он просто неисправим! – воскликнул Дориан и склонился над столом.
– Очень на это надеюсь, – со смехом ответила хозяйка. – Но серьезно, если вы все так увлекаетесь миссис де Феррол, то придется и мне снова выйти замуж, чтобы не отставать от моды.
– Вы никогда не выйдете замуж во второй раз, леди Нарборо, – мягко перебил лорд Генри. – Вы были слишком счастливы для этого. Женщина выходит замуж во второй раз от пренебрежения к первому мужу. Мужчина же женится во второй раз, потому что он обожал свою первую жену. Женщины ищут свое счастье, в то время как мужчины рискуют им.
– Нарборо тоже был не совершенен, – заметила пожилая леди.
– Иначе вы бы не влюбились в него. Женщины любят нас за недостатки. Если их у нас изрядное количество, то они готовы закрыть глаза на все, даже на наш ум. Боюсь, из-за этих слов вы больше никогда не пригласите меня на обед, леди Нарборо, но это правда.
– Конечно, это правда, лорд Генри. Если бы женщины не любили вас за ваши недостатки, то где бы вы сейчас все были? Ни один из вас никогда не женился бы. Так и оставались бы кучкой несчастных холостяков. Конечно, это мало на что повлияло бы. Сейчас женатые живут как холостяки, а холостяки – как женатые.
– Что поделаешь, конец века, – сказал лорд Генри.
– Конец света, – ответила хозяйка.
– Скорее бы уж он наступил, – вздохнул Дориан. – Вся наша жизнь – это большое разочарование.
– Дорогой мой, – сказала леди Нарборо, надевая перчатки, – не стоит говорить, что вы выпили жизнь до дна. Когда кто-то так говорит, значит, это его жизнь выпила до дна. Лорд Генри – страшный грешник, иногда мне даже жаль, что я такой не была, но вы созданы для добра, ваше лицо говорит об этом. Я должна найти вам хорошую жену. Лорд Генри, вам не кажется, что мистеру Грею стоит жениться?
– Я все время говорю ему об этом, леди Нарборо, – ответил лорд Генри, поклонившись.
– Нам необходимо найти ему подходящую пару. Я сегодня же внимательно просмотрю Дебретта и выпишу всех достойных невест.
– Надеюсь, в списке будет указан их возраст, леди Нарборо, – сказал Дориан.
– Конечно, разве что с небольшими поправками. Но в таком деле нельзя спешить. Я хочу, чтобы это был, как пишут в «Морнинг Пост», приличный брак и чтобы вы оба были счастливы.
– Какие же глупости говорят о счастливом браке! – воскликнул лорд Генри. – Мужчина может быть счастлив с любой женщиной, но только при условии, что он не любит ее.
– Какой же вы циник! – воскликнула хозяйка, отодвинув стул и кивнув леди Ракстон. – Лорд Генри, приходите ко мне почаще. Вы прекрасно действуете на меня, гораздо лучше, чем все эти тоники, которые мне прописывает сэр Эндрю. Скажите только, какое общество вы предпочитаете, хочу, чтобы вам было приятно меня посещать.
– Мне нравятся мужчины, которые имеют будущее, и женщины, имеющие прошлое, – ответил лорд Генри. – Но в таком случае, вполне возможно, что среди приглашенных будут одни женщины.
– Боюсь, что именно так и будет, – засмеялась леди Нарборо, вставая. – Прошу меня простить, дорогая леди Ракстон, – добавила она, – я и не заметила, что вы еще не докурили.
– Ничего страшного, леди Нарборо. Я слишком много курю. Я хочу начать сдерживать себя в будущем.
– Пожалуйста, не надо, леди Ракстон, – сказал лорд Генри. – «Умеренность» – это роковая вещь. «Достаточно» – это обычный обед. «Более чем достаточно» – это роскошный пир.
Леди Ракстон посмотрела на него с любопытством.
– Непременно приходите ко мне как-нибудь, лорд Генри, и объясните это. Звучит, как захватывающая теория, – сказала она и покинула комнату.
– Не увлекайтесь слишком сплетнями и политикой, иначе мы перессоримся между собой наверху, – шутливо сказала леди Нарборо, также выходя из комнаты.
Мужчины посмеялись, а мистер Чэпмен занял почетное место за столом. Дориан также пересел, чтобы оказаться рядом с лордом Генри. Мистер Чэпмен начал громко рассказывать о положении дел в палате общин, высмеивая своих оппонентов. Ужасное для британцев слово «доктринер» раз за разом звучало в перерывах между взрывами смеха. Применительно к нему это слово обозначало вершину ораторского искусства. Он поднимал британский флаг над зданием мысли. Он доказывал, что врожденная тупость нации, которую он оптимистично называл чисто английским здравым смыслом, и есть основа общества.
Лорд Генри улыбнулся и посмотрел на Дориана.
– Тебе уже лучше, друг? – спросил он. – Ты плохо выглядел за обедом.
– Все в порядке, Гарри. Я просто устал.
– Ты был великолепен вчера. Юная герцогиня просто в восторге от тебя. Она сказала мне, что планирует посетить Селби.
– Она пообещала, что приедет двадцатого.
– Вместе с Монмаутом?
– Конечно, Гарри.
– Он мне быстро надоедает, почти так же быстро, как и ей. Она очень умная, слишком умная, как для женщины. Ей не хватает волшебной, едва уловимой слабости. Мы восхищаемся золотыми идолами, потому что ноги у них из глины. У нее прекрасные ножки, но они не глиняные. Скорее, фарфоровые. Они прошли сквозь огонь и закалились в нем. Ей пришлось немало пережить.
– Она давно замужем? – спросил Дориан.
– По ее словам, целую вечность, ну а в книге пэров говорится о десяти годах. Должен отметить, что десять лет с Монмаутом могут действительно показаться вечностью. А кто еще будет?
– Уиллоуби и лорд Регби с женами, леди Нарборо, Джеффри Клустон – словом, как всегда. А еще я пригласил лорда Гротриена.
– Он мне нравится, – одобрительно заметил лорд Генри. – Многие не разделяют мое мнение, но я считаю, что он вполне мил. Действительно, он иногда слишком много внимания уделяет своему наряду, но как же он образован. Он действительно современный человек.
– Я не уверен, сможет ли он приехать, Гарри. Возможно, ему придется отправиться в Монте Карло вместе с отцом.
– Эх, ну что за люди, эти родители! Постарайся уговорить его приехать. Кстати, Дориан, ты так рано ушел вчера. Еще одиннадцати не было. Чем ты занимался потом? Неужели отправился прямо домой?
Дориан быстро взглянул на него и нахмурился.
– Нет, Гарри, – наконец ответил он, – я вернулся домой только около трех.
– Ты был в клубе?
– Да, – выпалил Дориан и прикусил губу. – То есть нет, я не то имел в виду. Я не был в клубе. Я просто гулял. Почему ты такой любопытный, Гарри?! Тебе всегда хочется знать, кто чем занимался. Я люблю забывать, чем я занимался. Я пришел домой в половине третьего, если тебя интересует точное время. Я забыл ключ от дома, поэтому дворецкому пришлось впускать меня, можешь спросить у него, если тебе нужно подтверждение моих слов.
Лорд Генри пожал плечами:
– Друг, да зачем это мне? Пойдем лучше в гостиную. Спасибо, мистер Чэпмен, но я не люблю херес. С тобой что-то случилось, Дориан. Расскажи. Ты сегодня сам не свой.
– Не обращай внимания, Гарри. Я просто не в настроении, вот и раздражаюсь. Я обязательно загляну к тебе завтра или послезавтра. Я не пойду в гостиную, передай леди Нарборо мои искренние извинения. Мне надо ехать домой.
– Что ж, хорошо, Дориан. Жду тебя завтра на чай. Герцогиня тоже будет.
– Постараюсь прийти, Гарри, – ответил Дориан, выходя из комнаты.
Приехав домой, он почувствовал, что ужас, который, как ему казалось, удалось усыпить, проснулся с новой силой. Будничные вопросы лорда Генри вывели его из равновесия, а он старался оставаться спокойным. Нужно было уничтожить все опасные вещи. Он вздрогнул. Ему было противно даже думать о том, чтобы касаться их. Но он понимал, что должен это сделать. Заперев дверь библиотеки, он открыл секретный шкаф и достал оттуда чемодан и пальто Бэзила Холлуорда. В камине горел огонь. Он еще подлил в него масла. Комнату наполнила невыносимая вонь горелой кожи. Чтобы уничтожить все доказательства, ему понадобилось три четверти часа. Он плохо чувствовал себя после этого, поэтому зажег ароматические свечи из Алжира и смочил руки и лоб освежающим уксусом.
Вдруг он застыл, его глаза засияли, и он нервно закусил губу. Между окнами стоял флорентийский шкафчик из черного дерева, украшенный слоновой костью. Он смотрел на него как на нечто, что завораживало и одновременно пугало, будто там было что-то, чего он желал и одновременно ненавидел. Его дыхание ускорилось. Его захлестнула безумная жажда. Он закурил, но почти сразу выбросил сигарету. Его веки опустились так низко, что ресницы коснулись щек. Но он все еще не сводил глаз со шкафчика. В конце концов он поднялся с дивана, подошел к шкафчику, открыл его и нажал на тайную пружинку. Из шкафчика медленно выдвинулся треугольный ящик. Его пальцы инстинктивно потянулись к нему и кое-что нашли внутри. Это была лакированная китайская шкатулка, черная с золотой отделкой. По бокам змеился узор в виде изогнутой волны, а шелковые шнуры с круглыми стразами и кистями из сплетенных металлических нитей висели по углам. Он открыл ее. Внутри была зеленая, похожая на воск паста, которая имела тяжелый, резкий запах.
Мгновение он колебался, а на его устах застыла улыбка. Его трясло, хотя в комнате и было жарко. Он посмотрел на часы. Без двадцати двенадцать. Он положил коробочку на место, запер шкафчик и пошел в спальню.
В полночь Дориан Грей тихонько выскользнул из дома, переодетый в простого горожанина. На Бонд-стрит он нашел кэб, запряженный хорошим конем. Он подошел поближе и назвал адрес грубым голосом.
Кучер покачал головой и пробормотал:
– Нет, это для меня слишком далеко.
– Держите соверен, – сказал Дориан, – получите еще один, если будете ехать быстро.
– Хорошо, через час будем на месте, – сказал мужчина и направил свой экипаж в сторону реки.
Глава 16
Пошел холодный дождь, и тусклый свет уличных фонарей стал еще мрачнее. Все забегаловки уже закрывались, и было едва видно, как из их дверей группками выходят мужчины и женщины. Из одних трактиров раздавался жуткий смех, из других – пьяные вопли и ругань. Устроившись в кебе и надвинув на глаза шляпу, Дориан рассеянно смотрел на отвратительное лицо большого города и повторял слова, которые сказал ему лорд Генри в тот день, когда они познакомились: «Исцелять душу с помощью ощущений и исцелять ощущения силой души». Да, именно в этом был секрет. Он делал так раньше и сделает это снова. Есть же специальные места для курильщиков опиума, где за деньги можно купить забвение, ужасные места, в которых можно уничтожить воспоминания о старых грехах, заставив их уступить место новым.
Луна висела низко над землей и была похожа на гигантский желтый череп. Время от времени большие бесформенные облака хоронили ее в своих объятиях. Уличные фонари встречались все реже, а сами улицы становились все более узкими и мрачными. В какой-то момент они даже сбились с пути и пришлось возвращаться целую милю. Лошадь уже устала, и от нее исходил пар. Окна кеба были завешены туманом.
«Исцелять душу с помощью ощущений и исцелять ощущения силой души» – эти слова постоянно звучали в его голове. Без сомнения, его душа смертельно больна. Смогут ли ощущения вылечить ее? Он пролил невинную кровь. Разве есть этому искупление? Ну что же, если этого нельзя искупить, по крайней мере, об этом можно забыть. Он твердо решил забыть, стереть воспоминания об этом, задушить их, как душат змею, которая осмелилась ужалить человека. В конце концов, разве Бэзил имел право так с ним говорить? Кто он такой, чтобы судить других? Он говорил ужасные, невыносимые вещи.
Экипаж ехал с каждой секундой все медленнее. Он открыл окно и поторопил извозчика. Ужасная жажда опиума начинала разъедать его изнутри. У него пересохло в горле, а его изящные руки сжимались в судорогах. Он неистово ударил коня своей палкой. Кучер засмеялся и стегнул лошадь плетью. Дориан неистово захохотал в ответ. Извозчик замолчал.
Казалось, они никогда не приедут, а улицы напоминали черную паутину огромного паука. Их однообразие было невыносимо, а густой туман навевал на Дориана ужас.
Потом они проезжали кирпичные фабрики. Туман здесь был не такой густой, поэтому Дориан мог разглядеть похожие на бутылки высокие печи для обжига, в которых плясали яркие языки пламени. На экипаж залаяла собака, а где-то вдали кричала одинокая чайка. Лошадь попала ногой в яму, отскочила в сторону и перешла на галоп.
Через некоторое время они снова свернули с грунтовой дороги на мостовую. Большинство окон были темными, однако кое-где причудливые тени отражались в тусклом свете ламп. Он наблюдал за ними с интересом. Они двигались, будто гигантские марионетки, но жестикулировали, как живые существа. Он ненавидел их. Его сердце наполнялось гневом. Когда они повернули за угол, какая-то женщина крикнула им что-то сквозь открытую дверь, а двое мужчин бежали за кебом ярдов сто. Кучер ударил их кнутом.
Говорят, страсть заставляет мысли ходить по кругу. С ужасающим упорством повторял Дориан Грей слова об ощущениях и душе, пока не почувствовал, что они полностью отражают его настроение и оправдывают с точки зрения ума страсти, которые овладели бы им и без оправданий. Одна мысль заполонила каждую клетку его мозга. А неудержимое желание жить – самое ужасное из всех человеческих желаний – встревожило каждый фибр его души. Уродство, которое он раньше презирал за то, что оно делает вещи реальными, теперь стало ему дорого по той же причине. Уродство – это все, что есть настоящего в жизни. Грубые ругательства, отвратительные забегаловки, жестокость жизни, низость воров и подонков – все это возбуждало его воображение сильнее, чем изящество искусства и призрачные тени поэзии. Они были нужны ему, чтобы впасть в забвение. Через три дня он освободится от ужасных воспоминаний.
Вдруг кеб остановился при въезде на темную аллею. За крышами и дымоходами обшарпанных домов виднелись корабли. Облачка сизого тумана вокруг них напоминали паруса.
– Где-то здесь? – спросил кучер.
Дориан поднялся на ноги и огляделся.
– Да, здесь, – ответил он.
Легко выскочив из экипажа, Дориан отдал кучеру обещанные деньги и быстро пошел в сторону причала. Кое-где фонари мигали на борту крупных торговых кораблей. Их свет мерцал и расплывался в лужах. Вдали сияли огоньки парохода, на который загружали уголь перед рейсом за границу. Скользкий тротуар напоминал мокрый макинтош.
Он быстро повернул налево, оглядываясь время от времени, чтобы убедиться, что никого нет позади. Через семь-восемь минут он подошел к маленькому домику, который приютился между двумя крупными фабриками. В одном из окон сиял огонек. Он остановился и постучал в дверь условленным способом.
Через секунду в коридоре послышались шаги, и дверь перед ним открылась. Не говоря ни слова, он юркнул мимо тусклой фигуры, которая, в свою очередь, и сама спряталась в тени. Конец коридора был завешен обтрепанной зеленой тканью, она заколыхалась от ветра, ворвавшегося в открытую дверь. Он отодвинул эту завесу и прошел в длинную комнату с низким потолком, которая выглядела как заброшенный танцевальный зал. На стенах висели газовые светильники, их тусклый свет отражался в зеркалах, висевших на стенах. Грязные отражатели, которые висели над фонарями, выглядели как диски света. Пол был покрыт желтыми опилками со следами ботинок и разлитого алкоголя. Несколько малайцев сидели вокруг железной печки и играли в кости, выставляя напоказ свои белоснежные зубы. За столом в углу дремал моряк, склонившись на стол и подложив под голову руки, а у ярко раскрашенной барной стойки, которая занимала всю стену, две исхудавшие женщины смеялись над стариком, который брезгливо смахивал что-то с рукавов своего пальто.
– Он думает, что по нему бегают красные муравьи, – захохотала одна из них, когда Дориан проходил мимо.
Старик посмотрел на нее с ужасом в глазах и жалостливо всхлипнул.
В дальнем конце комнаты была маленькая лестница, она вела в темный зал. Дориан быстро поднялся по ней и сразу же полной грудью вдохнул тяжелый аромат опиума. Когда же он вошел, светловолосый юноша, куривший трубку вблизи одной из ламп, посмотрел на него и нерешительно кивнул.
– И ты здесь, Эдриан? – процедил Дориан.
– Где же мне еще быть? – рассеянно ответил тот. – Никто из старых знакомых теперь и знать меня не хочет.
– Я думал, ты уехал из Англии.
– Дарлингтон ради меня пальцем не пошевелит. Мой брат наконец рассчитался по тому чеку. Джордж тоже не разговаривает со мной. А мне это и не важно, – добавил он, вздохнув. – Зачем какие-то друзья, если есть зелье. Видимо, у меня было слишком много друзей.
Дориан вздрогнул и оглянулся на причудливые фигуры, лежащие тут и там на тряпках в самых причудливых позах. Его завораживали их искривленные конечности, раскрытые рты и затуманенные глаза. Он знал, что это был за рай, в котором они сейчас пребывают, и что это за ад, который несет в себе новые наслаждения. Они были в лучшем положении, чем он. Он был заложником собственных мыслей. Воспоминания разъедали его душу изнутри, подобно ужасной чуме. Время от времени он ловил на себе взгляд Бэзила Холлуорда. Он чувствовал, что ему не стоит здесь оставаться. Присутствие Эдриана Синглтона беспокоило его. Он стремился оказаться в месте, где бы его никто не знал. Он хотел убежать от самого себя.
– Я пойду в другое место, – сказал он после минутной паузы.
– К причалу?
– Да.
– Там наверняка и та сумасшедшая. Сюда ее больше не пускают.
Дориан пожал плечами:
– Мне надоели влюбленные в меня женщины. Женщины, которые меня ненавидят, гораздо интереснее. Да и зелье там получше.
– Точно такое же, как и здесь.
– А мне тамошнее больше по вкусу. Пойдем выпьем чего-то. Меня замучила жажда.
– Я ничего не хочу, – пробормотал юноша.
– Все равно пойдем.
Эдриан Синглтон устало поднялся и пошел за Дорианом в бар. Мулат в рваном тюрбане и потрепанном пальто хитро улыбнулся им и поставил на прилавок бутылку бренди и два стакана. К ним немедленно подсели несколько женщин и попытались с ними заговорить. Дориан демонстративно отвернулся от них и тихонько сказал что-то Эдриану Синглтону.
На лице одной из женщин появилась кривая улыбка.
– Ты глянь, какие мы сегодня гордые! – прошипела она.
– Ради Бога, не говори со мной, – сказал Дориан, топнув ногой. – Чего тебе надо? Денег? Вот, держи и не смей больше разговаривать со мной.
В ее глазах на мгновение блеснули красные огоньки, но сразу же погасли. Она мотнула головой и начала жадно собирать брошенные ей монеты. Ее подруга с завистью следила за ней.
– Это все напрасно, – вздохнул Эдриан Синглтон, – я не хочу возвращаться. Зачем? Мне и здесь неплохо.
– Напиши мне, если тебе что-то понадобится, договорились? – сказал Дориан после короткой паузы.
– Может быть.
– Тогда пока.
– До встречи, – ответил юноша, поднимаясь по лестнице и вытирая рот платком.
Дориан пошел к двери, и на его лице читалась боль. Когда он отодвинул занавес, женщина, которая взяла у него деньги, противно захохотала.
– Что, уже идешь, чертова душа? – воскликнула она резким голосом.
– А чтоб тебе! – рассердился он. – Не смей меня так называть!
Она щелкнула пальцами.
– А как же к вам обращаться? Прекрасный Принц, да? – закричала она ему вслед.
Сонный моряк вскочил на ноги после этих ее слов и начал безумно оглядываться вокруг. Он услышал звук закрывающейся двери и помчался вдогонку.
Дориан Грей быстро шел вдоль пристани под мерзким дождем. Встреча с Эдрианом Синглтоном странным образом тронула его. Ему стало интересно, действительно ли вина за разрушенную жизнь юноши лежит на нем, как в этом его обвинил Бэзил Холлуорд. Он закусил губу, а в его глазах на мгновение появилась грусть. В конце концов, разве это его касается? Жизнь слишком коротка, чтобы брать на себя ответственность за чужие ошибки. Каждый живет своей жизнью и самостоятельно платит цену за нее. Жаль, правда, что иногда приходится всю жизнь платить за единственную ошибку. Сколько долгов не отдавай судьбе, ей никогда не будет достаточно.
Психологи говорят, что есть такие моменты, когда жажда греха (или того, что мы называем грехом) настолько овладевает человеком, что он поддается ужасным порывам. В такие моменты мужчины и женщины теряют свободу воли. Они машинально движутся навстречу ужасному финалу. Выбор уже сделан за них, а совесть если не умирает, то лишь добавляет очарования этому бунту плоти. Теологи не устают напоминать нам, что самые страшные грехи случаются из-за непослушания. Величественный ангел, предтеча зла, был изгнан с небес именно за непослушание.
Равнодушный ко всему, сосредоточенный на мыслях о зле и собственной душе, жаждущей непослушания, Дориан торопливо вошел в темный крытый проход, через который всегда срезал дорогу к грязной забегаловке, куда он сейчас направлялся. Вдруг он почувствовал, как его схватили сзади, и прежде чем он успел хоть как-то среагировать, оказался прижатым к стене, а на горло ему легла грубая рука.
Он отчаянно боролся за свою жизнь и бешеными усилиями разорвал крепкую хватку на собственной шее. Через мгновение он услышал, как щелкнул револьвер, и увидел его дуло, нацеленное ему прямо в голову. Револьвер держал невысокий крепкого телосложения мужчина.
– Что вам надо? – выдохнул он.
– Не двигайся, – сказал мужчина. – Если дернешься – застрелю.
– Вы с ума сошли. Что я вам сделал?
– Ты разрушил жизнь Сибилы Вэйн, – прозвучало в ответ, – а Сибила Вэйн была моей сестрой. Она покончила с собой. Я знаю. Ее смерть на твоей совести. Я поклялся, что отомщу. Что убью тебя. Я искал тебя все эти годы. У меня не было ни одной зацепки, где тебя искать, ни следа. Оба из тех, кто мог бы описать мне тебя, уже мертвы. Я ничего о тебе не знал, кроме имени, которым она тебя называла. И вот это имя я случайно услышал сегодня ночью. Молись Господу, ведь сейчас ты сдохнешь.
Дориан Грей едва не упал в обморок от страха.
– Я никогда не знал эту девушку, – сказал он запинаясь, – никогда даже не слышал о ней. Вы сумасшедший.
– Тебе лучше покаяться. Ведь не будь я Джеймс Вэйн, если ты не сдохнешь здесь и сейчас.
Какое-то ужасное мгновение Дориан не знал, что ему сказать или сделать.
– На колени! – рявкнул мужчина с револьвером. – Даю тебе минуту, чтобы помолиться, не больше. Я сегодня отправляюсь в плавание в Индию, но сначала должен покончить с тобой. Одна минута – и все.
Дориан прижал руки к бокам. Оцепенев от ужаса, он не знал, что делать. И вдруг перед ним засиял огонек надежды.
– Стойте! – закричал он. – Сколько времени прошло с тех пор, как умерла ваша сестра?
– Восемнадцать лет, – сказал мужчина. – Зачем ты меня спрашиваешь? При чем тут годы?
– Восемнадцать лет! – воскликнул Дориан Грей с триумфом в голосе. – Восемнадцать лет! Выведите меня на свет и посмотрите на меня!
Мгновение Джеймс Вэйн колебался, не понимая, что бы это могло значить. В конце концов он схватил Дориана за шиворот и вывел из прохода.
Тусклого и мерцающего света фонарей было достаточно, чтобы указать ему на ужасную ошибку, которую он, как ему тогда показалось, едва не совершил. Ведь лицо человека, которого он едва не убил, сияло чистотой юности. На вид ему было не больше двадцати лет, именно в этом возрасте он в последний раз видел свою сестру.
Было очевидно, что перед ним не тот, кто разрушил ее жизнь.
Он отпустил Дориана и отшатнулся:
– Господи! Господи! Я ведь чуть не убил вас!
Дориан Грей тяжело вздохнул.
– Вы едва не совершили ужасный грех, – сказал он, строго глядя на растерянного мужчину. – Пусть это научит вас не брать на себя ответственность вершить правосудие.
– Простите, сэр, – оправдывался Джеймс Вэйн. – Я впал в заблуждение. Несколько слов в той проклятой дыре навели меня на ложный след.
– Идите лучше домой и не размахивайте револьвером, а то попадете впросак, – сказал Дориан, разворачиваясь и медленно идя вниз по улице.
Джеймс Вэйн был не в состоянии пошевелиться от ужаса. Он дрожал с головы до пят. Через некоторое время темная тень, скользившая вдоль стены, подошла к нему и положила руку ему на плечо. Он вздрогнул и обернулся. Это была одна из женщин, которые пили в баре.
– Почему же ты не убил его? – прошипела она, приблизившись к нему вплотную. – Я поняла, что ты пошел за ним, как только ты выскочил из бара. Дурак! Надо было убить его. У него куча денег, а сам он – сущий дьявол.
– Он не тот, кого я ищу, – ответил Джеймс, – а чужие деньги мне не нужны. Мне нужна жизнь одного человека. Тому мужчине должно быть уже под сорок. А этот совсем еще мальчик. Слава Богу, что я не пролил невинную кровь.
Женщина горько засмеялась.
– Совсем еще мальчик! – прошипела она. – Да уж скоро восемнадцать лет, как Прекрасный Принц сделал из меня то, что стоит перед тобой.
– Врешь! – воскликнул Джеймс Вэйн.
Она подняла руки к небесам.
– Клянусь всем святым, что говорю тебе правду.
– Всем святым?
– Разрази меня гром, если не так. Он худший из всех, кто здесь бывает. Говорят, он продал свою душу дьяволу за красивое личико. Уже прошло почти восемнадцать лет, как я впервые его встретила. Он почти не изменился с тех пор, не то что я, – добавила она, противно хихикнув.
– Ты клянешься.
– Клянусь, – повторила она, – только не говори об этом ему. Я его боюсь, – вдруг всхлипнула женщина. – И дай мне хоть пенни, чтобы было чем заплатить за ночлег.
Он вырвался от нее, громко выругался и побежал на угол улицы, но Дориана Грея не было уже и в помине. Когда он оглянулся, женщина также исчезла.
Глава 17
Неделю спустя Дориан сидел в оранжерее поместья Селби-Роял и разговаривал с милой герцогиней Монмаут, которая приехала к нему вместе со своим худощавым шестидесятилетним мужем. Как раз было время пить чай, поэтому мягкий свет большой лампы сверкал на фарфоре и серебре изысканного сервиза. За столом степенно хозяйничала герцогиня. Ее изящные ручки кружили между чашками, а на полных красных губах застыла улыбка – Дориан шептал ей что-то веселое. Лорд Генри полулежал в обитом шелком кресле и наблюдал за ними. Леди Нарборо сидела на диване персикового цвета и делала вид, что слушает герцога, который рассказывал о редком жуке, которого ему удалось добавить в свою коллекцию. Трое юношей в смокингах угощали дам пирожными. На данный момент в доме было двенадцать гостей, и еще несколько должны были прибыть на следующий день.
– О чем вы там говорите? – спросил лорд Генри, потянувшись к столу, чтобы поставить чашку. – Скажите, Глэдис, Дориан уже рассказывал вам о моем намерении все окрестить по-новому? Это такая замечательная идея.
– Но я не хочу, чтобы меня заново окрестили, Гарри, – ответила герцогиня, осеняя его взглядом своих волшебных глаз. – Мне вполне нравится мое собственное имя, как и мистеру Грею – его. По крайней мере, я так думаю.
– Дорогая Глэдис, я ни за что на свете не стал бы менять ваши совершенные имена. Собственно, говоря, я думал о цветах. Я вчера срезал орхидею для бутоньерки. Она была прекрасна, как семь смертных грехов. Мне хватило глупости, чтобы спросить садовника, как она называется. Он ответил, что это замечательный сорт «Робинзониана» или какой-то ужас вроде этого. К большому сожалению, мы потеряли способность давать вещам прекрасные имена. Имена – это главное. Я никогда не выступаю против поступков. Я выступаю против слов. Именно поэтому мне противен грубый реализм в литературе. Мужчину, который называет лопату лопатой, нужно заставить этой лопатой работать. Только на это он и способен.
– А как же нам тогда называть вас, Гарри? – спросила она.
– Его будут звать Принц Парадокс, – сказал Дориан.
– Да, это действительно о нем! – воскликнула герцогиня.
– Ни в коем случае, – засмеялся лорд Генри, удобнее устраиваясь в кресле. – Как только к кому-то пристает ярлык, от него уже нет спасения. Я отрекаюсь от титула.
– Король не имеет права отречься от титула, – сказали красивые губки.
– Так вы хотите, чтобы я стал защитником престола?
– Именно так.
– Я открываю людям истины будущего.
– Я предпочитаю недостатки настоящего.
– Вы оставляете меня без оружия, – сказал лорд Генри, которому уже передалось веселье герцогини.
– Я отобрала щит, Гарри, но копье все еще с вами.
– Я никогда не берусь за оружие в борьбе с красотой, – сказал он, взмахнув рукой.
– Зря, Гарри, поверьте. Вы слишком высоко цените красоту.
– Как вы можете такое обо мне говорить? Я действительно считаю, что лучше быть красивым, чем хорошим. Но в то же время вы не найдете человека, более охотно признающего, что лучше быть хорошим, чем безобразным.
– Так получается, что уродство – один из смертных грехов? – поинтересовалась герцогиня. – Вы только что сравнивали с ними орхидею.
– Уродство – это одна из семи смертных добродетелей, Глэдис. И вам, как настоящей тори, не стоит пренебрегать ими. Пиво, Библия и семь смертных добродетелей сделали Англию такой, какая она есть.
– Вы так не любите свою страну? – поинтересовалась герцогиня.
– Я в ней живу.
– Чтобы можно было еще яростнее критиковать ее?
– А вы хотели бы, чтобы я согласился с европейцами? – ответил он.
– А что говорят европейцы?
– Что Тартюф переехал в Англию и начал здесь торговать.
– Это ваше выражение, Гарри?
– Дарю его вам.
– Я не смогу его использовать. Слишком уж оно правдиво.
– Не стоит бояться. Наши соотечественники никогда не узнают себя в чужих словах.
– Они благоразумные.
– Скорее, хитрые. Они компенсируют собственную тупость богатством, а собственные грехи – лицемерием.
– Однако нам принадлежит много выдающихся достижений прошлого.
– Нам их навязали, Глэдис.
– А мы с честью несли это бремя.
– Пока не пришли к фондовой бирже.
Она покачала головой.
– Я верю в нашу нацию.
– Она выживает только благодаря упорству и настойчивости.
– Благодаря им же она и развивается.
– Меня больше привлекает упадок.
– А как же искусство? – спросила она.
– Оно представляет собой болезнь.
– А любовь?
– Иллюзия.
– Религия?
– Модный заменитель веры.
– Вы ужасный скептик.
– Ни в коем случае! Скептицизм дает дорогу вере.
– Кто же вы тогда?
– Определить – значит ограничить.
– Дайте мне хоть какую-то нить.
– Нити обрываются, и вы рискуете заблудиться в лабиринте.
– Вы запутали меня. Давайте сменим тему разговора.
– Например, поговорим о любезном хозяине этого поместья. Много лет назад его назвали Прекрасным Принцем.
– Не напоминай мне об этом! – воскликнул Дориан Грей.
– Хозяин сегодня просто невыносим, – сказала герцогиня, краснея. – Мне кажется, он считает, что Монмаут женился на мне из чисто научного интереса, видя во мне красивый вид бабочки.
– Что ж, надеюсь, он не тычет в вас иглы, – пошутил Дориан.
– О нет, мистер Грей, этим занимается моя служанка, когда сердится на меня.
– А за что же она сердится на вас, герцогиня?
– За самые обыденные вещи, мистер Грей, поверьте. Чаще всего это случается, когда я захожу в комнату без десяти девять и говорю, что должна быть одета в половине девятого.
– Как невежливо с ее стороны! Следовало бы выгнать ее за такое.
– Не могу, мистер Грей. Она придумывает мне шляпки. Помните ту, что была на мне на приеме у леди Хилстон? Вижу, что нет, но вы достаточно вежливы, чтобы сделать вид, будто помните. Так вот, она сделала ее просто из ничего. Все хорошие шляпки сделаны из ничего.
– Как и хорошие репутации, Глэдис, – вмешался в разговор лорд Генри. – Стоит только сделать что-то стоящее, как у тебя сразу же появляются враги. Чтобы быть популярным, нужно быть посредственностью.
– Но с женщинами это правило не срабатывает, – отметила герцогиня, покачав головой. – А женщины управляют миром. Поверьте, мы терпеть не можем посредственных мужчин. Мы, женщины, как однажды кто-то сказал, влюбляемся ушами, а мужчины влюбляются глазами, если вы вообще когда-то влюбляетесь.
– По-моему, мы только это и делаем, – сказал Дориан.
– Значит, вы никого не любите по-настоящему, – ответила герцогиня с притворным сожалением в голосе.
– Дорогая Глэдис! – воскликнул лорд Генри. – Как вы можете говорить так? Любовь живет благодаря повторам, и только эти повторы превращают простую жажду в искусство. К тому же каждая влюбленность – это единственная влюбленность в жизни. Меняется только объект, но страсть все та же. Она только усиливается со временем. Мы можем пережить только один выдающийся момент в жизни, а тайна жизни заключается в том, чтобы переживать его как можно чаще.
– Даже если это причиняет боль, Гарри? – спросила герцогиня после короткой паузы.
– Особенно если это причиняет боль, – ответил лорд Генри.
Герцогиня повернулась и посмотрела на Дориана Грея. В ее глазах читался интерес.
– Что вы думаете по этому поводу, мистер Грей? – спросила она.
Мгновение Дориан колебался. Затем он откинул голову назад и засмеялся.
– Я всегда соглашаюсь с Гарри, герцогиня.
– Даже когда он не прав?
– Гарри никогда не ошибается, герцогиня.
– Его взгляды дарят вам счастье?
– Я никогда не искал счастья. Кому оно может быть нужно? Я искал удовольствий.
– И находили, мистер Грей?
– Часто. Даже слишком часто.
– А я ищу покоя, – вздохнула герцогиня. – И если я не пойду сейчас переодеваться, то сегодня его точно не найду.
– Позвольте мне выбрать для вас орхидеи, герцогиня, – сказал Дориан, вскочив на ноги и направившись в оранжерею.
– Вы открыто флиртует с ним, Глэдис, – обратился к своей кузине лорд Генри. – Будьте осторожны! Он слишком привлекателен.
– А иначе не было бы никакого смысла бороться.
– Значит грек против грека?
– Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину.
– И потерпели поражение.
– Есть вещи, страшнее плена, – ответила герцогиня.
– Вы скачете, отпустив вожжи.
– Именно в этом смысл жизни.
– Я запишу это в свой дневник.
– Что?
– Что ребенок, когда обожжется, снова тянется к огню.
– Я никогда и близко не была у огня. Он не коснулся моих крылышек.
– Все равно они вам служат для чего угодно, но только не для полета.
– Смелость перешла от мужчин к женщинам. Это для нас новый вызов в жизни.
– У вас есть соперница.
– Кто?
– Леди Нарборо, – с улыбкой прошептал он. – Она просто в восторге от него.
– Не пугайте меня так. Интерес к старине губителен для нас, романтиков.
– Ха! Романтиков! Да ведь женщины пользуются всеми возможными научными средствами.
– Нас этому учили мужчины.
– Но они не смогли изучить вас.
– А как бы вы описали наш пол?
– Как сфинкса без загадок.
Она с улыбкой посмотрела на него.
– Что-то долго нет мистера Грея, – сказала она. – Пойдемте поможем ему. Я еще даже не сказала ему, какого цвета платье надену.
– Вам придется надеть платье под цвет его орхидей, Глэдис.
– Это стало бы преждевременной капитуляцией.
– Романтика в искусстве возникает в момент кульминации.
– Я должна иметь пути для отступления.
– Как парфяне?
– Парфяне убежали в пустыню. У меня же нет такой возможности.
– У женщин не всегда есть выбор, – ответил лорд Генри, но не успел он закончить предложение, как в дальнем конце оранжереи раздался сдавленный стон, и они сразу же услышали, как упало что-то тяжелое.
Все вскочили на ноги. Герцогиня оцепенела от ужаса. А очень испуганный лорд Генри поспешил в дальний конец оранжереи, где нашел Дориана Грея, который лежал лицом вниз без сознания.
Его сразу же перенесли в гостиную и положили на диван. Через несколько минут он пришел в себя и растерянно оглянулся вокруг.
– Что произошло? – спросил он. – А! Вспомнил! Гарри? Я здесь в безопасности?
Он задрожал.
– Дорогой Дориан, – ответил лорд Генри, – ты просто потерял сознание, ничего страшного. Ты, наверное, слишком истощен. Лучше тебе не выходить на обед. Я обо всем позабочусь.
– Нет, я пойду, – сказал он, поднимаясь на ноги. – Мне нельзя оставаться одному.
Он пошел в свою комнату и переоделся. За обедом он вел себя отчаянно весело, но время от времени его пронизывал ужас, когда он вспоминал смертельно бледное лицо Джеймса Вэйна, которое увидел в окне оранжереи.
Глава 18
На следующий день Дориан не выходил из дома. Он даже почти не выходил из своей комнаты, пребывая в оцепенении от страха перед смертью, хотя и жизнь была ему безразлична. Им овладели мысли о том, что на него охотятся, за ним крадутся, ожидая момента, чтобы убить. Он вздрагивал, даже когда слышал, как ветерок шуршит занавесками на окнах. Опавшие листья, которые ветер прижимал к стеклам, напоминали ему о собственных неудовлетворенных амбициях и горьких сожалениях. Когда он закрывал глаза, то вновь и вновь видел перед собой лицо моряка, и сердце его сжималось от страха.
Хотя, возможно, это все лишь плод его воображения, которое решило увидеть месть в темноте и показать ему ужас возможной казни. Реальная жизнь неподвластна логике, в отличие от воображения. Именно воображение заставляет раскаяние сопровождать грехи. Именно воображение добавляет преступлениям чудовищности. В реальной жизни злые люди никогда не получают заслуженной кары, а хорошие – вознаграждения. Сильные достигают успеха, а слабых ждут неудачи. Вот и все. Кроме того, разве могло случиться так, что никто из слуг не заметил, что вокруг дома бродит чужак. Если бы на клумбах были хоть какие-то следы, об этом сразу же сообщили бы садовники. Именно так, это все лишь плод его воображения. Брат Сибилы Вэйн не возвращался, чтобы убить его. Он отправился в дальнее плавание, чтобы сгинуть где-то посреди моря. К тому же моряк не знал, не мог знать, кто он такой. Маска молодости спасла его.
Однако, даже если это была лишь иллюзия, какой же ужасной была сама мысль о том, что сознание способно создавать ужасные фантомы, придавать им видимые очертания и заставлять их проходить перед глазами. Во что превратилась бы его жизнь, если бы тени его преступлений преследовали его день и ночь, смеялись бы над ним из своего укрытия, нашептывали разные ужасы ему на ухо, пока он сидел за обедом, или заставляли его просыпаться среди ночи от невыносимых кошмаров. Когда мысль об этом заполнила его сознание, он весь побледнел, и ему даже показалось, что в комнате стало прохладнее. Ах! Он убил собственного друга в безумном порыве! Какой же невыносимой была сама только мысль об этом! Он вновь и вновь видел перед собой сцену убийства. Каждая отвратительная деталь теперь казалась ему еще более ужасной. Тень греха, ужасная и красная, как кровь, приближалась к нему из темной пещеры памяти.
Когда лорд Генри заглянул к нему в шесть, то застал Дориана в слезах, будто его сердце разбили вдребезги.
Он не выходил на улицу целых три дня. Зимнее утро со своим прохладным, насыщенным ароматом сосен воздухом, казалось, снова пробудило в нем радость и жажду жизни. И это изменение вызвала не только сила природы. Его душа восстала против чрезмерных переживаний, которые могли отравить ее, лишив покоя. Именно так всегда случается с утонченными натурами. Они должны укрощать или забывать слишком сильные переживания. Такие переживания или убивают их, или умирают сами. Тусклые сожаления и тусклые чувства длятся годами. Сильные же сожаления и влюбленности обречены из-за своей избыточности. Кроме того, он уже убедил себя, что стал жертвой собственных ужасающих иллюзий и теперь воспринимал свои страхи с сожалением и в значительной степени с презрением.
После завтрака он час погулял с герцогиней в саду, а затем отправился в другую часть парка, чтобы присоединиться к охоте. От мороза трава была будто присыпана солью. Небо напоминало перевернутую чашу голубого металла. Тоненькая полоска льда проводила границу спокойного, заросшего камышом озера.
На краю соснового леса он заметил сэра Джеффри Клустона, брата герцогини, который как раз вынимал пустые гильзы из своего ружья. Дориан выскочил из своего экипажа, приказал извозчику возвращаться домой и отправился навстречу своему гостю сквозь густые, но невысокие кусты.
– Ну как охота, Джеффри? – спросил он.
– Да не особо, Дориан. Пожалуй, большинство птиц уже улетели. Надеюсь, после обеда, когда мы переберемся на другое место, нам повезет больше.
Дориан пошел рядом с ним. Чистый, прозрачный воздух, золотистые и красные блики солнца, хрипловатые крики загонщиков, порой разносившиеся по лесу, и резкие выстрелы ружей – все это захватывало его, дарило ему ощущение счастья и свободы. Он находился в плену собственной беспечной радости.
Вдруг заяц с черными пятнышками на кончиках ушей выскочил из-за бугорка ярдах в двадцати от них. Сэр Джеффри сразу же приложил ружье к плечу, но было в грациозных прыжках животного нечто такое, что очаровало Дориана, и он воскликнул:
– Не стреляйте, Джеффри! Пусть живет.
– Не говорите глупостей, Дориан! – ответил его спутник и выстрелил, как только заяц юркнул в кусты.
Сразу же раздались два крика. Ужасный крик раненого зайца и еще более ужасный предсмертный крик мужчины.
– Боже милостивый! Я попал в загонщика! – воскликнул сэр Джеффри. – Каким же дураком надо быть, чтобы полезть под пули! Прекратите стрелять! – изо всех сил закричал он. – Здесь человек ранен.
Сразу же прибежал старший егерь с палкой в руках.
– Где, сэр? Где он? – спросил старший егерь.
В то же время во всем лесу утихли выстрелы.
– Вот, – сердито ответил сэр Джеффри, спеша в кусты. – Какого черта вы не смотрите за своими людьми?! Всю охоту мне испортили.
Дориан наблюдал за тем, как они нырнули в кустарник, продираясь сквозь ветви. Через минуту они снова показались, таща за собой тело. Он с ужасом отвернулся. Ему казалось, что несчастья неустанно преследуют его. Он услышал вопрос сэра Джеффри, умер ли загонщик, и утвердительный ответ егеря. Лес сразу же ожил и закишел людьми. Послышался топот множества ног и гомон голосов. Над их головами пролетел большой фазан с красной грудью.
Через несколько секунд, которые для расстроенного трагедией Дориана показались бесконечными часами, он почувствовал руку на своем плече. Дориан вздрогнул и огляделся.
– Дориан, – сказал лорд Генри, – на твоем месте я бы объявил, что на сегодня достаточно охотиться. Будет не совсем уместно продолжать стрелять.
– Лучше бы люди навсегда прекратили охотиться, Гарри, – ответил он с горечью в голосе. – Это ужасное и жестокое развлечение. Загонщик?.. – Он не смог договорить.
– Боюсь, что так, – отозвался лорд Генри. – Ему в грудь попал целый заряд дроби. Он, скорее всего, умер сразу. Пойдем, нам стоит вернуться к дому.
Они молча прошли ярдов пятьдесят, когда Дориан наконец посмотрел на лорда Генри, глубоко вздохнул и сказал:
– Это дурной знак, Гарри, очень дурной знак.
– Что? – спросил лорд Генри. – А! Ты об этом случае. Но, друг, здесь уже ничем не поможешь. Тот человек сам виноват. Зачем было лезть на линию огня? К тому же нас это не касается. Конечно, для Джеффри это неприятность. Негоже дырявить загонщиков. Люди могут подумать, что он не умеет стрелять. А это не так – Джеффри прекрасно стреляет. Но теперь уже нет смысла говорить об этом.
Дориан покачал головой.
– Это дурной знак, Гарри. Я чувствую, что с кем-то из нас вот-вот случится что-то ужасное. Скорее всего, со мной, – добавил он, закрывая глаза рукой, словно пытаясь укрыться от боли.
Лорд Генри засмеялся в ответ.
– Единственная по-настоящему ужасная вещь в нашей жизни, Дориан, – это скука. Это единственный грех, который невозможно простить. Но нам она не грозит, по крайней мере, пока публика будет обсуждать этот несчастный случай за обедом. Надо будет сказать им, что это запретная тема. А относительно знаков, которые дает нам судьба, то их не существует. Судьба не посылает нам вестников. Она или слишком мудра, или слишком жестока для этого. К тому же, ну что может с тобой случиться, Дориан? У тебя есть все, чего только можно желать. Любой сочтет за счастье оказаться на твоем месте.
– А я сочту за счастье поменяться местами с любым, Гарри. Не надо так смеяться. Я говорю тебе правду. Бедный крестьянин, который только что умер, находится в гораздо лучшем положении, чем я. Я не боюсь смерти. Меня ужасает только ее приближение. Кажется, будто ее гигантские крылья уже навевают на меня холод. Господи! Разве ты не видишь там за деревьями человека, который ищет меня взглядом, ожидает меня?
Лорд Генри посмотрел в ту сторону, куда дрожащей рукой указал Дориан.
– Действительно, – сказал он с улыбкой на лице. – Я вижу, что там тебя ждет садовник. Думаю, он хочет спросить, какие цветы ставить на стол сегодня вечером. Друг, ты слишком нервный! Посети моего врача, как только мы вернемся в город.
Увидев, как к ним приближается садовник, Дориан облегченно вздохнул. Садовник снял шляпу, неуверенно посмотрел на лорда Генри, достал из кармана письмо и отдал его своему хозяину.
– Герцогиня приказала мне дождаться ответа, – сказал он.
– Скажите герцогине, что я сейчас приду, – сухо ответил Дориан и спрятал письмо в карман.
Садовник развернулся и быстро направился к дому.
– Как же женщины любят рискованные поступки, – засмеялся лорд Генри. – Это одно из тех качеств, за которые я их больше всего люблю. Женщина готова флиртовать с кем угодно, пока окружающие наблюдают за этим.
– А ты так же любишь рискованные слова, Гарри! Но в данном случае ты не прав. Герцогиня нравится мне, но я в нее не влюблен.
– А вот герцогиня очень влюблена в тебя, хотя нравишься ты ей гораздо меньше. Из вас выйдет отличная пара.
– Ты пытаешься создать скандал, а для этого нет никаких оснований.
– Основанием для любого скандала является вера в отсутствие морали у людей, – заметил лорд Генри, закуривая.
– Ты готов пожертвовать кем угодно ради удачной эпиграммы, Гарри.
– Люди сами восходят на жертвенный алтарь, – прозвучало в ответ.
– Если бы я мог любить! – вдруг пафосно воскликнул Дориан Грей. – Но кажется, во мне уже умерли все страсти и уснули все желания. Я слишком сосредоточен на себе. Собственная личность стала для меня обузой. Я хочу убежать, забыть все. Мне не стоило сюда приезжать. Думаю, нужно написать Харви, чтобы готовил яхту. На яхте можно чувствовать себя в безопасности.
– В безопасности от чего, Дориан? Я же вижу, что ты в какой-то беде. Почему ты не хочешь рассказать мне, в чем дело? Ты же знаешь, я охотно помогу тебе.
– Я не могу рассказать тебе, Гарри, – грустно ответил Дориан. – К тому же это все только мои выдумки. Этот несчастный случай очень расстроил меня. У меня ужасное предчувствие, что нечто подобное может случиться со мной.
– Ну что за глупости!
– Надеюсь, ты прав. Но я не могу ничего с этим поделать. А вот и герцогиня, похожая на Артемиду. Как видите, герцогиня, мы вернулись.
– Я уже слышала об этом несчастье, мистер Грей, – ответила она. – Бедный Джеффри очень огорчен. Кажется, вы просили его не стрелять в зайца. Надо же, как все вышло.
– Действительно, интересно получилось. Даже не знаю, почему я это сказал. Возможно, это была просто прихоть. Слишком уж прекрасное было то создание. Но зря они рассказали вам про это. Ужасная история!
– Она меня уже раздражает, – вмешался лорд Генри. – Эта история не имеет никакого значения с точки зрения психологии. Вот если бы Джеффри сделал это намеренно – это было бы интересно! Я хотел бы познакомиться с настоящим убийцей.
– Гарри, ваши слова отвратительны! – воскликнула герцогиня. – Разве не так, мистер Грей? Гарри, мистеру Грею снова плохо. Он сейчас потеряет сознание.
Дориан с трудом поднялся и улыбнулся.
– Ничего страшного, – успокоил он герцогиню, – просто в последнее время меня подводят нервы. Вот и все. Пожалуй, я слишком много ходил пешком сегодня утром. Я не слышал, что сказал Гарри. Что-то очень плохое? Расскажете мне как-нибудь в другой раз. Думаю, мне стоит пойти полежать. Вы же простите меня, правда?
Они пришли к большой лестнице, которая вела из оранжереи на террасу.
Когда дверь за Дорианом закрылась, лорд Генри обернулся и внимательно посмотрел на герцогиню.
– Вы сильно влюблены в него? – спросил он.
Некоторое время она не отвечала, а только молча смотрела вдаль.
– Если бы я знала, – в конце концов ответила герцогиня.
Он покачал головой:
– Знание было бы губительным. Людей завораживает неопределенность. Туман добавляет красоты вещам.
– Но можно сбиться с пути.
– Все дороги ведут к одному.
– К чему же?
– Разочарованию.
– У меня с него все только начиналось, – вздохнула она.
– Оно пришло к вам в короне герцога.
– Я устала от листьев земляники.
– Они уже стали частью вас.
– Только на публике.
– Вам их будет недоставать.
– Я не собираюсь терять ни одного.
– У Монмаута есть уши.
– В его возрасте они уже ничего не слышат.
– Он никогда не ревновал вас?
– Если бы…
Он оглянулся вокруг, будто в поисках чего-то.
– Что вы ищете? – спросила она.
– Наконечник вашей рапиры, – ответил он, – кажется, вы его потеряли.
– Однако маска все еще на мне, – засмеялась она.
– Она подчеркивает красоту ваших глаз, – прозвучало в ответ.
Герцогиня снова засмеялась. Ее зубы напоминали белоснежные семена ярко-красного плода.
Наверху же, в своей спальне, лежал на диване Дориан Грей, и тело его сотрясалось от ужаса. Бремя жизни вдруг стало слишком тяжелым для него. Ему казалось, что ужасная смерть несчастного загонщика, которого застрелили в кустарнике, как дикого зверя, предвещала его собственную гибель.
Услышав слова лорда Генри, сказанные с шутливым цинизмом, Дориан едва не потерял сознание.
В пять часов он позвал слугу и приказал упаковать его вещи и подать карету в половине девятого, чтобы он мог отправиться в Лондон ночным экспрессом. Он решил больше не ночевать в Селби-Роял, этом проклятом месте, где смерть бродит и среди белого дня, а трава в лесу была полита кровью.
Затем он написал лорду Генри записку, в которой объяснял, что едет в Лондон к врачу и просил развлечь гостей во время его отсутствия. Когда он вкладывал письмо в конверт, в комнату постучали, и слуга сообщил, что старший егерь хочет поговорить с Дорианом. Он нахмурился и закусил губу.
– Пусть войдет, – наконец сказал он.
Как только егерь вошел, Дориан достал с полки свою чековую книжку и положил ее перед собой.
– Я так понимаю, вы пришли, чтобы поговорить о несчастном случае, который произошел сегодня утром, Сорнтон? – спросил он, беря в руки ручку.
– Да, сэр.
– Бедняга был женат? У него есть семья? – спросил Дориан с уставшим видом. – Если так, то я не оставлю их на произвол судьбы, я отправлю им сумму, которую вы сочтете целесообразной.
– Мы не знаем, кто он такой, сэр. Именно поэтому я решился побеспокоить вас.
– Не знаете, кто он такой? – рассеянно спросил Дориан. – Что вы имеете в виду? Разве он не из ваших людей?
– Нет, сэр. Я его никогда не видел раньше. Он похож на моряка.
Ручка выпала у Дориана из рук, и он почувствовал, что его сердце замерло в груди.
– Моряк? Вы сказали, моряк?
– Да, сэр. Татуировки на обеих руках и все такое.
– У него что-то нашли? Что-то, что могло бы рассказать, кто он такой?
– Немножко денег и шестизарядный револьвер. Никаких документов. Мужчина вроде приличный, но простой.
Дориан сразу поднялся. Перед ним мелькнула надежда, и он схватился за нее обеими руками.
– Где тело? – воскликнул он. – Пойдемте скорей! Я должен увидеть его.
– Оно в пустой конюшне на ферме, сэр. Люди не хотят держать труп в доме. Говорят, мертвецы приносят несчастья.
– На ферме! Немедленно отправляйтесь туда и ждите меня. И скажите конюху, чтобы привел мне лошадь.
Минут через пятнадцать Дориан уже мчался галопом в направлении конюшни. Деревья стеной проносились мимо, а на пути раз за разом встречались невероятные тени. Однажды кобыла свернула в сторону белых ворот и чуть не сбросила его с седла. Он ударил ее по шее кнутом, и она помчалась вперед, будто стрела. Из-под ее копыт летели камни.
Наконец он прискакал на ферму. По двору ходили двое мужчин. Он соскочил с лошади и отдал вожжи одному из них. В отдаленной конюшне мерцал свет. Что-то ему подсказывало, что труп должен лежать именно там. Он быстро пошел туда и уже положил руку на дверь.
На мгновение он остановился, чувствуя, что стоит на пороге открытия, которое может спасти или же разрушить его жизнь. Затем он резко открыл дверь и вошел.
В дальнем углу на куче мешков лежал труп мужчины, одетый в грубую рубашку и синие брюки. Его лицо было накрыто платком, а позади него догорала свеча.
Дориан Грей вздрогнул. Он понял, что не сможет собственноручно убрать платок, поэтому позвал на помощь одного из работников фермы.
– Уберите платок с лица. Я хочу его увидеть, – велел он, опираясь на косяк двери.
Когда работник фермы открыл лицо трупа, Дориан сделал шаг вперед. Радостный возглас сорвался с его губ. Перед ним лежало тело Джеймса Вэйна.
Он еще несколько минут смотрел на мертвое тело. Когда же он возвращался в дом, то в его глазах стояли слезы, ведь теперь он был в безопасности.
Глава 19
– И зачем ты говоришь, что решил стать лучше? – сказал лорд Генри, погружая свои бледные пальцы в медный сосуд с розовой водой. – Ты и так совершенен. Не надо меняться.
Дориан Грей покачал головой:
– Нет, Гарри. Я совершил много ужасных поступков в своей жизни. Но больше этого не случится. Вчера я начал делать добро.
– Где же ты был вчера?
– В деревне, Гарри. Я остановился в маленькой таверне.
– Дорогой друг, – улыбнулся лорд Генри, – в деревне любой может быть праведником. Там же нет никаких соблазнов. Именно поэтому люди, которые живут в деревне, полностью лишены цивилизованности. Цивилизованным быть непросто. Этого состояния можно достичь только двумя способами. Нужно быть или культурным, или испорченным. Крестьяне не имеют ни одной из этих возможностей, поэтому они до сих пор добродетельны.
– Культура и испорченность, – повторил за ним Дориан. – Я кое-что знаю и о том, и о другом. Мне очень жаль, Гарри, что их невозможно совместить. Ведь у меня теперь новый идеал в жизни, Гарри. Я стану другим человеком. Думаю, я уже немного изменился.
– Ты так и не рассказал мне о своем хорошем поступке. Или ты говорил, что их было уже несколько? – спросил лорд Генри, положив себе на тарелку пирамидку из клубники и посыпая ее сахарной пудрой.
– Я расскажу тебе, Гарри. Эта история относится к тем, которые я могу рассказать только тебе. Я кое-кого пощадил. Это звучит самовлюбленно, но ты понимаешь, о чем я. Она прекрасна и удивительно похожа на Сибилу Вэйн. Наверное, именно поэтому я обратил на нее внимание. Ты же помнишь Сибилу Вэйн, правда? Кажется, это было так давно! Так вот, Гетти, конечно, не нашего круга девушка. Она простая крестьянка. Но я искренне полюбил ее. Я уверен в этом. В течение этого удивительного мая мы виделись два-три раза в неделю. Вчера мы встретились в маленьком саду. Цвет яблонь все время падал на ее волосы, пока она смеялась. Мы должны были вместе сбежать сегодня на рассвете. И вдруг я решил оставить ее таким же нетронутым цветком, которым и встретил.
– Думаю, новизна ощущений подарила тебе истинное наслаждение, Дориан, – перебил его лорд Генри. – Но я могу досказать эту прекрасную сказку за тебя. Ты дал ей хороший совет и разбил ее сердце. Это и стало началом твоей праведной жизни.
– Гарри, ты невыносим! Не говори таких ужасных вещей. Сердце Гетти не разбилось. Она, конечно, плакала и все такое. Но она избежала бесчестия. Она может жить, как Перлит в саду, полном мяты и прекрасных цветов.
– И плакать при мысли о неверном Флоризеле, – засмеялся лорд Генри, откинувшись на спинку стула. – Дорогой Дориан, ты и до сих пор думаешь, как мальчишка. Неужели ты считаешь, что теперь она будет счастлива с человеком из ее среды? Скорее всего, ее отдадут замуж за какого-то грубого мужлана. Но то, что она встретила и полюбила тебя, заставит ее презирать своего мужа, и жизнь ее будет испорчена. С точки зрения морали, не могу сказать, что поражен твоей новой жизнью. Этого мало даже для начала. К тому же, разве ты можешь быть уверенным в том, что Гетти не плавает сейчас, как Офелия, в каком-нибудь залитом лунным светом пруду, а вокруг нее не цветут водяные лилии?
– Прекрати, Гарри! Ты надо всем смеешься, а затем превращаешь в ужасную трагедию. Я уже пожалел, что рассказал тебе. Но мне все равно, что ты скажешь. Я знаю, что поступил правильно. Бедная Гетти! Когда я утром проезжал мимо фермы, увидел ее ужасно бледное лицо в окне. Не стоит нам больше об этом говорить, а тебе не стоит пытаться убедить меня в том, что первое мое доброе дело за долгие годы, первое маленькое самопожертвование – на самом деле преступление. Я хочу стать хорошим человеком. Я стану хорошим человеком. Расскажи мне что-нибудь о себе. Что происходит в городе? Я уже так давно не был в клубе.
– Народ все еще обсуждает исчезновения бедняги Бэзила.
– Я думал, эта тема уже всем надоела, – сказал Дориан, несколько нахмурившись, и налил себе вина.
– Дорогой мой, об этом говорят только шесть недель, а британцы настолько твердолобые, что не умеют менять тему разговора чаще чем раз в три месяца. Хотя в последнее время им с этим везет. Они имели возможность обсуждать мой развод и самоубийство Алана Кэмпбелла. Теперь вот загадочное исчезновение известного художника. Скотленд-Ярд все еще настаивает, что человек в сером пальто, который уехал в Париж поездом в полночь девятого ноября, – бедняга Бэзил. В свою очередь, французская полиция утверждает, что он так и не прибыл в город. Видимо, скоро мы услышим, что Бэзила видели в Сан-Франциско. Удивительно, но рано или поздно всех, кто исчезает, встречают в Сан-Франциско. Это, пожалуй, замечательный город со всеми прелестями того света.
– А как ты думаешь, что случилось с Бэзилом? – спросил Дориан, вглядываясь в бокал бургундского и удивляясь тому спокойствию, с которым он все это обсуждал.
– Не имею ни малейшего представления. Если Бэзил решил убежать от всех – это его дело. Если же он мертв, то я не хочу думать о нем. Смерть – это единственная вещь, которая меня по-настоящему ужасает. Я ненавижу ее.
– Почему же? – устало поинтересовался Дориан.
– Потому что, – ответил лорд Генри, вдохнув аромат уксуса из позолоченной бутылочки, – человек может пережить все, кроме нее. В наше время люди все еще не могут объяснить две вещи – смерть и пошлость. Давай выпьем кофе в зале. Ты обязан сыграть мне Шопена. Мужчина, к которому сбежала моя жена, играл Шопена просто великолепно. Бедная Виктория! Я очень любил ее. Без нее дом стал пуст. Конечно, супружеская жизнь – это лишь привычка, к тому же дурная. Но мы сожалеем, когда теряем даже самые дурные привычки. Видимо, как раз о них сожалеем больше всего. Они – неотъемлемая часть нас самих.
Дориан ничего не ответил, только встал из-за стола, прошел в соседнюю комнату, сел за рояль и забегал пальцами по черным и белым клавишам. Когда в комнату принесли кофе, он перестал играть, посмотрел на лорда Генри и спросил:
– Гарри, тебе никогда не приходило в голову, что Бэзила могли убить?
Лорд Генри зевнул в ответ.
– Бэзил был очень известный и всегда носил дешевые часы. По какой причине его могли убить? Он был не настолько умен, чтобы нажить врагов. Да, у него был большой талант к живописи. Но можно рисовать, как Веласкес, и при этом оставаться ограниченным человеком. А Бэзил был довольно ограничен. Он заинтересовал меня лишь однажды, когда много лет назад рассказал мне о своем безудержном увлечение тобой и о том, что ты стал для него стимулом в искусстве.
– Я очень любил Бэзила, – сказал Дориан с грустью в голосе. – А разве не ходят слухи, что его убили?
– Об этом писали в газетах. Но я в это совсем не верю. В Париже есть ужасные места, но Бэзил не из тех людей, которые могут туда попасть. Он был совсем не любознателен. Это был его главный недостаток.
– А что бы ты сказал, Гарри, если бы я признался, что это я убил Бэзила? – спросил Дориан, не сводя глаз с лорда Генри.
– Я бы сказал, дорогой друг, что ты пытаешься выдать себя за того, кем не являешься на самом деле. Любое преступление пошло по своей сути, а любая пошлость – это уже преступление. Ты не способен на убийство, Дориан. Прости, если я задел твое честолюбие этими словами, но это правда. Преступления – это дело низов общества. Но я их никак не виню. Думаю, для них преступление – это то же самое, что для нас искусство, – средство вызвать необычные эмоции.
– Средство вызвать эмоции? То есть ты считаешь, что человек, однажды совершивший преступление, способен делать это снова и снова? Не говори так.
– Что угодно может доставить удовольствие, если делать это слишком часто, – засмеялся лорд Генри. – Это один из главных секретов жизни. Хотя, я считаю, что убийство – это всегда ошибка. Какой смысл делать то, о чем нельзя рассказать за обедом? Давай закончим разговор о бедном Бэзиле. Мне хотелось бы поверить в то, что его конец был именно таким романтичным, как ты это описываешь. Но я не могу. Я скорее поверю в то, что он упал с омнибуса в Сену, а водитель сумел скрыть это. Да, именно таким я представляю себе его конец. Я ясно вижу, как он лежит на дне реки, над ним проплывают большие баржи, а в его волосы вплетаются водоросли. Кстати, ты знаешь, по-моему, он немного написал хорошего. По крайней мере, в последние десять лет его творчество пошло на спад.
Дориан вздохнул, а лорд Генри прошелся по комнате и начал гладить редкого серого попугая с розовым хохолком и хвостом, который сидел на бамбуковой перекладине. Почувствовав прикосновение, птица закрыла глаза и начала раскачиваться.
– Именно так, – продолжил лорд Генри, обернувшись и достав из кармана носовой платок, – его творчество угасло. Мне казалось, что он что-то потерял. Потерял свой идеал. В тот же момент, когда вы перестали быть близкими друзьями, он перестал быть великим художником. Почему же вы разошлись? Предполагаю, он тебе надоел. А за это он никогда тебя не простил. Это привычка всех надоедливых людей. Кстати, что произошло с замечательным портретом, который он с тебя написал? Кажется, я не видел его с тех пор, как Бэзил закончил его. Вспомнил. Ты же несколько лет назад говорил мне, что отправил его в Селби и дорогой его потеряли или украли. Его так и не нашли? Очень жаль! Это был настоящий шедевр. Помню, как сильно я хотел купить его. Было бы замечательно, если бы он был у меня сейчас. Он принадлежит к лучшему периоду творчества Бэзила. С тех пор в его картинах появилась та смесь плохой живописи и благих намерений, которая отличает британских художников от остальных. Ты подавал объявление о розыске? Надо было.
– Не помню, – ответил Дориан. – Наверное, подавал. Он мне никогда не нравился на самом деле. Я жалею, что позировал для него. Я вспоминаю о нем с ненавистью. Зачем ты о нем вспоминаешь? Он всегда напоминал мне эти строки из какой-то пьесы, из «Гамлета», кажется…
Словно образ печали
Бездушный тот лик.
– Именно так. Вот на что он был похож.
Лорд Генри рассмеялся.
– Когда человек смотрит на жизнь сквозь призму искусства, мозг заменяет ему сердце, – сказал он, удобно располагаясь в кресле.
Дориан Грей покачал головой и взял несколько аккордов.
– Словно образ печали, – повторил он, – бездушный тот лик.
Лорд Генри откинулся на спинку кресла и посмотрел на него полузакрытыми глазами.
– Кстати, Дориан, – сказал он после короткой паузы, – какая польза человеку от того, что он получил целый мир, но – как там дальше эта цитата? – потерял свою душу?
Музыка утихла. Дориан вздрогнул и посмотрел на лорда Генри.
– Почему ты спрашиваешь меня об этом, Гарри?
– Дорогой друг, – ответил лорд Генри, удивленно вскинув брови, – я спросил, потому что думал, что ты сможешь мне ответить. Вот и все. В минувшее воскресенье я шел по аллее парка и вблизи мраморной арки заметил группку людей в дешевой одежде, которые слушали какого-то вульгарного уличного проповедника. Как раз когда я проходил мимо, он прокричал этот вопрос к аудитории. Эта сцена показалась мне довольно драматичной. Лондон богат подобными впечатлениями. Представь – дождливая погода, невнятная фигура христианина в макинтоше, болезненно бледные люди под дырявой крышей из зонтиков вокруг него, и эта удивительная фраза, которую почти в истерике прокричали сухие губы. Это было по-своему прекрасно. Я хотел сказать пророку, что искусство имеет душу, в отличие от него. Однако, боюсь, он бы меня не понял.
– Не стоит так говорить, Гарри. Душа ужасно реальна. Ее можно купить, продать или обменять. Ее можно отравить или сделать совершенной. Душа есть в каждом из нас. Я знаю.
– Ты уверен в этом, Дориан?
– Вполне уверен.
– Что же, в таком случае – это точно иллюзия. Вещи, в которых мы вполне уверены, никогда не бывают правдой. В этом заключается несчастная судьба веры и тот урок, который мы получаем от любви. Что же ты такой мрачный! Не будь таким серьезным. Разве предрассудки нашего времени касаются нас? Нет, мы больше не верим в душу. Сыграй мне что-нибудь, Дориан. Сыграй мне ноктюрн. А пока будешь играть, тихонько расскажи, как тебе удалось сохранить свою молодость. У тебя должен быть какой-то секрет. Я всего на десять лет старше тебя, но уже весь покрыт морщинами, сухой и пожелтевший. Ты просто удивителен, Дориан. Ты никогда не выглядел так волшебно, как сегодня. Глядя на тебя, я вспоминаю тот день, когда мы встретились впервые. Ты был скромный, но несколько дерзкий и вполне неординарный юноша. Ты, конечно, изменился, но не внешне. Я хотел бы узнать твой секрет. Я готов на все, кроме того, чтобы делать зарядку, просыпаться рано утром или завоевать уважение общества, чтобы вернуть свою молодость. Молодость! Ничто не может с ней сравниться. Это ерунда – говорить о глупости молодости. Я с уважением отношусь только к точке зрения людей гораздо моложе меня. Они идут впереди. Жизнь открывает им свои новые чудеса. А с пожилыми людьми я всегда спорю. И делаю это принципиально. Спроси их мнения о том, что произошло вчера, и они выложат тебе точку зрения, которая была господствующей в тысяча восемьсот двадцатом году, когда мужчины носили длинные чулки, люди абсолютно всему верили и абсолютно ничего не знали. Какую замечательную вещь ты играешь! Пожалуй, Шопен написал ее на Мальорке, слушая, как морские волны ласкают берег вблизи его виллы. Это невероятно романтично. Как же замечательно, что существует хотя бы одно искусство без подражания! Не останавливайся. Сегодня я хочу слушать музыку. Ты будто юный Аполлон, а я – очарованный твоей игрой Марсий. В моей душе, Дориан, живут сожаления, о которых я не рассказываю даже тебе. Трагедия старости не в том, что стареет тело, а в том, что душа остается молодой. Иногда моя откровенность удивляет меня самого. Дориан, как же тебе повезло! Какая замечательная у тебя жизнь! Ты испил всего сполна. Ты вкусил сладкие ягоды жизни. Ничто от тебя не укрылось. И все это ты воспринял как музыку. Это не испортило тебя. Ты тот же, что и прежде.
– Я уже совсем не тот, Гарри.
– Именно тот самый. Мне интересно, как сложится твоя дальнейшая жизнь. Не стоит портить себе ограничениями. Сейчас ты совершенен. Не нужно делать из себя неполноценного человека. Сейчас ты вполне безупречен. Не качай головой, ты знаешь, что так и есть. К тому же, Дориан, не стоит себя обманывать. Жизнью управляют не желания или намерения. Жизнь – это совокупность нервов, струн и клеток, в каждой из которых скрываются желания, страсти и мечты. Ты можешь чувствовать себя в безопасности и считать себя сильным. Но случайный цвет комнаты или утреннего неба, запах, который ты когда-то любил и который теперь навевает воспоминания, строка из забытого стихотворения, на которую ты снова наткнулся, отрывок из музыкального произведения, которое ты уже давно не играл, – именно от этих вещей зависит наша жизнь, Дориан. Об этом написано где-то у Браунинга, однако лучшим доказательством этого являются наши чувства. Бывают моменты, когда запах белой сирени заставляет меня заново пережить самый необычный месяц в моей жизни. Хотел бы я оказаться на твоем месте, Дориан! Нас обоих осуждали люди, но тебя они обожают. Они всегда будут любить тебя. Ты именно тот, кого наше время одновременно искало и боялось найти. Я рад, что ты не вылепил ни единой скульптуры, не написал ни одной картины или не создал что-то вне себя. Твоя жизнь стала произведением твоего искусства. Ты положил себя на музыку. Твои дни – твои сонеты.
Дориан встал из-за рояля и поправил волосы.
– Действительно, у меня была прекрасная жизнь, – сказал он, – но я больше не собираюсь так жить, Гарри. Тебе больше не стоит говорить мне все эти безумные вещи. Ты многого не знаешь обо мне. Думаю, даже ты отвернулся бы от меня, если бы знал. Смеешься? Не смейся.
– Ну почему ты перестал играть, Дориан? Садись и сыграй этот ноктюрн снова. Посмотри на этот величественный месяц медового цвета, который завис в вечерних сумерках. Он ждет, пока ты очаруешь его своей игрой, чтобы подойти еще ближе к земле. Не хочешь? Пойдем тогда в клуб. Сегодня выдался замечательный вечер, и нам стоит волшебно его продолжить. Там есть один парень, который неудержимо стремится познакомиться с тобой, – юный лорд Пул, старший сын Бурмаута. Он уже надевает галстуки, как у тебя, и просто умоляет меня познакомить его с тобой. Он довольно приятный юноша и чем-то даже напоминает тебя.
– Надеюсь, что нет, – ответил Дориан с грустью в глазах. – Я сегодня слишком устал, Гарри. Я не пойду в клуб. Уже почти одиннадцать, а я хотел лечь спать пораньше.
– Останься. Ты еще никогда не играл так вдохновенно, как сегодня. Что-то удивительное было в твоей игре. Она была выразительна, как никогда.
– Это потому что я решил стать хорошим человеком, – ответил Дориан с улыбкой. – Я уже немного изменился.
– Ты никогда не изменишься по отношению ко мне, Дориан, – сказал лорд Генри, – мы навсегда останемся друзьями.
– Но однажды ты отравил меня книгой, Гарри. Я никогда не прощу тебе этого. Пообещай, что больше никому не дашь ее в руки. Она вредна.
– Друг, ты и правда начинаешь читать мне мораль. Если и дальше так пойдет, то скоро ты, как и каждый из новообращенных, будешь ходить и рассказывать людям о вреде грехов, которые тебе самому уже надоели. Ты слишком прекрасен для этого. К тому же в этом нет никакого смысла. Мы с тобой – те, кто мы есть, и навсегда останемся собой. А если говорить об отравлении книгой, то это невозможно. Искусство не оказывает влияния на действия. Напротив, оно убивает желание действовать. Оно удивительно нейтральное. Люди называют аморальными книги, которые указывают им на собственные недостатки. Вот и все. Но не стоит сейчас затевать спор о литературе. Приходи завтра. Я буду кататься верхом в одиннадцать. Покатаемся вместе, а потом я заберу тебя с собой на обед к леди Бренксом. Она очаровательная женщина, к тому же хочет посоветоваться с тобой насчет гобеленов, которые планирует приобрести. Обязательно приходи. Или лучше устроить обед вместе с нашей маленькой герцогиней? Она говорила, что вы почти не видитесь в последнее время. Глэдис надоела тебе? Я так и думал. Ее остроты со временем начинают действовать на нервы. В любом случае жду тебя в одиннадцать.
– Ты действительно этого хочешь, Гарри?
– Конечно. Парк сейчас просто прекрасен. Последний раз сирень так прекрасно цвела в том году, когда мы познакомились.
– Ну хорошо. Я буду там в одиннадцать, – сказал Дориан. – Спокойной ночи, Гарри.
Дойдя до двери, он на мгновение остановился, словно хотел сказать еще что-то, но только вздохнул и вышел из комнаты.
Глава 20
Ночь была настолько теплой, что он нес пальто на руке и даже не обматывал шарф вокруг шеи. Когда он направлялся домой, куря сигарету, мимо прошли двое юношей во фраках. Он краем уха услышал, как один из них сказал другому: «Да это же Дориан Грей». Он вспомнил, как раньше радовался, когда на него глазели, показывали пальцами или просто говорили о нем. Теперь же ему надоело слышать собственное имя. Главным достоинством деревни, в которую он в последнее время часто ездил, было то, что его никто там не знал. Девушке, которая в него влюбилась, он говорил, что он беден, и она в это верила. Однажды он сказал ей, что он очень плохой человек. В ответ она засмеялась, сказав, что злые люди всегда старые и уродливые. Какой же у нее смех! Будто пение свирели. А как же она прекрасна в своем простеньком платье и широкой шляпе! Она ничего не знала о жизни, но обладала всем тем, что он потерял.
Вернувшись домой, он застал дворецкого, который ждал его. Дориан отпустил его спать, а сам пошел в библиотеку, лег на диван и стал размышлять над некоторыми словами лорда Генри.
Действительно ли человек никогда не может измениться? Он чувствовал неистовую грусть, когда вспоминал свою девственно чистую юность, бело-розовую юность, как называл ее лорд Генри. Он знал, что разрушил себя сам, что он наполнил свое сознание низкими мыслями и ужасными фантазиями, производил разрушительное воздействие на жизнь окружающих, а сам получал от этого удовольствие. И что из всех жизней, с которыми пересекалась его собственная жизнь, он погубил наиболее прекрасную и многообещающую – свою. Но разве нельзя ничего изменить? Неужели для него не осталось никакой надежды?
Какая же ужасная гордость и наглость заставили его пожелать, чтобы портрет нес на себе бремя его дней, а сам он сохранил незапятнанную красоту вечной молодости! Это стало причиной всех его несчастий. Лучше бы каждый грех в его жизни сразу накладывал на него печать своей казни. Наказание очищает. В молитве следует просить справедливого Бога не «прости нам грехи наши», а «накажи нас за грехи наши».
На столе стояло зеркало, которое ему подарил лорд Генри много лет назад, а на его причудливой резьбе, как и всегда, хохотали купидоны. Он взял его в руки, как и в ту страшную ночь, когда впервые заметил перемену на роковой картине, и заглянул в него безумными, полными слез глазами. Одна из безнадежно влюбленных в него женщин написала когда-то ему письмо, которое заканчивалось словами безграничного обожания: «Мир навсегда изменился, ведь в нем появились вы – высеченный из слоновой кости и золота. Линия ваших губ переписала историю». Эти слова вынырнули из его памяти, и он повторял их снова и снова. Затем он возненавидел собственную красоту и, бросив зеркало на пол, раздавил его каблуками на маленькие серебряные кусочки. Его красота уничтожила его, красота и молодость, о которых он молил. Если бы не эти две вещи, его жизнь сложилась бы иначе. Его красота стала для него лишь маской, а молодость – насмешкой. Что такое молодость в лучшем случае? Время зеленой незрелости, непостоянных настроений и болезненных мыслей. Зачем ему была нужна ее маска? Молодость испортила его.
Лучше не думать о прошлом. Его уже не изменишь. Ему нужно думать о себе и своем будущем. Джеймс Вэйн был похоронен в безымянной могиле на кладбище в Селби. Алан Кэмпбелл застрелился в собственной лаборатории, но так и не раскрыл тайну, которую был вынужден узнать. Интерес к исчезновению Бэзила Холлуорда скоро погаснет. Он уже угасает. В этом отношении ему ничто не угрожает. Но не смерть Бэзила Холлуорда на самом деле тяготела над ним. Больше всего его беспокоила смерть собственной души. Бэзил написал портрет, который разрушил его жизнь. Такое невозможно простить. Это портрет во всем виноват. К тому же Бэзил говорил ему невыносимые вещи, а он терпел. Убийство стало плодом минутного неистовства. А насчет Алана Кэмпбелла, то он сам решил покончить с собой. Это его выбор. Дориан здесь ни при чем.
Новая жизнь! Вот чего он хотел. Вот чего он ожидал. Без сомнения, он ее уже начал. В конце концов, он пощадил невинную душу. Он больше никогда не будет соблазнять невинных. Он станет хорошим.
Воспоминание о Гетти Мертон навело его на мысль о том, не изменился ли портрет, запертый в комнате наверху? Скорее всего, он уже не такой ужасный, каким был раньше. Возможно, если он сможет очистить свою жизнь, то и с лица на портрете исчезнут следы безумных страстей. Возможно, они уже исчезли. Надо пойти наверх и посмотреть.
Он взял со стола лампу и поднялся по лестнице. Когда он открывал дверь, его чрезвычайно молодое лицо озарила улыбка, которая, однако, задержалась на губах лишь на мгновение. Именно так, он станет хорошим человеком и больше не будет впадать в ужас от одной мысли об отвратительной картине, которая здесь спрятана. Он уже чувствовал, как с его души упал тяжелый камень.
Он быстро вошел, по привычке закрыл за собой дверь и снял с портрета пурпурное покрывало. С его уст сорвался крик боли и отчаяния. На портрете не было видно никаких изменений, разве что в глазах появился хитрый взгляд, а губы расплылись в лицемерной улыбке. Портрет оставался отталкивающим. Он даже стал еще отвратительнее, насколько это было возможно, а красное пятно на руке стало еще более похожим на настоящую кровь. Он задрожал. Неужели только честолюбие подтолкнуло его к единственному хорошему поступку? Или жажда новых ощущений, как насмешливо заметил лорд Генри? Или желание сделать что-то такое, что помогло бы чувствовать себя лучше других? Может, каждая из этих причин? А почему же увеличилось кровавое пятно? Оно расползлось по скрюченным пальцам, будто ужасная болезнь. Казалось, кровь накапала на ноги портрета. Она была даже на другой руке, не той, что держала нож. Признаться? Означало ли это, что он должен признаться? Сдаться в руки правосудия и быть приговоренным к смерти? Он засмеялся. Он понял, насколько нелепой была эта идея. К тому же, даже если он признается, кто ему поверит? Нигде не осталось ни следа мертвеца. Все, что ему принадлежало, было уничтожено. Он собственными руками сжег все, что оставалось внизу. Все просто решили бы, что он сошел с ума. Ему просто закроют рот, если он будет настаивать, что это он убийца. Однако он чувствовал, что должен признаться, пережить общественное осуждение и попробовать искупить свою вину. Господь велел людям каяться в своих грехах как перед небесами, так и перед землей. Он не мог очиститься, не открыв миру свой грех. Свой грех? Он пожал плечами. Смерть Бэзила Холлуорда не казалась ему чем-то значительным. Он думал о Гетти Мертон. Ведь зеркало его собственной души, в которое он смотрел, лгало. Честолюбие? Любопытство? Лицемерие? Разве в его самоотречении не было чего-то большего? Должно было быть еще что-то. По крайней мере, он так считал. Но кто же может знать это точно? Нет, не было больше ничего. Он пощадил ее из честолюбия. Он лицемерно надел на себя маску хорошего человека. Он отказал себе из чистого любопытства. Теперь он понял это.
Но это убийство, неужели воспоминания о нем будут преследовать его до самой смерти? Сможет ли он избавиться от бремени собственного прошлого? Может, действительно стоит признаться? Никогда. Осталось только одно доказательство против него. Этим доказательством была сама картина. Он уничтожит ее. Зачем он так долго хранил ее? Когда-то он получал удовольствие, наблюдая, как она меняется и стареет. В последнее время это удовольствие исчезло. Картина не давала ему уснуть. Когда он уезжал из дому, он не мог избавиться от страха, что в его отсутствие его тайну увидят чужие глаза. Она наполнила его страсти печалью. Одно только воспоминание о ней портило радостные моменты. Она была для него будто совесть. Да, это была его совесть. Он уничтожит ее.
Он оглянулся вокруг и увидел тот самый нож, которым убил Бэзила Холлуорда. Он чистил его множество раз, поэтому на нем не осталось ни единого следа крови. Он ярко сиял. Убив художника, он убьет и его творение, и все, что оно значило. Он уничтожит прошлое и наконец станет свободным. Он прекратит эту мерзкую жизнь его души, а без ее ужасающих предостережений снова обретет покой. Дориан схватил нож и ударил им картину.
Послышался ужасный крик и звук падения. Это был крик настолько безудержной агонии, что все слуги проснулись и вышли из своих комнат. Двое джентльменов, проходивших через площадь, остановились и посмотрели на огромный дом. Они пошли дальше, встретили полицейского и привели его к дому. Полицейский несколько раз позвонил в дверь, но так и не дождался ответа. Свет горел только в маленьком окошке под крышей. Выждав еще несколько минут, полицейский отошел на соседнее крыльцо и решил подождать там.
– А чей это дом, констебль? – спросил старший из джентльменов.
– Мистера Дориана Грея, сэр, – ответил полицейский.
Мужчины переглянулись между собой и ушли с пренебрежительными улыбками на лицах. Один из них был дядей сэра Генри Эштона.
В доме же, в крыле для прислуги, тревожно шептались полуодетые люди. Старушка миссис Лиф плакала и ломала руки. Фрэнсис был бледен как смерть.
Минут через пятнадцать он позвал кучера и одного из лакеев. Вместе они поднялись по лестнице. Они постучали в дверь, но не получили ответа. Они начали звать хозяина. Но ответом была тишина. В конце концов, после неудачных попыток взломать дверь, они поднялись на крышу, а оттуда спустились на балкон. Окна открылись очень легко.
Войдя, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина, каким они его знали – во всей его изысканной красоте и молодости. На полу с ножом в груди лежал старик во фраке. У него было гадкое, сморщенное, отталкивающее лицо. Слуги поняли, кто перед ними, только благодаря кольцам на пальцах мертвеца.
Примечания
[1] Калибан – персонаж драмы Шекспира «Буря», символ дикости, невежества, темных сил.
[2] Лорд Фермор-старший находился в Испании, когда малолетняя Изабелла была под опекой; ему пришлось покинуть страну после буржуазной революции, одним из деятелей которой был генерал Прим.
[3] Синие книги появились в Англии в XVII в. Они представляли собой собрания дипломатических документов или иных материалов, издаваемых правительством для представления парламенту.
[4] «Сто новелл» (фр.).
[5] Перевод Т. Щепкиной-Куперник.
[6] Перевод Т. Щепкиной-Куперник.
[7] Перевод Т. Щепкиной-Куперник.
[8] Джон Уэбстер (1578–1634) – английский драматург, современник Шекспира, мастер так называемой «кровавой трагедии»; Джон Форд (1586–1649) – один из крупнейших английских драматургов шекспировской плеяды; Сирил Тернер (1575–1626) – английский драматург, его пьесы также относят к жанру «кровавой трагедии».
[9] Утешение в искусстве (фр.).
[10] Винкельман Иоганн Иоахим (1717–1768) – выдающийся немецкий теоретик искусства.
[11] «Сатирикон» – произведение древнеримской литературы, автор которого называет себя Петронием Арбитром. Это произведение принято считать первым романом в истории литературы. Время написания точно не установлено, но наиболее вероятен I в., т. е. эпоха Нерона.
[12] Законодатель мод (лат.).
[13] Гостия – евхаристический хлеб в виде маленькой лепешки.
[14] Антиномизм – пренебрежение законами Ветхого Закона, проявлявшееся или практически, под видом мнения, что возрожденный человек не нуждается ни в каком внешнем законе, так как все его поступки хороши, или же теоретически, в учении, что человек евангельским учением приведен к покаянию и поэтому ему не нужно изучение законов Ветхого Завета.
[15] «Наставления для клириков» (лат.).
[16] Эматия – в древности так называлась прибрежная песчаная равнина, низменная и болотистая, при устье рек Аксия, Галиакмона и Лудия (Ройдия), считавшаяся исконной территорией македонской ветви эллинов.
[17] «Мадам, я очень счастлив» (фр.).
[18] Перевод Н. Гумилева.
[19] Кампанила – отдельно стоящая колокольная башня при соборе Святого Марка в Венеции на площади Сан-Марко.
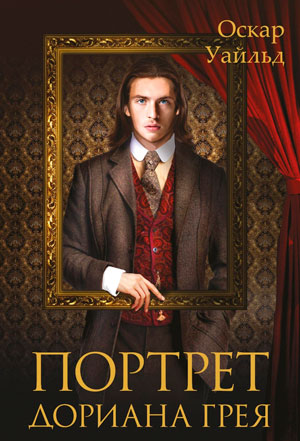
Комментировать