Оглавление
Глава 8
Он проснулся далеко за полдень. Дворецкий несколько раз на цыпочках входил в комнату, чтобы убедиться, что хозяин дышит, и удивлялся, почему он так долго спит. Наконец раздался звонок, и Виктор вошел в комнату с чашкой чаю и целой пачкой писем на подносе старого севрского фарфора, отодвинул оливковые атласные шторы с мерцающей голубой подкладкой, которые закрывали три высоких окна.
– Вижу, вам сегодня хорошо спалось, сэр, – с улыбкой сказал он.
– Который час, Виктор? – сонно спросил Дориан Грей.
– Пятнадцать минут второго, сэр.
Как же поздно! Он присел на кровати и, выпив немного чая, начал разбирать письма. Одно из них было от лорда Генри. Его принес посыльный сегодня утром. Мгновение поколебавшись, он все же отложил его в сторону. Остальные письма он открывал машинально. Это, как всегда, были визитки, билеты на частные представления, программы благотворительных концертов и прочая дребедень, которой обычно засыпали модную молодежь. Также там был достаточно солидный счет за серебряный набор, который он все еще не решался передать своим опекунам. Они были очень старомодны и не понимали, что живут во времена, когда ненужные вещи стали самыми необходимыми. Кроме того, там были написанные учтивым языком письма от кредиторов с Джермин-стрит, которые предлагали взять кредит на любую сумму под очень умеренные проценты.
Примерно через десять минут он поднялся, накинул свой изысканный кашемировый халат, вышитый шелком, и пошел в ванную. Прохладная вода привела его в чувство после долгого сна. Казалось, он забыл обо всем, что ему пришлось недавно пережить. Неуловимое ощущение того, что он принял участие в трагических событиях, несколько раз посещало его, однако это все казалось ему сном.
Одевшись, он пошел в библиотеку, чтобы приняться за легкий французский завтрак, который уже ждал его на маленьком круглом столике у окна. День стоял восхитительный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела и, жужжа, закружилась над синей китайской вазой с желтыми розами. Он чувствовал себя вполне счастливым.
Вдруг его взгляд наткнулся на занавешенный портрет. Дориан задрожал.
– Вам холодно, сэр? – спросил дворецкий, накладывая ему омлет. – Закрыть окно?
Дориан отрицательно покачал головой:
– Мне не холодно.
Неужели это была правда? Неужели портрет действительно изменился? Или это просто его воображение заставило его увидеть зло там, где на самом деле сияла радость? Не мог же измениться сухой рисунок на полотне? Все это казалось полным безумием. Однажды он расскажет об этом Бэзилу, и тот будет долго смеяться.
Однако воспоминания об этом были слишком яркими! Сначала в бледных сумерках, а затем и в ярком утреннем свете он видел печать жестокости на крепко сжатых губах. Он боялся того момента, когда дворецкий выйдет из комнаты. Он осознавал, что, оставшись наедине, еще раз осмотрит портрет. И боялся узнать правду. Когда дворецкий принес кофе и сигареты и уже развернулся, чтобы уйти, Дориан почувствовал безумное желание попросить его остаться. Когда дверь за его спиной уже закрывалась, Дориан снова позвал его. Дворецкий остановился и ждал распоряжений. Мгновение Дориан молча смотрел на него.
– Меня ни для кого нет дома, Виктор, – сказал он со вздохом.
Дворецкий поклонился и вышел из комнаты.
Тогда Дориан встал из-за стола и сел на диван напротив портрета. Ширма была старинной, из позолоченной испанской кожи, с вычурными рисунками. Дориан пристально всматривался в него, задумавшись, приходилось ли ему уже когда-либо прежде скрывать тайну человеческой жизни. Стоило ли снимать завесу? Почему бы не оставить все как есть? Какая польза от того, чтобы знать правду? Если это действительно произошло, это ужасно. Если нет, то зачем беспокоиться? Но что, если по воли жестокой шутки судьбы еще каким-то глазам, кроме его собственных, откроется ужасная перемена, которую претерпел портрет? Что ему делать в случае, если Бэзил Холлуорд придет и захочет взглянуть на портрет собственной работы? А он точно придет. Нет, нужно осмотреть портрет как можно скорее. Неопределенность была невыносимой.
Дориан встал и запер обе двери. По крайней мере, он мог взглянуть в глаза своему позору в одиночестве. Затем он снял покрывало и предстал перед собственным лицом. Это действительно произошло. Портрет изменился.
Потом он часто с огромным удивлением вспоминал, что, глядя на портрет, чувствовал почти научный интерес. Его поражал сам факт того, что такое изменение могло случиться. Оно случилась, и это был факт. Неужели существовала какая-то неуловимая связь между его душой и атомами, придававшими цвет и форму полотну? Могло ли случиться так, что они воплотили то, к чему стремилась его душа? Было ли этому другое, еще более страшное, объяснение? Он почувствовал страх, задрожал и упал на диван, с ужасом глядя на портрет.
Однако Дориан чувствовал, что картина сделала для него доброе дело. Портрет позволил ему понять, как же несправедливо и жестоко он поступил с Сибилой Вэйн. Но было еще не поздно все исправить. Они все еще могли быть вместе. На смену его ложной, эгоистической любви пришло бы высшее благородное чувство. А портрет, который написал Холлуорд, стал бы в его жизни компасом, которым для одних является святость, для других – совесть, а для всех остальных – страх Божий. Существуют средства, чтобы усыпить совесть и чувство морали. Но перед его глазами был символ грехопадения. Это был вечный знак краха, к которому людей приводят собственные души.
Часы пробили третий час. Четвертый. Прошло еще полчаса, а Дориан так и не пошевелился. Он пытался собрать вместе красные нити жизни, соткать из них какой-то узор, найти выход из кроваво-красного лабиринта страстей, в котором он заблудился. Он не знал, что ему думать и что делать. В конце концов он подошел к столу и стал писать своей любимой письмо, в котором умолял простить его и называл себя сумасшедшим. Он наполнял словами искреннего раскаяния и ужасной боли страницу за страницей. Есть что-то роскошное в унижении самого себя. Когда мы себя в чем-то обвиняем, то знаем, что больше никто не сможет нас в этом обвинить. Не священник, а именно исповедь отпускает грехи. Написав письмо, Дориан чувствовал, что Сибила уже простила его.
Неожиданно постучали в дверь, и он услышал голос лорда Генри:
– Дориан, мне нужно с тобой поговорить. Открой немедленно! Это крайне некрасиво с твоей стороны, вот так вот запираться.
Сначала Дориан не ответил и не двинулся с места. И лорд Генри продолжал все громче стучать в дверь. В конце концов Дориан решил, что лучше его впустить. Нужно объяснить ему, что он отныне начинает новую жизнь. Нужно поссориться с ним, даже порвать любые отношения, если до этого дойдет. Он вскочил на ноги, быстро завесил портрет и только после этого открыл дверь.
– Я искренне сожалею обо всей этой истории, Дориан, – сразу сказал лорд Генри. – Но тебе не стоит много об этом думать.
– Ты имеешь в виду Сибилу Вэйн? – спросил Дориан.
– Конечно. – Лорд Генри сел на стул и начал медленно снимать свои желтые перчатки. – Это, конечно, ужасно, но это не твоя вина. Скажи, ты ходил к ней за кулисы после спектакля?
– Да.
– Я так и знал. И вы поссорились?
– Я вел себя жестоко, Гарри, очень жестоко! Но теперь это в прошлом. Я не жалею о том, что произошло, – это помогло мне лучше узнать самого себя.
– Я очень, очень рад, Дориан, что ты так к этому отнесся. Я боялся, что угрызения совести заставят тебя рвать свои золотые кудри.
– Через все это я уже прошел, – ответил Дориан, с улыбкой покачав головой. – И теперь я вполне счастлив. Прежде всего, мне открылась сущность совести. Она оказалась совсем не тем, о чем ты мне рассказывал, Гарри. Она – то прекрасное, чем обладает человек. Не стоит больше смеяться над этим, по крайней мере при мне. Я хочу быть хорошим человеком. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала ужасной.
– Эстетизм – это прекрасное основание для морали, Дориан! Я могу только поздравить тебя с этим. А с чего ты собираешься начать?
– Я женюсь на Сибиле Вэйн.
– На Сибиле Вэйн! – воскликнул лорд Генри, вставая и глядя на Дориана с искренним удивлением. – Дорогой мой, но она…
– Знаю, знаю, Гарри, сейчас ты скажешь мне какую-то гадость о браке. Не стоит. Никогда больше не говори мне ничего подобного. Два дня назад я просил руки Сибилы. И я свое слово сдержу. Она станет моей женой.
– Твоей женой? Дориан, ты что, не получил мое письмо? Я написал его сегодня утром, и мой слуга отнес его тебе.
– Письмо? Да, конечно… Я его еще не читал, Гарри. Боялся найти в нем что-то отвратительное. Ты умеешь рушить жизни своими эпиграммами.
– Ты так ничего и не знаешь?
– Что ты имеешь в виду?
Лорд Генри прошелся по комнате, а потом сел рядом с Дорианом и крепко сжал его руки в своих.
– Дориан, – сказал он, – ты только не пугайся, но я написал письмо, чтобы сообщить тебе, что Сибила Вэйн умерла.
Из уст Дориана сорвался мучительный крик. Он вскочил на ноги и вырвался из рук лорда Генри.
– Умерла! Сибила умерла! Неправда! Это чудовищная ложь! Как тебе не стыдно говорить такое?
– Это правда, Дориан, – серьезно сказал лорд Генри. – Об этом сегодня сообщили во всех газетах. Я написал, чтобы ты не принимал никого, пока я не приду. Скорее всего, будет следствие и нужно сделать все для того, чтобы тебя не впутали в эту историю. В Париже люди становятся популярными из-за подобных историй, но лондонцы все еще слишком суеверны. Здесь не следует появляться перед публикой в свете скандала. Скандалы приберегают на старость, когда бывает нужно подогреть интерес к себе. Надеюсь, в театре не знали, кто ты такой? Если нет, тогда все в порядке. Кто-нибудь видел, как ты заходил в гримерку Сибилы? Это крайне важно.
Дориан некоторое время молчал – он оцепенел от ужаса. Наконец он, запинаясь, сдавленным голосом пробормотал:
– Ты сказал – следствие? Что ты имел в виду? Получается, Сибила… Ох, Гарри, это невыносимо!.. Расскажи мне скорее!
– Нет никаких сомнений в том, Дориан, что это не просто несчастный случай, но нужно, чтобы общественность думала именно так. Говорят, что вчера около половины первого, когда девушка уже возвращалась домой из театра вместе со своей матерью, она вдруг побежала наверх, потому что будто бы что-то там забыла. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. В конце концов ее нашли мертвой на полу гримерки. Она ошибочно выпила какое-то ядовитое вещество из тех, что используют в театре для грима. Не помню, что именно это было, но в состав входит то ли синильная кислота, то ли свинцовые белила. Скорее всего, синильная кислота, ведь смерть была мгновенной.
– Какой ужас, Гарри! – закричал Дориан.
– Да… Это действительно трагедия, но нельзя, чтобы тебя считали причастным к ней… Я читал в «Стандард», что Сибиле Вэйн было семнадцать. А выглядела она еще моложе. Она казалась совсем девочкой, которая ничего не знает об актерстве. Дориан, не надо слишком переживать по этому поводу. Тебе непременно следует пообедать со мной, а потом мы посетим оперу. Сегодня в театре будет все почтенное общество, ведь поет Патти. Мы сядем в ложе моей сестры. Сегодня с ней приедут несколько эффектных женщин.
– Значит, я убил Сибилу Вэйн, – сказал Дориан Грей словно про себя. – Это все равно, как если бы я перерезал ей горло ножом. И, несмотря на это, розы такие же волшебные, птицы так же весело поют в моем саду. А сегодня вечером я обедаю с тобой и поеду в оперу, потом куда-то ужинать… Как же наша жизнь необычна и одновременно трагична! Если бы я прочитал о подобном в книге, Гарри, то точно заплакал бы. А сейчас, когда это случилось со мной, я настолько поражен, что и слез нет. Вот лежит написанное мной страстное любовное письмо. Первое в моей жизни любовное письмо. Разве не удивительно, что я написал его мертвой девушке? Хотел бы я знать: они все еще что-то чувствуют, эти немые, бледные люди, которых мы называем мертвецами? Сибила! Знает ли она об этом, может ли меня услышать, хотя бы почувствовать? Ах, Гарри, как я ее любил когда-то! Мне кажется сейчас, что это было много лет назад. Тогда она была для меня всем на свете. Затем настал тот ужасный вечер – неужели это было только вчера? – когда она играла так плохо, что у меня сердце чуть не разорвалось. Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно… но я не был тронут, я назвал ее дурой. А потом кое-что произошло… я не могу тебе рассказать об этом, но это было действительно страшно. Поэтому я решил вернуться к Сибиле. Я понял, что поступил плохо… А теперь она мертва… Боже, боже! Гарри, что мне делать? Ты даже не представляешь, в какой я опасности! И теперь не осталось никого, кто мог бы уберечь меня от падения. Она могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично с ее стороны!
– Дорогой Дориан, – сказал лорд Генри, доставая сигарету из латунного с позолотой портсигара. – Женщина может сделать из мужчины праведника только одним путем – надоесть ему так, что он потеряет интерес к жизни. Если бы ты женился на этой девушке, то был бы несчастным. Конечно, ты был бы хорошим по отношению к ней. Это очень просто – быть добрым к безразличному тебе человеку. Но она быстро поняла бы, что ты равнодушен к ней. А когда жена чувствует, что ее муж равнодушен к ней, она либо начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно, или у нее появляются очень хорошие шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уже о том, что такой неравный брак, который я постарался бы не допустить, стал бы унизительным. Поверь, при любых обстоятельствах это был бы крайне неудачный брак.
– Наверное, ты прав, – пробормотал Дориан. Он был очень бледен и нервно шагал по комнате. – Но я считал, что это мой долг. И нет моей вины в том, что эта страшная драма помешала мне его выполнить. Ты когда-то сказал, что над благородными решениями тяготеет страшное проклятие – они всегда принимаются слишком поздно. Так случилось и со мной.
– Благие намерения – просто бессмысленные попытки идти против природы. Они обычно порождены высокомерием и не приводят ни к чему хорошему. Время от времени они дают нам приятные, но пустые ощущения, которым могут радоваться только слабые духом. Вот и все. Благие намерения – это чеки, которые люди выписывают в банк, где у них нет текущего счета.
– Гарри, – спросил Дориан Грей, подходя и садясь рядом с лордом Генри, – почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели я настолько бессердечный? Как ты считаешь?
– После всех тех глупостей, которые ты наделал за последние две недели, у меня язык не поворачивается назвать тебя бессердечным, – ответил лорд Генри, ласково и одновременно грустно улыбаясь.
Юноша нахмурился.
– Мне не нравится такое объяснение, Гарри. Но я рад, что ты не считаешь меня бессердечным. Это же не про меня, я знаю! Однако то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать. Я все это воспринимаю как необычную развязку какой-то удивительной пьесы. В ней – жуткая красота греческой трагедии, трагедии, в которой я сыграл главную роль, но которая не ранила моей души.
– Это интересная ситуация, – сказал лорд Генри. Он наслаждался игрой на бессознательном эгоизме юноши. – Да, очень интересная. И, думаю, объяснить ее можно следующим образом: зачастую настоящие трагедии жизни приобретают отталкивающие формы, оскорбляющие нас своим грубым неистовством, крайней нелогичностью и бессмысленностью, полным отсутствием изящества. В результате мы избегаем их, как и всего пошлого. Мы чувствуем в них только грубую силу и восстаем против нее. Но иногда в нашей жизни случаются драмы, в которых можно заметить красоту искусства. Если красота эта – настоящая, то драматизм события нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже не действующие лица, а просто зрители этой трагедии. Или, вернее, то и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя, и именно необычность такого зрелища нас увлекает. Что, по сути, произошло? Девушка покончила с собой из-за любви к тебе. Жаль, что в моей жизни не случалось ничего подобного. Я тогда сделал бы любовь смыслом своей жизни. Но все, кто любил меня, – их было не очень много, но все же они были, – упрямо жили и здравствовали еще много лет после того, как я разлюбил их или они – меня. Эти женщины растолстели, стали скучными и невыносимыми. Когда мы встречаемся, они сразу же начинают копаться в своих воспоминаниях. Какая же ужасная вещь эта женская память! И какую отсталость, какой душевный упадок она разоблачает! Человек должен впитывать в себя краски жизни, но никогда не запоминать деталей. Детали всегда банальны.
– Придется посеять маки в саду, – вздохнул Дориан.
– Это не обязательно, – возразил его собеседник. – Жизнь держит маки для нас наготове. Конечно, бывают вещи, которые упорно не хотят забываться. Однажды я в течение целого сезона носил в петлице только фиалки. Это было чем-то вроде траура по любви, которая не хотела умирать. Но в конце концов она умерла. Не помню, что ее убило. Вероятно, обещание любимой женщины пожертвовать для меня всем на свете. Это всегда ужасный момент – он вселяет в человека страх перед вечностью. Так вот, представь себе – на прошлой неделе на обеде у леди Хэмпшир рядом со мной за столом сидела именно эта дама, и она любой ценой хотела начать все сначала, раскопать прошлое и расчистить дорогу для будущего. Я похоронил эту любовь в могиле под асфоделями, а она снова вытащила ее на свет божий и уверяла меня, что я разрушил ей жизнь. Должен констатировать, что за обедом она уплетала все с большим аппетитом, так что я о ней нисколько не беспокоюсь. Но какая бестактность! Какая безвкусица! Ведь вся прелесть прошлого в том, что оно – прошлое. А женщины никогда не замечают, что занавес уже опустился. Им непременно хочется увидеть шестой акт!
Они хотят продолжать спектакль, когда всяческий интерес к нему уже исчез. Была бы их воля, каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия закончилась бы фарсом. Женщины – прекрасные актрисы, но у них нет ощущения искусства. По сравнению со мной ты счастливчик, Дориан. Клянусь тебе, ни одна из женщин, с которыми я был близок, не сделала бы ради меня того, что сделала ради тебя Сибила Вэйн. Обычные женщины всегда находят утешение. Одни – в том, что носят сентиментальные цвета. Никогда не доверяй женщине, которая, не считаясь со своим возрастом, носит яркие платья или в тридцать пять лет все еще имеет страсть к розовым лентам. Это, несомненно, женщина с прошлым. Другие неожиданно находят добродетели в собственных мужьях, и это служит им огромной радостью. Они кичатся своим супружеским счастьем так, будто это самый отчаянный из грехов. Некоторые находят утешение в религии. Таинства религии несут в себе наслаждение флирта – так мне когда-то сказала одна женщина, и я этому охотно верю. Кроме того, ничто так не радует женское тщеславие, как репутация грешницы. Совесть делает из нас эгоистов… В наше время женщины утешают себя множеством способов. А я еще даже не упомянул о важнейшем из них.
– О каком же это, Гарри? – рассеянно спросил Дориан.
– О наиболее очевидном – отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. В благородных кругах это всегда реабилитирует женщину. Подумай, Дориан, насколько Сибила Вэйн была непохожей на женщин, которых мы обычно видим вокруг! Я вижу своеобразную красоту в ее смерти и радуюсь, что живу во времена, когда такие чудеса возможны. Они вселяют в нас веру в существование настоящей любви, страсти, романтических чувств, над которыми мы привыкли только посмеиваться.
– Я был очень жесток с ней. Не забывай об этом.
– Боюсь, жестокость, откровенная жестокость, привлекает женщин больше всего на свете. В них на удивление хорошо развиты первобытные инстинкты. Мы им дали свободу, а они все равно остались рабынями, которые ищут себе хозяина. Они любят повиноваться… Я уверен, что ты был неотразим. Никогда не видел, как ты сердишься, но представляю себе, как же интересно было наблюдать за тобой в тот момент! И наконец, позавчера ты сказал мне кое-что… тогда я подумал, что это плод твоего воображения, но сейчас я вижу, что ты совершенно прав, и это все объясняет.
– Что же я такого сказал, Гарри?
– Что в Сибиле Вэйн ты видишь всех романтических героинь. Одним вечером она – Дездемона, другим – Офелия и, умирая Джульеттой, воскресает в образе Имоджены.
– Она никогда не воскреснет вновь, – прошептал Дориан, закрывая лицо руками.
– Нет, не воскреснет. Она сыграла свою последнюю роль. Но ты должен думать о ее одинокой смерти в грязной гримерке просто как о странном и мрачном отрывке из какой-нибудь трагедии, как о сцене из Уэбстера, Форда или Сирила Тернера[8]. Эта девушка, по сути, не жила, а следовательно, и не умирала. По крайней мере, для тебя она была мечтой, призраком, пронесшимся в пьесах Шекспира и обогатившим их, она была свирелью, что добавляла музыке Шекспира еще больше обаяния и жизнерадостности. Первое же прикосновение к реальности стало роковым для нее. Если захочешь, можешь оплакивать Офелию, отчаянно скучать по задушенной Корделии или проклинать небеса за то, что погибла дочь Брабанцио. Но Сибила Вэйн не стоит твоих слез. Она была еще менее реальной, чем они все.
В комнате воцарилась тишина. Вечерние сумерки постепенно окутывали комнату. Серебряные тени бесшумно приходили из сада. Медленно выцветали все краски.
Через некоторое время Дориан Грей поднял взгляд.
– Ты объяснил мне мои собственные чувства, Гарри, – сказал он, вздохнув с облегчением. – Мне и самому так казалось, но меня это несколько пугало, и я не все мог себе объяснить. Как же хорошо ты меня знаешь! Но нам не стоит больше касаться этой темы. Это был удивительный опыт – вот и все. Не знаю, суждено ли мне еще раз пережить что-то столь же удивительное.
– У тебя впереди еще целая жизнь, Дориан. С твоей красотой для тебя нет ничего невозможного.
– Но Гарри, представь, что я стану сухим, старым и сморщенным? И что тогда?
– А вот тогда, – сказал лорд Генри вставая, чтобы уже идти, – тогда, дорогой Дориан, тебе придется бороться за каждую победу, а сейчас они сами идут тебе в руки. Нет, ты должен беречь свою красоту. Ее нельзя терять, особенно в наше время, когда люди слишком много читают, чтобы быть мудрыми, и слишком много думают, чтобы быть красивыми. А теперь тебе пора одеваться и отправляться в клуб. Мы и так уже опаздываем.
– Лучше я приеду прямо в оперу, Гарри. Я так устал, что совсем потерял аппетит. Номер ложи твоей сестры?
– Кажется, двадцать семь. Она находится на самом верху. Ты увидишь ее имя на двери. Но мне жаль, что ты не хочешь со мной пообедать.
– Я просто не в состоянии, честно, – устало сказал Дориан. – Спасибо, Гарри, за все, что ты мне сказал. Я твой должник. Ты действительно мой лучший друг. Никто не понимает меня так, как ты.
– А ведь наша дружба только начинается, – ответил лорд Генри, пожимая ему руку. – Всего хорошего. Надеюсь, мы увидимся не позднее чем в половине десятого. Не забывай, сегодня поет Патти.
Когда лорд Генри вышел и закрыл за собой дверь, Дориан позвонил в колокольчик, и через несколько минут в комнате появился Виктор. Он принес лампы и опустил шторы. Дориан нетерпеливо ждал, пока он уйдет. Ему казалось, что слуга сегодня копается бесконечно долго.
Как только Виктор ушел, Дориан Грей подбежал к ширме и отодвинул ее. Нет, он больше не изменился. Он знал о смерти Сибилы Вэйн еще до того, как весть об этом дошла до Дориана. Портрет знал обо всем, что происходило в его жизни. Поэтому бездушная жестокость исказила прекрасные уста тотчас, как девушка выпила яд. Или может быть так, что на портрете отражаются не деяния живого Дориана Грея, а только то, что происходит в его душе? Размышляя об этом, Дориан Грей спрашивал себя, а что, если однажды портрет изменится у него на глазах? С одной стороны, он хотел, чтобы это произошло, а с другой – сама мысль об этом заставляла его дрожать.
Бедная Сибила! Но как же все это романтично! Она так часто изображала смерть на сцене, и вот Смерть пришла, чтобы забрать ее. Как Сибила сыграла эту свою последнюю сцену? Проклинала ли она его, умирая? Нет, она умерла от любви к нему, и отныне Любовь станет его вечной святыней. Отдав свою жизнь, Сибила искупила все. Он больше не будет вспоминать, как страдал из-за нее в тот ужасный вечер в театре. Вместо этого она останется в его памяти как прекрасный и трагический образ на большой сцене жизни, который призван показать миру высшую сущность Любви. Странный трагический образ? Воспоминания о детском лице Сибилы, ее волшебной живости и застенчивой грации наполнили его глаза слезами. Он торопливо смахнул их и снова посмотрел на портрет.
Он сказал себе, что пора сделать выбор. Или он уже сделал его? Да, сама жизнь решила за Дориана – жизнь и его безграничный интерес к ней. Вечная молодость, бесконечная страсть, утонченные и запретные утехи, безумие счастья и еще более неистовое безумие греха – все это он должен изведать! А портрет пусть несет бремя его позора – вот и все.
На мгновение его сердце защемило от мысли, что прекрасное лицо на портрете станет уродливым. Однажды он, еще совсем юный и глупый, что Нарцисс, поцеловал – вернее, сделал вид, что целует эти нарисованные губы, которые теперь с такой злостью улыбались ему. Каждое утро он долго любовался портретом. Иногда он чувствовал, что почти влюблен в него. И неужели теперь каждая слабость, которой он, Дориан, поддастся, будет отражаться на этом портрете? Неужели он станет ужасно уродливым и его придется прятать под замок, подальше от солнца, которое так часто покрывало золотом его прекрасные кудри? Как жаль! Как жаль!
В какой-то момент Дориан Грей захотел помолиться о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом. Портрет изменился, потому что он когда-то пожелал этого, – так, может, новая молитва сможет остановить эти изменения? Но… Разве человек, познавший хотя бы малейшую частицу жизни, откажется от возможности остаться вечно молодым, какой эфемерной не была бы эта возможность и какими бы роковыми последствиями она не угрожала? К тому же разве это действительно в его силах? Разве действительно прошение вызвало такое изменение? Не объясняется ли это изменение какими-то неизвестными законами науки? Если мысль способна влиять на живой организм, то, возможно ли, что она действует и на мертвые, неодушевленные предметы? Более того, даже без участия нашей мысли или сознательной воли не может ли то, что вне нас, звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами и атом стремиться к атому под влиянием какого-то таинственного притяжения или странного родства?.. Впрочем, причины уже не имели значения. Никогда больше он не станет призывать на помощь страшные, неведомые силы. Если портрету суждено меняться, пусть меняется. Какой смысл в том, чтобы искать причины?
А наблюдать этот процесс будет настоящим наслаждением! Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные свои помыслы. Портрет станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо, а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все еще оставаться на очаровательной грани между весной и летом. Когда лицо на портрете потеряет свои краски и станет меловой маской с оловянными глазами, лицо живого Дориана будет по-прежнему сохранять все сияние юности. Да, цвет его красоты не увянет, пульс жизни никогда не ослабнет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, быстроногим и жизнерадостным. Не все ли равно, что будет с его портретом? Самому-то ему ничто не угрожает, а только это и важно.
Дориан Грей, улыбаясь, завесил портрет и пошел в спальню, где его ждал камердинер. Через час он был уже в опере, и лорд Генри сидел позади, опираясь на его кресло.
[8] Джон Уэбстер (1578–1634) – английский драматург, современник Шекспира, мастер так называемой «кровавой трагедии»; Джон Форд (1586–1649) – один из крупнейших английских драматургов шекспировской плеяды; Сирил Тернер (1575–1626) – английский драматург, его пьесы также относят к жанру «кровавой трагедии».
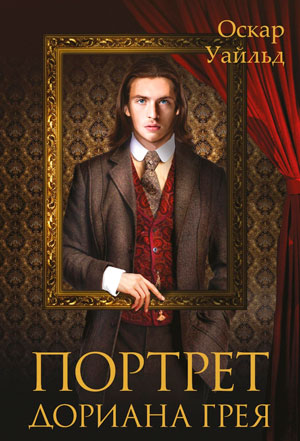
Комментировать