- I. Новичок в окружающем мире
- II. Поиски закономерностей
- II. Полуверие
- III. "Сто тысяч почему"
- IV. Дети о рождении
- V. Ненависть к печали
- VI. Дети о смерти
- VII. Новая эпоха и дети
- VIII. Слезы и хитрости
- IX. Продолжаю прислушиваться
Вокруг меня, ни на миг не смолкая, слышалась звонкая детская речь. На первых порах она просто забавляла меня, но мало-помалу я пришел к убеждению, что, прекрасная сама по себе, она имеет высокую научную ценность, так как, исследуя ее, мы тем самым вскрываем причудливые закономерности детского мышления, детской психики.
Последние издания этой книги я посвящал своей единственной правнучке Маше. Но Маша уже давно не единственная. Добрая моя судьба то и дело обогащает меня все новыми и новыми правнуками. Теперь у меня кроме Маши есть и Юра, и Боба, и Коля, и Андрюша, и Марина, и Митя. Каждому из них и всем вместе я посвящаю эту правдивую книгу, а также их внукам и правнукам, которые будут жить и работать в завтрашнем двадцать первом столетии.
I. Новичок в окружающем мире
Разум ребенка у нас не в чести.
Всякому, кто высказывает какую-нибудь вздорную мысль, мы нередко говорим с раздражением:
– У тебя детская логика!
Или:
– Ты рассуждаешь, как малый ребенок.
Или еще обиднее:
– Глуп, как дитя!
Многим это кажется вполне справедливым: ведь и вправду очень часто приходится слышать от малых ребят самые нелепые суждения и домыслы.
Но стоит только вдуматься в эти «нелепости», и мы будем вынуждены раз навсегда отказаться от такого скороспелого мнения: мы поймем, что в этих «нелепостях» проявляется жгучая потребность малолетнего разума во что бы то ни стало осмыслить окружающий мир и установить между отдельными явлениями жизни те прочные причинные связи, которые ребенок стремится подметить с самого раннего возраста.
Правда, это не всегда удается ему.
Однажды в дачной местности под Ленинградом случилось такое событие: когда небо на закате было красное, подстрелили бешеного пса. С тех пор Майя, двух с половиною лет, всякий раз, когда видела алое вечернее небо, говорила с полным убеждением:
– Опять там бешеную собаку убили!
Легко глумиться над юной мыслительницей, воображающей, будто из-за какого-то дохлого пса небо запылало огнем! Но разве здесь не сказывается та драгоценная тяга к установлению связи между отдельными фактами, которая является движущей силой всех созданных человеком наук?
Эта тяга зачастую приводит ребенка к самым фантастическим выводам. Вот, например, каким образом четырехлетняя Тася усвоила слово «ученый». Впервые с этим словом она встретилась в цирке, где показывали ученых собак. Поэтому, когда полгода спустя она услыхала, что отец ее подруги – ученый, она спросила радостно и звонко:
– Значит, Кирочкин папа – собака?
Ошибка опять-таки чрезвычайно почтенная: в ней сказывается великолепная способность человеческою разума применять ко всякому новому комплексу незнакомых явлений результаты жизненного опыта, добытые в других областях.
Но опыт ребенка микроскопически мал, и оттого ребенок пользуется им иногда невпопад.
Поезд налетел на свинью и разрезал ее пополам. Катастрофу увидела пятилетняя дачница Зоря Котинская и пролила много слез. Через несколько дней ей попалась навстречу живая свинья.
– Свинья-то склеилась! – закричала в восторге Зоря.
Вот до чего ребенку неведомы простейшие вещи, с которыми ему приходится сталкиваться! Новичок в окружающем мире, он на каждом шагу попадает впросак, громоздя ошибку на ошибку.
Каждый малыш совершает множество подобных ошибок, основанных на глубочайшем незнании самых элементарных вещей и явлений.
Мой трехлетний сын впервые познакомился с сосновыми шишками, когда они валялись на земле под деревьями. И лишь через месяца два увидел их на ветках сосны с верхнего этажа нашей дачи:
– Шишки на дерево полезли как-то.
До чего скудны сведения малых ребят о простейших закономерностях жизни, лучше всего можно видеть из тех потрясающе наивных вопросов и домыслов, с которыми они обращаются к старшим:
– Мама, кто раньше родился: ты или я?
– Папа, а когда ты был маленький, ты был мальчик или девочка?
– Я люблю снег больше солнышка. Из снега можно крепость построить, а из солнышка что?
– Я люблю чеснок: он пахнет колбасой!
– Мама, крапива кусается?
– Да.
– А как она лает?
– Море – это с одним берегом, а река с двумя.
– Под кроватью живут мышкины птенчики.
– А если оторвать голову и я ее в руки возьму, будет она разговаривать?
– Страус – это жираф. Только птица она.
– Индюк – это утка с бантиком.
Крошит курам капустные листья, которые они не едят.
– Это я им в запас, на потом, когда они станут кроликами.
– Мама, что это радио говорит: война, война! Что это такое – война?
– Это когда враги нападают на мирную страну, убивают людей, поджигают города, села, деревни.
Анка снимает радио.
– Куда ты понесла радио? Поставь на место!
– Несу на помойку.
– Зачем?
– Чтобы не было войны!
– Что ли, ножик – вилкин муж?
– Ой, луна вместе с нами летит и в трамвае и в поезде! Тоже на Кавказ захотела!
– Папа, да сруби ты, пожалуйста, эту сосну… Она делает ветер; а если ты срубишь ее, станет тихо в я пойду гулять.
Солнце опускается в море.
– Почему ж оно не зашипело?
Впервые увидал полумесяц:
– Ой, ракета луну поломала
– Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
– Если я вырасту тетей, буду врачом. А вырасту дядей – инженером.
Валерик четырех лет:
– Мама, ты была девочкой?
– Да, была.
– В школу ходила?
– Ходила.
– А с кем я дома оставался?
Леша взял кость от говядины, зарыл ее у себя под окном, чтобы выросла корова. По вечерам он поливал эту кость, а по утрам бегал проверять, не показались ли из-под земли коровьи рога.
Моя Мура, трех с половиною лет, совершила такой же безумный (и в то же время вполне закономерный) поступок, который я тогда же попытался прославить в стихах:
Мура туфельку снимала,
В огороде закопала:
«Расти, туфелька моя,
Расти, маленькая!
Уж как туфельку мою
Я водичкою полью,
И вырастет дерево,
Чудесное дерево!
Будут, будут босоножки
К чудо-дереву скакать
И румяные сапожки
С чудо-дерева срывать,
Приговаривать:
«Ай да Мурочка,
Ай да умница!»
– Собаки нужны охотнику, чтобы на него зайцы не напали?
У Славы в папиросной коробке пчела.
– Зачем ты мучаешь пчелу? Выпусти ее.
– Как же! «Выпусти»! Я ее доить буду! Она мне будет мед давать!
Эвакуированная семья устроилась спать под открытым небом у вокзала.
– Мама, почему мы не взяли с собой нашу крышу?
И солнце, и звезды в одно мгновение создаются ребенком из маленького пламени в печке:
– Топи, топи, папа, пусть огонь летит на небо, там из него сделаются и солнце и звезды.
И вот причина появления весны:
– Зиме стало холодно, она и убежала куда-то.
Такая же эрудиция в области политэкономии:
– Мама, сходи на базар, купи, пожалуйста, побольше денег.
Засыпая в непривычном Крыму:
– Мамочка, потуши солнце.
Увидела поезд:
– Вот откуда облака! Их паровозы делают.
– Ложись на мою подушку, будем вместе мой сон смотреть!
Когда обидят двухлетнего Элю, он говорит угрожающе:
– Сейчас темно сделаю!
И закрывает глаза, убежденный, что благодаря этому весь мир погрузился во тьму.
– Как ты спал? Что видел во сне?
– Ну да! Разве в такой темноте что-нибудь увидишь!
Трехлетней Иринушке подарили крохотные кукольные качели.
Писатель Пантелеев спросил:
– Можно мне на них покачаться?
– Нет, они пока еще маленькие.
– Мама, знаешь, небо сделано из пластмассы!
– Мама, из чего делают корку на хлебе?
– Из муки.
– А как же потом ее на хлеб натягивают?
Миф о происхождении двугорбых верблюдов.
Мать говорит своему трехлетнему Лёсе:
– Слезь с окна, упадешь, будешь горбатый.
– А верблюд, наверно, два раза падал.
Леночка Люляева попросила у бабушки китайский сервиз.
– Когда будешь выходить замуж – подарю.
Леночка сейчас же к отцу:
– Папочка, дорогой, давай с тобой поженимся, и тогда у нас будет китайский сервиз.
Здесь в каждом слове, в каждом поступке ребенка сказывается полное незнание простейших вещей и явлений.
Но, конечно, я привожу эти факты не затем, чтобы глумиться над детским невежеством.
Напротив, они-то и внушают мне уважение к ребенку, так как свидетельствуют, сколько гигантской работы приходится проделывать детскому мозгу, чтобы уже к семилетнему возрасту преодолеть этот умственный хаос.
Нельзя не удивляться тому, за какой маленький срок ребенок овладевает таким несметным богатством разнообразных познаний.
Уже ко времени поступления в школу он начисто освобождается от тех заблуждений, которые были присущи ему в возрасте от двух до пяти.
К этому времени его эрудиция становится так велика, он так чудесно ориентируется в мире вещей и явлений, что уже не скажет ни одной из тех фраз, какие приводятся в настоящей главе: ему уже твердо известно, что шишки не взлезают на дерево, что куры не становятся кроликами и вилка не бывает женою ножа. Уже та неизмеримо огромная разница, какую мы замечаем в объеме познаний младшего дошкольника и младшего школьника, говорит о чудодейственной активности детского разума в этот ранний период его бытия.
Вот, например, как велика неосведомленность малых детей в области анатомии, физиологии людей и животных.
– У меня эти глаза навсегда или они, как зубы, выпадут?
Голый мальчик стоит перед зеркалом и говорит, размышляя:
– Глаза, чтобы смотреть… Уши, чтобы слышать… Рот, чтобы говорить… А пуп зачем? Должно быть, для красоты…
– У Юры в носу понос!
– Ой, мама, меня под коленкой тошнит!
Сережа, двух с половиною лет, с большим любопытством глядел, как женщина, придя к его матери, кормит свою девочку грудью.
– Мама, – спросил он, – а когда я был маленький, я тоже так пил молоко?
– Да.
– А как ты его туда наливала?
Другой столь же глубокий вопрос, заданный при тех же обстоятельствах.
Мать кормит грудью новорожденную Катю. Старший Максим лет пяти, правнук А.М.Горького, спрашивает с величайшей серьезностью:
– А кофе там тоже бывает?
– У Аленки на руках одни мизинчики!
– Я буду доктор, а ты пусть больная. Что у вас болит?
– Глаза.
– С вашими глазами случилось воспаление легких.
– Мама, мама, у меня болит блюдечко!
И указала на коленную чашку.
– У коровы из титеньки морковки торчат.
Бабушка вынула искусственные зубы. Юра расхохотался:
– А теперь глазки выньми!
– Вот чудо – я пью и кофе, и воду, и чай, и какао, а из меня выходит один только чай.
– Мама, сними с меня башмак. У меня на правой ноге ладошка чешется.
– Ах, мамочка, у тебя только две груди?
– А ты что думал?
– А я думал – как у нашей Дамки: в два ряда по всему животу.
II. Поиски закономерностей
Но сколько бы мы ни приводили подобных ошибок, нельзя не восхищаться проявившимся в них упорным стремлением детского разума внести хотя бы иллюзорный порядок в разрозненные, дробные знания о мире.
Пусть ребенок на первых порах устанавливает ассоциации по случайному признаку, пусть иные применяемые им аналогии ложны, все же самое желание ребенка ответить на вопросы: зачем? почему? каким образом? – есть важнейшее качество его младенческой психики.
В этом искании закономерностей – основа культуры, залог прогресса человеческой мысли; и как бы ни спотыкался ребенок на первых порах (а спотыкается он буквально на каждом шагу!), он идет по верному пути.
Каждое из тех детских суждений, которые мы сейчас приводили, основано либо на ассоциации по смежности, либо на ассоциации по сходству.
Ассоциацию по смежности применила, например, двухлетняя Майя – та, о которой сказано в самом начале главы. Ее сильно поразили два факта, совпавшие случайно во времени: закатное небо, пламеневшее невиданными алыми красками, и выстрел милиционера в собаку.
Именно потому, что эти два факта были для нее так неожиданны, новы и ярки, она выделила их из ряда других – и тотчас же установила между ними причинную связь, решив, будто собак убивают всегда, когда небо становится красным.
Пусть на этот раз она ошиблась, но все же, повторяю, она проявила важнейшую склонность ума человеческого к отысканию взаимной обусловленности наблюдаемых фактов.
Здесь, так сказать, эмбрион причинно-следственного мышления, свойственного всему человечеству.
Конечно, ошибочные суждения детей мы, взрослые, должны искоренять самым настойчивым образом; но нельзя же оставаться слепыми к тем замечательным приемам мышления, которыми оперирует ребенок даже тогда, когда совершает ошибки.
Ошибки очень скоро преодолеются жизненной практикой, навыки же к причинно-следственному истолкованию фактов останутся у ребенка навсегда.
Чудесно сказано об этом у Сеченова: «Ребенок начинает сознавать предметы внешнего мира не только в их обособленности, но и со стороны взаимных отношений, как цельных предметов друг к другу, так и частей каждого отдельного предмета к своему целому. Пониманию ребенка открываются через это те пружины материального бытия, которыми связываются объекты внешнего мира и которые составляют основу как обыденного, так и научного миросозерцания.
Из элементарных размышлений ребенка вырастает мало-помалу та грандиозная цепь знаний, которая, начинаясь самым поверхностным расчленением конкретных фактов материального мира, увенчивается точным, непогрешимым математическим знанием»1.
От «поверхностного расчленения фактов» Майя, как мы видели, уже перешла к отысканию их взаимных отношений. Правда, она даже попытки не делает определить качества наблюдаемых ею вещей, а просто связывает их произвольной каузальной (причинной) связью.
Следующий шаг на этом пути – ассоциации по сходству (и различию) предметов. Наиболее наглядным примером такой ассоциации является сделанное трехлетним ребенком определение индюка: «Индюк – это утка с бантиком».
Одно частное понятие ребенок определяет другим, и в этом его ошибка; но самое его тяготение к классификации объектов материального мира по видовым и родовым признакам, к сопоставлению их с другими объектами является надежной основой всей его будущей умственной деятельности.
II. Полуверие
Но, конечно, ребенок есть ребенок, а не ученый педант.
При всей огромности своей интеллектуальной работы он никогда не чувствует себя умственным тружеником, неутомимым искателем истины.
Он то играет, то прыгает, то поет, то дерется, то помогает бабушке или маме хозяйничать, то капризничает, то рисует, то слушает сказку, и уразумение окружающей жизни никогда не воспринимается им как специальная задача его бытия.
Никогда не выделяет он мышления из всей своей жизненной практики, да и самое мышление у него в эту пору очень неустойчиво, прерывисто и легко отвлекается в сторону.
Длительная сосредоточенность мысли не свойственна раннему дошкольному возрасту.
Часто случается, что, создав ту или иную гипотезу для объяснения непонятных явлений, ребенок через минуту уже забывает о ней и тут же импровизирует новую.
В конце концов он доработается мало-помалу до более верного понимания действительности, но, конечно, нельзя ожидать, что за неправильной гипотезой сразу же последует более правильная. Он идет к истине большими зигзагами.
Иногда в его уме очень мирно сожительствуют два прямо противоположные представления. Это видно хотя бы из такой изумительной фразы одной четырехлетней москвички:
– Бог есть, но я в него, конечно, не верю.
Бабушка внушала ей догматы православной религии, отец, напротив, вовлекал ее в безбожие, и она, желая угодить и той и другой стороне, выразила одновременно в одной крошечной фразе и веру и неверие в бога, обнаружив большую покладистость и (в данном случае!) очень малую заботу об истине:
– Бог есть, но я в него, конечно, не верю.
Высказывая два положения, взаимно исключающие друг друга, ребенок даже не заметил, что у него получился абсурд.
– А бог знает, что мы ему не верим?
Ни в социальном, ни в биологическом плане тюте истины еще не нужны ему, и оттого он так охотно играет понятиями, легко создавая для себя разнообразные фикции, и распоряжается ими то так, то иначе, как вздумается.
Четырехлетняя девочка играет деревянной лошадкой, как куклой, и шепчет:
– Лошадка надела хвостик и пошла гулять.
Мать прерывает ее: лошадиные хвосты не привязные, их нельзя надевать и снимать.
– Какая ты, мама, глупая! Ведь я же играю!
Из дальнейшего выясняется, что истина о неотделимости лошадиных хвостов издавна известна девочке, но именно поэтому она может оперировать противоположным понятием, создавая воображаемую ситуацию, дабы играть со своей бесхвостой лошадкой, как с куклой, – то есть одевать, раздевать ее.
Чем больше вглядываюсь, тем яснее вижу, что наши «взрослые» отношения к истине нередко бывают чужды ребенку – особенно во время игры.
Какие только игры не увлекают ребенка! Среди них очень заметное место принадлежит смысловым играм, целесообразность которых вполне очевидна: ребенок как бы тренируется для будущей умственной деятельности.
Одна из этих игр заключается именно в том, что ребенок, услышав два разных истолкования одного и того же факта, соглашается одновременно «верить» обоим.
Очевидно, в такие минуты истина кажется ему многообразной, пластичной, допускающей неограниченное число вариантов.
Здесь вполне применимо меткое английское слово halfbelief – полуверие, вера наполовину.
Это полуверие имеет разные степени, и порою мне кажется, что ребенок управляет им по собственной воле.
Пятилетняя Люся спросила однажды у киевского кинорежиссера Григория Прокофьевича Григорьева:
– Почему трамвай бегает туда и сюда?
Он ответил:
– Потому что трамвай живой.
– А отчего искры?
– Сердится, хочет спать, а его заставляют бегать – вот он и фыркает искрами.
– И неправда! – закричала Люся. – Он не живой и не сердится.
– Если бы не живой, не стал бы бегать.
– Нет, там такая машина, мне сам папа сказал, я знаю!
Григорьев был обескуражен ее реализмом и смолк. Но через некоторое время услышал, к великому своему изумлению, как Люся поучает подругу:
– А ты и не знаешь? Если бы не живой, разве бегал бы взад и вперед? Видишь – искры: трамвай сердится, хочет спать, набегался за день.
Подруга слушает ее и верит ей ровно настолько, насколько это нужно для данного случая.
Люся продолжает наслаждаться гипотезой о живом и очень сердитом трамвае. И хотя ей отлично известно, что такое трамвай, она не без успеха вычеркивает из своего сознания истину, мешающую ее смысловой игре.
Ибо временами ребенок не столько приспособляется к истине, сколько истину приспособляет к себе ради воображаемой игровой ситуации.
Моя правнучка Машенька, начиная с двухлетнего возраста, выражала свое тяготение к сказке, к фантастическим представлениям о мире при помощи словечка «как будто».
Вот отрывок из дневника ее матери:
«Она уже прекрасно знает, что ни животные, ни предметы не могут говорить. Однако пристает ко мне с вопросами:
– Мама, а что сказала лошадь дедушке как будто?
Или:
– Мама, а что стул сказал как будто столу, когда его отодвинули? Он сказал: «Мне без столика скучно» как будто, а столик как будто заплакал.
И если я не всегда могу сообразить, что сказал «как будто», допустим, дом грузовику, она мне подсказывает и велит повторять.
– Когда мы идем за грибами, то они как будто говорят: «Давайте вылезать из земли, за нами идут».
Из дальнейших записей того же дневника выясняется, что девочка чувствовала себя полной хозяйкой всех создаваемых ею иллюзий и по своему желанию могла отказаться от них, если они нарушали ее интересы.
Как-то за чаем она закапризничала и заявила, что ей не хочется булки. Мать попыталась воздействовать на нее при помощи того же «как будто».
– Видишь, булочка как будто просит, чтобы ты ее скушала.
И услышала резонный ответ:
– Булка говорить не умеет. У булки нет ротика.
И такое повторялось не раз: девочка, в случае надобности, тотчас же отрекалась от всяких «как будто» и становилась трезвой реалисткой. Ибо у нее, как у всех малышей, было чисто игровое отношение к фантастике, и она верила в свои иллюзии в той мере, в какой они были нужны ей для ее познавательных игр.
Точно так же относится ребенок и к сказочный вымыслам. Некий велемудрый отец, оберегая свою дочь от фантастики, сочинил для нее, так сказать, антисказку, где проводилась мысль, что бабы-яги вообще не существует в природе.
– Я и без тебя знала, – ответила девочка, – что бабы-яги не бывает, а ты мне расскажи такую сказку, чтоб она была.
По существу это двойственное, игровое отношение к реальности ничем не отличается от того, какое выразилось в незабываемой фразе:
– Бог есть, но я в него, конечно, не верю.
Процесс добывания истины нисколько не затрудняет ребенка. Многие проблемы он решает мгновенно, экспромтом, на основании случайных аналогий, иногда поражающих своей фантастичностью.
Мать готовится печь пироги. Ее пятилетняя дочь сидит на подоконнике и спрашивает:
– Откуда берутся звезды?
Мать не успевает ответить: она занята своим тестом. Девочка следит за ее действиями и через несколько минут сообщает:
– Я знаю, как делают звезды! Их делают из лишней луны.
Эта внезапная мысль подсказана ей пирожками. Она увидела, как мать, изготовляя большой пирог, отрезает от раскатанного теста все «лишнее», дабы вылепить из этого «лишнего» десяток-другой пирожков2.
Отсюда созданная детским умом параллель между пирожками и звездами, которая в ту же минуту привела его к новой теории о происхождении планет.
III. «Сто тысяч почему»
Все это так… Но этим не должно заслоняться от нас основное стремление детского разума овладеть наибольшим количеством знаний, необходимых для правильной ориентации в мире.
Какой бы неустойчивой и шаткой ни казалась нам (особенно в первые годы) умственная жизнь ребенка, мы все же не должны забывать, что ребенок от двух до пяти – самое пытливое существо на земле и что большинство вопросов, с которыми он обращается к нам, вызвано насущной потребностью его неутомимого мозга возможно скорее постичь окружающее.
Главное отличие человека от всех, даже высших, животных заключается в том, что животные, встречаясь с каким-нибудь жизненным фактом, никогда не спросят себя, почему этот факт существует.
Вопросы «почему?», «отчего?» возникают лишь в уме у человека.
«Желание узнать причины, как что делается возле нас, совершенно естественно человеку в каждый возраст, – утверждает А.И.Герцен в своих «Разговорах с детьми». – Это всякий испытал на себе. Кому не приходило в голову в ребячестве, отчего дождь идет, отчего трава растет, отчего иногда месяц бывает полный, а иногда видна одна закраинка его, отчего рыба в воде может жить, а кошка не может?.. Людям так свойственно добираться до причины всего, что делается около них, что они лучше любят выдумывать вздорную причину, когда настоящей не знают, чем оставить ее в покое и не заниматься ею.
Такого любопытства – знать, что и как делается, – звери не имеют. Зверь бегает по полю, ест, коли что попадется по вкусу, но никогда не подумает, почему он бегает и отчего он может бегать, откуда взялся съестной припас, который он ест. А люди всем этим заботятся»3.
Больше всего люди «заботятся» этим в ребячестве. С возрастом пытливость угасает, особенно у тех, кто привык думать и жить по инерции…
Не то ребенок – в возрасте от двух до пяти.
Вот стенографическая запись вопросов, заданных с пулеметною скоростью одним четырехлетним мальчуганом отцу в течение двух с половиной минут.
– А куда летит дым?
– А медведи носят брошки?
– А кто качает деревья?
– А можно достать такую большую газету, чтобы завернуть живого верблюда?
– А осьминог из икры вылупляется или он молокососный?
– А куры хожут без калош?
И вот вопросы другого ребенка:
– Как небо получилось?
– Как солнце получилось?
– Отчего луна такая ламповая?
– Кто делает клопов?4
Иногда эти вопросы следуют один за другим более замедленным темпом. В неизданном дневнике Ф.Вигдоровой приводятся такие вопросы ее пятилетней дочери:
«Кто такой гигант? – А гигант может поместиться в нашей комнате? – А если встанет на четвереньки? – А гиганты ходят в одежде или голые? – А что гиганты кушают? – Они добрые или нет? – А может один гигант убить всех фашистов?
Все это не сразу, а порознь. Значит, голова продолжает работать, раздумывать».
Машенька о радио:
– А как же туда дяди и тети с музыкой влезли?
И о телефоне:
– Папа, когда я с тобой говорила по телефону, как же ты туда, в трубочку, забрался?
Мне сообщают о трехлетнем мальчугане, который задал такой же вопрос.
Его тетка, физик по образованию, тотчас же принялась объяснять ему устройство телефонного аппарата.
Он внимательно слушал ее, но после всех объяснений спросил:
– А как же папа оттуда вылез?
– Кто сделал дырки в носу?
– И почему у одних только мамов есть молоко для маленьких, а у папов нет?
Гораздо реже, чем «отчего?» и «почему?», ребенок задает вопрос: «зачем?» И все же задает его с горячим упорством.
К трем годам – порою даже раньше – он проникается твердой уверенностью, что все окружающее существует не «просто так», а для какой-нибудь точно обозначенной цели, – главным образом для удовлетворения его собственных нужд и потребностей. Корова – чтобы давать ему молоко, яблоня, чтобы снабжать его яблоками, тетя Зина, чтобы по праздникам угощать его тортом. Когда же целесообразность окружающих его людей и предметов остается непонятной ему, он видит здесь нарушение строго установленных законов природы и заявляет протест:
– Мама, зачем это в каждую черешню кладут косточку? Ведь косточки все равно надо выбрасывать.
– Почему крыжовник натыкался булавками?
– Зачем снег на крыше? Ведь по крыше не катаются ни на лыжах, ни в санках!
– Ну хорошо: в Зоопарке звери нужны. А зачем в лесу звери? Только лишняя трата людей и лишний испуг.
Иногда вопросы «для чего?» и «зачем?» возникают у малых детей в самых неожиданных случаях.
Трехлетняя Верочка от кого-то услышала, что не следует вставать с левой ноги, и решила всегда вставать с правой. Но запомнить, где левая нога, а где правая, было не так-то легко, и Вера не раз ошибалась. Эти ошибки очень огорчали ее. В конце концов она чуть не со слезами воскликнула:
– И зачем это приделали левую ногу?
У Чехова есть крохотный рассказ «Гриша», где собрано столько наблюдений над малым ребенком, сколько иной профессиональный психолог не сделает за всю свою жизнь. Гриша (двух лет восьми месяцев), как и всякий человек его возраста, задает себе вопросы «почему?» и «зачем?» по поводу многих предметов и лиц, причем считает их существование оправданным лишь в той мере, в какой они служат ему. Так, по его убеждению, часы в столовой нужны исключительно для того, чтобы махать маятником и звонить. Еще больше оправдано существование няни и мамы:
«Они одевают Гришу, кормят и укладывают его спать, но для чего существует папа – неизвестно»*5.
С возрастом познавательные интересы ребенка все более утрачивают свою неустойчивость, и уже к пяти-шести годам он начинает серьезнейшим образом относиться к материалу своей интеллектуальной работы.
Очень убедительно говорится об этом в письме, которое написала мне из города Пушкина юная мать, Нина Васильева, о своем четырехлетнем Николке:
«…Он настойчиво расспрашивает меня, что такое война, что такое граница, какие народы живут за границей, кто с кем воевал и с кем дружно жил, с кем собирается воевать и что побуждает к войне тех или других и т.п. Отбою нет: так настойчиво, точно хочет заучить.
Я часто отказываюсь отвечать ему, потому что не знаю, как примениться к четырехлетнему уму; он раздражается и даже начинает презирать меня за незнание.
– Как устроен водопровод, паровой котел, трактор, автомобиль, электрическое освещение, что такое гроза, откуда берутся реки, как охотятся на диких зверей, на каждый вид в отдельности, отчего заводятся в утробе матери детеныши – «от пищи, что ли?» – подробно о птицах, о жителях прудов, где мы копаемся сачком, – вот его вопросы, они исходят исключительно от него самого без всякого толчка с моей стороны, и все они трактовались еще в прошлом году, когда ему было три года.
Часто я отвечаю ему в духе: «Вырастешь, Саша, узнаешь», – как у Некрасова. Он серьезнейшим образом, очень продуманно говорит:
– Не будешь мне отвечать, я буду глупый; а если ты не будешь отказываться мне объяснять, тогда, мама, я буду все умнее и умнее…»
Не всякий ребенок способен так отчетливо и внятно мотивировать требования, которые он предъявляет ко взрослым, но всякий предъявляет их с такой же настойчивостью.
Эти требования четырехлетний Сережа лаконически выразил в таком обращении к маме:
– Я почемучка, а ты потомучка!
И те взрослые, которые брезгливо отмахиваются от «докучных» вопросов ребенка, совершают непоправимо жестокое дело: они насильно задерживают его умственный рост, тормозят его духовное развитие. Правда, в жизни ребенка бывают периоды, когда он буквально замучивает своих бабок, отцов, матерей бесконечными «почему» и «зачем», но чего бы стоило наше уважение к ребенку, если бы мы ради личных удобств лишили его необходимейшей умственной пищи?
«Есть детский возраст, – пишет Борис Житков, – это между 4-мя и 6-ю годами, когда дети неотступно, просто автоматически, кажется, на каждое слово взрослых отвечают, как маньяки, как одержимые: почему?
– Птичка летает, птичка порхает! – пробует отвлечь их взрослый.
Но ребенок неукоснительно спрашивает:
– Почему порхает?
Даже «серенький козлик» не утешает, сейчас же вопрос:
– Почему серенький?
Но не только «почему серенький?» – вопросы ставят родителям прямо деловые, конкретные вопросы. Тут у родителей часто не хватает сведений, а тогда чаще не хватает смелости ответить: «Не знаю. Погоди, справлюсь, скажу».
Родители в таких случаях зачастую врут.
Врут из двух соображений: во-первых, чтобы отстать от надоедливого «почемучки», и, во-вторых, чтобы не потерять авторитета всезнайства. Вопросы ребят самые универсальные; нужно, конечно, быть энциклопедистом, чтобы на все эти вопросы дать ответы, а зачастую и быть философом. Какая уж там энциклопедия и философия, когда трое на все голоса пристают и за юбку дергают! И родители волей-неволей брякают, что в ум взбредет. Но слово родителей – авторитет. И вот над авторитетной санкцией размышляют жадные умы.
Взрослый давно забросил эти «почему»: то ли устав спрашивать, то ли отчаявшись получить исчерпывающий ответ. Но ребенок, раз поверив в ум и знания взрослых, не отстает и спрашивает:
– А почему глиняный?
А взрослый отвечает что попало, в надежде: вырастет – сам поймет, в чем дело, когда поумнеет. А этот маленький, от которого он отмахивается авторитетной глупостью, не глупей его. Его ум еще не засорен и жадней к знанию»6.
Но, разумеется, далеко не все родители отвечают что попало.
Чувство своей социальной ответственности за правильное воспитание ребенка заставляет многих матерей и отцов усиленно заниматься самообразованием – специально для того, чтобы исподволь подготовиться к неизбежным вопросам четырехлетних мыслителей.
«Надо признаться, что у меня часто не хватает знаний, чтобы ответить на ряд вопросов детей, – пишет одна мать в стенгазете детского сада. – Те элементарные сведения, которые я получила в школе в области естествознания, биологии, не всегда достаточны, наполовину забыты, а ведь вопросы ребят бывают очень разнообразны… Отвечать на эти вопросы надо, и надо ответить так, чтобы ребенок понял… И вот приходится ходить в планетарий, брать книжку «Правда о небе», браться за ботанику, зоологию…»7
Наш воспитательский долг – не только отвечать малышам на их бесконечные вопросы, но и активно пробуждать их пытливость, чтобы число этих вопросов росло. Нужно ли говорить, что из года в год, а порою из месяца в месяц эти вопросы становятся все содержательнее?
Отсюда, конечно, не следует, что мы должны сразу перегружать детский мозг всей своей тяжеловесной эрудицией. «Толково ответить на вопрос ребенка, – писал Горький, – большое искусство, оно требует осторожности». Наши ответы на вопросы детей должны быть строго дозированы. Ведь дети совсем не требуют от нас, чтобы мы раскрывали перед ними всю истину – всю до конца, во всей ее сложности и глубине. Вот один из многих примеров, которые ежедневно убеждают нас в этом.
– Мама, как едет трамвай?
– По проводам идет ток. Мотор начинает работать, вертит колесики, трамвай едет.
– Нет, не так.
– А как же?
– А вот как: динь, динь, динь, ж-ж-ж-ж!
По наблюдениям советских педагогов, «даже дети дошкольного возраста не всегда своими вопросами стараются добиться настоящей, доподлинной причины того или другого явления, объяснение которого можно дать только в научной форме, недоступной ребенку».
Детям понятны главным образом поверхностные, внешние связи между явлениями природы. Поэтому ребенок удовлетворяется иногда простой аналогией, ссылкой на пример»8.
IV. Дети о рождении
Этой особенностью детского разума мы и обязаны пользоваться всякий раз, когда ребенок задает нам вопросы, на которые невозможно ответить со всей прямотой.
К числу таких вопросов принадлежит раньше всего вопрос о рождении.
Наиболее пытливые дети в большинстве случаев уже на четвертом году начинают страстно размышлять о причинах своего появления на свет. Тогда же у них возникают вопросы о том, откуда вообще появляется на земле все живое, и не было, кажется, ребенка, который не создал бы своей собственной гипотезы по этому поводу.
Конечно, все такие гипотезы всегда, без единого исключения, ошибочны, но каждая из них громко свидетельствует о неустанном труде его мысли.
Раздумья о начале всего существующего – закономерность умственного развития ребенка. И когда ребенок спрашивает: «Кто выродил первую маму?» – здесь сказывается одна из самых ранних попыток его юного мозга доискаться до первопричин материального мира.
По словам современных исследователей такие вопросы совершенно естественны. «Ребенок, – говорит один из английских ученых, – видит, что на свете существуют мужчины и женщины, старики и юнцы, маленькие дети и большие, он видит, что в его родной семье то и дело появляются новые младенцы, он слышит, что то же происходит и в других семьях, и конечно, он был бы слепым и глухим и притом слабоумным, если бы у него не возникло вопроса о происхождении детей»9.
Умелые педагоги применяют особую тактику, при помощи которой возможно, не слишком отклоняясь от истины, на первых порах удовлетворить любопытство ребенка, жаждущего проникнуть в тайны рождения человека. «А почему папа не беременный?» – спросил один малыш у воспитательницы детского сада. Она ответила ему с той осторожностью, которую рекомендовал педагогам М.Горький: «Родятся дети только у мам, а папы тоже любят своих детей, заботятся о них. Вы видели, как голуби кормили своих птенчиков: и мама и папа давали птенчикам корм. Яички в гнездышко кладет только мама, а когда мама-голубка улетает, то голубь садится на гнездо и греет яички…» «Вот в таком хорошем, вразумительном тоне дается ответ детям. И дети удовлетворяются», – сообщает автор статьи10.
Верна ли эта тактика, не знаю. Не очень-то мне нравятся эти мармеладные «яички» и «птенчики в гнездышках». К тому же дети бывают разные, и никаких универсальных рецептов, конечно, у нас не имеется. Здесь нужен индивидуальный подход, причем все зависит от чутья педагогов, от их таланта и такта. Общих норм, равно применимых ко всякому ребенку при всех обстоятельствах, здесь нет и не может быть. Поэтому на дальнейших страницах нам надлежит ограничиться простым воспроизведением наиболее характерных фактов, показывающих, как многосторонен и жгуч интерес малолетних умов к этой – для них непосильной – проблеме.
Вот, например, любопытная запись о моей правнучке Машеньке:
«До четырех лет ей внушали, что детей покупают в магазине. Но в четыре года посыпались вопросы: в каком магазине? где? как? и т.д.
Пришлось объяснить, что детей не покупают, а рожают. Например, мама родила Машеньку, а баба Марина – маму и т.д. «А дедушка Коля кого родил? Тети родят девочек, а дяди мальчиков?» – и была возмущена, узнав, что дяди не родят. Далее посыпалось: «Почему Сережа родился у тети Гали, а не у тебя? Не захотел быть в твоем животике? Почему? А почему Людочка родилась позже меня и теперь она меньше меня? Почему она не захотела родиться вместе со мной?»
– И мальчиков мамы родят? А для чего тогда папы?
– Как я родилась, я знаю. А вот откудова вы с папой выродились?
– Мама, кто меня выродил? Ты? Я так и знала. Если бы папа, я была бы с усами.
– А петух может совсем-совсем-совсем забыть, что он петух, и снести яичко?
– Как это – где я взялась? Ты же сама родила меня своими собственными руками.
– Дядя, дядя, из большого кролика высыпались вот такие малюсенькие. Иди скорее, а то они влезут обратно, и ты их никогда не увидишь!
Через много лет мне сообщили о девочке, которая, присутствуя при рождении котят, сказала понимающим голосом:
– Это мышки из кошки сыплются.
– Как сделался первый человек? Ведь его родить-то было некому!
Вере три года. Коле пять. Они поссорились. Вера кричит:
– Мама! Не роди этого гадкого Колю!
Коля (злорадно):
– А я уже выроженный!
– Эта девочка родилась с ручками и ножками или ей их потом приделали?
– Эх, мама, мама, и зачем ты родила этого гадкого Гуку! Сидел бы он лучше у тебя в животе и скучал бы там всю свою жизнь.
В повести Веры Пановой «Сережа» пятилетний герой рассуждает:
«Откуда берутся дети – известно: их покупают в больнице. Больница торгует детьми, одна женщина купила сразу двух. Зачем-то она взяла совершенно одинаковых – говорят, она их различает по родинке: у одного родинка на шее, у другого нет. Непонятно, зачем ей одинаковые. Купила бы лучше разных».
Вообще легенда о том, что родители покупают детей, – одна из самых распространенных среди младших дошкольников.
Какой-то назойливо шутливый старик сказал пятилетней Наташе об ее младшей сестре:
– Подари-ка мне эту девочку!
– Как же можно! – солидно возразила Наташа. – Мы за нее деньги платили.
Т.К.Горышина пишет:
«С извечным вопросом малолетних исследователей – откуда берутся дети, я столкнулась, когда Кате было четыре года. Относительно себя она безоговорочно приняла версию о покупке в магазине (насколько я знаю, этот современный вариант полностью вытеснил прадедовского аиста). Но уже в пять лет Катя обратилась ко мне с недоумением:
– А откуда звери берут детей? Ведь у них же нет магазинов».
– Ну вот, Славик, теперь тебе будет весело: мы купили маленькую Наташу.
– У, чего! Лучше бы купили телевизор!
– Сколько вы заплатили, когда покупали меня в родильном доме?
– Ты весил три килограмма, кажется, по семьдесят пять копеек за килограмм.
– Разве детей продают по весу? Что они, сыр или колбаса?
Пятилетнего Вову иногда заставляли нянчить маленькую Лену, сестру. Соседка в шутку просила его, чтобы он продал ей Лену. Он не соглашался. Но когда ему надоело быть нянькой, он сам принес ей Лену дня продажи.
– У меня нет денег, – сказала соседка.
– А вы возьмите в долг, под зарплату.
Мать пятилетнего мальчика, вернувшись из родильного дома, громко сокрушалась о том, что у нее вместо девочки – мальчик.
Слушая ее жалобы, сын посоветовал:
– А если копия чека осталась, можно и обменять!
Родители Тани (двух с половиной лет) обещали купить ей братишку, но не сейчас, а потом, так как денег у них было маловато. Танечка стала копить медяки и, бросая их в глиняную кошку-копилку, всякий раз нетерпеливо допытывалась, сколько еще не хватает, чтобы купить хотя бы самого дешевого Ваню.
Так прошло месяцев пять. Как-то вечером родители побывали в кино. Узнав об этом, Таня расплакалась:
– Не тратили бы денег на билетики, а скорее купили бы Ваню!
Ира Гмызина (в г.Петропавловске) попросила у матери, чтобы та купила ей девочку Таню.
– Они очень дорого стоят, – ответила мать. – Хочешь, я куплю тебе куклу?
Ира отказалась. Через несколько дней радио объявило о снижении цен.
– Ну, теперь, – закричала Ира, – ты можешь купить мне Таню!
Испытывая жгучую ревность к новорожденной сестре, трехлетний Игорь предложил отцу:
– Давай продадим Нинку обратно в роддом! Давай!
Подружка сказала Люде, что ей купят сестру или брата. Люда с негодованием:
– Не купят, а выродят. Детей покупали, когда было рабство, а теперь всех выраживают.
Дочь ленинградского профессора М.Басова (пяти с половиною лет) сообщила ему как-то в разговоре, что котята, которые родятся у кошки, происходят, по ее убеждению, от съеденных кошкой мышат.
– А маленькие дети как родятся? – спросил отец, испытуя ребенка.
– Тоже у мамы в животе! Вот мама съест телятину, у нее и родится маленький ребеночек.
– А если я съем телятину, у меня родится или нет?
– У тебя тоже родится. У мамы дочка, у тебя сынок.
«Так, – говорит профессор Басов, – ребенком, крайне неожиданно для его собеседника, а может быть, и для него самого, были разрешены сразу две проблемы – происхождение видов и проблема пола».
Лет сорок назад, когда в Ленинграде еще существовали пролетки, шестилетний Антон, узнав, что лошади родились «из животика», без всякого удивления спросил:
– Разве у извозчиков такой большой живот?
– Слушай, мама: когда я родился, откуда ты узнала, что я – Юрочка?
Пятилетний Эдик хвастает в коммунальной кухне:
– Папа маме часы обещал, чтобы родила ему девочку. Дал бы часы мне, я бы ему десять штук родил бы.
– В котором часу я родилась?
– В половине седьмого.
– Ой, ты и чаю-то попить не успела!
– Если бы я знала, что ты такая противная, я бы у тебя не родилася.
– Мама, давай родим себе жеребенка!
Каким бы ограниченным ни был жизненный опыт детей, они всегда готовы противопоставить его неправдоподобным измышлениям взрослых.
– Я нашла тебя в лесу под кустом, – сказала мать четырехлетней Ирине.
Та возразила с великолепной иронией:
– Когда мы гуляли в лесу, что-то я не видела, чтобы там дети валялись!
– Мама, мне очень хочется сестренку… Ты, случайно, не хочешь родить мне сестренку? Попробуй, пожалуйста!
– Я бы с удовольствием – папа не позволяет!
– Ну что ж! Вот папа уедет, а мы тогда без него попробуем!
Нередко встречаются дети, которые считают равно актуальными оба метода возникновения людей на земле:
– Мама, ты меня купила или народила?
– Народила.
– Э! А Лёньку мама купила.
– Папа, откуда я взялся?
– Тебя купили на рынке.
– Да, но прежде чем продавать, меня должен же был кто-то сделать!
– Что это ты шепчешь собаке?
– Я ей говорю: народи мне щеночков. А она мне отвечает: родю, родю с удовольствием.
Четырехлетней Иринушке хочется иметь сестру или брата.
– Анна Аркадьевна, – говорит она соседке, – вы не можете дать мне адрес, где вы покупали вашу Катеньку?
– Царица обожала свою дочь, а потом у нее родилася падчерица…
Угроза:
– Вот уеду в Ростов, рожу ребеночка и не напишу, как зовут.
– И зачем ты нам такого злого папу народила?
– Мама, мама, выроди маленького.
– Отстань от меня, мне некогда.
– У тебя же бывает выходной день!
– Мама, когда твой зонтик у тебя разродится, дан мне самый маленький зонтичек.
– Лена:
– Как делают девочек?
Находчивый дедушка:
– Совсем так же, как мальчиков.
Лена удовлетворилась.
Родители колеблются, брать ли для Наташи собаку, так как отец этой собаки – дворняга.
– Мама, даю тебе честное слово, наверняка знаю, что там никакого отца и не было.
– Из чего человек сделан?
– Из мяса и костей.
– А кто кожей все это обтягивал?
– Деток мамы родят, а взрослых людей кто?
Наташеньке восемь месяцев. Пятилетняя Лена говорит ей сердито:
– Зачем ты в рот берешь пеленку? Вот заболеешь, умрешь, – тебя мамка второй раз рожать не будет.
– Когда я родилась, папа и мама были в театре. Пришли, а я уже тут.
Саша (трех с половиною лет) растет без отца. Это нисколько не огорчает его.
Его спрашивают:
– Где твоя мама?
– На работе.
– А папа?
– Мы его еще не сделали.
– Ладно, если ты не хочешь, чтобы я был твой сын, так роди меня обратно! (А потом ревет целый день, удрученный своей кощунственной дерзостью.)
О таком же случае я через много лет прочитал в дневнике Ф.Вигдоровой:
– Мама, почему у меня такая скандальная сестра? Роди ее обратно.
Там же такая запись:
– Мама, ну, пожалуйста, роди ребеночка или собачку, ну, прошу тебя! Знаешь, как я буду их любить.
Мать. Ох, как ты мне надоел!
Пятилетний Сережа. Не надо было родить!
– У кого самая первая мама сисю сосала?
– Наконец-то у девочки народилися папа и мама, и она им очень обрадовалась.
Уже с давнего времени в Швеции, во Франции, в Англии, в США идет агитация за «откровенность» родителей: считают, что психике трехлетних-четырехлетних детей будет нанесен очень тяжелый ущерб, если родители не расскажут им полную правду о тайнах их зачатия и рождения.
Английский педагог Бенджамин С.Грюнберг так и назвал свою книгу: «Родители и половое воспитание» («Parents and the Sex Education»), где громит «отсталых» матерей и отцов, которые считают эту преждевременную откровенность ненужной.
Шестнадцатым изданием вышла в Лондоне книжка К. де Швейниц «Как рождается ребенок», специально предназначенная для детского чтения11. Книжка напечатана с подзаголовком «Что каждому ребенку нужно знать», – очень завлекательная, нарядная книжка, с отличными картинками, на великолепной бумаге. В ней с большим литературным искусством рассказывается, как продолжают свой род птицы, растения, рыбы, домашние и дикие животные, а с ними заодно и человек, который таким образом ставится в один биологический ряд со всеми живыми существами.
Казалось бы, чего лучше! Но можно ли назвать эту книжку правдивой? В том-то и горе, что нет. Под лозунгом «говорите ребенку правду» она говорит ему ложь.
Пусть неоспорима та истина, что половой инстинкт дан живым существам исключительно для продолжения рода, но какой же влюбленный согласится считать брачные отношения с любимой только средством для производства детей! Для влюбленных их сексуальная жизнь вполне самоцельна и не преследует никаких утилитарных задач. Задача продолжения рода совершенно вытесняется в их представлении такими бурными и сложными эмоциями, какие доступны только душе человеческой. Если вы ничего не скажете ребенку об этих эмоциях, а сообщите ему лишь о технике зачатия (приравняв эту технику к той, какая наблюдается в мире животных), вы, сами того не желая, обманете его, солжете ему, ибо в вашей схеме никак не вместятся не только Наль и Дамаянти, не только Ромео и Джульетта, не только Леандр и Геро, не только Беатриче и мадам Бовари, но даже чеховская «Попрыгунья» и «Душечка», не говоря уже о «Даме с собачкой».
Вся мировая литература с древнейших времен громогласно свидетельствует, что взаимное притяжение полов отнюдь не обусловлено сознательным намерением продолжить свой род. Неужели Петрарка, воспламенившись внезапной любовью к Лауре, добивался сближения с нею, чтобы стать отцом ее детей? И было ли материнство сознательной целью княжны Мери, когда она полюбила Печорина?
Если отрешить сексуальные отношения от тех эмоций, которые порождаются ими в каждом человеческом сердце, и воспринять их как технический процесс, направленный исключительно к изготовлению детей, это будет понято каждым влюбленным как циническая клевета на любовь, – клевета, опровержением которой служат те мириады лирических песен и любовных стихов, которые слагаются снова и снова каждым новым поколением молодежи. В этих стихотворениях и песнях нашел воплощение тот комплекс возвышенных чувств, без которых любовь – не любовь.
Скажут, что я противопоставляю точной науке – поэзию, которая, как и подобает поэзии, питается одними иллюзиями, не вникая в подлинную сущность вещей. Но ведь такие иллюзии властительны не только над поэтами. Они присущи каждому влюбленному: каждый самый заурядный, самый обыкновенный мужчина субъективно воспринимает свое влечение к женщине как нечто такое, что дорого ему само по себе. Имя этого влечения – страсть.
Бьется сердце беспокойное,
Затуманились глаза,
Дуновенье страсти знойное
Налетело как гроза.
«Дуновенье страсти» – какой же воспитатель возьмется рассказывать о нем маленьким детям, которым оно чуждо, недоступно, непонятно, несвойственно.
Вот почему даже в аисте меньше обмана, чем в той урезанной, искалеченной «правде», которую спешат сообщить своим детям иные слишком торопливые взрослые.
Мне много раз случалось убеждаться, как хорошо забронирован ребенок от ненужных ему мыслей и сведений, которые его воспитатели навязывают ему преждевременно.
Если же мать или отец, не считаясь с возрастными потребностями, все же попытаются сообщить ему полную и неприкрытую «истину» о зачатии, ребенок по законам своего детского мышления непременно превратит эту «истину» в материал для безоглядной фантастики.
Так поступил, например, пятилетний Волик Шмидт, сын академика Отто Юльевича Шмидта, когда его мать откровенно сообщила ему подлинные и подробные сведения о происхождении детей.
Он тотчас же стал импровизировать длинную повесть о своей жизни в материнской утробе:
«– Там есть перегородка… между спинкой и животиком.
– Какая перегородка?
– Такая перегородка – с дверкой. А дверка вот такая маленькая. (Смеется.) Да-да. Я сам видел, когда у тебя в животике был. И комнатка там есть малюсенькая, в ней живет дяденька.
– Какой дяденька?
– Я был у него в гостях, пил у него чай. Потом я играл еще в садике. Там и садик есть маленький, и песочек в нем… И колясочка маленькая… Я там с детками играл и катался.
– А откуда же детки?
– Это у дяденьки породились… Много-много деток. И всё мальчики – девочек там нет. И моссельпромовцы сидят… Трое их… Вот такие малюсенькие.
– И ты там жил у них?
– Я приходил к дяденьке в гости, а когда пришла пора родиться, я с ним попрощался за ручку и вышел у тебя из животика».
Рассказ об этом маленьком Волике, населившем материнскую утробу тремя моссельпромовцами, я заимствую из неопубликованного дневника Веры Федоровны Шмидт.
В том же дневнике есть другая любопытная запись:
«После каждого глотка Волик останавливается и как бы прислушивается, что делается у него внутри. Потом весело улыбается и говорит мне:
– Уже побежало по лестничке в животик.
– Как – по лестничке?
– У меня там лестничка (показывает путь от горла до желудка); все, что я кушаю, бежит потом по лестничке в животик… А потом есть еще лестничка в ручках, в ножках… Везде идет то, что я кушаю…
– Это тебе кто-нибудь рассказал так?
– Нет, это я сам видел.
– Где же ты это видел?
– А когда я был у тебя в животике, я видел, какие у тебя лестницы… значит, и у меня такие…»
Вот что сделал пятилетний ребенок из эмбриологических истин, которые поторопилась сообщить ему мать.
Это было давно. Но вот через двадцать лет, в октябре 1962 года, свердловский врач Г.И.Дубровская пишет мне о своем четырехлетнем Илюше, что он, после того как ему сообщили «всю правду» о зачатии и рождении детей, тотчас же стал фантазировать так:
– Я ходил и искал себе маму. Заглянул в сердце к одной тете, к другой тете. Все тети злые. Нашел добрую тетю и пошел жить у нее в животе.
Научная истина, к которой взрослые поспешили его приобщить, отпала от него, словно мяч от стены, потому что до поры до времени он так же не способен усвоить ее, как, скажем, Ньютоновы законы механики.
Как мы видели, ребенок и сам отвергает те сведения, которые преждевременно даны ему взрослыми. Он начисто вычеркивает их из сознания как бы для того, чтобы взрослые могли убедиться, что умственная пища, которую они предлагают ему, в данном случае ему не нужна.
Мать Толи Божинского сообщает мне:
«Я объяснила Толе, что такое беременность. Когда родилась у меня Тиночка, я долго толковала ему, что она «вышла у меня из животика». Но однажды я рассказала ему сказку об аисте. И потом, когда спросили, откуда у нас Тиночка, он убежденно сказал:
– Аист принес.
О Тиночке я никогда не говорила ему, что ее принес аист».
Пришли гости, и кто-то спросил про трехлетнюю Валю:
– Чьи у Вали глаза?
Ему ответили:
– Папины.
«А папа, бедный, значит, без глаз остался», – подумала Валя и тут же сочинила такую гипотезу:
– Когда я еще не родилась, у папы было много глаз, и большие и маленькие; а когда мама купила меня, папа отдал мне большие глаза, а себе оставил маленькие.
Замечательна легкость, с которой ребенок разрешает такие проблемы. Все это – чистейшая импровизация, сродни тем вдохновенным экспромтам, которые он произносит во время игры. Экспромты для него такая же неожиданность, как и для его собеседника. Он за минуту не знает, что скажет, но говорит уверенно и твердо, не сомневаясь в правильности своих измышлений.
Эти измышления – времянки, нечто вроде рабочих гипотез. Через минуту он готов высказывать прямо противоположные мысли, ибо здесь для него зачастую своего рода смысловая игра. Даже если ему приведется случайно присутствовать при рождении каких-нибудь тварей, он и тогда готов истолковать происходящее самым фантастическим образом.
В.И.Качалов рассказывал мне, что когда его сын и Митя Сулержицкий узнали, что у кошки должны родиться котята, они никак не могли догадаться, откуда эти котята появятся.
Митя глянул кошке в ухо и крикнул:
– Теперь уже скоро! Уже лапка видна.
– Мама, правда, что люди от обезьяны произошли?
– Правда.
– То-то я смотрю: обезьян так мало стало.
– Разве ты не знаешь, что все люди произошли от обезьяны: и я, и твоя мама.
– Вы – как хотите. А моя мама – нет.
Еще один «научный» разговор о происхождении человека по Дарвину.
Нина Щукарева спрашивает бабку:
– Бабушка, ты была раньше обезьяной?
– Нет, никогда не была.
– А твоя мама?
– Тоже нет.
– Кто же был обезьяной? Дедушка?
– Бог с тобой. И дедушка не был.
– Ну так, значит, моя московская бабушка.
Во всякой подобной путанице виноваты, конечно, взрослые, которым не терпится обогатить ребенка сложными и многообразными сведениями, еще недоступными несозревшему разуму.
Ведь ребенок не может представить себе те миллионы лет, которые потребовались для эволюционных процессов. Его представления о времени ограничены рамками его крошечного детского опыта.
Поэтому, сколько бы взрослые ни старались приобщить его в полной мере к подобным научным познаниям, это всегда приведет их к неизбежному краху. Когда, например, шестилетнему Коле отец стал рассказывать об эволюции животного мира, мальчик понял его рассказ на свой лад и сообщил товарищам по детскому саду:
– Я знаю: мой дедушка был обезьяной, начал работать и стал человеком. Потом он народил папу, а папа меня.
Для каждого ребенка от двух до пяти жизнь всего человечества начинается в лучшем случае с дедушки.
V. Ненависть к печали
Прежде чем воспроизвести мои записи о том, как маленькие дети относятся к смерти, я хотел бы в виде краткого предисловия напомнить об одном замечательном качестве детской души – оптимизме.
Все дети в возрасте от двух до пяти верят (и жаждут верить), что жизнь создана только для радости, для беспредельного счастья, и эта вера – одно из важнейших условий их нормального психического роста.
Чудесно сказал об этом самообслуживании ребенка весельем поэт Александр Кушнер:
В детстве что? Кружись и падай,
На одной скачи ноге.
Сам себя смеши и радуй
В голубом дождевике…
Доставляй себе веселье
Из всего. Из руг и ног,
Из болезни, из бездолья,
Из бумаги, из чулок…
Гигантская работа ребенка по овладению духовным наследием взрослых осуществляется только тогда, если он непоколебимо доволен всем окружающим миром.
Отсюда – борьба за счастье, которую ребенок ведет даже в самые тяжелые периоды своего бытия.
Пойдите хотя бы в костнотуберкулезный санаторий, где малые дети, привязанные целыми годами к кроватям, вырабатывают в себе, наперекор своей томительной жизни, столько благодатной веселости, что даже многолетние боли не причиняют им травмы, какую причинили бы взрослым.
Пойдите в какой-нибудь из детских театров. Когда на героя нападают разбойники, когда баба-яга превращает его в мышь или ящерицу, юные зрители испытывают душевную боль и требуют, настойчиво требуют, чтобы неприятности, выпавшие на долю героя, прекратились возможно скорее и снова воцарилось безбрежное счастье, которое для психики ребенка является нормой.
В московском театре для детей шла чудесная пьеса талантливого советского драматурга Т.Габбе «Город мастеров». Пьеса предназначена для старших ребят, но на один из спектаклей случайно попал мой пятилетний внук. С горячим увлечением глядел он на сцену и вдруг крепко-крепко закрыл себе ладонями глаза:
– Больше не стану смотреть. Ты скажешь, когда начнется хорошее.
Глаза у него оставались закрытыми, покуда на сцене происходило печальное действо: благородный горбун Караколь, главный герой этой пьесы, попал в западню к врагам и коварный злодей-наместник несправедливо обвинил его в краже кольца, которое сам же и дал ему. Торжество лицемерия и злобы над смелым, благородным героем было так невыносимо для пятилетнего сердца, что внук поспешил зачеркнуть, уничтожить весь этот мучительный для него эпизод.
Лишь тогда отнял он руки от глаз и с прежнею жадностью начал смотреть на сцену, когда убедился, что все бедствия Караколя прошли, и тот счастлив опять.
Почему вообще дети младшего возраста – вовсе не такие уж добрые – принимают так близко к сердцу судьбу своих любимых персонажей, будет ли то горбун Караколь, или Буратино, или Аладдин, или Золушка, или Василиса Прекрасная? Почему они горюют и плачут, если этим персонажам приходится плохо, и чувствуют такую горячую радость, когда те становятся победоносны и счастливы?
Главная причина, как мне кажется, заключается в том, что у детей есть способность отождествлять себя с каждым таким персонажем.
Когда мой внучонок закрыл глаза, чтобы не видеть страданий, которые предстояло претерпеть Караколю, это, вероятно, произошло оттого, что он увидел в Караколе себя и ему стало жалко себя. И так как в волшебных сказках герои неизменно бывают бесстрашны, самоотверженны, благородны, активны и всегда, ради победы добра, борются со злыми и темными силами жизни, ребенок ощущает себя таким же участником этой борьбы за добро. Поэтому ему так мучительно видеть, как злые и темные силы хоть на мгновение вытесняют из мира добро. В такие минуты он закрывает глаза, дабы этим незамысловатым приемом обеспечить себе душевный покой.
«В нашей семье, – пишет мне А.Н.Робинсон, – сохранилась старая хорошая книжка «Сказки бабушки Татьяны». Все три поколения детей на протяжении полувека (мой дядя, я и мои дети), зная заранее содержание этих сказок, всякий раз, когда кто-либо из взрослых читал им сказки или они сами смотрели картинки, упорно пропускали (или переворачивали) те страницы, где говорится о смерти петушка и о гибели серого козлика».
В знаменитой сказке Льва Толстого «Три медведя» девочка заблудилась в лесу, попала к медведям в дом, сломала у них маленький стул, съела их суп: они сердились на нее и бранили ее.
Вова невзлюбил эту сказку и выбросил из нее все неприятное. По его словам, история случилась не с девочкой, а с ним: это он, Вова, заблудился в лесу и попал к трем медведям. Ничего он у них не ломал, а суп хоть и съел, но сейчас же пошел на кухню и приготовил им новую порцию – вкуснее и больше. Медведи оказались предобрые: угостили его медом и яблоками, подарили ему елку с игрушками, научили стрелять из ружья.
Словом, если Лев Толстой изобразит в своей сказке наряду с веселыми эпизодами грустные, четырехлетний ребенок поправит Толстого, вытравит из его сказки печальное, устранит те места, где говорится о неудачах героев, и оставит одни только удачи и радости.
Но решительнее и активнее всех выразил свою жажду оптимистического отношения к миру Алик Бабенышев.
«Он очень любит книги, – сообщает в письме его мать. – Особенно ему нравилась сказка о Буратино. Он всякий раз просил меня, когда я приходила с работы:
– Прочти «Золотой ключик».
Однажды я увидела, что из книги очень неумелой рукой вырвана страница, все зазубринки торчат.
– Кто это сделал? – спросила я.
– Я.
– Зачем?
– Чтобы он ее не обижал.
Не помню сейчас, кто из героев обижает там Мальвину, но вырвана была действительно та страница, где Мальвину обижали».
Александр Жаров сообщил мне такой эпизод:
Внучка Оленька попросила у бабушки:
– Расскажи сказку!
Бабушка начала:
– Дело было в лесу. Шли маленькие козлята. А навстречу им серый волк…
Оля крикнула:
– Не надо рассказывать!
– Почему?
– Козлят жалко.
Впрочем, и к волку ребенок отнесется с таким же горячим сочувствием, если только из какой-нибудь сказки узнает, что волк – невинно пострадавшая жертва коварных врагов.
Четырехлетний Алик Чернявский спокойно слушал сказку про злую лису и простодушного волка. Но когда он узнал, что хвост у волка примерз и что волк, убегая от врага, был вынужден оставить оторванный хвост в проруби, он очень огорчился его неудачен и дрожащим голосом спросил:
– Но ведь хвост потом вырос? Правда?
– Нет! – отвечали ему. – Этого никогда не бывает.
– Нет, вырос! вырос! вырос! – упрямо настаивал мальчик.
– Да нет же, у одних только ящериц хвосты отрастают опять, а у волков никогда.
Горе Алика не имело пределов. Он так разбушевался, что его долго не могли успокоить. Он рыдал навзрыд и сквозь слезы выкрикивал:
– Вырос! вырос! вырос!
Глупый мышонок в маршаковской «Песне о глупом мышонке» позвал к себе в няньки кошку, и та растерзала его. Четырехлетняя Галя Григорьева вначале и слушать не хотела об этой катастрофической смерти, но после долгого раздумья сказала:
– Наверное, мышка-мать рада, что кошка съела ее мышонка.
– Почему же?
– Да он все пищал, плакал, не давал ей спать… А теперь ей никто не мешает: спи сколько хочешь. Не надо вставать и баюкать его. Правда? Ведь ей стало лучше? Да?
Так своими собственными средствами, без посторонней помощи, дети на каждом шагу создают для себя иллюзию счастья и зорко следят, чтобы она не терпела ущерба.
В последнее время я получил великое множество писем, подтверждающих эти мои наблюдения целыми десятками примеров. Нина Соковнина (Москва) пишет мне о мальчике Саше (2 года 8 месяцев):
«Не любит плохих концовок в сказках и исправляет их. Дед укладывает его спать и поет:
Ай-дуду! ай-дуду!
Потерял мужик дугу.
Поискал и не нашел.
Он заплакал и пошел.
– Нет, не так! – возражает Саша.
– А как же?
– Запряг лошадь и пошел».
Другой малыш, Коля Черноус, трех с половиною лет, совсем избавил эту песню от горестных строк и создал такой вариант:
Ай-дуду! ай-дуду!
Потерял мужик дугу.
Поискал и нашел,
Засмеялся и пошел.
Тот же Саша слушал по радио «Колобок» и очень радовался его спасению от волка и медведя. Но потом он услышал слова: «Вот лиса «ам» – и проглотила». Саша никак не согласился с этим.
– Нет, он убежал! Вот он бежит, бежит, бежит – слышишь, бабушка?
Тут по радио зазвучала веселая музыка.
– Ну вот, я говорил, что убежал! Вот он прибежал домой: дед и баба и Колобок схватились за руки – пляшут!
И сам приплясывает и в ладоши хлопает, так что бабушке пришлось согласиться, что Колобок прибежал домой.
– Да, и дома его положили на тарелочку! – говорит бабушка.
– Что ты, бабушка! Кто же на тарелочке пляшет?
И снова о Колобке.
«Лет двух от роду, – сообщает Елена Тагер, – я, по словам моей матери, очень любила сказку о Колобке. Но слушала спокойно только до тех пор, покуда Колобку удавалось ускользать от опасных зверей. Когда же доходило дело до лисы, которая его «ам – и съела…», я поднимала страшный крик: «Не надо, не надо!» – и пускалась в слезы. Одно спасение от рева было – продолжать сказку, заставляя ловкого героя последовательно встречаться со львом, слоном, верблюдом и т.д., причем все эти встречи должны были непременно кончаться торжеством Колобка.
– Весь зоологический сад, бывало, переберу, пока ты уснешь! – жаловалась впоследствии мать».
И вот что сообщает мне из города Кропоткина Л.А.Потапова о своей внучке Леночке:
«Ей было три года, я спела ей песенку про кукушку, которая потеряла детей. При словах:
Потеряла детей,
Скучно, бедненькой, ей, —
раздались громкие рыдания Леночки, и когда я через несколько дней попыталась ей спеть ту же песенку, она с ужасом зажала мне рот:
– Не надо! Не надо!
То же самое случилось, когда я рассказывала ей сказку «Теремок», которая кончается тем, что медведь раздавил всех зверей.
В дальнейшем я уже все сказки заканчивала хорошим исходом».
О таком же случае сообщает и писатель Л.Пантелеев. Когда его дочери Машеньке было без малого полтора года, он попытался прочитать ей известный стишок (переведенный с английского):
Дженни туфлю потеряла,
Долго плакала-искала,
Мельник туфельку нашел
И на мельнице смолол.
Машенька так сильно «переживала» первые три строки этого стихотворения («Бедная девочка, ножка босая, голенькая»), что отец не решился прочитать последнюю строку – о жестокости мельника.
«И вот, – пишет он в своем дне
внике, – вместо «мельницы» я бормочу нечто благополучное – что-то вроде:
Мельник туфельку нашел,
Положил ее на стол».
Эта жажда радостного исхода всех человеческих дел и поступков проявляется у ребенка с особенной силон именно во время слушания сказок.
Если ребенку читают ту сказку, где выступает добрый, неустрашимый, благородный герой, который сражается со злыми врагами, ребенок непременно отождествляет с этим героем себя.
Всей душой сопереживая с ним каждую ситуацию сказки, он чувствует себя борцом за правду и страстно жаждет, чтобы борьба, которую ведет благородный герой, завершилась победой над коварством и злобой. Здесь великое гуманизирующее значение сказки: всякую, даже временную неудачу героя ребенок всегда переживает как свою, и таким образом сказка приучает его принимать к сердцу чужие печали и радости.
VI. Дети о смерти
Года четыре
Был я бессмертен.
Года четыре
Был я беспечен.
Ибо не знал я о будущей смерти,
Ибо не знал я, что век мой не вечен.
Маршак
Восьмилетний октябренок сказал:
– Аня, я десять раз смотрел «Чапаева», и все он утопает. Может быть, пойти с папой?
Ему хочется думать, что гибель Чапаева – киноошибка и что эту грустную киноошибку он может исправить, добившись, чтобы Чапаев остался в живых. В понимании ребенка счастье – это норма бытия, и оттого трагический конец фильма о любимом герое показался ему противоестественным.
Тем персонажам, которые милы ребенку, все на свете должно удаваться, и никоим образом нельзя допускать, чтобы они умирали, так как, повторяю, с ними он чаще всего отождествляет себя.
Замечательны в этом отношении поправки, которые в разное время внесли два трехлетних мальчугуна в рассказанную им «Красную Шапочку».
Один из них, Андрейка, тотчас же нарисовал иллюстрацию к сказке в виде какой-то бесформенной глыбы и объяснил окружающим:
– Это камень, за ним спряталась бабушка. Волк не нашел ее и не съел.
Второй мальчуган, Никита (по-домашнему – Китя), обеспечил себе такую же уверенность в полном благополучии мира, выбросив из сказки все то, что казалось ему грустным и пугающим. Правда, сказка вышла чересчур уж короткая, но зато вполне утешительная. Китя рассказал ее так:
– Жила-была девочка-шапочка и пошла и открыла дверь. Все. Я больше не знаю!
– А волк?
– А волка не надо. Я его боюсь.
«Волка не надо!» Спрашивается: может ли такой оптимист, не приемлющий ни малейших упоминаний о страхах и горестях жизни, ввести в свое сознание трагическую мысль о смерти – чьей бы то ни было, но говоря уже о собственной?
Если вы вздумаете рассказать ребенку всю правду о смерти, он, из вечного детского стремления к счастью, немедленно примет все меры, чтобы заменить эту правду соответственным мифом.
Вася Катанян, четырех лет, недоверчиво спросил свою мать:
– Мама, все люди умирают?
– Да.
– А мы?
– Мы тоже умрем.
– Это неправда. Скажи, что ты шутишь.
Он плакал так энергично и жалостно, что мать, испугавшись, стала уверять его, что она пошутила.
Он успокоился сразу:
– Конечно, пошутила. Я же знал. Сначала мы будем старенькие, а потом опять станем молоденькими.
Таким образом, он почти насильно вернул себе необходимый ему оптимизм.
А.Шаров приводит следующий рассказ педагога о трехлетнем Коле:
– Когда мы первый раз выезжали на дачу и воспитательница повела малышовую группу на прогулку, Коля шел позади. Потом вдруг остановился и склонился к траве. Воспитательница подошла и поторопила: «Идем, идем!» Он показал на мертвую синичку и спросил.
– Почему она не летит?
– Птица дохлая, – сказала воспитательница и прикрикнула: – Да иди же ты!
Всю прогулку мальчик был молчалив, задумчив. Утром проснулся раньше всех. Босиком побежал к опушке леса. Синички там не оказалось. Он бегом вернулся и, дождавшись воспитательницы, задыхающимся, немыслимо счастливым голосом воскликнул:
– Тетя Маша! Все-таки она улетела!..
Мальчик так и не принял смерти. Так и утвердил вечность жизни12.
Вспоминается Егорушка из чеховской «Степи»:
«Вообразил он мертвыми мамашу, о.Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но, как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему: лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет…» (гл. VI).
Оптимизм нужен ребенку, как воздух. Казалось бы, мысли о смерти должны нанести этому оптимизму сильнейший удар. Но, как мы только что видели, ребенок чудесно забронирован от подобных скорбей. В его душевном арсенале есть достаточно средств для защиты необходимого ему оптимизма. Едва только, на исходе четвертого года, ребенок убеждается в неотвратимости смерти для всего существующего, он торопится тотчас же уверить себя, что сам он вовеки пребудет бессмертен.
В автобусе круглоглазый мальчишка лет четырех с половиною глядит на похоронную процессию и говорит с удовольствием:
– Все умрут, а я останусь.
Великолепно выражена эта детская жажда бессмертия в той же повести Веры Пановой «Сережа»:
«– Мы, что ли, все умрем? [– спросил у взрослых шестилетний малыш.] Они смутились так, будто он спросил что-то неприличное. А он смотрел и жда
л ответа.
Коростелев ответил:
– Нет. Мы не умрем. Тетя Тося как себе хочет, а мы не умрем, и, в частности, ты, я тебе гарантирую.
– Никогда не умру? – спросил Сережа.
– Никогда! – твердо и торжественно пообещал Коростелев.
И Сереже сразу стало легко и прекрасна. От счастья он покраснел – покраснел пунцово – и стал смеяться. Он вдруг ощутил нестерпимую жажду: ведь ему еще когда хотелось пить, а он забыл. И он выпил много воды, пил и стонал, наслаждаясь. Ни малейшего сомнения не было у него в том, что Коростелев сказал правду: как бы он жил, зная, что умрет? И мог ли не поверить тому, кто сказал: ты не умрешь!»
– Мама, – говорит четырехлетняя Анка, – все люди умрут. Так должен же будет кто-нибудь вазочку (урну) последнего человека на место поставить. Пусть это буду я, ладно?
Замечательны те многообразные и хитроумные способы, при помощи которых ребенок отгоняет от себя мысль о смерти.
Самообслуживание оптимизмом – могучий закон детской жизни.
Таточка Харитон услыхала от няни песню:
И никто не узнает,
Где могилка моя.
И стала петь ее так:
И никто не узнает,
Где могилка твоя.
Няня говорит:
– Ты неверно поешь. Нужно петь: «Где могилка моя».
– Я так и пою: «Где могилка твоя».
Бабушка умерла. Ее сейчас закопают. Но трехлетняя Нина не слишком-то предается печали:
– Ничего! Она из этой ямки переляжет в другую, полежит-полежит и выздоровеет!
Мертвые для маленьких бессмертны.
Л.М.Николаенко повела трехлетнюю Марину на кладбище и посадила на могиле ее бабушки клен. Вернувшись, девочка сказала с удовольствием:
– Наконец-то я увидела бабушку Лиду!
– Что ты, Мароша! Ты видела только ее могилку.
– Нет, я видела, как она сама выглядывала в ту ямку, в которую вы сажали деревце.
Девочка пяти лет пришла с мамой на кладбище и вдруг увидела пьяного, который шел, шатаясь, за кустами.
– А этот дядя уже выкопался из могилки?
У Вересаева записан такой разговор:
«– Знаешь, мама, я думаю, люди всегда одни и те же: живут, живут, потом умрут. Их закопают в землю. А потом они опять родятся.
– Какие ты, Глебочка, говоришь глупости. Подумай, как это может быть? Закопают человека большого, а родится маленький.
– Ну что ж! Все равно как горох! Вот такой большой. Даже выше меня. А потом посадят в землю – начинает расти и опять станет большой».
Прошло много лет, и мне сообщили о такой же гипотезе, снова выдвинутой трехлетним ребенком.
– Хоронят старых людей, – это их в землю сеют, а из них маленькие вырастают, как цветы.
Смерть представляется детям сплошным удовольствием.
Волик спрашивал о каком-то покойнике:
– А на чем он ехал хорониться?
– Ты ведь видел, как хоронят.
– Это когда в ящике катают на лошадке? Да?
Жалеть умирающих – не детское дело.
– Я умру, – говорит мать. – Меня сожгут.
– А как же твои туфли? – ужасается дочь (двух с половиною лет).
Фелик вбегает в комнату:
– Мама, я хочу быть курсантом: их хоронят с музыкой, – и шапка на гробу!
Похороны без музыки вообще никуда не годятся.
– Почему умер не играет? Я хочу, чтобы умер играл!
Зато, когда «умер играет», можно встать у окна и хвастать:
– Скоро и моего папу так повезут!
– Наташа, кого хоронят?
– Не поймешь: их много, и все шевелятся.
Скончался дядя Шура. Сегодня хоронят.
– А пойдет за ним музыка?
– Нет, он не военный.
– А ты военный?
– Нет.
– А дядя Гога военный?
– Нет. А что?
– Музыку охота послушать.
– Из нашего дома вынесли лодку, а потом еще лодку, в ней умертый дядя, положили его на грузовик, закрыли другой лодкой и увезли.
– Моя бабушка никогда не умрет. Дедушка умер – и хватит.
В соседнем дворе умерла старуха.
– Нет, старик! Я сам видел, что старик! Впереди несут гроб, а старика ведут под руки, а он плачет, не хочет хорониться.
Хоронят женщину. Над нею плачет осиротелая дочь. Сироту уговаривают, чтобы она перестала, но она продолжает рыдать.
– Какая непослушная! – возмущается Юрик и, желая, чтобы его похвалили, спешит заявить своей матери:
– Вот когда ты умрешь, я ни за что плакать не буду.
– Мама! Поехал покойник, а за ним идет большая очередь.
Мать моей правнучки Машеньки Костюковой пишет:
«Вот примерная эволюция ее представлений о смерти. Сперва девочка, потом – тетя, потом – бабушка, а потом – снова девочка (в два с половиною года). Тут пришлось объяснить, что очень старенькие бабушки и дедушки умирают, их закапывают в землю.
После чего она спросила у бабеньки:
– А почему вас еще в земельку не закопали?
Одновременно с этим возникла боязнь смерти (в три с половиною года):
– Я не умру! Не хочу лежать в гробике!
– Мама, ты не будешь умирать, мне без тебя скучно будет! (И слезы.)
Однако к четырем годам примирилась и с этим».
Когда дети становятся старше, эгоистическая забота о личном бессмертии и о бессмертии ближайших родных начинает сменяться у них бескорыстной мечтой о бессмертии всего человечества. Украинский ученый Н.Н.Гришко сообщил мне о таком разговоре:
– Мама, я тоже умру? – спросила девятилетняя Галка.
– Непременно.
– А скоро?
– Лет через сто.
Галка заплакала.
– Не хочу, мамочка, умирать, хочу жить тысячу лет.
Пауза.
– Я, знаешь, мама, буду учиться на «отлично», потом буду докторшей и выдумаю такое лекарство, чтобы люди никогда не умирали.
– Это тебе не удастся.
– Ну тогда, чтобы люди жили не меньше ста лет. Я буду обязательно такое лекарство выдумывать.
Этот разговор замечателен тем, что в нем детский эгоцентризм сменяется (буквально у нас на глазах) горячей заботой обо всем человечестве.
Ляля пяти лет говорит:
– Вот ведь большие дяди и тети, а чем занимаются – хоронением! Я, конечно, не боюсь, нет, но ведь жалко – хороняют и хороняют, ведь людей хороняют. Пойдем и заявим в милицию – ведь жалко людей-то!
Буквально такое же не личное чувство прорвалось у пятилетней Сашеньки:
– Зачем люди умирают?.. Мне жалко. Мне всех людей жалко, и чужих жалко: зачем они умирают? (Дневник Ф.Вигдоровой.)
Е.Калашникова пишет мне про пятилетнего Мишу, который, услышав о смерти знакомого, сообщил одному из гостей:
– Дядя, а ведь, знаете, умереть – это очень плохо. Ведь это на всю жизнь!
Двое ребят:
– Не ешь зеленых вишен, умрешь.
– Нет, не умру.
– Видел: вчера хоронили дедушку? Когда был маленький, он ел зеленые вишни – вот и умер.
Художник В.М.Конашевич о своей внучке Аленушке:
«Уговаривает нас с бабушкой не умирать, пока она не вырастет: она изобретет лекарство от старости и от смерти. Потому что смерти не должно быть».
Пятилетняя Лена обещает отцу:
– Я всегда буду тебя помнить – даже когда ты умрешь.
И тотчас перебивает себя:
– Нет, лучше мы вместе умрем. А то мне будет очень жаль, если ты умрешь скорей меня.
Трехлетняя Наташа не играет, не прыгает. На лице у нее трудная дума.
– Наташа, о чем ты задумалась?
– Кто будет хоронить последнего человека?
Вопрос деловой, практический: кто похоронит покойника, когда и похоронщики будут в могиле?
У Елизаветы Шабад, в ее книжке «Живое детское слово», приводится такой разговор маленького здравомысла с отцом:
– Папа, если в прошлом году будет война, тебя застреляют?
– Может быть.
– И от тебя ничего не останется?
– Нет.
– Даже точки?
– Да. А ты меня будешь жалеть?
– Чего же жалеть, если ничего не останется!13
_
Пятилетнему Юре читают стихотворение Некрасова:
– «Смерть крестьянина. Часть первая…»
Юра:
– А разве он умирал по частям?
VII. Новая эпоха и дети
Подобных детских высказываний записано у меня очень много, но и приведенных достаточно, чтобы установить основные их типы. Замечательно, что некоторые из них сообщались мне дважды и трижды в разное время из разных источников, и я не мог не прийти к убеждению, что они в значительном своем большинстве характерны для очень многих нормальных детей.
Как уже сказано выше, я приступил к собиранию детских выражений и слов полвека назад, даже раньше, и это дало мне возможность подметить одно очень важное качество собираемых мною материалов – их частую повторяемость, их, так сказать, однотипность: моя правнучка в своем словотворчестве идет точно тем же путем, каким шли мои дети и внуки, и не только в словотворчестве, но и в методах всей своей умственной деятельности.
Эти три поколения детей, которые я мог наблюдать на протяжении столь долгого времени, давали в соответствующем возрасте одно и то же причинно-следственное истолкование одним и тем же явлениям окружающей жизни.
В огромном большинстве читательских писем, получаемых мною, я нахожу уже знакомые мне наблюдения и факты или очень близкие их варианты.
Например, с разных концов Советского Союза мне сообщали и сообщают о детях, которые, услышав от взрослых, что человек – потомок обезьяны, сделали из этого вывод, будто той обезьяной, от которой идет человеческий род, был в недавнее время их дедушка.
Точно так же повторяются опять и опять гипотезы трехлетних-четырехлетних детей, будто девочки произведены на свет исключительно мамами, а мальчики – исключительно папами. Подобно тому как разные дети из поколения в поколение всякий раз сызнова изобретают слова всехный, кусарик, мазелин, ктойтина, рогается, пивнул, методы их умственной работы и в других областях совершенно тождественны и приводят к однородным результатам (зачастую к одинаковым ошибкам).
Такие же десткие суждения и помыслы, которые отражают в себе новую эпоху в истории нашей страны, эпоху новых социальных отношений.
Индустриализация нашей страны, например, вызвала тысячи детских речений, немыслимых в прежнее время. Вот некоторые из них, разносторонне отражающие внедрение техники в жизнь советских детей.
Четырехлетний Миша Юров выписывается из больницы. Прощаясь с ним, нянечка спрашивает:
– Миша, ты москвич?
– Нет, я – «победа»! – отвечает мальчишка, потому что для него, как и для большинства малышей, «москвич» – это раньше всего марка автомобиля.
По радио передавали статью о волгоградском сражении. Статья была озаглавлена: «Победа на Волге».
Услышав это заглавие, Славик взволнованно крикнул:
– Дедушка! Авария! «Победа» налетела на «Волгу»!
Трехлетний мальчик, гуляя по городу, увидел остановившуюся на улице лошадь.
– Верно, току у ней нет! – сказал он и обнаружил одной этой коротенькой фразой, что уже появилось такое поколение детей, для которого электропоезда, троллейбусы, трамваи привычнее (а значит, и понятнее), чем лошадь.
Еще не так давно дети всегда наделяли машину свойствами людей и животных:
– Мама, смотри, какой краснощекий автобус!
Но теперь, как мы видим, их так тесно обступила электромеханика, что они объясняют ею даже поведение уличной клячи.
Двухлетний гражданин, у которого во время беготни оторвался шнурок от туфли, садится на траву и вздыхает:
– Пеебой мотое… – что, несомненно, должно означать: «Перебой в моторе». Даже сказать эти слова не умеет как следует, а уже применяет к своей крохотной обуви технический термин.
Девочка впервые увидела в Зоопарке слона. Глянула на хобот и сказала:
– Это не слон, а противогаз.
Кике ставили клизму. Он командовал:
– Ну, включай!
А потом:
– Выключи, выключи!
– Ах, мамочка, какая ты красивая! Как мотоциклетка!
У меня в сказке «Тараканище» есть такие стихи:
Зайчики
В трамвайчике,
Жаба на метле.
Т.Л.Мотылева сообщает мне, что ее четырехлетний сын Миша читал эту сказку по-своему:
Зайчики
В трамвайчике,
Жаба на метро, —
то есть модернизировал сказочный транспорт, созданный древней фантазией патриархальной деревни.
Одновременно с этим драматург И.В.Шток написал мне о такой же поправке, внесенной его дочерью Икой:
– Ты неправильно говоришь. Нужно «на метре», а ты говоришь «на метле». Зайчики в трамвайчике, жаба на метре.
– Правда, мама, троллейбус – это помесь трамвая с автобусом?
– «…Волчишко с годами превратился в матёрого волка…»
Что такое «матёрый», Володя не знал и потому пересказывал эту историю так:
– Волчишко поступил в монтеры…
Привычка малолетних детей к автоматике стала так велика в СССР, что я не очень удивился, когда услыхал, как один мальчик, желая выпить томатного соку, громко сказал в магазине:
– Мама, купи мне автоматного соку!
– Давай посмотрим коров – стадо идет.
– А что в них интересного? Если бы в них мотор был!
Городская девочка впервые в деревне. Увидела теленка:
– А он заводной?
Вася воротился из колхоза.
– Что ты там видел?
– Лошадиный прицеп.
То есть попросту – воз.
Мама:
– У одного мальчика два глаза, у второго тоже два глаза. Сколько у них всего глаз?
Костя (с плачем):
– Я глазов считать не умею.
– А что ты умеешь считать?
– Реактивные самолеты.
Даже в старинные сказки умудряются советские дети внедрить современную технику. Пятилетний художник, выслушав сказку о бабе-яге, рисует ее избушку на курьих ножках с длиннейшей антенной на крыше.
– Ведь она же радио слушает!
– Слушай, Сереженька, сказку. Созвала как-то бабушка семерых козлят…
– По телефону?
Илюша Розанов (1 г. 10 м.) впервые увидел грозу.
– Бабушка, смотри, какой салют!
Четырехлетний сын инженера Витя Варшавский нарисовал человечка, а сбоку отдельно – нос, уши, глаза, пальцы и сказал деловито:
– Запчасти.
Ему показали картинку: лошадь, впряженная в плуг.
– Что это такое?
Объясняют: лошадка пашет землю.
– Разве лошадка – трактор?
Вернулся из Зоопарка.
– Ну, Алешенька, что ты там видел?
Ждали, что он начнет говорить о тиграх, слонах, бегемотах. Но Алеша ответил коротко:
– Машину!
(Грузовик, поливавший дорожки.)
Вопрос моего малолетнего внука:
– Дед, а в лошадь бензин наливают?
Лошадь попятилась от вырытой канавы.
– Смотри, Николушка, лошадка испугалась!
– И совсем не испугалась, просто забуксовала.
Детей постарше интересуют проблемы того же порядка, но значительно более сложные. Семилетний Сережа Сосинский:
– Чтоб долететь до какой-нибудь там планеты, надо сто шестьдесят девять лет. Значит, чтобы человек действительно долетел до нее, ему надо по дороге жениться и иметь детей, которые и долетят. Но могут ли рожаться дети в атмосфере?
Он хотел сказать «в безвоздушном пространстве».
Наташа, дочь поэта Д., сочинила такое стихотворение о Лайке:
Отправили собаку
Летать вокруг Земли.
Ей разных бутербродов
На месяц запасли.
Собака громко лает
В кабиночке своей,
А спутник всё летает
Вокруг Земли моей.
Поэту захотелось приписать к этой Наташиной песенке несколько строк своего сочинения.
– Пожалуйста, не надо, – сказала Наташа. – Ты ведь, я знаю, испортишь.
Девочка ехала в поезде с разговорчивой матерью, которую долго ревновала к ее собеседникам; наконец зажала ей рот:
– Мама, закрой свое радио!
Тут опять-таки «метастаз» техники в область бытовых отношений, процесс, противоположный тому, который приходилось наблюдать в детской речи лет тридцать назад.
Е.Ковальчук (Ленинград) сообщает мне замечательный случай одного такого «метастаза», который определяется суффиксом «ист».
«С сыном Эдиком мы приехали в Вильнюс. Это было в 1947 году. Тогда у вокзала стояло много извозчиков. В Ленинграде их уже давно не было, и Эдик никогда их не видел. Он знал, что на свете существуют велосипедисты, таксисты, танкисты, но названия «извозчик» не знал.
Указав на дрожки, он с восторгом воскликнул:
– Смотри, папа, лошадист поехал!»
Иные старые слова известны советским детям главным образом в связи с современностью. Например, слово «карета». Когда в сказке Андерсена «Огниво» детям читают о том, что солдата повезли в карете, они спрашивают: «Разве он заболел?», так как единственная карета, известная им в наше автомобильное время, есть «карета скорой помощи», которая, кстати сказать, давно уже перестала быть каретой. Впрочем, в последнее время дети чаще всего говорят: «Победа» скорой помощи».
Недавно я читал по радио отрывки из своей книги о Чехове. Рассказывая о его сахалинской поездке, я упомянул, между прочим, что в дороге его обокрали случайные спутники.
Вскоре после этого из Севастополя мною было получено такое письмо:
«Мой 4-летний сын Вова собирался гулять и, казалось, совсем не слушал вашего чтения. Вдруг на лице его появилось выражение ужаса:
– Мама, ты слышишь? Спутника обокрали!»
Сооружает нечто из двух табуреток.
– Что это ты делаешь, Гриша?
– Для твоих сапог гараж строю.
Прочтя эту страницу моей книги, А.Мясникова (Куйбышев) спросила своего племянника Алика:
– Как называется дом, где живут лошади?
Он немедленно ответил:
– Гараж.
– Ну, что ты! Совсем не гараж.
– Ангар.
– Нет, нет, не ангар.
Он замолчал и задумался. Когда же ему сообщили, что жилье лошадей – конюшня, он недоверчиво замотал головой.
– Такого слова нету! Выдумываешь!
Этот же Алик, по словам А.Мясниковой, воскликнул, увидя купающегося в Волге коня:
– Папа, лошадь по самый кузов в воду залезла!
Бабушка стоит у окна, показывает двухлетнему внуку автомобиль и сюсюкает:
– Бибика! Сереженька, это бибика!
Внук с пренебрежением глядит на нее:
– Это не бибика, а «победа»
.
Неинтересным и убийственно скучным представляется пятилетнему Антону Иванову все, что не связано с техникой. О чем бы вы ни говорили ему, он слушает насупившись, с большой неохотой, а чаще всего и вовсе не слушает. Но чуть только дело касается радиолокаторов, динамо-машин, или блюмингов, или самой обыкновенной электрической лампочки, его круглые щеки краснеют, в глазах появляется выражение блаженства, он вскакивает с места и, бегая в восторге по комнате, засыпает говорящего сотней вопросов и не отстанет, пока не получит ответов на свои «как?», «почему?», «для чего?».
Его речь перенасыщена множеством технических терминов. Он сказал, например (цитирую со стенографической точностью):
– Я так устал, как лампочка на сто двадцать вольт, которую включили в сеть на двести двадцать вольт без трансформатора.
И это показалось мне тем более чудесным, что растет он в семье, чрезвычайно далекой от техники: его дед – писатель (Всеволод Иванов), бабка – переводчица повестей и романов, мать – лингвистка, отец – художник (Д.Дубинский), один дядя – филолог, другой – пейзажист.
В троллейбусе.
– Тетя, подвиньтесь!
Молчание.
– Тетя, подвиньтесь, пожалуйста.
Молчание.
– Мама, эта тетя неозвученная?
У бабушки в углу перед иконой никогда не гаснет лампадка.
Леня с удивлением:
– А почему у тебя все время горит стоп-сигнал?
– Вот почитай стихи на кубиках.
– Меня это теперь не интересует.
– А что же тебя интересует?
– Космос.
– Эта церковь закрыта.
– На переучет?
– Бабушка, что с тобой?
– Ох, милый, болею.
– За кого? За «Спартак»? За «Динамо»?
Выше говорилось о ребенке, назвавшем полумесяц «сломатой луной».
Сейчас мне сообщают про мальчика (трех с половиною лет), который во время войны закричал о том же полумесяце:
– Мама, мама, луну разбомбили!
Мальчик лет пяти иллюстрировал Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» и сбоку нарисовал патефон.
– При чем же здесь патефон?
– Ведь у Пушкина сказано: «Идет направо песнь заводит». Раз «заводит», значит патефон.
– Звезды на небе не настоящие, не красные, не такие, как в праздник.
– Звезды – это салютинки, которые за небо зацепились.
– Когда у нас день, в Америке ночь.
– Так им и надо, буржуям!
Характерно, что слово «белый» советскими малышами часто воспринимается не в прямом, а в переносном смысле. Услышав о белых медведях, Вова говорит с удивлением:
– Разве у зверей тоже есть буржуи?
«Однажды мы взяли пятилетнего Сашу в кино, и он увидел картину «Ленин в 1918 году», – сообщает мне Мария Сластёнина. – Там эсерка Каплан стреляет в Ленина. Это страшно взволновало Сашу. Потом ту же картину показывали по телевизору. Саша сел у самого экрана и, когда Каплан стала целиться в Ленина из револьвера, с силой ударил глиняным петушком по экрану. Стекло разбилось, экран потух. Что произошло? Мы не поняли. Но потом услышали: Саша смеется и кричит с торжеством:
– Не успела! Не успела!
Он был уверен, что ему удалось спасти Ленина от предательской пули».
Характерно, что слово «белый» советскими малышами часто воспринимается не в прямом, а в переносном смысле. Услышав о белых медведях, Вова говорит с удивлением:
– Разве у зверей тоже буржуи?
Внучка инвалида-гардеробщика, узнав, что ее дед заболел и не пойдет сегодня вечером на службу, спросила встревоженным голосом:
– А что же будет с пятилеткой?
Шестилетний Игорь – маме:
– Ты у меня самая красивая, хорошая, миролюбивенькая.
– Пушкина на дуэли убили…
– А где же был милиционер?
Об Илье Муромце:
– Илья Тимуровец.
– …тут баба-яга приземлилась.
– И сказал колдун Олегу: «Ты умрешь от своего коня». И тогда повел Олег коня в колхоз…
– Это кто нарисован?
– Гном.
– А он фашист или наш?
О какой бы стране ни зашел разговор, Ирочка тотчас же спросит:
– А они за нас?
Какой-то мальчишка с большим увлечением слушал пушкинскую сказку о царе Салтане. Но все время его тревожил вопрос: что же такое этот самый Салтан? С одной стороны, он как будто человек симпатичный, а с другой стороны, слишком уж поддается влиянию злой Бабарихи и ее коварных подруг. Поэтому ребенок все время перебивал рассказчика такими вопросами об этом непостижимом царе:
– А что он – правильный? А он хороший? А он наш, советский?
Об этом мальчике я прочитал в одной из статей профессора А.В.Запорожца14.
Подобный же случай описан в неизданном дневнике Ф.Вигдоровой. Она решала со своей дочерью Галей кроссворд, и им встретилась такая строка:
«Известный советский поэт».
Галя сказала:
– Некрасов.
– Какой же он советский! – возразила писательница.
– А разве он не советский? Ведь он же хороший.
Как и для миллионов других наших граждан, «советский» и «хороший» для Гали синонимы.
Правда, Гале в ту пору было уже десять лет, но нужно ли говорить, что в отношении к слову «советский» младшие дети вполне солидарны со старшими? В одной из публикаций Дома детской книги приводится такое восклицание пятилетнего мальчика о сказочном Иване-царевиче:
– Он хороший, Иван-царевич, как наши бойцы. Да?15
Если бы Иван-царевич, в представлении нынешнего ребенка, не был наделен качествами советских бойцов, ребенок никогда не полюбил бы его.
Милиционер задержал машину, нарушившую правила уличного движения.
Маленький сын нарушителя, с ужасом наблюдая, как советский милиционер бранит его папу и составляет на него какой-то акт, высунулся в окошечко и просит:
– Дяденька, отпустите нас! Мы – за мир!
– Правда ли, что в Америке все стулья – электрические?
На какую-то просьбу Миши бабушка сказала ему:
– Это тебе по штату не полагается!
– Так ведь штаты – это в Америке, а у нас штатов нет!
– Что это за собака?
– Немецкая овчарка.
– Она сдалась в плен, да?
Пятилетний Саша:
– Мама, а летом холодной войны не бывает?
Играя с ребятами, Саша усвоил себе их выражения: «мирово погулял», «мирово покатался» и проч. На их жаргоне «мировое мороженое» – самое лучшее. Поэтому Саша с недоумением спрашивает:
– Почему мировая война? Как же это: война и вдруг мировая?
Отец Светика Гусева в шутку сказал жене:
– Я тебе приказываю, и ты должна подчиниться.
Светик ястребом налетел на отца:
– Теперь таких мужей не бывает! Теперь такие мужья не нужны. Ты… раньшенный муж!
Он хотел сказать: старорежимный.
С четырехлетним Волей мы гуляли по старинному кладбищу. Среди памятников – мраморный ангел с поднятой кверху рукой. Воля смотрит на памятник и объясняет себе самому:
– Это он «будь готов» делает.
Вообще у огромного большинства малышей выработался своего рода иммунитет ко всему клерикальному. Вересаев рассказывает, как набожная нянька взяла с собой маленького Юрика в церковь. Юрик, вернувшись домой, сообщил со смехом своим близким:
– Мы гуляли в большом, большом доме… Там Петровна голенького дядю нюхала.
– Что ты, Юра, врешь? – возмутилась Петровна. – Какого дядю нюхала?
– А на стенке дядя голенький был нарисован. Петровна подошла к нему близко, машет рукой и нюхает. А старушки все баловались: стукали в землю лбом… А я не баловался, нет!..
В церкви с бабушкой, увидя икону:
– Чей это портрет?
– Это боженька.
– А где он живет?
– На небе.
– Высоко?
– Высоко.
– А реактивка его достанет?
Писатель Рудольф Бершадский сообщает:
«В присутствии пятилетней дочери я однажды рассказывал, как няня постоянно водила меня в церковь.
Дочь недоверчиво перебила меня:
– Папа, разве ты еще при боге родился?»
Тот же Светик Гусев увидел в Зоопарке слона. Он долго рассматривал огромного зверя и наконец спросил у своей матери:
– Чей это слон?
– Государственный.
– Значит, и мой немножечко, – произнес он с большим удовольствием.
Нередко приходится наблюдать, как отражается в детских разговорах семья. Специальные технические термины, свойственные отцовской или материнской работе, перекочевывают в речь малолетних детей и начинают своеобразно служить их интересам и надобностям.
Е.В.Гусева сообщает мне о своем маленьком Светике, отец которого служит бухгалтером:
«Когда я ему сказала, что он половину игрушек за лето растерял, он высыпал все игрушки из корзины на пол и говорит: «Надо сделать переучет».
А сын одного писателя, глядя на вертящуюся карусель, проговорил с нетерпением:
– Папа, скажи редактору этой карусели – нельзя ли мне наконец покататься!
Трехлетняя дочь сапожника, гуляя в садике детской больницы, увидела, что какая-то женщина несет ребенка в приемный покой, и сказала понимающим голосом:
– Починять понесли деточку.
Здесь, конечно, очень большое значение имеет склонность детей к подражанию. Девочка выросла в мире сапожных починок, и не мудрено, что лечение ребенка представилось ей чем-то вроде прибивания каблуков и подметок.
Я рассказывал детям известную сказку о заколдованном царстве, где заснувшие жители не просыпались сто лет. И вдруг дочь уборщицы, пятилетняя Клава, воскликнула:
– Ну и пылища же там была, господи! Сто лет не вытирали и не чистили!
Дима, сын продавца готового платья, использовал терминологию отцовской профессии для излияния родственных чувств:
– Я всех люблю одинаково, а мамочку на один номер больше.
– Тебя нашли в капусте! – говорят городскому ребенку, думая, что он тотчас же представит себе традиционную капустную грядку.
– Разве я был в супе? – слегка удивляется он и тем обнаруживает, что в качестве горожанина никогда не видел огорода. Капуста являлась ему только в тарелке.
Мне весело писать эту книгу о детях, потому что детство лучезарно, и всякое соприкосновение с ним – счастье. Но – приходится – ничего не поделаешь! – омрачить эту книгу печальными фактами, свидетельствующими, как трясина мещанского семейного быта втягивает порой и детей. Отчетливо отражается в их разговорах уродливая семейная пошлость.
– У меня папа – я не знаю кто.
– А у меня папа – шофер.
– А у тебя, Витенька?
– А у меня папа – подлец.
– Кто тебе это сказал?
– Мама.
– У нашего Захара две жены: одна родная, другая двоюродная.
– Тетя Оля, отдайте вашу Олечку за меня замуж.
– Зачем?
– Она мне будет готовить, а я буду лежать на диване и читать газету, как папа.
– Никогда не женюсь! Охота каждый день ссориться!
– Мама, а к Ване-то новый отец приехал и Ваниного отца прогнал.
– Твой папка коммунист?
– Не! Какой он коммунист! Он с мамкой каждый день ругается!
Двухлетней Оле мать купила на день рождения бутылку квасу. Когда стали ее откупоривать, пробка вылетела, и квас, запенившись, полился на стол. Оля побежала к отцу.
– Папа, папа! Бутылку стошнило! – крикнула Оля, неоднократно наблюдавшая такую же «тошноту» у отца.
Не менее отвратительным кажутся мне и такие, например, эпизоды.
Уборщица. Девочка, ты уходи отсюда, ты мне мешаешь пол мыть.
Девочка. Не уйду. Мне мама велела: «Как бы, говорит, она чего не взяла».
– Я выйду замуж за Вову, – говорит четырехлетняя Таня, – у него красивый костюмчик, и за Петю тоже: он подарил мне копеечку.
– А как же Леша? Ведь у него столько игрушек!
– Что ж! Придется мне и за него выходить.
У Люды и Саши отец пьянствует, тиранит семью.
Люда:
– Мама, и зачем только ты на папе женилась! Нам бы, знаешь, как втроем было хорошо!
Хочется надеяться, что пошлые нравы, отразившиеся в этих одиннадцати эпизодах, отойдут мало-помалу в далекое прошлое! Ибо с каждым годом у меня все больше накапливается фактов, свидетельствующих о трепетно-чутком внимании великого множества советских родителей к душевному развитию их ребят.
«Уважаемый товарищ Чуковский, – пишет мне один молодой инженер, – мы обращаемся к Вам, как к детскому писателю, за советом несколько необычного характера. В связи с ожиданием рождения ребенка мы оба хотели вести «летопись» его жизни от 0 до 3-4 лет так, чтобы создалась фотография формирования ребенка, его чувств, речи, физического развития…»
Ребенок еще не родился, но у будущих родителей так огромно уважение к нему, к его будущим чувствам, речам и поступкам, они так верят в значительность его психической жизни, что заранее, еще до его появления на свет, готовятся стать летописцами самых первых его криков и лепетов и, придавая этому делу великую важность, обращаются за советом к профессиональным писателям.
Еще характернее письмо, полученное Агнией Львовной Барто от некиих юных супругов:
«…С какого возраста давать детям Пушкина? И когда давать им читать Маяковского?»
Можно было подумать, что речь идет о подростке или, по крайней мере, о школьнике пятого класса, и лишь в самых последних строках обнаружилось, что родители сильно поспешили со своими вопросами, так как в ту пору их сыну было всего лишь… четыре месяца!
Подобных писем становится все больше. И каждое из них продиктовано таким уважением к ребенку, какого не было и быть не могло в прежней, ветхозаветной России.
Как пренебрежительно относились в былое время к периоду раннего детства, можно видеть из следующей типической фразы в «Записках актера Щепкина»:
«Тут промелькнуло мое детство, весьма неинтересное (?!), как и детство всякого (?!) ребенка»16.
Чтобы продемонстрировать возможно нагляднее всю огромную разницу между старым и новым отношением к ребенку, приведу два письма, полученные мною в разное время.
Первое написано больше полувека назад (в 1909 году) какой-то разгневанной барыней, прочитавшей в одной из тогдашних газет мои ранние заметки о языке малышей.
«Что касается детского языка, – писала она, – то советую вам почитать Библию; там вы узнаете, как три тысячи лет тому назад премудрый Соломон доказал, что детского языка нет. А я, как мать многих детей, могу вам доказать, что дети, по недостатку развития своих внешних чувств и своего ума, умеют только картавить, то есть коверкать недослышанные слова взрослых, например, «шикана» – картошка, «обдядя» – губка, «панфуй» – футляр и т.д.».
Сбоку приписка:
«Вы забыли, что яйца курицу не учат».
В одной этой строке – древнее, тысячелетнее, рабье неуважение к ребенку.
К письму прилагалось такое обращение в редакцию:
«Ваши читатели, конечно, не иначе могут смотреть на статью некоего Чуковского «О детском языке», как на рождественскую шутку. Но всяким шуткам есть предел… Конец вашей газеты недалек, если она не перестанет брать сотрудников с одиннадцатой версты (то есть из сумасшедшего дома. – К.Ч.)».
Исследовать детскую речь многие считали в то время безумием. Заявить о своем уважении к ребенку значило навлечь на себя неуважение «публики».
Но вот письмо, полученное мною в 30-х годах от одного деревенского школьника:
«Товарищ Чуковский! Я решил завести дневник и записывать речь маленьких людей, будущих строителей социализма. Прошу сообщить мне, как лучше урегулировать это дело. Жду с нетерпением вашего совета. Привет.
Степан Родионов».
Письмо суховатое. Деловое письмо. Насчет того, что детская речь представляет собою большую социальную ценность, у Степана Родионова нет ни малейших сомнений. Для него это дело решенное. Уважение к психической жизни ребенка вошло в его плоть и кровь.
Он спрашивает лишь о методике этой трудной работы, которую берет на себя добровольно, без всяких сентиментальных ужимок, просто как общественную нагрузку. А нагрузок у него не так уж мало. Во втором письме он сообщает:
«Сельсовет назначил меня культармейцем. Сейчас я обязан к перевыборам в Советы ликвидировать неграмотность и малограмотность [взрослых людей]».
Он по самому своему существу – просветитель. Тревога о детях, забота об их приобщении к культуре – для него естественное чувство.
В прежнее время нам, литераторам, писали о детях главным образом лишь матери да бабки, а теперь заурядными становятся письма на эту же тему от девушек, холостяков и подростков, то есть от таких категорий людей, которые прежде считались наиболее равнодушными к детскому быту. Теперь любовь к детям из узко материнского чувства стала массовой, всенародной, разлилась по миллионам сердец.
Вот еще письмо – одно из тех, которые я теперь получаю десятками:
«Я студент ленинградского втуза, не педагог, не отец семейства, и, следовательно, принципиально я далек от мира детей, но…»
Дальше следует обычное признание (очень сдержанное и зачастую застенчивое) в неискоренимом пристрастии именно к «миру детей».
«Я через полтора месяца кончаю десятый класс саратовской школы, – пишет школьница Наташа Николюкина. – Братьев и сестер у меня не было и нет, но…»
Следует такое же признание.
И вот письмо московской студентки:
«Я страшно люблю детей – и умных, и глупых, и красивых, и некрасивых, – и во мне вызывают умиление и восторг все их слова и поступки. Хотела бы я знать детей, понимать их, а любить их мне учиться не надо. Я бы очень хотела стать хорошим детским врачом, который сумел бы мягко, чутко и внимательно относиться к своим маленьким пациентам».
Это новое чувство с большой глубиной и силой выразилось в советской художественной литературе. Маленький ребенок стал излюбленным героем таких писателей, как Аркадий Гайдар, Борис Житков, Вера Панова, Л.Пантелеев, Василий Смирнов и другие.
Особенно показательна для наступившей эпохи ребенка книга Веры Пановой «Сережа», вышедшая в 1956 году. Кто из прежних писателей, и великих и малых, решился бы посвятить целую повесть – не рассказ, не очерк, а именно повесть изображению чувств и мыслей самого обыкновенного малолетнего мальчика, и притом сделать его центральной фигурой? Этого в нашей литературе еще никогда не бывало. Это стало возможным лишь нынче, при том страстном интересе к ребенку, которым в последнее время охвачены в нашей стране широчайшие слои населения.
Так как я не меньше полувека пристально наблюдаю детей, я считаю себя вправе засвидетельствовать на основании очень долгого опыта, что детская психология изображается в этой повести правдиво и верно, с непревзойденною точностью. Пятилетние, шестилетние советские дети думают, чувствуют, играют, ненавидят и любят именно так, как это изображает Панова. Наблюдения над сотнями наших дошкольников, приведенные мною на предыдущих страницах, полностью подтверждают все то, что сообщается в «историях из жизни» Сережи.
Особенно зорко подмечены талантливым автором этих «историй» неустанные усилия детского мозга, направленные к овладению знаниями, необходимыми для ориентации в окружающем мире. Автор чрезвычайно наглядно показывает, как велика та страстная пытливость, с которой каждый нормальный ребенок стремится к немедленному решению всевозможных вопросов, ежечасно встающих перед его неугомонным умом, – в том числе вопросов о рождении, жизни и смерти.
Достаточно хоть бегло ознакомиться с приведенными мною материалами, чтобы прийти к убеждению, что именно эти вопросы неизбежно встают перед каждым ребенком уже с трехлетнего, четырехлетнего возраста.
Но получилась очень странная вещь: вместо того чтобы обрадоваться замечательной книге Пановой, нашлись критики, которые по непонятной причине встретили ее вопиюще несправедливыми, мелочными придирками, словно задались специальною целью во что бы то ни стало отнять у новейшей советской литературы одно из лучших ее достижений.
VIII. Слезы и хитрости
На одной из предыдущих страниц я приводил заявление Нюры:
– Я плачу не тебе, а тете Симе!
Нюра точно выразила отношение многих здоровых трехлетних детей к социальной ценности слез.
Ребенок от двух до пяти нередко плачет «кому-нибудь» – с заранее поставленной целью. И отлично управляет своим плачем.
Мать не позволила трехлетнему Коте кидать мячиком в люстру. Он начал бурно и громко реветь, сидя на полу среди комнаты. Мать спряталась за ширму. Он подумал, что она ушла, вытер лицо кулаками, оглянулся и сказал:
– Чего же я реву-то? Никого нет.
И пошел разыскивать мать и, пока разыскивал, не плакал. Матери не нашел, привязался к работнице и тотчас заревел еще пуще.
Профессор К.Кудряшов сообщает в письме, что трехлетний Сережа в разговоре с ним, между прочим, сказал:
– Когда папа и мама приходят домой, я реву.
– А без них?
– При бабуле не реву.
– Почему же?
Сережа развел руками:
– Бесполезно.
Писатель Н.Г.Кон передал мне свой разговор с трехлетней Саррочкой Брахман:
– Я сегодня упала и сильно ушиблась.
– Плакала?
– Нет.
– Почему?
– А никто не видал.
Плакать в одиночку, без слушателей, здоровые дети зачастую считают излишним.
У двух близнецов глухой отец. Поэтому они ревут лишь при матери. Когда же остаются с отцом, охота плакать у них пропадает.
Тот же Сережа (из повести Веры Пановой) умело управляет своими слезами: когда старшие мальчики прогнали его, «у него дрогнула губа, но он крепился: подходила Лида, при ней плакать не стоит, а то задразнит: «Плакса! Плакса!»
Часто случается видеть, как ребенок несет свой плач какому-нибудь определенному адресату.
Его, скажем, обидели в далеком конце парка, и он бежит к отцу или матери по длинной тропинке и при этом нисколько не плачет, а разве чуть-чуть подвывает. Он бережет всю энергию плача до той минуты, когда добежит до сочувственных слушателей. А покуда тратит эту энергию скупо, минимальными порциями, хорошо понимая, что расходовать ее зря не годится.
Вообще эта «энергия плача» исчерпывается у детей очень быстро.
Вова Воронов плакал на улице.
– Подожди, не плачь, – сказала мать, – сейчас будем дорогу переходить. Здесь реветь некогда, надо смотреть, чтобы на нас машина не наехала. Вот дорогу перейдем, тогда можешь снова плакать.
Вова замолчал. Когда перешли дорогу, он попробовал опять зареветь, но ничего не вышло, и он заявил:
– Уже весь рёв кончился.
Поводы для детского плача нередко бывают ничтожными. Мать рассердилась на Лену и назвала ее Ленкой, а потом, когда накрыли на стол, с улыбкой сказала бабушке:
– Ах, ты и селедочку приготовила!
Этого было достаточно, чтобы Лена заревела безутешно.
– Ты даже селедку называешь селедочкой, а меня – Ленкой!
Дети в возрасте от двух до пяти вообще очень склонны к проливанию слез. Недаром говорится: «Он плачет, как ребенок».
– Бабуся, ты куда собираешься?
– К доктору.
Девочка – в слезы. И спрашивает, не переставая рыдать:
– Когда ты уйдешь?
– Да вот сию минуту.
– Зачем же ты мне раньше не сказала – я бы раньше начала плакать!
Еще более выразительный случай произошел недавно в одной московской коммунальной квартире. Женщина с трудом убаюкала грудного ребенка, но на душе у нее неспокойно: за тонкой стеной у соседей проживает трехлетний Ваня, страшный крикун и плакса. Стоит ему закричать, и он разбудит грудного. Желая задобрить этого зловредного Ваню, женщина дает ему большую конфету и просит, чтобы он помолчал хоть часок. Ваня уходит к себе в комнату, послушно молчит, но вскоре возвращается и протягивает конфету соседке:
– На, возьми, не могу – буду реветь.
И с громким ревом выбегает из комнаты.
Дико было думать, что так поступают все дети – всегда, во всех случаях. Чаще всего они плачут бесхитростно, – от боли, от тоски или от обиды. Вспомним, как плакал Сережа (в той же повести Веры Пановой), когда оказалось, что взрослые решили покинуть его. «Он рыдал, обливаясь слезами. Его не берут! Уедут сами, без него!.. Все вместе было – ужасная обида и страдание».
Это плач, выражающий непритворное детское горе, подлинную душевную муку.
Но здесь я говорю не об этих искренних детских слезах, проливаемых без всякой оглядки на взрослых. Сережа рыдал всерьез, ибо не мог не рыдать. Я говорю о тех, к сожалению, многочисленных случаях, когда дети пытаются при помощи слез достигнуть каких-нибудь благ. Как бы ни были забавны эти слезы, сколько бы улыбок ни вызывали они у взрослых, поощрять их, конечно, нельзя. Опрометчиво поступают те взрослые, которые с нелепой угодливостью торопятся исполнить любые желания ребенка, выраженные нарочитым нытьем, и тем самым приучают его с первых же месяцев его бытия к умелому использованию слез.
Вообще в этой неприглядной привычке детей виноваты исключительно взрослые.
Справедливо говорит читательница М.Ф.Соснина (Казань) в одном из своих писем ко мне.
«Если, – утверждает она, – слезы и рев никогда не ведут ни к какой выгодной для ребенка реакции со стороны взрослых, ребенок и не будет плакать из корысти. Ему такая возможность прямо-таки не придет в голову. Значит ли это, что он вообще не будет плакать? Нет, будет, но тогда слезы его будут вызваны чисто физиологической потребностью разрядки накопившихся переживаний…
«Хитроумие» свойственно детям гораздо чаще, чем принято думать. Сентиментальная легенда о ребенке, как о некоем бесхитростном праведнике, чрезвычайно далека от действительности.
Ибо на самом-то деле ребенок совсем не такой ангелочек, каким он представляется многим слепо влюбленным родителям. Большой дипломат, он нередко внушает себе и другим, будто его своекорыстные желания и требования подсказаны ему чистейшим альтруизмом.
Четырехлетняя Вера говорит, например, своей матери:
– Ты можешь пойти за мороженым… Я не для того говорю, что за мороженым, а для того, чтобы ты вышла немного на воздух.
Наташа угощает бабушку конфетами:
– Ты, бабушка, кушай эти красивенькие (мармелад), а уж я буду есть эти грязные.
И, делая гримасу отвращения, со вздохом берет шоколадку.
И кого не обезоружит своим простодушным лукавством такая, например, уловка ребенка, где голый эгоизм прикрывается гуманнейшей заботой о ближних.
– Мама, возьми меня на ручки! Я тебя буду держать, чтобы ты не упала!
Мать несет тяжелую кошелку.
– Мама, ты возьми меня на ручки, я возьму кошелку, и тебе не будет тяжело.
Пятилетняя Ирина во время обеда ест неохотно и вяло. Чтобы она действовала ложкой быстрее, мать предлагает ей есть суп наперегонки. Ирина отказывается, но при этом чрезвычайно хитро мотивирует свой отказ нежными чувствами к матери:
– Не хочу перегонять такую хорошую маму!
У бабушки большие очки. Андрюша гуляет с нею по многолюдному парку и очень боится волков. При этом в душе у него тлеет надежда, что, если уж волки совершат нападение, то скорее всего на бабушку. Эту свою тайную надежду он выражает такими словами:
– Если какого человека съест волк, что он сделает с его очками? На себя наденет, что ли?
Трехлетний Игорь увидел незнакомую кошку и в страхе спрятался за материнскую спину.
– Я кошки не боюсь, я только даю ей дорогу, потому что она такая хорошенькая.
Моя правнучка Марина двух с половиною лет весело прыгает в лужу и вдруг замечает, что я из-за занавески смотрю на нее. Покинуть лужу ей очень не хочется. Поэтому она кричит озабоченным голосом:
– Отойди от окна, ты простудишься!
Четырехлетнему Валерику в детском саду предложили нарисовать голубей.
Он ничего, кроме домиков, рисовать не умел. Он и нарисовал домик.
– Где же голуби?
– Они в домике.
Андрюша Румянцев (2 г. 10 мес.) заинтересовался плавающим в речке бревном. Ему очень хочется подбежать к нему ближе, но его не пускают туда.
Неподалеку от бревна на берегу собачонка, которая нисколько не интересует Андрюшу.
– Марина, правда, хорошая собачка?
– Да. Очень!
– Чудесная собачка! Нет, ты только подумай, какая собачка! Я побегу к ней – такая хорошая!
О бревне ни единого слова.
Мать собралась уехать на неделю из города и взять с собой Таню. Но Таня не знает об этом. Думает, что она будет оставлена вместе с Юриком дома. Поэтому, ни слова не говоря о себе, Таня начинает лицемерно сокрушаться о брате.
– И ты уедешь? – говорит она матери. – Ты можешь уехать от бедного, больного маленького мальчика?
Когда же она узнает, что мать намерена взять и ее, она мгновенно сбрасывает маску:
– Не такой уж он маленький и не такой уж больной! И вообще он большой. И притом здоровый.
К чести Тани, необходимо сказать, что, в отличие от взрослых, она сама не замечает своего лицемерия.
– Мама, хлеба!
– Подожди, скоро обед.
– Ну дай моей кукле Маше.
Получив для куклы кусочек хлеба, четырехлетняя Галя сразу кладет его в свой собственный рот.
– Что же ты делаешь?
– Пробую, не горячий ли хлеб: чтобы Маша не обожгла себе ротика.
Я думаю, такому лукавству мог бы позавидовать любой иезуит.
Двухлетняя Зоя не хочет, чтобы дети, пришедшие в гости, играли ее игрушками. Ради этого она прибегает к таким измышлениям:
– Куклу нельзя трогать: кукла больна. Мишку тоже нельзя: он кусается.
Откуда в ней это лукавство? Растет она в очень правдивой семье, не выносящей никакого криводушия.
А совсем недавно та же Зоя, уже достигшая четырехлетнего возраста, громко за столом произнесла непонятную фразу, услышанную ею по радио:
– Антифашистская демонстрация в Греции.
– Что это, по-твоему, значит? – спросила у нее удивленная тетка.
Вместо того чтобы откровенно признаться, что вся фраза недоступна ее пониманию, Зоя уличает в непонимании тетку:
– Ты не знаешь, что это значит? Папа, да объясни ты ей, пожалуйста, а то мне стыдно, что она не знает.
IX. Продолжаю прислушиваться
В виде дополнения к настоящей главе привожу без всяких комментариев пестрые записи о речах и поступках детей, сделанные мною и моими друзьями – главным образом в последнее время.
Надеюсь, что внимательный читатель и сам прокомментирует их – на основе предыдущего текста.
Сенсационные открытия:
– Папа, ты знаешь, оказывается: у лошадей нет рогов!
– Мама, ведь правда, домовых нет, а есть только домоуправы?
– Володя, знаешь: у петуха нос – это рот!v
– Знаешь, папа, у всех зверей спина наверху, а живот внизу!
– А плохо быть птичкой: захочешь поцеловать маму – и уклюнешь ее.
– Когда конфету держишь во рту, она вкусная. А когда в руке – невкусная.
– А из замужа обратно выйти можно?
– Вовка меня по-деревянному сегодня обозвал.
– Как это?
– Он сказал: сучка.
Люда Плеханова трех лет:
– А мы по радио слушали песню кувшини!
Люда спутала кувшин и графин, – то была ария графини из «Пиковой дамы».
– А как же глисты живут в животе без освещения? Им же там совсем темно.
– Я спала, а баба ушла, а тут такой крик стоял…
– Кто же кричал?
– Да я.
– Лена, куда ты! Постой! Не надо показывать собачке, что ты ее боишься.
Лена, убегая:
– А зачем я ей буду врать, если я ее и вправду боюсь?
– Юбка – это когда две ноги в одну штанину.
О портрете Гончарова:
– Он уже умер, да? А кто же теперь его заместитель?
Жена филолога ласкает четырехлетнего сына:
– Ах ты, мусенька, дусенька, пусенька.
Сын:
– Мама, не кривляй русский язык!
– Это не настольная игра, а настульная. Ведь я же играю не на столе, а на стуле.
Отсидела ногу.
– У меня в ножке боржом!
– Как же ты упал с кровати?
– А я ночью спал-спал и на себя не смотрел, а потом посмотрел на кровать и вижу: меня там нет.
Неистребимая страсть к похвальбе.
– А мой папа храпеть умеет!
– А у нас на даче столько пыли!
Соседский Саша так гордился живущими в его постели клопами, что пятилетний Антоша Иванов (с которым мы уже познакомились на предыдущих страницах) заплакал от зависти:
– Хочу, чтобы у меня были клопы!
– Вот ты говоришь – чудес не бывает. А разве это не чудесо, что вишни в одну ночь зацвели?
– Звезды очень далеко. Так откуда же люди знают, как их зовут?
– Рыба мрыть (умирать) не умеет; у нее головы нету. Только глаза на животе и хвост.
– Как рубану человека!
– Как же это можно рубануть человека?
– Не человека – буржуя!
– Тетенька, вы очень красивая.
– Да что же во мне красивого?
– Очки и тюбетейка.
– …Жили-были царь и царица, а у них был маленький царёныш.
– Кто красивее – папа или мама?
– Не буду вам отвечать, потому что не хочу обижать маму.
– Достань мне луну, хоть надкушенную!
– У нас бабушка в деревне всех петушков перерезала. Пусть теперь сама яйца несет.
– Папа, какие милиционеры смешные! Он мне говорил вы, как будто меня несколько!
Впрочем, дети очень скоро научаются понимать, что слово «вы», обращенное к одному лицу, знаменует собою учтивость.
– Нинка выдра, выдра, выдра! – кричит пятилетняя Маша.
Ее сверстнице Клаве такое ругательство кажется слишком уж вежливым.
– Надо не выдра, а тыдра, – поучает она.
– Тыдра, тыдра, тыдра! – дружно кричат они обе.
Нина не выдерживает и в слезах убегает.
Вырвали зуб.
– Пусть он теперь у врача в банке болит!
Нормы поведения, внушаемые взрослыми детям, воспринимаются детьми как универсальные правила, равно обязательные для детей и животных.
– Бабушка, смотри, какие утки глупые – сырую воду пьют из лужи!
Девочка, живущая на юге, угощает виноградом козу и все время кричит ей:
– Плюнь косточку!
Мы уже видели, что малый ребенок далеко не всегда отличает вещь от того слова, которым эта вещь обозначена.
То же происходит и с рисунками: изображенные на них существа воспринимаются ребенком как живые.
Владику было полтора года. Ему прочитали басню «Ворона и Лисица» и показали иллюстрацию к ней. Он пожалел несчастную ворону, которая осталась без сыра. Когда через две-три недели к завтраку был подан голландский сыр – любимое лакомство Владика, – он побежал за книжкой, отыскал тот рисунок, где изображена ворона с открытым клювом, и, тыча вороне сыр, стал приговаривать:
– На, ворона, кушай сыр, кушай!
В детском саду воспитатель показывает детям картинку. На картинке изображен мальчуган, который убегает от разъяренного гуся; вдали домик, окруженный деревьями.
Пятилетняя девочка берет указку и сильно стучит по домику.
– Я стучу, – поясняет она, – чтобы мальчику скорее открыли, а то его гусь укусит.
В другой раз воспитатель показал тем же детям картинку, на которой нарисована спящая женщина, а рядом ее дочь, вся в слезах: играя, она поцарапала руку.
Девочка, всмотревшись в картинку, начинает тыкать указкой в спящую:
– Мама, просыпайся: жалко девочку.
Двухлетней Кате очень понравилась картинка, изображавшая козликов на зеленой лужайке. Она стала тянуть маму за руку:
– Пойдем туда в картинку, к козликам!
Наташа принесла в детский сад корейскую сказку «Ласточка».
В книге есть картинка: к птичьему гнезду подбирается злая змея.
Увидев картинку, приятель Наташи, пятилетний Валерка, набросился на змею с кулаками.
– Не бей! – закричала Наташа. – Я уже побила ее дома.
На картинке нарисован бегемот, бегущий за мишкой. Трехлетняя Саша прикрыла медведя ладонью, чтобы бегемот его не догнал.
Глядя на лысого:
– Почему у тебя так много лица?
Увидел в Зоопарке полосатую зебру:
– Лошадь в тельняшке.
Сережа Сосинский с философским уклоном ума:
– Когда я сплю, мне кажется, что меня нигде нет: ни в одной постели, ни даже в комнате. Где я тогда, мама?
– Мама, а можно спать назад?
– Как – назад?
– Утром уснуть и проснуться вчера вечером?
Другой пятилетний философ:
– Когда будет завтра?
– Через ночь.
Утром:
– Сегодня завтра?
– Нет, сегодня.
– И чего это я никак завтра не поймаю.
Сын учителя, пятилетний Валерий:
– Пушкин сейчас живет?
– Нет.
– А Толстой?
– Нет.
– А живые писатели бывают?
– Бывают.
– А их кто-нибудь видел?
Это напомнило мне один эпизод, приключившийся лет тридцать назад. Меня знакомят с пятилетней Ириной.
– Это, Ирочка, писатель Чуковский.
Та спрятала руки за спину и засмеялась, как человек, хорошо понимающий шутку.
– Чуковский давно умер.
Когда же меня пригласили к столу, она окончательно уличила меня в самозванстве:
– Ага! Разве писатели кушают?
В автобусе мальчик четырех лет сидит на руках у отца. Входит женщина. Мальчик, желая быть вежливым, вскакивает с отцовских колен:
– Садитесь, пожалуйста!
В заключение – несколько примеров того, как своеобразно отражаются в детских умах количественные отношения вещей.
Математический спор двух четырехлетних соперников:
– Я на четвереньках умею.
– А я на пятереньках.
– А я на шестереньках.
– А я на семереньках.
– А я…
К счастью, дальше семи они не умели считать. Дошли бы до тысячеренек.
Кот стоит на четвереньках,
А Наташа на двуеньках.
Трехлетняя Анка.
– А я двумями ногами могу прыгать!
У Эрны и Таты три чашки. Разделить их поровну никак невозможно. Та, кому во время игры достается одна чашка, страдает от зависти, плачет, а та, у кого их две, важничает и дразнит страдалицу.
Вдруг Эрну перед игрой осеняет:
– Давай разобьем одну чашку!
Тата обрадована:
– Давай разобьем!
Это первая математическая задача, которую довелось им решать, и они блистательно решили ее, так как после уничтожения чашки получили возможность играть по-товарищески, не причиняя друг другу обид.
Леве было пять лет, и он ужасно боялся вернуться в четыре (чем ему однажды пригрозили).
– Одна рука холодная, а третья горячая.
Мать Леонида Андреева рассказывала мне, что, когда ему было три года, он однажды, ворочаясь в постели, пожаловался:
– Я – на один бок, я – на другой бок, я – на третий бок, я – на четвертый бок, я – на пятый бок – все никак не могу заснуть.
– Сколько тебе лет?
– Скоро восемь, а пока три.
Известным психологом А.В.Запорожцем были опубликованы наблюдения О.М.Концевой над отношением дошкольников к арифметическим задачам.
«Оказывается, – пишет ученый, – малышей чрезвычайно занимает жизненное содержание задачи, в то время как собственно математические моменты отодвигаются на задний план.
Ребенку говорят: «Мама съела 4 конфеты, а своему сыну дала 2, – сколько они съели вместе?» Малыш не решает этой задачи, так как его волнует описанная в ней несправедливость. Он говорит:
– А почему она Мише так мало дала?
Воспринимая текст задачи, ребенок прежде всего видит в нем описание некоторых реальных событий, в котором собственно числовые данные имеют вспомогательное значение»17.
О подобном же случае сообщает мне из поселка Холбон Читинской области т.Иванов:
«Я предложил своему трехлетнему племяннику такую задачу:
– Папа купил одну конфетку, и мама – одну конфетку…
Но я не успел закончить, потому что мальчишка спросил:
– А где они?»
Пятилетний Алик только что научился считать до десятка. Поднимаясь по лестнице на седьмой этаж, он с уверенностью считает ступени, и ему чудится, что в произносимых им числах есть некая магия, так как, по его мнению, количество ступеней зависит от цифры, которую он назовет.
– Вот, – говорит он, – если бы считали не 1, 2, 3, 4, 5, а 1, 3, 5, 10, было бы легче дойти. Было бы меньше ступенек.
Число кажется ему такой же реальностью, как и вещь, отмечаемая числом. Этот фетишизм цифр сродни детскому фетишизму рисунков и слов.
Таков же фетишизм детей в отношении к календарю и к часам.
Таня взяла календарь и старательно отрывает листок за листком:
– Хочу сделать Первое мая… Тогда мы пойдем на демонстрацию.
Мама сказала пятилетнему Леве, что вернется домой, когда вот эта стрелка будет здесь (и показала на стенных часах). Лева остался один. Ждал, ждал – не выдержал, взобрался на стул и перевел стрелку, – в твердой уверенности, что тем самым ускоряет возвращение мамы.
Вообще последовательность чисел представляется ребенку чем-то таким, что вполне зависит от его – человеческой – воли.
– Я хочу жениться на Володе, – говорит маме четырехлетняя Лена.
– Но ведь ты на целый год его старше.
– Ну так что! Мы пропустим один день моего рождения и сравняемся.
Ссылки:
- И.М.Сеченов, Кому и как разрабатывать психологию? Избранные философские и психологические произведения, М. 1947, стр. 268.
- Этот пример я заимствую из статьи А.В.Запорожца «Развитие логического мышления у детей в дошкольном возрасте». Сборник «Вопросы психологии ребенка», М.-Л. 1943, стр. 82.
- А.И.Герцен, Разговоры с детьми, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIV, М. 1958, стр. 206.
- К.Рождественская, Особенности детского восприятия. Журнал «Детская литература», 1940, # 5, стр. 10.
- А.П.Чехов, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 4, М. 1955, стр. 108.
- Жизнь и творчество Б.С.Житкова, М. 1955, стр. 385-386.
- Э.И.Залкинд, Как отвечать на вопросы детей. Сборник «Воспитание ребенка в семье», М. 1950, стр. 230.
- Э.И.Залкинд, Как отвечать на вопросы детей. Сборник «Воспитание ребенка в семье», М. 1950, стр. 225-226.
- «The Nursery Years», by Susan Isaaks, London (Routledge and Kegan Paul), 1956, p. 93.
- Э.И.Залкинд, Как отвечать на вопросы детей. Сборник «Воспитание ребенка в семье», М. 1950, стр. 227.
- «How a Baby is Born», by K. de Schweinitz, London (Routledge and Kegan Paul).
- А.Шаров. «Языки окружающего мира», «Новый мир», 1964, № 4, стр. 143.
- Е.Ю.Шабад, «Живое детское слово. Из работ первой опытной станции Наркомпроса», М. 1925, стр. 51-52.
- А.В.Запорожец, «Психология восприятия сказки ребенком-дошкольником», «Дошкольное воспитание», 1948, № 9, стр. 40.
- М.М.Скудина, «Роль советской народной сказки в воспитании моральных качеств у детей дошкольного возраста». Сборник «Литературно-критические чтения», М. 1951, стр. 108.
- Записки актера Щепкина, М. – Л. 1933, стр. 33.
- «Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста», М.-Л. 1948, стр. 85.
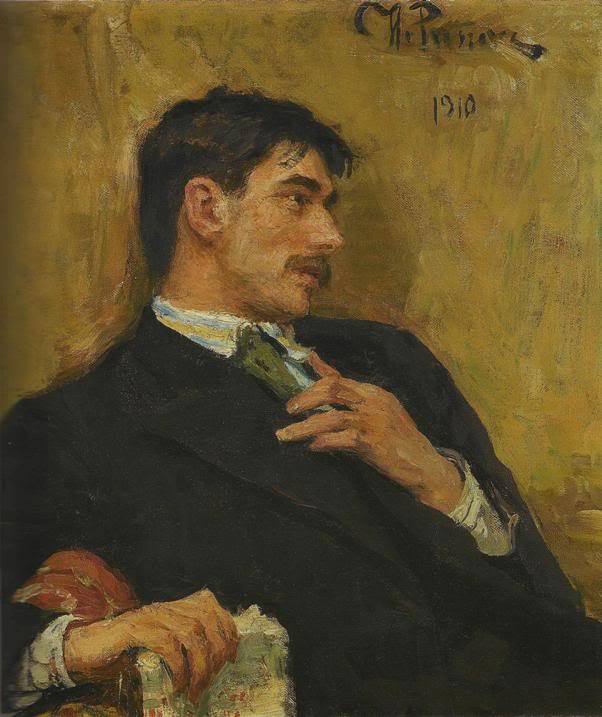
Комментировать