Оглавление
Часть I. Так это было
Великий сибирский ледяной поход
В бурной, трагической и героической истории России XX столетия Гражданская война стоит особняком. Она – тот сабельный удар, что кровавым рубцом отчертил утраченное прошлое и наметил границы неведомого до поры будущего, обозначив великий раскол незыблемого и целостного Русского Мира. Та братоубийственная война разделила нашу страну на «здесь» и «там», на «тех» и «этих». И Россия – одна, но разрезанная надвое – нет, не географически, но по самому своему бытию – оказалась на распутье. И каждый, кто жил в России в те времена, вынужден был избрать свой путь и пойти по нему.
Одним из ярких событий Гражданской войны стал Кубанский Ледяной поход 1918 года, фактически давший толчок к рождению Белой Армии. Но был и ещё один, не менее величественный Ледяной поход. Имя ему – Великий Сибирский.
…Приближался новый 1920‑й год. Красные отряды широким маршем, с раскатистым «Ур-р-ра-а-а‑а!» неудержимо и стремительно двигались к Омску. Армия Верховного правителя России адмирала Александра Васильевича Колчака на тот момент уже не могла, не имела сил оказывать большевикам серьёзное сопротивление и вынуждена была отступать, отступать всё дальше на Восток. Это и стало началом Великого Сибирского Ледяного похода. Предшествовали же ему следующие события.
В начале осени 1919 года красные оперативно перебросили на Восточный фронт свежие и, что немаловажно, боеспособные части. Обеспечив себе внушительный перевес в живой силе, они перешли в наступление. Перед Верховным главнокомандующим Русской Армии А.В. Колчаком встал трудный выбор: или приложить все усилия к защите своей столицы, Омска, или провести эвакуацию и организованно отойти дальше на восток. Адмирал Колчак оттягивал решение, не желая оставлять город и направлять измученные боями войска Белой Армии в огромные и полные неожиданных трудностей сибирские просторы. В итоге он окончательно так и не смог остановиться ни на одном из вариантов, и момент стратегического манёвра был упущен, времени для проведения активных действий у него просто-напросто не осталось.
Красный командарм Восточного фронта, бывший царский генерал Владимир Ольдерогге[1] спланировал и провёл боевую операцию по захвату Омска, по чести надо признать, образцово-показательно. В ночь с 13 на 14 ноября части Красной Армии практически без сопротивления захватили станцию Омск. Белые не успели ни подготовить отход солдат, ни помочь в эвакуации запаниковавшего гражданского населения, ни обеспечить вывоз ценного имущества. Единственное, что удалось отправить по железной дороге, это золотой запас.
Трофеи красных впечатляли: пять бронепоездов «на ходу», около двухсот паровозов, большое количество боеприпасов и до тридцати тысяч военнопленных, из них – десять генералов. Почти вся Белая Армия оказалась без архиважных составляющих: оперативного и полноценного военно-штабного руководства, транспорта и снабжения.
Адмирал Колчак пытался создать линию обороны в районе Ново-Николаевска. Но в ряде боевых столкновений на этом важном участке колчаковцы потерпели очередное поражение. Причём сам Верховный правитель успел уехать в том самом «золотом эшелоне» в сторону Иркутска и, остановившись в Нижнеудинске, вместе с помощниками рассматривал вариант ухода в Монголию. Колчак очень надеялся на верность своего окружения. Собрав личный конвой, адмирал предоставил солдатам и офицерам свободу выбора и предложил остаться с ним лишь тем, кто готов разделить его судьбу. К утру из пятисот человек с Александром Васильевичем осталось десять…
В сложившихся условиях командование взял на себя генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель. Первое, что он предпринял – отдал «разрешающий» приказ всем колеблющимся сдаваться красным. С точки зрения психологии ход более чем верный. С Каппелем оказались те, кто был готов к продолжению сопротивления.
Высокие моральные качества белых офицеров признавала даже советская кинематография. В насквозь пропагандистском, но притом великолепном с художественной точки зрения фильме 1934 года «Чапаев», снятом братьями Васильевыми, показан эпизод атаки каппелевцев, когда при шквальном огне чапаевских пулемётов белогвардейцы в рост идут в атаку…
Далее Владимир Каппель предложил своим соратникам пешком и на санях пробиваться к Красноярску. Он отдавал себе отчёт в грядущих неизбежных трудностях похода, ведь вместе с войсками уходило много мирных жителей, среди которых было немало детей. Кроме того, командующий красноярским гарнизоном генерал Бронислав Зиневич предал Белое дело, ещё в конце 1919 года перейдя на сторону большевиков. И когда штурм Красноярска отрядами Каппеля состоялся, закончился он неудачей. Белые сражались без артиллерии, в атаку шли люди, измотанные тяжелейшим походом. В результате вместо ожидаемого отдыха в Красноярске войска Белой Армии, потерпев поражение, были вынуждены в лютую стужу по глубоким снегам пробиваться дальше.
В январе восточнее Красноярска собралось до тридцати тысяч белогвардейцев, которым предстояло пройти огромный путь до Иркутска. Из-за катастрофической ситуации со снабжением Каппель принял решение разделить отряды и двигаться дальше несколькими колоннами.
Сам генерал-лейтенант избрал наиболее трудный маршрут: по льду рек в сторону Канска, где на протяжении почти ста километров населённые пункты отсутствовали в принципе. Переправляясь через реку Кан, Владимир Каппель провалился с конем под лёд, сильно простудился и обморозил обе ноги. Не теряя присутствия духа, он и в таком положении продолжал командовать трудным переходом войск, личным примером вдохновляя солдат.
Под началом генерал-майора Александра Петровича Перхурова часть белых отрядов из района устья реки Кан отправилась по течению Енисея. Путь по тайге протяжённостью более трёх тысяч километров, сопровождаемый боями – путь беспримерный. Он проходил под регулярными обстрелами, сабельными наскоками противника и косящим, словно серпы ниву, огнём красных пулемётов. В марте остатки отряда Перхурова вышли к своим в районе Читы.
А основные силы белых в середине января подошли к Канску, но к тому моменту гарнизон города перешёл на сторону большевиков. Каппель, уже тяжело больной, штурм отменил, решив обходить город с юга. В это время белые узнали о том, что адмирал Колчак пленён и содержится в иркутской тюрьме. Это был результат предательства верхушки чехословацкого корпуса, которая, в обмен на своё свободное продвижение до Владивостока, сдала Верховного правителя России красным.
22 января каппелевцы выбили отряды красногвардейцев из Нижнеудинска и, наконец-то, смогли устроить войскам небольшую передышку. На совещании офицеров было принято единогласное решение о штурме Иркутска ради освобождения Колчака. Через пару дней Владимир Оскарович Каппель, предчувствуя свою близкую кончину, передал командование генерал-майору Сергею Николаевичу Войцеховскому, а 26 января скончался от воспаления лёгких. Последним местом земного бытия В.О. Каппеля стал разъезд Утай близ Нижнеудинска.
У С.Н. Войцеховского под командой осталось не более пяти тысяч бойцов, среди них немало больных и обмороженных, к тому же в рядах белогвардейцев начался свирепый тиф. Тем не менее, 30 января генерал-майор Войцеховский вышел с белыми войсками на железнодорожную линию у станции Зима и наголову разбил красные полки. 3 февраля каппелевцы двинулись на Иркутск, сходу взяли село Черемхово, что расположилось в полутора сотнях километров от Иркутска, расстреляли местный ревком и разогнали шахтёрские дружины. Притом, что у белых было всего четыре действующих орудия и ещё семь имелось в разобранном виде, при мизерном числе патронов и катастрофическом положении с пулемётами!..
После безрезультатных переговоров с местными большевиками отряды Войцеховского прорвались к Иркутску. Битва за Иркутск – одна из самых жестоких за всю Гражданскую войну. Пленных не брали обе стороны. Белые атаковали отчаянно и сумели прорвать часть городской обороны. Однако 7 февраля Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской Армии адмирал Александр Васильевич Колчак по постановлению военно-революционного трибунала был расстрелян. После этого штурм Иркутска потерял всякий смысл, и Войцеховский по реке Ангаре двинулся со своими отрядами к западному берегу Байкала. Он знал, что на другом берегу железную дорогу контролирует атаман Григорий Семёнов, а это значит – там можно дать отдых уставшим людям, изнурённым лошадям и, самое главное – есть спасительная возможность объединения сил. В середине февраля полуголодные и вконец измученные люди оставшихся отрядов Белой Армии и мирных беженцев ступили на лёд великого озера Байкал…
Путь по озеру стал последним тяжким испытанием для отходивших беженцев и солдат Белой Армии. Начавшийся ледоход не помешал переправе, хотя до восточного берега добрались далеко не все. Зато все, достигшие станции Мысовая, на самом деле оказались спасены. Раненых, женщин и детей погрузили в заранее подготовленные санитарные эшелоны. Остальные вновь отправились пешком. И, пройдя ещё шестьсот километров, в начале марта, наконец, добрались до Читы.
Так закончился Великий Сибирский Ледяной поход. Далее последовал Великий Исход. Кто, куда, на какое время покидал Родину, что ждало каждого из них впереди – никто, кроме Бога, не ведал…
О характерах и судьбах некоторых участников и свидетелей этого драматического периода в истории Русского Мира и повествуют собранные воедино тексты этой книги.
Игорь Маркин
Так это было. Воспоминания об отце и комментарии к его записям дочери Игнатия Волегова – Галины Игнатьевны Кучиной (урождённой Волеговой)
Мой папа родился в деревне Волегово, откуда и берёт начало наша фамилия. Но только недавно я, благодаря папиному двоюродному внуку Евгению Волегову, узнала историю этой деревни и то, почему она названа «Волегово»[2].
Камень Волегов (или «Волеговские камни») стоит на правом берегу реки Чусовой[3] в ста девяти километрах от турбазы, которая по имени реки именуется «Чусовая». Камень совсем небольшой и ничем не примечательный. Но из-за быстрого течения, несущего речные суда прямо на него, здесь с давних времён нередко бились барки[4]. Не случайно гласит уральское предание: «Волегов – боец[5], страшный боец. Около него деревня Волегово». Впрочем, порой Волеговским камнем величали и камень Гребни, поименованный в честь деревни, что стояла чуть выше по течению реки.
Деревня же Волегово, как сообщает энциклопедия, была основана в 1701 году благодаря Строгановым[6], которые поселили здесь несколько семей крепостных. Довольно большое это поселение располагалось тогда на обеих берегах реки Чусовой, на левом берегу начинаясь прямо от камня Гребни при впадении в Чусовую правого её притока – речки Волеговки. Однако недолго продолжалась в этих местах спокойная жизнь. В 1709 году Волегово подверглось нападению татар[7]. А позже, уже в веке двадцатом деревня исчезла совсем: в 1967 году она попала в список подлежащих сносу в связи с проводившейся тогда в стране ликвидацией «неперспективных поселений». Сейчас на месте Волегова – огромное бескрайнее поле.
Эти сведения помогли мне понять, что предки мои Волеговы занимались крестьянским хозяйством, а также рубкой и сплавом леса.
* * *
Почему я так беззаветно люблю Россию? Это тайна, на которую я на протяжении нескольких лет пыталась найти ответ.
Родилась я в Китае, уже почти шестьдесят лет прожила в благополучной Австралии – и полюбила эту страну, приобретя здесь многих друзей и знакомых, которых уважаю, и сама с благодарностью принимаю их ответную любовь и уважение. Но сердцем я вся – в России… И ответ на мой вопрос очень прост: моя связь с Россией – это мой папа. У такого отца, истинного патриота своей страны, дочь другой стать не могла. Сейчас, перечитывая его мемуары, я окончательно убедилась в том, что мою сердечную тягу, мою любовь к России определяют именно мои корни.
«Историк прежде, чем написать историю, ищет живых свидетелей, тех людей, которые принимали участие в событиях, и суть этих событий заносит в историю. Историк собирает материал от разных лиц, которые имели отношение к событиям, полемику из общественной прессы, пусть эта полемика будет в форме писем, но лишь бы были отрывки из тех событий, о которых он собирается писать» (Игнатий Волегов).
* * *
Что подвигло меня к написанию этого очерка, этих комментариев к записям отца? Стремление познакомить читателя с дореволюционной жизнью в России, с традициями и обрядами её народа. Стратегию военных действий, события Гражданской войны и роль Белой Армии я сознательно оставляю за скобками повествования: у читателя есть возможность ознакомиться с этим в книге «Воспоминание о Ледяном походе» Игнатия Волегова[8].
Есть и ещё одна важная причина, побудившая меня написать то, что прочтёт здесь читатель: это желание восстановить историческую справедливость. Политизированная пресса советской эпохи и не менее политизированные западные СМИ оболгали русский народ. Вопиющая ложь о России продолжает распространяться на Западе и сегодня. Внесло и по-прежнему вносит свой вклад в утверждение этой лжи и киноискусство. Достаточно вспомнить сцены эпизода, называемого «Штурм Зимнего дворца», из художественного фильма Сергея Эйзенштейна, который был представлен как документальный. А в действительности-то никакого штурма не было! Но идея режиссёра-постановщика была принята как реалия, и на Западе она живёт до сих пор. Целый ряд подобных заблуждений я попытаюсь назвать и осветить здесь, в моём тексте.
* * *
Когда папа достиг пенсионного возраста, он часто уходил к себе в комнату и писал, заполняя своими воспоминаниями одну тетрадь за другой. Я тогда не особенно интересовалась тем, о чём он пишет, уединяясь. Я не вникала в историю его жизни, не задавала ему вопросов, о чём сейчас очень жалею. Папа никогда не был навязчивым рассказчиком, не вызывал собеседников на политические споры и всегда оставался чрезвычайно тактичен. А мы, тогда молодые, легкомысленные, были заняты своей жизнью, своей работой, воспитанием ребёнка и вовсе не задумывались о том, какой удивительный человек живёт с нами рядом – истинный патриот своей Родины, перенесший тяжкие испытания Первой Мировой и Гражданской войн.
Только недавно я поняла, почему книга моего отца получила такой резонанс в России и почему она была переиздана и в Воронеже, и в Иркутске, и в Чите. Потому что это – воспоминания очевидца, современника событий страшных, жестоких. И, рассказывая о них, папа не использует художественный вымысел, а констатирует факты, честно свидетельствуя о них и не будучи несправедливым по отношению к врагу. Даже описывая часто беспощадные действия Красной Армии, он не позволяет себе грубых суждений, не навязывает своей точки зрения, оставляя за читателем право делать собственные выводы.
Папа пишет: «Октябрьская революция всколыхнула весь российский народ. Мало было таких людей, которые не принимали бы никакого участия в международных распрях и в вооружённом Белом восстании против большевиков». И продолжает: «Я буду справедлив по отношению к совершившимся фактам, не отступая от истины».
Моё желание как автора – попытаться максимально сохранить интонационное единство повествования и его фактическую достоверность. Этим и обусловлено то, что дальнейшая речь здесь будет, в основном, вестись от лица моего отца, Игнатия Волегова – как непосредственного свидетеля и участника описываемых событий.
* * *
В первой декаде 1918 года, вспоминает папа, на основании декрета большевистского Правительства началась демобилизация бывшей Российской Императорской Армии. 28 февраля 1918 года я получил освобождение от несения служебных обязанностей. Удостоверение на предмет увольнения в отпуск уже носил в своём кармане больше месяца. Своим чинам учебной команды о том не говорил, чтобы не огорчать их своим отъездом. Очень было мне жаль оставлять двести двенадцать человек чинов учебной команды, прекрасно дисциплинированных. Все они были хорошо подготовлены к тому, чтобы стать унтер-офицерами[9]. Увы, накануне их выпуска вышел приказ о демобилизации – какая ирония!
Фельдфебель построил учебную команду. Я пришёл с ними проститься. Этот момент я не забуду до самой смерти. Прощаясь, они почти все плакали, за исключением тех, кто стыдился показать свои слёзы. Некоторые из них говорили: «За что Вы нас наказываете, бросаете на произвол?»; кое-кто и упрекал меня: «Вы оставляете нас на съедение распущенной толпы!»; а другие просто заявляли, что поедут туда, куда еду я.
Я уговаривал их с 9 до 12 часов дня. В 12 часов – обед, и они задержали меня, чтобы мне пообедать с ними. Возница на полковой двуколке, которая была приготовлена отвезти меня на ближайшую станцию железной дороги, ожидал меня. Итак, я с ними расстался с великой грустью на сердце, сознавая, что больше никогда их не увижу, и такой любви мне уж больше не сыскать.
Мой возница – не из чинов учебной команды, а солдат из нестроевой роты – был свидетелем нашей прощальной драмы, и доро́гой мне говорит:
– Товарищ охфицер, а что, если бы все охфицеры были таки́, как ты – ведь не было бы ефтово-то… а?
– А чего «ефтого»?
– Ну, революции…
Дальнейший разговор я не поддержал, помышляя, как бы на станции залезть в любой вагон незамеченным пьяными солдатами и охраной железной дороги, которая уже была сформирована из местной разнузданной молодёжи. Тут я увидел эшелон, составленный из товарных вагонов. Около вагонов бегают солдаты с винтовками. Оказывается, станционная охрана требовала, чтобы солдаты сдали винтовки. Но унтер-офицер показал охранникам наган и пригрозил, что они разнесут всю станцию, если поезд не отправят через десять минут.
– А Вы что ждёте, товарищ офицер? Садитесь в любой вагон, скоро поедем.
Я поднял свой чемодан и через толпу стал пробираться к вагонам. Слышу, сзади подошёл кто-то, обернулся – огромного роста унтер-офицер, с погонами на плечах, взял меня за плечи и говорит:
– Давайте я донесу Ваш чемодан и посажу Вас в наш вагон.
Он нёс поклажу без труда и, можно сказать, забросил меня в вагон, как лёгкую вещь, туда же загрузил и мой чемодан.
– Садитесь в угол слева на нижние нары, там уже сидит один офицер, Вам будет веселей с ним, – посоветовал мой провожатый. – Сможете поговорить, а с нашей братвой говорить не о чем: услышите только ругань…
В углу на нижних нарах сидел подпоручик Подкорытов. Мы звали его Шурой. Он – мой однополчанин, и вместе с ним мы в одиночном порядке приехали на Румынский фронт. Боже, как он был рад нашей встрече! Бросился ко мне на шею, обнял – я знал это свойственное ему выражение радости, эту юношескую открытость характера и почти детскую манеру дружеской ласки, присущую ему от природы.
Выехали мы не через десять минут, а через десять часов…
Не буду вдаваться в подробности нашего передвижения, отмечу лишь наиболее важные моменты, касающиеся нас с Шурой Подкорытовым, и поведение и беседы солдат-сибиряков в дороге, которые просто нельзя обойти молчанием. Один говорил: «Ораторы на фронте много нам обещали. Только, сказали, скорее кончайте войну – и вам будет дана земля, и никто вас не будет притеснять, как притесняли помещики и правительство, будете строить свою жизнь, как вам захочется». Другой рассуждал: «Приедем домой – и увидим, какая там власть. Если такая, как здесь – власть молокососов, у которых ещё материнское молоко не обсохло на губах, сам едва винтовку-то поднимает, а тут же лезет указывать нам, фронтовикам, как надо устраивать новую жизнь. Нет, ребята, мы должны приехать домой с оружием – с оружием нам будет веселей с ними разговаривать. Если б у нас не было винтовок, мы бы уже давно были завербованы – почитай, на каждой станции подмазываются к нам с призывами записаться в народную революционную армию». Так разговаривали меж собою солдаты-фронтовики, которые возвращались с Румынского фронта в Сибирь…
* * *
Из Бессарабии до Урала мы ехали около месяца. На больших станциях и городских вокзалах нас с Подкорытовым не выпускали наши сибиряки: оберегали, чтобы нас не арестовали. Говорили, что, если увидят нас, то сразу снимут с поезда: «Здесь так много этой рвани, все они вооружены до зубов гранатами, даже пулемётные ленты на них висят – ищут офицеров и снимают их с поездов».
Я слез с поезда в городе Кунгуре[10], а Подкорытов поехал в Екатеринбург. В силу правил, установленных декретом народных комиссаров, нужно было встать на учёт и получить удостоверение личности. Здесь я был зачислен рядовым солдатом. Конечно, фронтовые офицеры не хотели, чтобы большевики осквернили их офицерские погоны, бросая их на пол и топча. Некоторые сняли погоны сами, но с кого-то их и насильно содрали. На тот момент тыловое офицерство ещё некоторое время могло, скрываясь и лавируя, не снимать погон. Но были среди офицеров и такие, кто открыто заявлял, что погоны даны самим Государем, и кроме него никто погоны с них не снимет. «Данную мною присягу не нарушу», – говорили они. Против этого в большевицкой среде применили вероломный лозунг: «Беспощадно бей погоны!..». И часто те, кто попадался разнузданной толпе в погонах, бывал зверски убит. Когда не стало офицеров в погонах, эта же толпа, всё ещё жаждавшая крови, нашла себе новую жертву и закричала: «Бей очки!..» – и те, кто очки носил, тоже стал бояться за свою жизнь… Продолжить уничтожение офицерства и русской интеллигенции позволило очередное воззвание: «Бей белые не мозолистые руки!..». Жестокость толпы дошла до последнего предела… Так наша интеллигенция, именовавшая себя «народниками», увидела подлинное лицо революционной стихии.
* * *
От невыносимых этих тягот смутных времён многие офицеры бежали из городов в деревни: там ещё можно было найти хотя бы временное убежище, там городская разнузданность пока не свирепствовала. Те профессора университетов, которые прежде поощряли в своих аудиториях студенческие сходки, воодушевлённые темами свободы и прав человека, ныне стали бросать свои кафедры и потянулись за границу. Некоторые из них примкнули к Белому Движению, но большинство просто спешно уехало за границу с поддельными документами, бросив Родину и надеясь, что Россия скоро переболеет революционной чумой, а когда всё войдёт в своё русло, им можно будет вернуться… Студенты, которые раньше незаслуженно оскорбляли офицеров Императорской Армии и называли их «политически безграмотными и слепо защищающими императорский трон», теперь, когда трон оказался повержен, увидели, что́ такое революция в понимании бунтующей массы, – и пребывали в глубоком недоумении, не зная, что́ же им делать, что́ нужно предпринять, к какому лагерю примкнуть? Высокие идеи, которые в спорах на студенческих сходках казались столь привлекательными, быстро вылетели из молодых голов, и там остались только сумбур и хаос – точно такой же хаос, что свирепствовал и по всей стране. Многие эти вольнодумцы вынуждены были пойти добровольцами в Народно-Революционную армию, будучи поставлены перед выбором: жизнь или смерть. Так что нередко командовали полками красных – бывшие студенты…
* * *
В Петрограде по инициативе народных комиссаров собрали съезд, на который направлялись делегаты от рабочих и солдат, от штаба военного командования и от казачьих кругов всех казачьих войск.
Надо заметить, что казаки намеревались возвратиться домой с фронта целыми полками и с оружием. Ленин это учёл, понимая, что на съезде ему крайне необходимо иметь голос большинства в поддержку пролетариата. И это свершилось. Съезд дал серьёзные козыри в руки большевиков, так как вынесенные на нём резолюции были в их пользу. Но в лице казачества съезд нашёл вовсе не поддержку пролетарской революции, а подлинных врагов её. Так же, как и в вернувшихся с фронта офицерах, к которым городские комитеты рабочих и солдатских депутатов относились с огромным недоверием, видя в них контрреволюционеров. На этом съезде народный комиссариат получил большие полномочия, в том числе на право создания Народной Революционной армии, а её задачей было подавить все внутренние контрреволюционные выступления, в случае же внешней агрессии со стороны капиталистических стран – встать на защиту завоеваний революции. Военнопленные из разных стран, находившиеся в России, были распропагандированы большевиками и оказались полезными новым революционным властям как исполнители большевистских указов по уничтожению русских офицеров, духовенства и интеллигенции.
В деревне жизнь была совсем другая. Мужик занимался прежним крестьянским трудом. Не умея точно определить, что́ ему даст революция, крестьянин своим практическим умом понимал: от новой власти хорошего ожидать не приходится. Он просто говорил: «Хозяина Земли Русской, Царя – столкнули! И теперь много найдётся самозваных хозяев, один другого умнее, и каждому захочется быть хозяином, и пойдёт между ними грызня, а у нас, мужиков, чубы полетят. А что хорошего сделали с войной? Позорно убежали с фронта, “Штыки в землю!..” – кричали!.. где это слыхано?..». По поводу войны между крестьянами и теми, кто прибыл с фронта, часто возникали споры, были разногласия, и мнение стариков-крестьян было твёрдым: надо было довести войну до конца.
Но большевицкая власть добралась и до деревни, взялась и за мужика. В деревне революционерам потребовалась коренная ломка крестьянского уклада, им нужно было, чтоб мужик подчинился только пролетарской власти и никакой другой, чтоб вошёл в союз с городскими рабочими. В сёлах упразднили волостное управление, заменив его советами, в деревнях заместили сельским советом сельского старосту. Советы утверждались не выборным началом, а просто назначались, проталкивали туда людей бедных, в хозяйственном плане неопытных. И эти советы, конечно, защищали интересы бедноты.
Между крестьянами – середняком и бедняком – раз за разом возникали ожесточённые споры, особенно часто случались они среди женщин. Например, у одной крестьянки имеются две коровы, но стельные, то есть временно они не доятся. Она идёт к соседке, у которой много коров, и требует от неё: отдай мне свою корову дойную, с молоком. Та ей не даёт, и тогда не имеющая молочной коровы угрожает: «Буду ходить и предъявлять на тебя ложные обвинения за божественные проповеди или за преподавание в школе Закона Божия». А смотришь – и делает это без зазрения совести.
В праздничные дни не стало слышно колокольного звона, службы в церквях стали редкими; сёла и деревни охватило уныние, мужик свои насущные дела по хозяйству забросил – совсем опустились руки. Как-то сами собою прекратились споры фронтовиков со стариками-крестьянами о политике. Правда, некоторые из убывших с фронта пролезли в советы, но это, как правило, были люди, которые и до войны ничем своим не располагали, и возвратились с фронта, имея только шинель на плечах. Впрочем, таких было мало.
С того времени затаил русский крестьянин глубокую мысль, и мысль эта была такой: если ничего не предпринять, как бы не потерять того, что имел. Понял, наконец, что хорошего ожидать от новой власти для него, мужика, невозможно, что нужно действовать. Вот тут-то и взял он в руки дубину, решив твёрдо: «Или я отстою то, что имею, или пусть не достанется оно ни им, ни мне!».
* * *
В это время, вспоминает отец, я жил в деревне, всё это видел и слышал. Надо заметить, что у русского крестьянина – ум природный. Наблюдая за мужиками, слушая их разговоры, я заметил, что прежде, чем приниматься за дело, они приступали к составлению плана действий. План же состоял в следующем:
- Точно узнать о восставших оренбургских казаках: где они и что они собой представляют; могут ли они им оказать поддержку и располагают ли оружием, в частности, винтовками, в которых крестьяне нуждались.
- Беспрерывно следить за красными, которые были намерены пройти через их сёла.
- Иметь такого авторитетного человека, который бы знал военное дело. Мужики говорили: «Нам нужен начальник, которого бы все слушали, а в особенности – фронтовики. Без такого начальника нам казаки винтовок не дадут.
Выбор, пишет Игнатий Волегов, пал на меня. Были другие офицеры, но делегация явилась ко мне. Я в то время был болен, левую руку носил на фиксирующей повязке: вовремя не была сделана операция, и получилось осложнение, в результате чего чуть не потерял руку.
Делегация явилась ко мне в составе пяти человек, из которых трое – старые солдаты, участники Японской войны[11], и два солдата – фронтовики, участники нынешней войны, Германской[12]. Целью визитёров было просить меня о руководстве вооружённым восстанием против большевиков.
Я, будучи болен и скрывая своё местожительство от новых властей, оторвался от внешнего мира и не имел никакой информации о ходе событий. Однако, видя настойчивость пришедших в желании понудить меня взять на себя командование, я вспомнил, как было то в русской истории, как князя Пожарского просил Минин и пришедший с ним народ принять над ними военное руководство. И князь согласился. А я, простой смертный – как буду противоречить голосу народа?
Но было необходимо уточнить несколько вопросов:
- Твёрдо ли они решились на вооружённое восстание, и у всех ли такое единомыслие?
- Что побудило их на такой рискованный шаг?
- Какие сведения имеются о Красной армии?
- Как нам достать оружие и боеприпасы, фураж для коней и провиант для людей?
Все эти вопросы я им задал, чтобы не сделать опрометчивого шага и не погубить людей, которые доверяли мне свою судьбу. Я посоветовал этой делегации обсудить все поставленные мною вопросы с народом, а потом, в самое ближайшее время, дать мне ответ.
С ответом они не замедлили. Быстро разослали гонцов по деревням и сёлам, и вернулось ко мне уже не пять человек, а двенадцать. На все мои вопросы они дали исчерпывающие ответы. На второй вопрос ответ был весьма характерный, я бы сказал – прозорливый. Говорили так: «Не стало Царя – нет и правительства. Интересы народа защищал только Царь. Вы думаете, что мы, мужики, ничего не знаем? Нет, мы нутром чувствуем, что пришёл конец. Всё равно умирать – на войне ли, или от голода. А от голода умирать ещё хуже. Вместо Царя нам Германия прислала в запломбированном вагоне Ленина». А на последний мой вопрос ответили так: «Мы самых лучших коней дадим и фураж, не только овёс для коней и провизию для людей, но можем собрать и деньги для выдачи жалования всем участникам в восстании». Что касается разведки, то её не трудно было проводить, потому что народ всех сёл и деревень симпатизировал Белому движению.
* * *
Иногда поставленная перед собою задача кажется мне невыполнимой: я, дочь офицера Белого движения, не была свидетелем тех давних, судьбоносных для России времён. И всё же по мере своих сил я попытаюсь осветить отдельные события 1918–1922 годов, выбрав, безусловно, самые интересные и яркие описания жизни крестьян тех лет, а также оренбургских и забайкальских казаков и переселенцев. Сделать это возможно: на основе воспоминаний моего отца, Игнатия Волегова, можно почувствовать, понять, как именно всё тогда происходило, ведь он писал об этом правдиво и убедительно как очевидец. Его книга «Воспоминания о Ледяном походе» переиздана в России несколько раз и доступна в интернете, о чём я уже упоминала. Пролистывая её, страницу за страницей, понимаю: мне хочется приводить из неё цитату за цитатой, иногда комментируя, иногда нет – так много важного для будущих поколений заключено там. Но невозможно охватить всё, остановиться на всех деталях, оставаясь в рамках объёма, отпущенного для этого очерка.
Ознакомив читателя с изображённым в воспоминаниях отца образом мышления и поведения крестьян тех лет, теперь я хочу сосредоточить внимание на реакции крупных капиталистов на драматические события, происходившие в России. Как пишет папа, нельзя обойти молчанием сознание и поведение тех людей, которые должны бы, кажется, принимать горячее участие в Белом движении против большевиков.
Сколько было крупных капиталистов в Екатеринбурге, когда был освобождён этот город от красных!.. Военный комиссариат ещё не успел расправиться там с промышленным и коммерческим классом населения, в городе сохранилось очень много не тронутого большевиками капитала, который нужен был для Белого движения.
Князь Голицын[13] начал формировать в Екатеринбурге дивизию. Солдат нужно было обмундировать, обуть и одеть, но необходимых на это денежных средств не было. Он обратился к населению с просьбой: «Жертвуйте на нужды формирующейся Армии!» – и никто не откликнулся… Второе воззвание было расклеено по всему городу на всех видных местах – и тоже не имело никакого успеха. Наконец, в третьем воззвании князь пишет с болью и горечью: «Я прошу у вас для тех солдат, которые приносят для своей Родины в жертву свою жизнь. Я прошу у вас денег для них, которые спасут и вашу жизнь! Враг жестокий, он просить у вас не будет – он придёт и возьмёт у вас всё, что у вас есть, а когда нечего будет у вас взять, тогда он отнимет у вас и жизнь!». На это третье воззвание поступило пожертвование в размере всего сорока тысяч. А путём насильственного изъятия средств можно было бы собрать не один десяток миллионов рублей…
Приблизительно через год всё это богатство, бережливо утаиваемое, без всяких просьб было отнято большевиками. Капиталисты мужского пола, оставшиеся на месте в попытках сохранить свои капиталы, были расстреляны, а жёны их стали любовницами комиссаров.
* * *
Не так давно мне посчастливилось увидеть фильм 2016 года «Контрибуция»[14]. В фильме есть эпизод, напомнивший мне тот, что описан в книге моего отца: генерал Каппель[15] обращается с воззванием о сборе средств для образования и обмундирования формирующейся армии к богатым предпринимателям. Когда я смотрела эти кадры, то мысленно видела моего папу в окружении Каппеля в числе офицеров Белого движения. Провальный результат каппелевского воззвания и трагические последствия скупости владельцев отечественного капитала в фильме, увы, не расходились с действительностью, которую описывал отец…
По воспоминаниям Игнатия Волегова, в городе Пермь был на должности военного комиссара некто Окулов[16], который с явным удовольствием занимался форменным уничтожением торгового класса и ненавистной ему интеллигенции: он считал их всех контрреволюционерами. Второй этаж пермской гимназии был занят его штабом, а нижний этаж был превращён в тюремные камеры с железными решётками, где сидели заключённые в ожидании своей участи. Двор гимназии был обнесён кирпичной стеной. На дворе с прежних времён остались аллеи с беседками для учащейся молодёжи. На втором этаже здания гимназии был балкон в виде веранды. Окулов садился в кресло, брал в руки винтовку и приказывал пропускать по этим аллеям бегом очередную жертву, приговорённую к расстрелу, а сам стрелял по движущейся цели – в бегущего человека. Подстреленный им падал на землю, а палачи уже добивали его до конца…
Епископа Пермской епархии Андроника[17] замучили. Вывели его на реку Каму в зимнее время к проруби. Погружали его в воду, затем вынимали из проруби и замораживали на поверхности, ожидая, пока на нём не обледенеет облачение, тогда опять его погружали в воду и делали это до тех пор, пока в нём теплилась жизнь. А когда он преставился, его, обледеневшего, поставили на лёд и не разрешали забрать для погребения продолжительное время.
Когда Белые войска генерала Пепеляева[18] взяли Пермь, из нижнего подвала гимназии извлекли тысячу трупов в замороженном состоянии. Эти люди, погибшие страшной смертью, не принимали никакого участия в военной жизни; все они занимались мирным трудом и никуда из города не убегали, надеясь на милость большевицкой власти, которая пришла под лозунгом «Всё народу!».
Со взятием Лысой горы[19] и отступлением красных броневиков и пехоты по железной дороге на Лысьвинский[20] военный завод вопрос об отправке нас на отдых был разрешён. По приказу генерала Пепеляева на ближайшую станцию были поданы вагоны – большей частью товарные и несколько классных[21], в которые мы и погрузились. Генерал Пепеляев сдержал обещанное слово.
В станицу К. Третьего отдела Оренбургского Казачьего войска мы прибыли на отдых в последних числах ноября 1918 года, когда вся земля уже была покрыта снежным ковром. Станица была расположена на плоскогорье. На возвышенном месте красовалось здание станичного управления, а от него книзу, вдоль небольшой речки бежали параллельно одна к другой, как будто обгоняя друг друга, широкие прямые улицы с новыми домами, как будто устремляясь на чистую равнину – в простор, где не видно было ни холмов, ни лесов. Там, очевидно, были вспаханные поля, ныне покрытые снегом. Все лиственные деревья стояли голыми, потеряв свой зелёный наряд из-за суровой и дождливо-ветреной осени. Они приобрели белое узорчатое покрывало – но оно украсило их только до первого сильного ветра. Можно представить, как красив бывает этот посёлок летом!..
В летнее время нам приходилось бывать в некоторых станицах и видеть такую красоту, особенно впечатляет она с возвышенного места: зелёный ковёр, и в нём, точно яркие цветы – красные, жёлтые, голубые крыши. Особенно выделялись голубые колокольни церквей с позолоченными крестами. Дома станичников все «крестовые» – так называли их казаки, что значит: разделённые посредине капитальной стеной. Сам дом имел в основании правильный квадрат, а от средней стены обе половины были перегорожены дощатыми перегородками, и таким образом получалось четыре комнаты. Одна из них была кухней, с русской печью и очагом, особым образом сооружённым: он был заглублён и находился в нише, с чугунной плитой и конфорками. Кухня была отгорожена заборкой[22] или занавесками, чтобы не было видно хозяйку во время стряпни из коридора и сеней, куда заходили свои и чужие люди. А вокруг русской печи был проход. Рядом с кухней была ещё небольшая передняя, где раздевались, и там же, но ближе к окну, стоял стол. Этот угол служил будничной или рабочей столовой. Для приёма гостей или праздничных дней была предназначена была отдельная комната, одна из остальных трёх. Прочие две назывались спальнями, а некоторые хозяева одну комнату называли «горницей».
* * *
Квартирьеры отвели мне комнату в доме казака Георгия Дмитриевича. Был он крепкого телосложения, возрастом пятидесяти лет. В разговоре его была заметна некая суровость. На последнем слове фразы он делал ударение, и можно было подумать, что он на вас сердится, но на самом деле это был человек очень доброй души, и за всё время, пока я у него жил, ни разу не заметил, чтоб он вышел из себя или разволновался.
Я первое время думал, что он действительной службы вахмистр[23], а когда с ним разговорился, узнал, что он вахмистром не был, а был на действительной службе младшим урядником[24]. Обращаться к нему я начал по имени-отчеству, но он отзывался всегда как-то не совсем охотно, я иногда даже думал, что он не расслышал меня.
Так продолжалось два дня. А в это первое время на новом месте у меня было к нему много разных вопросов и тем, интересующих меня. На третий день он мне сказал: «Зовут меня все Митричем, а Вы всё величаете меня по имени-отчеству. Зовите и Вы или Егором, или Митричем». За всё время, сколько я жил у него, так и не смог привыкнуть звать его Митричем…
Семья у Георгия Дмитриевича состояла из жены сорока восьми лет, сына женатого, который уже пошёл добровольцем в наш полк, невестки, дочери лет двадцати, ещё не замужней, второй дочери лет шестнадцати и младшего сына тринадцати лет, который учился в школе. У всех членов семьи были свои роли. Жена всегда была на кухне за стряпнёй, невестка смотрела за скотом, младшая дочь ей помогала, а старшая дочь была ответственна за уборку дома.
На другой день Митрич повёл меня осматривать своё хозяйство. В огороде – большой навес, покрытый железом. Под навесом стояли рядами сельскохозяйственные орудия: плуги, борона, сенокосилки с приделанным приводом-самосбросом[25], грабли, веялка. У некоторых казаков в хозяйстве были и молотилки, и сортировочные машины для сортировки пшеницы. Мой хозяин не причислял себя к зажиточным, считал себя середняком (конечно, большевики назвали бы его кулаком). Под другим навесом такого же большого размера стояли телеги на железном ходу, один легковой ходок[26] для выезда и несколько саней – розвальни[27] и выездные санки, обтянутые цветным сукном в виде ковра.
Во дворе, ближе к дому, жила птица: гуси, утки, индюшки, курицы. Слева в глубине двора располагались свинарники. Там матка со своими подсвинками зарылась в овсяной соломе, и не слышно было ни одного писка или хрюканья! – очевидно, все были вдоволь напоены и накормлены. Дальше на заднем дворе в стае – три выезженных коня, а рядом в сарае – две дойные коровы-голландки. Из живности Митрич при доме держал только тот скот, который был нужен для эксплуатации. От коров брал молоко для семьи, кони нужны были для того, чтобы отвезти на базар пшеницу и овёс или привезти дров. Остальной скот – гулевой[28]. Молодых телят, коров и жеребят он держал на заимке[29].
Посмотрел я на крепкое его хозяйство и спросил: «Таких-то людей, как ты, наверное, в станице мало?.. У тебя ведь только что живой воды нет». Он улыбнулся (думаю, мой вопрос пришёлся ему по сердцу) и после паузы сказал: «Вы мало знаете казачество. У нас таких казаков много. Есть много и таких, которые меня с моим хозяйством и продадут, и выкупят. Конечно, есть люди, которые живут похуже меня – но это от своей лени. Может, найдутся такие не из наших, у которых земли в нашем наделе нет, и те имеют свой скот. И дома у них не хуже наших». Я спросил: «А кто же не ваши-то?» – «А крестьяне-переселенцы. Их у нас много, даже большие сёла и деревни. Многие из них арендуют землю у нас». Я поинтересовался: «Нет ли у них с вами вражды?», на что мне Митрич ответил: «А какая может быть вражда? Мы живём себе, а они – себе. У нас своё станичное или поселковое управление во главе с атаманом, а у них – волостное правление, во главе у них волостной старшина. Ссориться нам с ними не о чем. Надо кому из них завести у себя породистую корову – приедет к нам, купит породистую тёлку, а через два года – у него уже породистая корова-симменталка[30] или голландка[31]. Также покупают они у нас жеребят и коней. У нас купят, а у себя продадут – так и разбогатели».
После разговоров с Митричем и после того, как я увидел своими глазами богатства, которыми обладали казаки, мне стало понятно, насколько была во всём изобильна Россия. Трёхлетняя война с Германией, приход большевиков к власти да уже и более чем четырёхмесячная Гражданская война – ничто не поколебало и не затронуло нашего уральского мужика-крестьянина, также не тронуло и оренбургского казака, у которого в амбарах – с лихвой пшеницы и овса, полный двор скота, коней и овец.
Не затронула смута до поры и рабочего заводского люда. Некоторые члены семьи работали на заводах, а остальные занимались подсобным хозяйством. Вот такую Сибирь (как и всё казачество – именно всё, потому что сибирские, оренбургские, донские и кубанские казаки жили тоже не хуже), вот такую Россию с её богатыми районами начали преобразовывать революционные вожди. И преуспели: в конце концов от здорового краснощёкого мужика осталась лишь «тень отца Гамлета». У этого, «нового образца» мужика не стало ни коней, ни коров, а дворы для скота пошли на топливо»…
* * *
Как я упоминала выше, цель моего рассказа – донести до читателя правду о жизни в России в начале ХХ века, правду, которая была искажена и изуродована средствами массовой информации в годы советской власти, пропагандистскими фильмами, да и самой дисциплиной «новейшей истории», которая переписывалась и переписывается до сих пор в угоду политическим требованиям или по незнанию фактов историками. Примеров тому – великое множество. Думаю, что нет человека, который не видел бы фильм Сергея Эйзенштейна «Ленин в Октябре», в котором нет ни одного кадра, соответствующего действительности. Врезается в память драматическая картина взятия Зимнего Дворца – но ничего подобного не было, никакого штурма! А каково изображение Путиловского завода[32] и тех невыносимых условий быта работников, где в грязи и в нищете завершали жизнь старики из бывших путиловцев, где в жуткой беспросветной обстановке появлялись на свет дети!? Ясно помню эти пугающие и абсолютно далёкие от реальности кадры. Да и прочие сцены фильма, практически все – это лишь фантазия кинорежиссёра, но фантазия притом весьма убедительная, претендующая на историческую, а не только на художественную достоверность. Какая несправедливость – обманывать мир такими картинами!.. Ведь в показанное в этом фильме тяжкое положение народа поверили не только русские люди, живущие в Советском Союзе, но и весь мир.
В шестидесятых годах мы, уже находясь в Австралии, смотрим новости, озаглавленные «Парад Победы в Москве» – и туда оказываются включены кадры из этого фильма Эйзенштейна, которые были сознательно преподнесены в передаче как документальные, а не как художественный вымысел. Я запомнила имя продюсера этой передачи: Тейлор (Tailor).
Однако образ этой исторической фальсификации развенчивает свидетельство очевидца: мой отец в книге «Воспоминания о Ледяном походе» рисует совсем иную картину. Мне довелось, пишет Игнатий Волегов, посетить одну семью в Петрограде. Глава этой семьи – токарь Путиловского завода. Образование у него – законченная начальная школа. И что я увидел? Ему сорок девять лет. Сын двадцатишестилетний уже оканчивал Военную Медицинскую Академию. Дочь – выпускница гимназии, по этому случаю у них был устроен вечер, на который я и был приглашён.
Квартиру они снимали на втором этаже по Измайловскому проспекту. Квартира состояла из четырёх комнат. Это было в начале 1915 года. В то время, по словам токаря, на заводе по цехам уже начали подсовывать мастеровым листовки революционного характера. И кто этими листовками увлекался? Исключительно пьяницы, которые с нетерпением ждали получки, а как только получали деньги, шли не домой, а в кабак.
«Вы бы посмотрели, – негодуя говорил токарь, – что́ делается у ворот завода, когда эти пьяницы оттуда выходят с получкой!.. У выхода уже ожидают их жёны с детьми, стремясь увести мужей домой или взять у них полученные деньги. Но почти всегда их попытки остаются безуспешными – обычно получают они вместо денег оплеухи».
Папа спросил его: «Почему же, получив зарплату, не дают они своим жёнам денег?» – «А вот почему, – отвечал хозяин – Такой уже в кабаке задолжал. С этой получкой он сразу приходит к кабатчику и перво-наперво с ним производит расчёт. Что-то после этого обычно остаётся у него от получки, и если жена не отстаёт, то он отдаст остаток ей. Но сам домой не идёт, а остаётся пить, и кабатчик ему отпускает в кредит до следующей получки. Семьи этих пьяниц, действительно, живут в подвальных квартирах и нищенствуют».
Вот таким людям нужна была революция, а не тем, кто умеет жить по-человечески, как этот токарь, подчёркивал отец.
* * *
Во время моего паломничества по святым местам России в 2010 году я посетила петербургский храм, мимо которого мы часто и прежде проезжали, но он обычно не входил в планы нашей поездки. Храм меня заинтересовал, как выяснилось потом, не случайно: история его оказалась для меня исключительно интересной. Ведь именно этот храм связан, по сути, с теми местами, где происходили события, которые описывал папа.
Это храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала. История его возникновения такова. В конце ХIХ века местность около Варшавского и Балтийского вокзалов была рабочей окраиной Петербурга. Население ближайших бедных кварталов составляли служащие железной дороги и трудящиеся нескольких заводов столицы. Пыль набережной, кабаки, пьяные рабочие и грязные ребятишки были обязательной составляющей этого мира тяжкого труда и беспросветной нужды. Понимая необходимость иметь церковь в этом районе, удалённом от всех приходских церквей, Петербургское общество религиозно-нравственного просвещения ходатайствовало перед городскими властями о выделении земельного участка для постройки храма. Первый деревянный храм Воскресения Христова, возведённый в 1894 году, стал поистине лучом света в тёмном царстве скудной на радости рабочей жизни. Ведь в храме, помимо Богослужений и совместного пения, проводились духовные беседы и чтения, куда народ устремлялся тысячами. Вскоре при храме появилась церковно-приходская школа, потом библиотека и читальный зал. Здесь же зародилось Александро-Невское общество трезвости, и оно было необходимо тут, как воздух. Я помню из рассказов папы, как бедные жёны пьющих рабочих приходили получать жалование своих мужей, пока те его не пропили. Только в тот момент я поняла, где всё происходило, когда мы проезжали мимо этого храма. И на мой вопрос: «Что это за храм?», мне отвечали жители Питера, что это храм, в котором молились жёны мужей-алкоголиков.
Общество трезвости было открыто в 1898 году попечением настоятеля храма отца Александра Рождественского, и разрослось оно так, что в период расцвета своего насчитывало более семидесяти тысяч человек. Однако маленькая Воскресенская церковь стала тесна, и Государь Николай II утвердил проект каменного трёхпридельного храма архитектора Г.Д. Грима. Каменный храм был заложен 7 августа 1904 года и, несмотря на трудное время Русско-японской войны и кровавых событий первой революции, в 1908 году праздник Рождества Христова был отмечен прихожанами уже в новом просторном храме. Трудно поверить, какое количество людей потянулось за помощью в храм, в школу, в библиотеку и в Общество трезвости!..
Я приобрела в храме старые фотографии с представителями и членами комитетов этого храма, трудящимися в сфере образования и воспитания народа.
* * *
Познакомив читателя с некоторыми деталями жизни крестьян, оренбургских казаков и, в качестве примера, с бытом и воззрениями одного из рабочих Путиловского завода, перехожу к описанию моим отцом сибирского казачества.
Вот уже осень, пишет папа. Наступили заморозки, на смену осенних дождей, можно сказать, проливных, пришла снежная слякоть, которая облепила у коней гривы и хвосты, а у нас – папахи. Я уже могу ездить верхом, боли в ноге нет, и поэтому, когда полк был в походе, я ехал со штабом полка.
В такое осеннее время мы пришли в одну из станиц Сибирского Казачьего Войска. Посёлок большой, расположен вокруг озера, а потому ни одной улицы в нём не было прямой. По качеству и архитектуре дома выглядели беднее и хуже, чем дома у оренбургских казаков. Возможно, такое впечатление они произвели из-за того, что отвратительная осенняя погода не может вызвать у человека хорошее настроение, а при плохом настроении и цвет розы покажется бледным. На улицах грязь растоптана скотом, во дворах ещё хуже – жижа.
Командир полка занял квартиру в доме священника, недалеко от церкви, а я остановился поблизости в доме казака. Пришли мы в эту станицу уже под вечер. Время было холодное, и чуть ли не из каждой трубы шёл дым, разносящий специфический «аромат» кизяка, которым отапливали жильё, по всей станице. Хозяйка дома, лет шестидесяти, встретила меня очень ласково, почти с материнской любовью. Муж её был угрюм и молчалив, даже не спросил, какого мы полка. Обыкновенно казаки очень любопытны, любят поговорить.
В доме было чисто, уютно. Комнаты небольшие, за исключением столовой. В столовой в стороне от большого стола стоял мягкий диван и два кресла, тоже мягких, обтянутых плюшем малинового цвета, а рядом – небольшой круглый столик с курительным прибором, и эта часть столовой, от одного угла до другого по ширине просторной комнаты, служила гостиной. Единственным недостатком приятной сей квартиры были слишком низкие потолки. В особенности это ощущалось там, где в пространстве большой комнаты объединялись гостиная со столовой: создавалось впечатление, что невысокий потолок вас чуть ли не придавит вот-вот.
На дворе расположены были пристройки: амбар, кладовые, навесы для телег и сельскохозяйственных машин и прочее. Но всё это выглядело несколько хуже, чем у оренбургских казаков и у крестьян Пермской губернии.
Хозяйка дома моментально накрыла стол в столовой – на одном конце стола на один прибор. Поставила закуску в больших глубоких тарелках: свинина, баранина, большие куски холодного гуся, сальтисон, холодец, несолёные огурцы, сметана, творог. Хлеба нарезанного – душистого, пшеничного – целая гора. Тут можно было накормить десяток голодных казаков.
Увидев такое обилие закусок, я спросил: «Отступающая-то наша армия не обидела вас в съестных припасах?». На что она мне ответила: «О нет, у нас проходили все днём. Остановятся на часок – и опять уходят. Какой-то пехотный полк, правда, ночевал у нас одну ночь. Они всё больше подсматривали хороших лошадок да покрепче телегу. Да у нас ведь скот далеко отсюда, на подножном корму, и табуны коней тоже там. А так – забегут порою солдаты-то, попьют молочка с хлебом – и дальше. Ох, Боже ж мой, – вздохнула она, – где же теперь мой Митенька? Может, сидит у кого, как Вы вот у нас, и думает, где бы прилечь и заснуть… Еды-то у него много, её везут в обозе сотни, – он ведь у меня командир сотни…
Я Вас положу спать в комнату Митеньки на его кровать, она нынче пустует, – продолжила свою речь хозяйка. – Митенька и прежде больше жил вне дома, а теперь, можно сказать, и вовсе проживает в Петропавловске… По слухам, Петропавловск уже заняли эти красные аспиды. Что будет дальше?.. Одному Богу известно. Мы уж дали Митеньке самых лучших коней, а если придут сюда красные, то отберут добрых лошадок даром». Она снова вздохнула. А я подумал про себя, что вот, этот край ещё не тронут, если так говорит сибирская казачка.
Я уже в Митенькиной комнате. Комната небольшая, с таким же низким потолком. В ней односпальная кровать, письменный стол, два венских стула, этажерка, на которой около двух десятков книг беллетристики, на письменном столе – три фотографии под стеклом кабинетного формата. На одной фотографии – производство Мити в прапорщики в летней походной форме, на второй он же запечатлён в чине сотника[33] в бекеше[34] – особой нагольной шубе сибирского покроя в виде борчатки[35] и в папахе, лихо заломленной на затылке. Третья фотография – девушка с большими открытыми глазами в жакете в виде венгерки[36]. Воротничок, полы, борта венгерки и папашка[37] на девушке опушены мерлушкой[38] из мелких барашков.
Приготовляя мне кровать, мать Митеньки успела рассказать о третьей фотографии: «Вы, наверное, подумали, что это Митенькина невеста? Правда, эта девушка очень нежная и хорошая, но для нашей-то семьи она не совсем подходит. Она дочь нашего батюшки, отца Серафима. У них вся семья больше занимается музыкой да пением, а к нашей казачьей работе девушка не приучена. Нам надо такую, чтоб она не только мне помогала по дому, но чтоб умела и за скотом ходить», – объясняла она.
Когда я сказал хозяйке, что её сын, будучи командиром сотни, будет жить там, где стоит его полк, она опешила и на минуту задумалась, на лице у неё выразился испуг. Женщина вдруг осознала предстоящую потерю сына, как будто до этого никогда не думала, что Митенька будет жить от неё отдельно. Оказывается, любовь матери к сыну предъявляет на него права такие, что родительница и не мыслит, чтобы сын её стал жить с женой своей где-то отдельно, пока она жива. Надо заметить, что многие матери, имея единственного сына, думают так же, как мать Митеньки.
Во время ужина хозяин дома даже не зашёл в столовую. На мой вопрос, почему он не ужинает со мной, хозяйка ответила, что они в кухне угощаются. Когда я проходил в отведённую мне комнату, то почувствовал запах самогона, а из кухни был слышен весёлый разговор хозяина с моим ординарцем.
Не могу не упомянуть о сибирском казачестве. Оно так же восстало, как и оренбургское казачество. У сибирского казака в 1919 году, несмотря на войны, Германскую и Гражданскую, дом был, как говорится, полная чаша. Точно такое же было здесь богатство и достаток, как и у оренбургского казачества. Казачьи посёлки и станицы – не что иное как постоянная резиденция для всей семьи, где растят детей, а главный капитал у казака-сибиряка наращивался в табунах лошадей и в гуртах рогатого скота, в гуртах баранов. У оренбургского казака всё точно так же, но плюсом – плодородные земли. Факт бесспорный: Россия богата и живностью, и злаками, и всё это богатство издавна принадлежало крестьянам и казакам.
В русском мужике до революции мы видели глубокую веру в Бога, веру чистую – такую, как может верить только дитя. Всегда в нём присутствовало и сострадание к ближнему, и хлебосольство. Эти качества в русском человеке сочетались гармонично, являясь основой для мирной и дружной жизни с иноплеменными народами. А мало ли у нас таких соседей? Укажу только тех инородцев, которые занимались исключительно скотоводством. От Омска, Петропавловска, Челябинска на юг – киргизы, калмыки; от Иркутска на юг – буряты, монголы. Со всеми ними наши русские мужики и казаки жили в дружбе, и взаимоотношения с иноплеменными народами основывались на полном доверии.
Вследствие добросердечности, свойственной русскому человеку, происходило сращивание всех народностей в одну общую семью, эта семья и составила Российскую Империю. Русский народ почти триста лет находился под игом татар, а когда Россия освободилась и, объединив разрозненные княжества и земли, стала великой Русью – народ наш остался по внутренней сути тем же, каким был и раньше: он никому не мстил за прошлое. Тому, что доброта русского человека никогда не угасала, есть много примеров и доказательств.
Например, в Уфимской губернии татары пользовались большими земельными наделами. Эту землю они сами не обрабатывали, а сдавали в аренду нашим русским мужикам, которые обрабатывали эту землю и жили на ней. Когда приезжал хозяин этой земли, татарин, к русскому мужику, чтобы получить аренду, этого татарина как гостя сажали за стол, угощали чаем и называли его князем. Надо сказать, что татары очень любили, когда их именовали князьями, тогда иной из них, бывало, и за аренду ничего не требовал, а только просил «на чай»: «Моя люби чай чарга[39]»…
И так веками у народов на Руси сохранялись добрые взаимоотношения. Не было между ними ни ссор, ни национальной ненависти друг к другу, и розни по историческим политическим вопросам также не существовало. Вот таким был русский народ до революции: он жил в мире и нёс мир в себе и с собою, даже не зная сам и не подозревая о богатстве своей души.
* * *
О трагическом отступлении Белой Армии, о Ледяном походе и обо всём ужасе происходившего тогда в этом обзоре я не решаюсь писать, это всё есть в папиной книге. Но не могу обойти вниманием несколько особенно памятных и драматических высказываний из неё.
Армия, пишет отец, не могла полностью перебросить интендантские склады по железной дороге в одно указанное место, где бы можно было произвести выдачу военного обмундирования воинским частям, и потребовалось продолжительное время, чтобы всех одеть в соответствующее обмундирование. В Читу мы пришли в зимнем обмундировании: на голове папаха, на плечах полушубок, на ногах катанки[40] и ватные брюки. А весна вступает в свои права, не спрашивая нас, готовы ли мы к встрече с ней.
* * *
Эта весна была для нас так же дорога́, как и Воскресение Христово. Ледяной поход, полный страданий и лишений, словно отнял у нас здравое мышление, и мы чувствовали себя так беспросветно, так измученно, как будто были всё это время на застывшей планете, которую солнце уже никогда больше не обогреет.
Десятки тысяч чинов Белой Армии, плюс множество семей военнослужащих и беженцев стали приближаться к городу Чите. Подходили двумя путями: одни воинские части двигались походным порядком, по второму пути перемещались в эшелонах по железной дороге семьи и некоторые подразделения вместе с больными тифом и выздоравливающими.
Не знаю, с каким радушием принимал всю отступающую армию атаман Семёнов, но квартиры для наших штабов были предоставлены. Чтобы не загружать город, войска распределили по окрестным деревням. И только здесь люди почувствовали, что могут, наконец, отдохнуть. Прошлое же казалось ужасным кошмаром…
Солнце уже пригревало, былого страшного физического переутомления не было, мучительные воспоминания о пережитом не воскресали, будто оставленные за гранью сознания. И никто, казалось, не задумывался уже о том, откуда он сюда пришёл, что́ он потерял – дом ли свой, где когда-то уютно проводил время с семьёй, или имущество, которое было нажито десятками лет и поколений и составляло всё его богатство, – никто об этом не думал, а если что и приходило кому на мысль, то человек старался от этого избавиться, отгородиться новыми впечатлениями от прежних воспоминаний, чтобы не подвергать своё измученное сердце страданиям и не омрачать печалью долгожданные минуты покоя. Всякий из нас уже слишком много выстрадал, и эта передышка под яркими, тёплыми лучами солнца для всех была подлинным счастьем. Человек не обращал внимания на то, во что одет, не стыдился, крепко придерживая винтовку рукой, идти по городским улицам в катанках, несмотря на то, что местами уже на подтаявшей почве стояли лужи, а размокшие катанки давно потеряли форму сапога: носок задран вверх, задник свёрнут набок, и путник, по сути, идёт на голенище… Наконец не испытывая холода, не слыша свиста неприятельских пуль, почти каждый здесь ощущал некое умиротворение, и, пожалуй, в жизни его едва ли бывали прежде такие счастливые минуты, какие он переживал теперь.
А посмотрели бы вы на то, что делалось в эшелонах с семьями военных, в поездах с больными и ранеными! Через открытые настежь двери и окна все тянулись к солнцу, стремясь обогреться его лучами… Ведь люди ехали сюда во множестве в простых товарных вагонах, которые нечем было отапливать…
Когда мы встали, наконец, твёрдо на землю и, остановившись, оглянулись назад, перед нами открылась страшная картина: весь пройденный нами путь был усеян павшими конями и брошенными санями, и путь этот не был узким и прямым – ширина его местами достигала трёх километров. Да, в странствиях на водах люди с отрадой видят берег, а на земных просторах – взглядом ищут селение. И как утопающий в море старается скорее доплыть до лодки, так и тут: чтобы не замёрзнуть на холоде, не застыть на блестящем зимнем льду, люди оставляли скарб, бросали обессиленных коней и шли дальше пешком, торопясь и обгоняя друг друга… Невольно вспомнишь слова Достоевского: «Страдание-то – это и есть жизнь (так говорит чёрт Ивану Карамазову), если б не было страдания, где же удовлетворение?» …
Через некоторое время существование наше стало входить в нормальную колею, карантин был снят, постепенно полки́ за полка́ми, дивизия за дивизией преображались, сбрасывая с себя грязную, изношенную дорожную одежду. Измученный переходом неряшливый боец превращался в аккуратного солдата в чистой, приличной форме, на голове его появлялась фуражка, на плечах – шинель с погонами, на ногах вместо смятых катанок – кожаные сапоги или ботинки с прочными обмотками. Казалось бы, что значит форма, в которую переоделся солдат? Вроде бы, он остаётся таким же человеком, каким был и прежде, но вот, оказывается – нет. Вид армии, её внешний облик снова стал внушать народу доверие; пришло понимание, что эти солдаты – не изнурённая переходом толпа, а настоящие защитники, борцы, воины, которых снова можно вести в бой. И действительно, как только все были переодеты и немного отдохнули, те же самые люди уже стали ощущать себя по-иному и мыслить не так, как в то время, когда они считали за счастье сменить на себе бельё… Теперь не думалось о праздной жизни – людей охватывала и снова объединяла идея о борьбе с большевиками.
Воинская дисциплина была та же, что и в Сибири. Если б она была создана лишь на принципе строгого и безусловного повиновения, тогда, надо полагать, в тяжёлые минуты солдаты могли бы превратиться в толпу. Но в войсках существовало глубокое сознание своего долга перед Отечеством, и оно воодушевляло нашу Армию идти на подвиг, а каждого из нас – быть готовым к тяжёлым переживаниям и испытаниям; если же суждено было кому умереть, то умереть, мы знали, следовало с честью.
В Забайкалье нам пришлось встретить и людей, у которых не было такого единомыслия, чему следует уделить особое внимание. Забайкальское казачество в военное время выставило четырнадцать полков, и все они участвовали в войне против Германии. Для пополнения действующих полков в войске существовали запасные полки, куда призывалась молодёжь. Когда на фронте была проведена мобилизация действующей Армии, то большевики повели свою усиленную революционную агитацию именно в этих запасных полках, чтобы из них создать потом новые большевицкие полки – в противовес казакам-фронтовикам. Вот с этим-то молодняком нам частенько приходилось сталкиваться в перестрелках в борьбе за обладание некоторыми населёнными пунктами. Какая ирония судьбы и какая драма! Эти молодые люди – как правило, материально обеспеченные и не испытывавшие ни в чём нужды – взяли в руки винтовки и направили оружие против своих же, чтобы в результате прийти к полному разорению!.. Вот так сделали молодые казаки Забайкалья.
О богатстве забайкальского казачества нельзя не сказать особо. Несмотря на то, что Германская война длилась три с половиной года, и Гражданская война продолжалась уже около двух лет – а у забайкальского казака богатство не убывало. Система отношений в производстве в этих местах не изменилась. Прибыль в скоте с каждым годом только увеличивалась, и казак жил, как «сам себе Царь и Бог». Со слов самих казаков мы знали, что среди них были семьи, не знавшие счёта своим табунам.
Наш полк стоял несколько месяцев в посёлке Х. Когда подъезжаешь к нему, видны невысокие дома, не отличающиеся особой красотой, и невольно думаешь, что здесь люди живут если не в нужде, то достаточно скромно. Но на самом деле выходило точно по пословице: «Не красна изба углами, а красна пирогами».
При размещении наших казаков по квартирам почти в каждом доме было поставлено около пяти человек, и все они перешли на полное довольствие добрых хозяев и хозяек. Как бы эти хозяева и хозяйки ни были гостеприимны, казакам не хотелось злоупотреблять их добротой, поэтому они старались перейти на свой стол[41], принося в дом мясо, приварок[42] и хлеб. Хозяйки неохотно брали мясо, хлеб и приварок из сухих овощей, подвергая всё принесённое большой критике, и неохотно готовили из него. Хлеб отдавали свиньям, а солдат кормили своим. Для Белой Армии этот период отдыха в Забайкалье явился наградой за всё пережитое.
Я жил на квартире у забайкальского казака Ефимовича, фамилии его не помню. Приближался праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В доме моего хозяина началась заметная суета, которой до поры не было. Необычная эта активность сосредоточена была на кухне и на летней кухне, которая была построена на переднем дворе в виде небольшого домика. Утром вся семья стала вставать гораздо раньше, приступая к делам. Я подумал: вероятно, готовятся к какому-то семейному торжеству. Моё любопытство заставило спросить о том хозяйку. Она ответила, что скоро будет праздник Покрова, к нему и готовятся. С хозяином мне поговорить не пришлось: он часто уезжал недели на две на пастбище к скоту или в гурт баранов.
Приготовление к празднику велось с размахом: стали резать свиней, поросят, гусей, уток, кур, а если кто имел индюков, то и они попадали под острый нож. На летней кухне, оказалось, имелся огромный стол в виде верстака. Именно на нём производилась разделка мяса и распределение его на разные блюда. Потом женщины приступали к стряпне. Да, вот ещё что добавлю: очень принято было у них варить в масле хворост разной формы.
Дом, где я жил, был разделён на две половины, как почти все дома в посёлке. Входя вовнутрь, попадаешь в большую комнату, которая называется кухней, но служит одновременно и столовой. Вторая половина – тоже большая комната – это горница. Обстановка в горнице такова: в переднем углу большой стол, вокруг него дюжина венских стульев (при необходимости можно поставить и две дюжины). У двух стен стоит по большому дивану, у третьей стены – очень широкая кровать, отгороженная ситцевой занавеской. Полы, кровать и диваны не крашены. Видно, что на постройку дома и обстановку комнат не было затрачено много денег: всё сделано своими руками, за исключением венских стульев. Но приготовления к престольному празднику в этой семье были изобильные, как у крупного помещика.
…Вот и пришёл праздник. Погода прекрасная, день солнечный, тепло. Раскрылись в домах двери и окна, на улицах стал слышен гул общего разговора, который вскоре сменился пением старых традиционных песен. И казачий посёлок – весь строй его – преобразился, словно наполнившись праздником, превратившись в общий жизнерадостный муравейник. Смешалось всё: песни, гармоники, балалайка, пляска и свист… Столы ломились от яств и самогона – и у моего хозяина, да и в каждой избе. Рюмки, стопки и даже чайные стаканы раз за разом наполнялись самогоном для родственников и гостей. Должен заметить, что здешний самогон не имел неприятного специфического запаха, обычно свойственного этому напитку. На его основе здесь приготовлялись различные настойки, не только брусничные и малиновые, но и из целебных кореньев и трав. Ни офицер, ни казак не мог избежать общего праздничного разгула: отказаться нельзя, поскольку отказом наносишь хозяину большую обиду. Если не зашёл к нему в дом, не отведал ничего из приготовленных закусок или не выпил рюмку настойки, хозяин решит, что гость счёл его недостойным того, чтобы его посетить, отведать закусок и выпивки – и оскорбится.
Праздничное брожение по обычаю продолжалось несколько дней. Первый день – полная свобода мужчинам. Они сами шли куда хотели и вели к себе кого хотели. В этот день у стола увидишь только самую старую хозяйку, и та не присядет, а только следит за порядком. Молодые же казачки в кухне совершают свой труд по мытью посуды. На второй день начинается гулянка у семейных казаков. Тут уже приглашают семьями в гости – обычно зовут гостей к обеду, чтобы к вечеру освободиться для уборки дома и работ по двору: напоить и накормить скот, подоить коров, пропустить молоко, и прочее. Несмотря на то, что казаки любили гулять, но про хозяйство не забывали. Порядок праздничных гуляний устанавливался не хозяевами, а хозяйками. У имеющих большое родство праздник продолжался до двух недель. Без причуд, конечно, не обходилось. Те, кто начинал с первого дня пить «по полной», к концу застолья уже не могли поддерживать компанию, они садились на коней и уезжали в степь на простор, чтобы ветер очистил головы от винных паров.
Ввиду такой грандиозной гулянки в полку назначалась дежурная сотня. Эту сотню сменяла другая, и каждые сутки приходилось производить такой наряд. Меня поражало то, что у старых казаков укоренилась военная дисциплина. Пригласит к себе в дом, спросит, кто в наряде – тому крепкого не даст.
Рассказывали, что когда наследник цесаревич ездил в Японию, то по возвращении его из Японии на одну из станций Забайкальской железной дороги казак Шестаков согнал свои табуны – двадцать тысяч лошадей, принадлежащих ему одному. Наследник престола осмотрел эти табуны. И Шестаков сделал ему подарок в количестве двухсот пятидесяти лучших коней, для выбора которых была организована комиссия специалистов. Отборные кони были погружены в вагоны и отправлены в Петербург. Этот рассказ – не вымысел. Уже будучи в Маньчжурии я лично познакомился с Шестаковым, и он подтвердил, что это верно.
За роскошью забайкальский казак не гнался, несмотря на то, что средства позволяли. Одежду носил такую, чтобы была удобна для верховой езды; не увлекался постройкой красивого дома. Это его, по-видимому, не интересовало, и соревнования в этом с другими казаками не было, зато соревнование в скотоводстве было очень развито. Любили казаки выращивать коней-скакунов, это им доставляло истинное наслаждение. Очень часто устраивали здесь конские бега, во время которых был общий праздник. Здесь закладывались немалые суммы на хороших лошадей.
Узнав подлинную жизнь забайкальских казаков, я стал упрекать себя за своё прежнее неведение. О казаках я знал только по книгам, но чтоб их узнать подлинно, нужно было с ними пожить. Так и вся русская интеллигенция: она мало знала русские народы, населяющие отдалённые части Российской империи, поэтому и не умела ценить своё русское богатство, больше увлекаясь идеями Запада. А вот казаки-скотоводы, бывало, соберутся и начнут разбирать политику сегодняшнего дня, так и порешат: «А ведь Бог попутал наши умы. Разве нашему народу нужна революция? Иностранцы, наверное, над нами смеются. Дураки, мол, русские – царя убили…».
И вот пришёл день, когда нам пришлось перейти китайскую границу и остановиться, не доходя до города Маньчжурии километров шесть или семь. Артиллерийская канонада затихла, стала стихать и ружейная стрельба. Изредка где-нибудь услышишь одиночный выстрел, но свиста пуль уже не было. Затишье, казалось, должно было принести некоторое облегчение от сознания того, что ты остался жив, но на деле случилось обратное. Это состояние даже объяснить трудно: нас охватило неожиданно такое горькое чувство, от которого можно только плакать или кричать в отчаянии. Мы не были готовы к этой минуте сказать Родине: ПРОСТИ!..
Кто не испытал подобных моментов, тому трудно понять, что́ переживали мы в то время. Уйти со своей родной земли в чужую страну, куда нас никто не звал, где никто не ждал, было нелегко! Все богатства российские, которые были нажиты веками нашими предками, оставлялись в пользование победителю. Увидим ли мы тебя, Россия, такой, какой ты была? Не знаем. Такими тяжёлыми мыслями все мы были охвачены в то время, и каждый старался незаметно заглянуть другу в глаза, почувствовать, измерить своё и его общее страдание…
Подходим к границам Китая, и через Маньчжурию Белая Армия движется на Владивосток. За Маньчжурией нас встречали китайские войска и препровождали в определённый район, где было отведено место для сдачи огнестрельного оружия. Сотню казаков выстраивали в одну шеренгу с винтовками на плечо и с открытыми затворами. Медленно двигаясь сквозь строй китайских солдат, которые стояли шпалерами, наши солдаты сдавали оружие китайским офицерам, которые и указывали, куда его складывать. После сдачи оружия полки направлялись в город для расквартирования. Квартиры были отведены в школах, в городских театрах и в домах частных жителей.
Продолжительность стоянки в этом городе зависела от погрузки в эшелоны и от отдыха коней. Пехотные части грузились и немедленно отправлялись. Конницу погрузить было невозможно: недоставало вагонов, поэтому некоторые полки отправлялись в походном порядке в город Хайлар.
Казакам жаль было расставаться с оружием. Они долго носили его за плечами, чистили и ухаживали за ним, как и за своими конями: в походе заботились, главным образом, о коне и о карабине. Карабин гораздо легче по весу и короче винтовки, поэтому именно этот вид походного оружия был принят в кавалерии. Но никакое правительство не позволит присутствие чужой вооружённой армии у себя на территории. Какие бы ни были дружественные договоры у Китая с царской Россией, наша армия была обязана подчиниться требованиям правительства трёх восточных китайских провинций. Не сдать оружия было нельзя – и так наша армия наделала много хлопот и принесла большой материальный ущерб этому правительству.
Для пропуска наших войск через всю Маньчжурию к станции Пограничная на Маньчжурскую железную дорогу были сгруппированы китайские войска из всех трёх восточных провинций. Железнодорожный транспорт был полностью использован для перевозки наших войск. Коммерческие операции по перевозке грузов были приостановлены, пассажирские поезда шли не по графику. На служащих железной дороги легла большая нагрузка, им пришлось работать лишние часы. Целая вереница поездов шла к станции Пограничная, а оттуда отправляли пассажирские поезда и все воинские эшелоны на станцию Гродеково[43] – первую станцию в Приморском крае.
Во время поездки нашей Дальневосточной Армии по китайской территории на протяжении полутора тысяч километров не было никаких эксцессов ни с жителями китайской национальности, ни со служащими железной дороги, несмотря на то, что здесь, в Маньчжурии, большевиками была уже проведена большая агитационная работа, благодаря которой на нас железнодорожники смотрели, как на врагов.
С начала революции прошло уже три года и девять месяцев. После Февральской революции пришёл Октябрьский переворот, а потом наступила Гражданская война, которая продолжалась более двух лет. Казалось бы, за такой период времени китайское правительство должно бы утратить доверие к России, но оно не нарушило старый договор, несмотря на то, что не извлекло для себя выгод из сложившейся ситуации. Белая Армия, оказавшись на территории Китая, уже не являлась в полном смысле армией-защитницей старой России. Это могло дать право китайскому правительству интернировать её на своей территории, но не пропускать в Приморье через всю Маньчжурию. Но это было осуществлено, причём прошли через неё десятки тысяч солдат, казаков, офицеров и их семей – беспрепятственно… Верю, что если оба государства – Россия и Китай – воскреснут экономически и политически, обретут и отстоят национальную крепость своих интересов, то эти добрососедские отношения Китая к русскому народу Россия не забудет.
* * *
Правительство Приморской области, желая пользоваться доверием народа, объявило свою программу дальнейших действий, где было сказано, что главная цель – свергнуть правительство большевиков в России, созвать новое Учредительное собрание, куда должны будут войти представители всех классов населения, всех народностей, чтобы избрать Всероссийское Правительство. Такая программа тогда показалась народу приемлемой, ибо предполагалось, что Всероссийское Правительство будет выбрано всеми представителями от народа и по воле его.
Каппелевская армия пришла в Приморье, не имея при себе огнестрельного оружия. Офицеры сумели привезти с собой револьверы – не в кобуре, а в кармане. Шашки у офицеров и казаков были при себе.
Пехотные полки расквартировали на первое время во Владивостоке, Никольск-Уссурийске[44] и Раздольном[45], а казачьи полки были размещены по деревням.
Население Приморской области состояло из казаков-уссурийцев[46], из старых, можно сказать, аборигенов – местных жителей и из переселенцев начала ХХ века. Переселенцы-крестьяне[47] приехали из малороссийских губерний Российской империи (главным образом, из Черниговской, Полтавской, Харьковской губерний, а также Астраханской и Воронежской) и осели на этой земле, крепко, основательно и методично обрабатывая её. Построили не хутора, а большие сёла и деревни, которые заселили земляками. Казачьи полки Оренбургского войска были размещены по этим деревням.
Прежде, чем что-то сказать об этом народе, напомню слова великого русского мыслителя и критика Виссариона Белинского: «Невозможно представить себе народ без религиозных понятий, облечённых в формы Богослужения. Невозможно представить себе народ, не имеющий одного общего языка, но ещё менее можно представить себе народ, не имеющий особенных, одному ему свойственных обычаев». Эти люди, живя в Малороссии, где много земель принадлежало помещикам, своей земли там почти не имели, а приехав в Приморскую область на широкие земельные просторы, почувствовали свободу. Сами они рассказывали, что, прибыв сюда, стали помещиками. За десять лет они успели построить школы и церкви в своих деревнях.
Мы пришли в деревню Павловку[48] во время Великого Поста. В эту пору было уже тепло, только в глубоких оврагах на северной стороне можно было увидеть снег, а на полях уже кипела работа. К Страстной Неделе посев был закончен, а сельскохозяйственный инвентарь составлен под навесом переднего двора. И на последней неделе Великого Поста ежедневно был слышен колокольный звон к обедне и вечером к всенощному бдению.
На этой неделе говеющих было много, мужчин больше, чем женщин. Изредка среди них встречались старушки. Женщины уже отговели на первой постной неделе или на Крестопоклонной. Ученики всегда говели на Страстной неделе. И как всё было продумано, проверено и строго! Как по расписанию выполнялись все обязанности, от учеников школьного возраста и до старческого… Не было такой молодёжи, которая бы говорила, что будет замаливать грехи, когда состарится, что часто мы слышим теперь в эмиграции! Всю Пасхальную неделю никто не работал.
Наступила Радоница[49] – поминовение усопших. К этому дню была особая подготовка. Готовилось всё то, что любили усопшие в свою бытность: закуски разных сортов, пеклись блины, делались вареники, украшались яства крашеными яйцами и, конечно, не обходилось без горилки, запасы которой были в каждом доме. На Радоницу ехали на кладбище всей семьёй, чтобы отслужить панихиду. В телеги загружали закуски, квас и разносолы и усаживали всю семью. Приехав на кладбище, расстилали брезент и полога на начинающую зеленеть травку и раскладывали всё, что привезли с собой. Потом ждали священника, который быстро обходил могилки и служил литию. Могилок тогда ещё было мало, больше детских – кладбище было новое, и люди не все старожилы. Как только батюшка отслужил литию и благословил трапезу, семья приступала к поминовению усопших, начиная с просфоры и кутьи, а после приступали к выпивке и закуске.
Поминовение усопших напоминало отчасти пикник. Поминали по кругу друг у друга усопших, и к вечеру уже все весьма крепко напивались, а душа рвалась к песне и к веселью. На кладбище петь было нельзя, поэтому, как только садились в телеги, затягивали на все голоса песни, и если кони неслись лихо, то, возвращаясь, прокатывались по деревенским улицам борзо и с песней. Были и такие люди, которые шли на кладбище пешком. Они брели домой уже крепко подвыпивши, в обнимку по несколько человек и обязательно с украинской песней. Таков был местный обычай в день Радоницы.
На Красную Горку[50] справляли свадьбы. Время было свободное, особенно у тех, кто не возводил в эту пору построек, а делал только заготовку строительных материалов. Свадебная гулянка длилась довольно долго. У кого было большое родство, гулянье продолжалось до двух недель. В таких случаях существовала определённая система. Весь мужской пол в дни свадебных гуляний до обеда успевал работать по хозяйству около дома, а женщины, в особенности те хозяйки, которые принимали гостей у себя, были заняты приготовлением закусок.
Если начало свадьбы прошло без всяких шероховатостей и дружно, то с первых же дней решали с общего согласия, у кого и в какой день собираться. Этот план у них не нарушался, ибо чтобы принять гостей, надо много чего приготовить: «Если у Грицька были такие закуски, то я, Павло, чем хуже Грицька?..». Ввиду того что семьи были большие, гостей в каждом доме собиралось около сорока человек. За стол садились около двух часов дня, а разгонная чарка[51] горилки могла быть только в одиннадцать-двенадцать часов ночи. Гулянки, особенно свадебные, любили все женщины. Здесь они могли свободно повеселиться и выпить горилки, как и мужики. В то же время они изучали рецепты друг у друга, определяли вкус закусок и печенья и, конечно, каждая хозяйка старалась не ударить лицом в грязь. По наблюдении хозяйственных порядков здесь многие матери делали выбор для своего сынка: из которого дома ему можно будет взять жинку.
Желанными гостями были наши казаки и офицеры. Ведь в каждом доме было таких квартирантов по четыре-пять человек. Большинство офицеров, соблюдая правила вежливости, не хотели своим присутствием стеснять свободу хозяев во время гулянки, но это им не удавалось. Сама хозяйка наливала две рюмки крепкой настойки, ставила на поднос, подходила к вам, брала одну рюмку, выпивала всю до дна, опрокидывала её на поднос вверх дном и запевала: «Эх, выпила я, похилыла, сама себя похвалила, що я паньского роду – пью горилочку, як воду!». Этим она показывала пример, как нужно выпить эту рюмку. Не выпить нельзя – обидишь хозяйку. А выпил эту рюмку, значит, ты уже их гость и должен садиться за стол.
Общий вид деревни переселенцев после Радоницы и свадеб был такой: у кого были свадьбы, там после обеда слышались весёлые голоса и песни. Те же, кто не участвовал в свадебных гулянках, работали с утра до вечера по дому и по хозяйству: делали пристройки, ездили за брёвнами в лес, женщины вспахивали гряды в огороде, приготовляли парники для огурцов, сеяли лён, а из той пряжи, что за зиму напряли, надо было ставить кросна[52] и ткать холсты.
У каждого дома на улице стояли козлы высотой в рост среднего человека. На эти козлы закатывали брёвна для распилки на доски. Эту разделку брёвен производил сам хозяин. У каждого многосемейного хозяина была своя продольная пила. Двадцатилетний сын вставал на низ под бревно и заменял пильщика-специалиста. Лес, распиленный на доски разной толщины, складывали в штабеля для просушки. Здесь же проходила разделка брёвен и для постройки домов. Семьи у этих переселенцев были большие. Совсем не редкость встретить в одной семье трёх женатых сыновей, живущих всеми в родительском доме. Это объясняется тем, что они приехали в этот край не так давно. Рассуждали они так: надо сначала потверже встать на ноги, а потом уж думать о выделении[53] своих сыновей, тогда общими силами и будем им строить хаты. Семейная дисциплина была строгая, во многом с опорой на «Домострой»[54].
Несмотря на то, что старший сын своим внешним видом бывал почти похож на своего отца, но без разрешения батьки он ничего по своей личной инициативе делать не будет – всё по указанию отца. Такое явление удивляло многих из нас. В праздничные дни, когда ставили горилку на стол, отец наливал всем рюмки, включая детей пяти-шести лет: по рюмке заставлял выпить и этих малышей. Считалось, что, если дети приобщены к горилке с детства, то не будут пьяницами, когда вырастут.
Мать здесь – глава над снохами[55] и дочерями. У неё дисциплина даже строже, чем у отца. У каждой женщины в семье есть определённая обязанность, и никто не смеет её нарушить.
Например, одна сидит за кроснами. Кросна – это упрощённый ткацкий станок с бёрдами[56] и челноками[57]. Такие станки – в каждой семье, на нём ткут холсты, половики, коврики.
Другая ходит за скотом, доит коров, пропускает на сепараторе молоко, сбивает сметану на масло.
Третья кормит свиней и домашнюю птицу, а мать сама с остальными на кухне у русской печи приучает своих дочек к стряпне и начинает готовить приданое для старшей дочери. Когда дивчина на возрасте, надо быть готовыми к сватовству.
В больших семьях я наблюдал сам, как во время обеда в рабочие дни младшая сноха накрывала на стол, наливала из большого чугунного котла в большую миску борщ. Все садились за стол и хлебали из этой миски деревянными ложками, а младшая сноха ела стоя, не имея права садиться. Она должна была есть и одновременно следить за тем, чего не хватало на столе, и как только чего-то не доставало на столе, она добавляла.
Еда у них была неплохая. В скоромные дни – борщ с мясом, чаще со свининой, на второе – гречневая каша, залитая молоком. После такого обеда чая не было, подавался квас. Вот здесь и вспомним снова слова Белинского, которые так подошли бы к переселенцам из Малороссии: «Если у этих людей отнять религию и лишить их своих обычаев, разве можно бы увидеть в них такую полную жизнь в их материальном отношении, такую стройность семейной тишины, сохранившуюся семейную дисциплину, которая никого не угнетала, а ещё более украшала семейную жизнь, свойственные им обращения друг с другом, природную мягкость в произношении слов, которые составляли гармонию». Я не слышал, чтобы они между собою ссорились, и не видел раздражённых лиц. Иногда видишь и чувствуешь сам, что уже достаточно причин для ссоры, а получается так, что все вовремя переходят на шутки. Я говорю только о людях крепко выпивших, а среди трезвых даже и споров не услышишь.
Я подробно написал о переселенцах с Украины, чтобы читатель имел представление о российских народах, об их нравах, обычаях и социальном положении. Я также обратил внимание на деятельность царского Правительства, которое предоставляло право российскому народу занимать плодородные земли, отпуская им для этого долгосрочные кредиты на переселение. От этих переселенцев я слышал, что кредиты отпускались на сорок девять лет, что давало им возможность развить сельское хозяйство. Они сами говорили, что приехали на поселение, имея в семье работников, и они через десять лет становились богатыми людьми.
Теперь посмотрим, как жили старожилы, которые приехали в Приморскую область раньше – по своим проискам и интересам. Некоторые из них работали при постройке Уссурийской железной дороги и оседали в этих местах на жительство, а некоторые раньше посылали туда своих ходоков и потом уж сами переезжали. Приморье привлекало к себе немало коммерсантов; многие вели там торговлю и – оставались там навсегда. Эти старожилы обосновались здесь давно и не были похожи на переселенцев с Украины. Семейная дисциплина у них не та, и семьи гораздо меньше. Женатого сына отец долго при себе не держал, а отделял для самостоятельной жизни. Эти старожилы тоже занимались хлебопашеством, сеяли гречиху, занимались пчеловодством. Урожай гречихи в этих местах был обильным. Жители сёл и деревень, находящихся недалеко от маньчжурской границы, промышляли ещё и контрабандой: провозили по лесным тропам много спирту очищенного (около 90% крепости), китайскую чесучу[58] и китайские шелка.
Старожилы Приморской области – народ универсальный. Они и ремесленники (многие из них имели кузнечные мастерские), они и коммерсанты, и рыбаки, и охотники. Смотря на них, невольно сознаёшь, как же богата наша Россия! Сколько лет уже тянулась война, более десяти миллионов человек было поставлено под ружьё, а Матушка-Русь всех кормила, обувала и одевала, да ещё и оставались целые области не тронутыми, не освоенными, со всеми своими богатствами!..
Познакомившись ближе с российским народом, зная о материальных богатствах нашей земли, так и хотелось сказать: «Россию грабят все, кому не лень».
Кто же до этого допустил? Большевики, революционеры, интеллигенция, которая себя считала и открыто называла «народниками», но сама не знала свой народ? А может быть, в действительности народ свой они не любили и не хотели знать?
Сколько было в Сибири народных учителей в школах, которые жили на квартирах у сибиряков, чалдонов[59]. Один занимал горницу на полном пансионе, платил в месяц за всё шесть рублей, а жалование получал от двадцати шести до тридцати рублей в месяц. Жалование выплачивалось по желанию: в золотых рублях или в кредитных бумажках. И этот учитель, русский интеллигент – был революционером!..
Во Владивостоке, в Никольск-Уссурийске и в Раздольном очень много проживало китайцев. Этот народ принадлежал к торговому классу. В упомянутых городах у них были специальные ряды магазинов и лавок со всевозможными товарами. Эти торговые ряды назывались Китайским базаром. Царское правительство не запрещало им торговать, а многие из них также обрабатывали землю для посева. Китайцы – народ очень трудолюбивый, и они здесь жили лучше, чем на своей родине.
Как мне помнится, в том году с 29 февраля у китайцев наступал Новый год[60]. Хозяина с семьёй и меня в том числе арендаторы пригласили на обед. Этот обед продолжался более трёх часов, причём всё это время нужно было беспрерывно есть, потому что блюда сменялись одно за другим, а если Вы не отведаете одного или другого блюда, хозяева остаются очень обижены. За столом с нами сидели четыре компаньона, старшие по возрасту, а остальные компаньоны выполняли роль официантов, с полотенцем через плечо поднося из кухни всё новые и новые блюда.
Китайский Новый год – не только религиозный обряд приверженцев «конфуцианства»[61], это и поклонение их многочисленным богам. К Новому году они в обязательном порядке заканчивают все торговые и хозяйственные операции. Совершают расчёты по всем долговым обязательствам, закрывают счета дебиторов и кредиторов, производят годовой учёт, и баланс переносят в новые книги. В новом году вся работа начинается снова, с чистого листа.
Празднование китайского Нового года продолжается целый месяц, только бедный класс, который не смог себя обеспечить к Новому году для «чифана»[62], празднует пятнадцать дней, но последние три дня «Праздник фонарей»[63] празднуют все. Кухня у всех классов населения превосходная. Готовятся все лучшие по вкусу блюда, и всё – в достаточном количестве.
Ещё живя на своей русской земле, привелось мне быть на китайском новогоднем обеде. Не помню, где, но я ещё раньше прочёл в отчёте Международной выставки по кулинарии, которая проходила в 1910 году в Париже, где китайская кухня взяла первое место. Поэтому на этот обед я шёл с большим интересом.
На обеде подали сорок два блюда, холодных и горячих, и только после того приступили к самому обеду. Во время закусок пили маленькими чашечками «ханьшин»[64] в подогретом виде. Надо отметить, что запах у напитка отвратительный, но стоит его пригубить (большими глотками пить невозможно), как запах исчезает и у всех открывается звериный аппетит.
Очередной обед состоял из двенадцати горячих блюд – из свинины, рыбы и курицы, обязательно подавались китайские пельмени и последнее блюдо – традиционная рисовая сладкая каша, очевидно, приготовленная в сахарном сиропе. За этим обедом уже выпивки не полагается. После такого обеда на следующий день китайцы пьют только горячий чай.
Жители Приморской области с китайцами сосуществовали очень дружно, расовой дискриминации не было. Этому народу революция была не нужна.
* * *
…Надо полагать, командование Белой Армии вынесло решение отступать. 22 декабря 1922 года стал для нас днём глубокой грусти. Его не забудет ни один из участников дальневосточной Белой Армии. Да его забыть и нельзя тому, кто хотя б немного любит свою родину. В этот день только тот не заплакал, кто стыдился своих слёз и боялся показать свою слабость другим. Подобная выдержка была почти невыносима, она ложилась тяжёлым камнем на сердце, отчего у многих произошёл шок, их охватило оцепенение, и они впали в непробиваемое молчание.
В этот день наш полк отходил в арьергарде, приближался уже к границе Китая. Около полудня на линии таможенного поста наши цепи Пластунского[65] батальона и офицерского взвода дали последний салют по коннице красных, которая преследовала нас. Салют этот был дан, чтобы отбить конницу, которая могла нас прижать к границе, где были расположены китайские войска, и где мы могли бы оказаться меж двух огней. Конницу красных отбили, она отступила в беспорядке. Цепи же наши сомкнули свои ряды, вышли на грунтовую дорогу, взяли ружья на ремень и пошли по дороге к границе спокойным шагом…
Так это было.
Игнатий Калинникович Волегов. Воспоминания внучки Марины Толмачёвой
Я хочу вспомнить моего дедушку и описать разные, пусть даже и мелкие эпизоды из его жизни. Это, конечно, будет воспоминанием совсем маленького ребёнка, девочки. Но только сейчас я могу хоть немного оценить то, каким сильным и мужественным человеком был Игнатий Волегов.
Часто встречаются мужчины, которые хотят показать свою силу в роли патриархального главы семьи. Они искажают принципы древнего Домостроя, стараясь показаться строгими, сильными. Они так же, как многим известный и популярный в России блогер в священном сане, искусственно и довольно грубо призывают всех вернуться в «светлое старое прошлое», при этом подавая весьма странные советы и приветствуя, по-моему, очень неадекватное поведение в отношении супругов в семье. Они думают, что отношение между мужем и женой, между родителями и детьми, между родственниками и знакомыми зависят исключительно от умения мужчины-главы семьи показать свою грубую силу и подавляющее окружающих поведение – поведение, подобное тому, что Гоголь неоднократно описывал во время своих путешествий по деревням России.
Мой дедушка вёл себя по-другому. И в семье, и в обществе он был уважаем и любим. Притом, что, зная его деликатность, никто не сомневался в его мужестве, наличие которого совсем не требовалось дополнительно доказывать окружающим. Дедушка был безусловным авторитетом, уважаемым главой нашей семьи, и нет надобности даже упоминать об этом. И он со всеми вёл себя исключительно корректно и внимательно; его поведение и манеры при общении были едины, неизменно доброжелательны – со всеми, будь то взрослые или дети, высокообразованные специалисты или совсем простые люди.
И вот сейчас, в обстановке нынешней всемирной суеты, смуты и нестабильности я почувствовала себя ближе к дедушке. И я, пожалуй, впервые по-настоящему осознаю, как тяжко ему было видеть разрушение своей любимой страны; впервые представляю, что́ он переживал, с горечью оставляя свои родные края, вынужденный переехать на чужбину.
Я не раз сталкивалась с людьми, являвшимися потомками – детьми или внуками – тех, кто перенёс невероятные тяготы и получил психологические и физические травмы во время революции и войны в России. Даже когда покинувшая Отечество семья смогла благополучно переехать в другую страну и начать там новую жизнь, бремя страшных событий, пережитых родителями и близкими, отражалось на детях. Депрессия, чувство незаслуженной вины за то, что они выжили, в то время как иные погибли, глубокое погружение в историческое прошлое – всё это часто накладывало отпечаток и негативно влияло на судьбы потомков эмигрантов, спасшихся от пережитых в прошлом ужасов.
Дедушка никогда не обременял меня воспоминаниями, которые могли бы повлиять на психику ребёнка. Он рассказывал немного о жизни юнкеров в их училище, вспоминал Искру – свою любимую лошадь, говорил и о том, как молодые офицеры искренне восхищались прекрасным полом, увидев лишь щиколотку девушки, у которой слегка в движении или от ветра поднялась юбочка. И, конечно, если что-то передавалось по радио или телевидению из России: концерты, балетные постановки или музыкальные программы в исполнении русских музыкантов и артистов, – дедушка, призвав меня, давал возможность наслаждаться мне подлинным искусством его родной страны самостоятельно, не сопровождая происходящее никаким негативным комментарием.
Но это совсем не значит, что всё пережитое его не мучило. Он много лет систематически писал свои мемуары, для чего каждое утро уходил в свою комнату и несколько часов вручную набрасывал черновик. Несколько позже, уже днём, когда моя бабушка Антонина Фёдоровна (для меня – баба Тоня) освобождалась от своих домашних обязанностей, дедушка перечитывал всё, написанное за день. После этого он, со всеми поправками, переписывал свои заметки уже в другую тетрадь. Он, вероятно, понимал их ценность и надеялся, что в будущем, прочитав его вспоминания, даже маленькая внучка их осмыслит и разделит с ним и радости, и скорби его жизни.
В нашей семье нередко спорили. При этом применялся особый стиль разговора, который отчасти похож на дебаты. Обсуждались разные темы: религиозные и художественные, культурные или исторические, и зачастую высказывались противоположные мнения – с азартом, но без какой-либо злости. Скорее, это был способ некоего вникания в суть предмета, освоения разных тем, выражавшийся в форме интеллектуальной игры. Мой папа, Владимир Сухов, был заядлый спорщик, он любил очень красочно и громогласно поспорить на разные темы. Но при беседах с дедушкой он никогда не затрагивал тему революции, войны, Царской семьи и всего того драгоценного для дедушки, что было глубоко и лично пережито им. Папа однажды рассказал, что он ненароком коснулся какого-то из этих вопросов. И дедушка с ним не стал спорить, но по выражению лица его, по его реакции папа понял, что сделал это напрасно и необдуманно, ибо, подняв больную тему, он вновь разбередил душевную рану потерпевшего.
Дедушка остался верен данной им офицерской присяге. «За Бога, Царя и Отечество!». Он честно воевал в Гражданской войне, сражаясь против врагов царя. Но когда военная катастрофа свершилась, и Белая Армия потерпела поражение, когда всё уже было потерянно, и дедушка оказался в эмиграции сначала в Китае, а потом в Австралии, он категорически отказывался принимать участие в разных организациях, которые из-за границы пытались подорвать власть в родной его стране разными террористическими актами. Его не раз приглашали и даже принуждали, но он ни за что не готов был причинить боль любимому им русскому народу и далёкому незабвенному Отечеству.
Дедушка хорошо относился к английской королеве Елизавете II: он уважал королевскую семью как родственников русского Царя. Он всегда голосовал только за Либеральную партию (Liberal Party), потому что её основал и возглавлял премьер министр Роберт Мензис (Robert Menzies), а Мензис был монархистом и очень любил королеву. Дедушка с удовольствием следил за визитом принцессы Александры, когда она приезжала в Австралию от имени королевы, и интересовался репортажами, освещавшими её визит в журнале «Women’s Weekly», он даже пробовал рисовать её портрет. В отличие от жилищ многих эмигрантов, стены дедушкиной комнаты не были заполнены огромными портретами Царя, Императрицы и царской иконографией, но в частных, личных его фотоальбомах фотографии этой любимой им семью были размещены рядом с семейными.
Мы знали, что дедушка происходит из богатой крестьянской семьи. К сожалению, он не рассказывал нам о своём детстве, о семье и о своей прежней жизни в России. Я не понимаю, почему, но об этом не принято было говорить в нашей семье. Мы долго не знали, что дедушка был женат на дворянке, и что у них родилось две дочери. Обе они скончались в трудные времена революционной смуты и Гражданской войны в России, но дедушка совсем не упоминает о них и о причинах их гибели в своей книге, несмотря на то, что он пережил эту семейную трагедию именно в те времена, которые там описывает. Но имена дочерей были включены им в поминальную книжечку, и за них возносились молитвы, хотя мы и не знали, о ком идёт речь.
Дедушка Игнатий нам не рассказывал о том, что он родился в большой и богатой староверческой семье. Весь посёлок Волегово носил это имя – Волеговы. По словам его племянницы, Августы Климентьевы, дочери Климента, брата дедушки, семья Волеговых была беспоповцами (в таких общинах не было священников). Это значит, что мой дедушка стал членом Русской Православной Церкви уже будучи в зрелом возрасте и только взрослым человеком погрузился во всю полноту литургической и таинственной жизни Никоновской Церкви. Дедушка своим примером открыл мне Православную Веру. Помню, как мы ходили с ним на вечерни пешком в наш храм. Помню чувство уюта и тепла в самом храме. На обратном пути сопровождал нас дядя Костя Антонов. Везде темно, величественное небо, полное звёзд – и долгие душевные разговоры, и прощание на полдороге…
Дедушка очень уважал священников и со многими близко дружил. Помню, с какой любовью и уважением он встречал о. Адриана Ганна, когда тот приезжал с чудотворной «Курской Коренной» иконой Богоматери в Австралию. Дедушка составил лист вопросов для обсуждения. Просмотрев этот лист, я с удивлением заметила, что он спрашивал и о том, когда Православная Церковь будет вводить английский язык в церковную службу. Это было в ранние шестидесятые годы прошлого века, и этот вопрос ещё не затрагивал эмигрантов. Он неоднократно писал письма правящим епископам с просьбами о повышении сана разных священнослужителей.
Он очень любил и уважал о. Николая Остянко[66]. Отец Николай был его духовником, и он вспоминал, как дедушка принимал свою близкую смерть. Незадолго до смерти, ещё в католическом госпитале Святого Креста дедушка был очень рад, когда в Пасхальную ночь отец Николай его соборовал и причастил. Потом, собравшись с силами, он тихо сказал, что врачи могут его выписать из больницы: ему хотелось умереть дома. Конечно, мы все чувствовали скорую его потерю, но сам его уход их жизни был по-настоящему красивым, христианским – таким, о каком мы молимся словами: «О, Пресвятая Владычице Богородице, даруй мне мирную и безмятежную кончину». С ним в момент отхода в мир иной были дочь и жена. Мне тоже позволили к нему приблизиться, и дедушка благословил меня своей личной маленькой иконкой.
Ножки. Несмотря на то, что был глубоко верующим человеком, дедушка никогда не был ханжой. Помню один смешной случай во время службы. Дедушке стало плохо, и ему нужно было сесть. Как у бывшего офицера его осанка всегда была безупречной. В приходе было ещё два человека, с которыми дедушка часто стоял и беседовал, и моя мама называла их Тремя Мушкетёрами – они тоже были стройны и подтянуты, можно было только любоваться, смотря на них. Но, увы, дедушке стало плохо. Бабушка спустилась с клироса, оставив хор, и озабоченно обняла своего мужа, который сидел, согнувшись, на скамейке. Это были шестидесятые годы ХХ века, и девушки тогда носили короткие юбки. Одна молодая прихожанка в это самое время подошла к аналою, чтобы поставить свечку. «Тонечка, а ножки-то у неё какие, посмотри на ножки…», –тихо произнёс дедушка. Бабушка поняла, что приступ, какой бы он ни был, прошёл, и дедушка здоров и в своем уме. Она опять поднялась на клирос и продолжила петь.
Как укусил нас муравей. В Австралии есть огромные муравьи породы bull ants[67]. Они действительно большие и очень больно кусаются. Однажды вся семья вышла в поле нашей фермы в Bellbrae. Мне было около семи лет, и я весело крутилась вокруг всех. Вдруг я громко закричала от очень болезненного укуса. Дедушка рассмеялся: даже если меня укусил муравей, он не мог поверить, что от укуса может быть такая реакция. Вскоре, однако, не один, а два огромных муравья забрались и под брюки дедушки – и тут любой профессиональный танцовщик позавидовал бы его прыжкам в попытке избавится от незваных гостей. После того, как всё утихло, дедушка душевно передо мною извинился, сказав, что его Бог наказал за то, что он надо мною посмеялся.
Дедушка невероятно боялся щекотки, и об этом все мы знали. Я, помню, как-то в глубоком детстве, залезла под стол и, увидев его ногу в носке, решила проверить, так ли это: не выдержала искушения и, желая посмотреть на реакцию, провела пальцем по дедушкиной ступне. Он так подпрыгнул, что мне было и страшно, и смешно. В этом случае он не извинялся за повышенный на меня голос…
Воспитание вандала. Многие русские выросли с радио «Estonia». Я видела такие большие музыкальные и радиопередающие устройства у дяди Сухова в Алма-Ате, в Москве и в других местах бывшего СССР. Такие радиоприёмники вывозили с собою многие эмигранты, и наше радио тоже стояло на видном месте в гостиной в Bellbrae. Радио было большое, сделанное из красивого дерева, фасад его был покрыт прекрасной кремовой тканью, которая пропускала звук. Я решила ножницами надрезать эту ткань, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть и что там внутри. Свой эксперимент я произвела в самой середине тканевого участка, а не где-то в углу. Дедушкина реакция была невероятно грозной. Конечно, о телесном наказании не было речи. Дедушка, не поднимая голоса, привёл мне в пример человеческое лицо. Тихо, спокойно, не показывая раздражения, он нарисовал картину намеренно повреждённого ножом, изуродованного лица человека. Я поняла, что мой вандализм так же неприемлем. Урок запомнился на всю жизнь.
Дедушка не пил алкоголь. Я выросла, помня рассказ, как он не выпил тост за Сталина на приёме в Китае. Он не пил и не курил, но никогда и не судил тех, кто был склонен к рюмочке. Когда у нас бывали гости, он всегда с удовольствием угощал гостей, радушно предлагал выпить вина или даже напиток покрепче. Сам он перестал пить уже будучи женатым на моей бабушке Тоне.
Моя прабабушка Варвара очень любила и уважала всех троих своих зятьёв. У неё в доме всегда были три вида водки и три сорта папирос. Она ублажала каждого, и, конечно, дедушка тоже пил и курил ею предложенное. Ещё в начале супружеской жизни молодая жена дедушки Антонина посмеялась над слегка неуместным поведением своего молодого подвыпившего мужа. Со следующего дня дедушка полностью прекратил пить. Что заставило его бросить курить, я не знаю, но думаю, что он был очень самостоятельным и ни от чего не хотел зависеть.
Новый Год. В отличие от традиции, сложившейся в СССР, где Новый Год был главным семейным праздником, многие эмигранты Новый Год праздновали с друзьями. Поэтому, когда нужно было встречать Новый Год в первый раз в новой стране, мои родители поехали на вечеринку к знакомым, а я остались дома с бабушкой и дедушкой. Они же решили встретить праздник с сестрой бабушки, Марией Фёдоровной (тётей Мумой) и её мужем Романом Петровичем (дядей Ромой). Хозяйки долго готовили и, наконец, накрыли праздничный стол. Дедушка непьющий, дяде Роме здоровье тоже не позволяло слишком увлекаться напитками. Сёстры договорились, что в этот Новый Год, самый первый в новой стране, они впервые хотят почувствовать состояние опьянения. Поставив на стол разные вина и ликёры, они не отказывались, когда мужья их угощали. После нескольких рюмок вместо чувства веселья и расслабления сестёр охватила печаль, они стали вспоминать прошлое, расплакались и, в конце концов, совсем неважно себя почувствовали. На следующий день дяде Роме очень попало от жены. «Посмотри, каким ласковым и заботливым был Игнаша к Тоне, а ты …».
The Beatles. Я была подростком-тинэйджером, когда музыка «Beatles» прогремела по всему миру. Для меня было счастьем смотреть и слушать их и других музыкантов на нашем маленьком чёрно-белом телевизоре. Я ревностно и упрямо просматривала одну за другой «The Go Show» и другие программы. Как все тинэйджеры, я увлекалась популярными в то время танцами – «Go, Go Dancing». Молодёжь без партнёров стояла на одном месте и очень энергично двигалась под музыку. Я так танцевала во время своих любимых программ, и дедушка сидел в кресле и со мною радовался ритму этих движений.
Незадолго до этого он раскритиковал новую музыку и посмеялся над моими попытками танцевать. Но я объяснила ему, что это тоже музыка, только современная, предназначенная для танцев, и что мне неудобно танцевать перед телевизором, если чувствую, что он смотрит и надо мной смеется. Он внимательно выслушал меня, осознав, видимо, что мне его неодобрение неприятно. И, уважая мой выбор, перестал смеяться, а вместе со мною смотрел и слушал мои любимые передачи, как будто с интересом изучая и даже разделяя новое увлечение подросшей внучки.
Работа на ферме. Был период, когда мои родители вынуждены были по работе жить в самом Geelong, а мы с дедушкой и бабушкой жили на ферме. Дедушка с бабушкой занимались хозяйством. У нас были коровы и куры, и бабушка снабжала магазин в городе сливками и маслом. Также в магазин продавали куриные яйца с нашей фермы, а для семейного употребления мы собирали и мариновали грибы и работали по хозяйству. Просматривая разные бумаги и документы, я нашла дедушкины канцелярские книги. Я знала, что в Китае он вёл своё дело и был в нём чрезвычайно аккуратен и пунктуален, но удивилась, что он так же тщательно вёл все записи по хозяйству на маленькой ферме.
Приехав в Австралию, дедушка часто гулял по району Coburg, где мы сначала поселились. Он любил заходить в маленькие магазинчики «Milk Bars». Он считал, что если б он был немного моложе и владел английским языком, то мог бы открыть и свой бизнес. Он так же основательно планировал все свои проекты и поездки. Когда они с бабушкой решили навестить родственников в Сиднее, он составил большой список всего, что нужно будет взять с собой.
Методичность и наблюдательность дедушки заметны и в его книге, где он описывал не только ситуацию, но и окружение, и пейзаж. Поэтому его текст является важным документом не только об исторических событиях того времени, но и свидетельствуют о том, как люди жили и вели своё хозяйство.
Помню, как-то мой папа угостил дедушку континентальным завтраком. В каждом городке Австралии есть несколько отелей или пабов. Теперь многие эти пабы превратились в престижные рестораны, но в то время, да даже и сейчас в глубине страны эти маленькие пабы всё ещё существуют. Самый простой ланч – это стейк, картофельные чипсы, овощи или салат. Подаётся также хлеб, а те, кто выпивает, пьют пиво. Дедушка вернулся домой из паба таким счастливым! И с таким восторгом рассказал в деталях обо всём. Мы его глазами словно увидели всё, ощутили всё очарование этого паба, оценили вкус стейка и до последней мелочи разделили с ним этот, по его словам, «уникальный» обед его с зятем.
Заключая свои небольшие воспоминания о моём дедушке, я чувствую невероятную благодарность за то, что Бог дал мне в его лице такого хорошего учителя, наставника и друга. Дедушка Игнатий подарил мне уверенность в себе. Он дал мне, научил меня правилам, по которым следовало жить, и своим поведением поставил критерии, по коим я смогла выбрать себе супруга жизни и по которым я оцениваю своих друзей и близких. Его поведение и обходительность научили нас с мужем воспитывать детей не только с любовью, но и с уважением. Слова «спасибо», «пожалуйста» и «извините меня» нами употребляются в разговоре с детьми даже чаще, чем со взрослыми. Потому что, если забудешься со взрослым собеседником, он просто может тебя осудить за хамство. А если забудешься с ребёнком, то можешь воспитать неадекватного человека. Так научил меня дедушка.
Мне всё ещё не хватает его, моего дорогого дедушки, и в эти политически нелёгкие времена я душевно приблизилась к нему ещё больше. Смотря на всё происходящее, я начинаю понимать, что́ ему пришлось пережить в те времена, когда его любимая страна переживала кризис. Но самое главное – это то, что и после всех своих переживаний и жизненных испытаний он не стал озлобленным, отчуждённым, и уже этими своими качествами – доброжелательностью, умением понять другого, корректностью в отношениях – смог передать нам, своим потомкам, светлое понимание прошлого, не отрицая его трагичности.
Vale, Деда!
Часть II. И в сказках своих не расскажут... Воспоминания Игнатия Волегова
Боевое крещение
Из военной жизни
Николай Александрович был заядлый преферансист. В воскресные дни после обеденного отдыха мы частенько собирались к нему на пульку[68]. Когда садились играть, всегда уговаривались: «Господа, играть будем только одну, у каждого из нас завтра много работы». А как засели, так всегда только после третьей пульки и только при помощи своих благоверных расходились по домам.
Однажды мы пришли к нему на очередную пульку. Сидим, с нетерпением поджидая четвёртого партнёра, а вместо него приходит от него посыльный: «Господин К. заболел, его не ждите…». Конечно, мы немало были огорчены, что лишаемся привычного удовольствия.
Николай Александрович не любил играть втроём, ему нравилось создавать настроение «выпивончиком по маленькой с закусончиком». Для этого всегда, когда мы играли у него, в сторонке ставился небольшой столик с пресловутым «выпивончиком» и «закусончиком». Во время игры сдающий подходил к столику, смаковал настоечку под королевскую селёдочку, которую Николаю Александровичу присылали по особому заказу.
«Ну, что ж, господа, не будем расстраиваться, что пулька у нас не состоялась. А я вам расскажу маленький эпизод из моей военной жизни. Ничего не будете иметь против?» – поинтересовался любезный наш хозяин. Мы охотно согласились.
* * *
Как ярко воскресают живые образы из военной жизни, несмотря на то, что прошло уже полвека! Полвека! – а они стоят у вас перед глазами и говорят: что же, ты разве забыл те счастливые дни, которые вливали в тебя благородные порывы: идти на защиту своего Отечества, презирая смерть?..
Наши красноречивые педагоги говорили: «Школа – это есть дворец культуры». И правда, казалось бы, в классах средних учебных заведений мы немало черпали для просвещения своего юношеского ума, и много было светлых, радостных моментов, которые должны бы ярко запечатлеться у нас на всю жизнь. Но по сравнению с военной наукой, с её жизнью и бытом, прошлое школьных лет как-то бледнее, в нём нет таких ярких моментов, которые бы в вас воскресали и побуждали вас на переживания, на радость, или на слёзы, или на определение самого себя: кто́ я был, что́ я сделал и какой я стал. Может быть, потому что наш возраст в школе был ещё не созревший, и мы не могли понимать той задачи, которая обязывала каждого сознательного человека идти защищать своё Отечество, которое из тебя сделало человека.
Стимулом, побуждающим на самоотверженные подвиги, были у нас три символа, три слова: Вера, Царь и Отечество. В аспекте военной жизни и науки эти слова являлись двигателем для миллионов людей, которые шли защищать их и даже умирать – за Веру, Царя и Отечество.
…1914 год, июль месяц. Обнародован Высочайший Манифест[69], в котором с буквальной точностью указано, какую нашу территорию занял враг, ещё не объявляя войны и уже развивая интенсивное наступление, приведя в действие все роды оружия за исключением морских сил, а только затем объявив нам войну. Всем ясно стало: Россия не могла не принять этот вызов. И не нужно было ей проверять в своём народе патриотические чувства – они молниеносно возникли у всех.
И Петроград – столица России – в тот же день изменил свой вид. Вчера ещё город походил на спящего усталого и довольно небрежно одетого человека. Почти на каждой улице, более всего – у больших домов были воздвигнуты леса, с помощью которых производились очередные годовые ремонты фасадов. Извозчики вяло лёгкой рысцой на своих пролётках проезжали по улицам, а ломовые[70], нагруженные известью и разными строительными материалами, тихо передвигались на своих битюгах, в воздухе невыносимо пахло краской и олифой. Частных экипажей, какие можно встретить в другие времена года, было не видно, трамваи во время дневной жары пробегали почти пустые…
А сегодня – сегодня весь город превратился в кипящее море. Большие дома, театры и фешенебельные рестораны быстро начали освобождаться для размещения мобилизованных из запаса солдат. В церквях происходили молебствия, тысячепудовые[71] колокола своим звоном заливали переполненные народом улицы. Всё проснулось, зашевелилось, и слышно было: «Война… Война!». Вот какой облик теперь принял Петроград.
Город Ораниенбаум[72] ничем от прочих небольших городов не отличался, не было в нём особых достопримечательностей, а вот дач в нём было много, так как расположен был этот тихий, уютный приморский городок недалеко от Петрограда. Были в нём парки с высокими ветвистыми клёнами, окрестности города украшали рощи из разнолесья, изрезанные шоссейными дорогами[73].
Всё это составляло удобную и красивую панораму для полевых тактических занятий. Ввиду близости города от Петрограда в нём в довоенное время была открыта Офицерская стрелковая школа[74] с отличным тиром для стрельбы. Заведующим стрелковой школой был прекрасный теоретик по стрелковому делу генерал-майор Ф[75]. По объявлении войны Офицерская стрелковая школа раньше срока была распущена, а в помещении, где она размещалась, открыли Школу прапорщиков[76] с наименованием «Первая Ораниенбаумская». Состав преподавателей и воспитателей этой школы был, преимущественно, из офицеров гвардии, а аудитория юнкеров состояла из разных сословий. Были там дворяне, мещане и крестьяне, последние – почти исключительно добровольцы, только что успевшие окончить средние учебные заведения. Этих молодых патриотов трудно было удержать в тылу, но перед отправкой на фронт требовалось дать им военное образование.
Здание школы было казарменного типа, как снаружи, так и внутри: учебный зал, спальные, столовая, – всё это не внушало и мысли, что тут когда-то жили офицеры, которые спали на простых солдатских кроватях. Правда, зал для отдыха претендовал на некоторую роскошь.
Я, будучи портупей-юнкером[77], не раз получал замечания от дежурного офицера за нарушение тишины в моём взводе после вечерней молитвы: и правда, молодые патриоты, которые с нетерпением ждали производства в офицеры, тишину нарушали частенько…
Расписание дня было следующее. Подъём в шесть часов утра, завтрак после гимнастики в восемь часов, обед в двенадцать часов. Всё это было не так важно, как количество часов для занятий. Ежедневно, за исключением времени на завтрак, обед и ужин, мы занимались по тринадцать часов. Курс у нас для первого выпуска был шестимесячный. Ясно, что за такое короткое время – полгода – надо было пройти ту же программу, которая в военных училищах в мирное время рассчитана на три года, и это нелегко. Многие из тех юнкеров, кто был физически слаб, не смогли выдержать такого напряжения и были исключены.
Пехотных военных училищ в Петрограде было всего два, Павловское[78] и Владимирское[79], а вследствие войны выпуск из них был годовой с производством в прапорщики. Следующие выпуски были шестимесячные, как и в Школе прапорщиков, а потом, я слышал, были выпуски уже и через четыре месяца, как из школ, так и из военных училищ.
Что у меня осталось в памяти от Школы прапорщиков, так это офицеры гвардии: полковник Н., капитан В., поручик З. и начальник школы генерал-майор З. После нашего выпуска они были переведены в штабы действующей армии, на их место были присланы люди из кадетских корпусов. А какими они были подлинными представителями красоты Русской Императорской Армии!
Не только внешний вид являл в них эту красоту – она состояла в сумме всех действий офицеров, обнаруживалась и в физических движениях, в манерах, в разговоре, в обращениях, в умении себя держать и, наконец, даже в форме отдачи приказаний своим подчинённым. Не приходилось сомневаться в том, что они останутся красивы и будут внушать уважение к себе при любых обстоятельствах и в военной обстановке. Эта наблюдаемая нами красота офицерства являлась стимулом для утверждения в молодёжи воинского духа и проявления героизма.
Из рассказа полковника В., который был прикомандирован к штабу гвардейского корпуса с полусотней оренбургских казаков для связи в четырнадцатом году, можно сделать определённый вывод о достоинствах гвардейских офицеров.
Для прикрытия отступления Русской Армии через реку Вислу гвардейской стрелковой бригаде было приказано охранять понтонные мосты, которые противник стремился захватить и отрезать пути отхода, зажав у реки всю армию. Бригада эту задачу выполнила блестяще. Только когда отступила вся армия, за ней отошла и гвардейская бригада. Фактически отошла уже не бригада, а её знамёна были вынесены остатком людей. До этого ужасного боя в ротах был состав до двухсот человек, а возвратилось из каждой роты только пятнадцать-шестнадцать, остальные все полегли там.
«Если военная история не отметит эту доблесть русской гвардии, тогда не о чем ей будет писать вообще», – так говорил полковник В.
Первые выпускники сокращённого курса выходили из Павловского военного училища прапорщиками. Вспоминая о тех временах, не могу пройти мимо одной замечательной личности, встреченной мною в запасном полку. Это был прапорщик князь Д. из знатной аристократической семьи. Отец его – командир Кирасирского Её Величества полка, два старших брата – офицеры гвардии, а он сам в то время – студент третьего курса Технологического института. Как только была объявлена война, он забыл про волю своего отца, который хотел, чтобы его третий сын пошёл по гражданской линии, и отправился добровольцем в армию. Захотел быть «Павлоком», – так называли офицеров, которые окачивали Павловское военное училище. Там воспитывались преимущественно дети аристократов. Когда я приехал в запасный полк, князь Д. там уже был в учебной команде на должности младшего офицера. Прошло меньше месяца, и для пользы службы приказом по полку я был переведён в учебную команду на должность старшего офицера. Никаких заслуг по полку у меня в послужном списке не было, кроме тех успехов, что были отмечены в Школе прапорщиков. В аттестате моём было указано: «отлично», и это слово – «отлично» – способствовало моему продвижению по службе.
В запасных полках, которые остались на местах кадровых полков, ушедших на фронт, первое время не было хороших кадровых офицеров. Также не было и хорошего унтер-офицерского состава: люди в полк были призваны по мобилизации из запаса. На должностях командиров рот были прапорщики запаса, большинство из них – юристы, которые со своей укоренившейся в их натуре профессией мало походили на военных. Правда, из них получались хорошие администраторы и экономисты, но не командиры рот. Командиры запасных полков были, в основном, полковники, они больше внимания обращали на подготовку молодых офицеров и следили за обучением солдат из запаса. Начальником учебной команды был прапорщик запаса Б. Человек этот был тоже юрист – столичный адвокат, на военного совсем не похожий. С первых же дней моего вступления в свои прямые обязанности всю ответственность и все заботы по подготовке чинов команды прапорщик Б. возложил на меня, и мне пришлось играть в этом деле руководящую роль.
Здесь я и сблизился с князем Д. Он, побуждаемый глубоким чувством патриотизма, не мог, как говорится, спустя рукава относиться к военному делу и очень переживал за любые неуспехи по обучению своего взвода. Князь привязался и доверился мне как старшему начальнику, стремясь получить от меня полезные советы и указания. Наш возраст был неравен: ему был только двадцать один год, а мне – уже двадцать шесть, и возможно, он воспринимал меня как человека практически более опытного, чем был сам. По всей вероятности, так и было, и он смог найти во мне интересного больше, чем я нашёл в нём.
Этот молодой человек как будто по какой-то злой воле попал в военную мясорубку – и вот, мучительно ломал голову: как бы принести больше пользы своему Отечеству. Он ещё не знал, где ему доведётся быть, в тылу или на фронте, и это незнание часто терзало его. Душевно успокаивался он на несколько дней только после офицерских занятий, которые для нас раз в неделю проводил командир полка.
Во время своих занятий с нами полковник С. приводил много примеров того, как гибнут в бою молодые неопытные офицеры, слабо подготовленные в военном искусстве и не знающие свой манёвр[80].
Он говорил: «Многие господа офицеры подают мне рапорты об отправке их на фронт, мотивируя это тем, что в тылу они прозябают и хотят в действующую армию, где, как они полагают, принесут больше пользы, чем здесь. Такие взгляды ошибочны. Действующая армия без офицерских кадров в тылу не сможет представлять реальную угрозу врагу. Здесь она готовит пополнения для действующих полков, которые нуждаются в этом. И вопрос растяжимый, кто и где больше сможет принести пользы – в тылу или на фронте». Выслушав полковника, мой князь Д. опять с двойным усердием брался за своё дело.
Кроме не усыпающего патриотизма в нём было очень много интересного для меня. Прежде всего, князь Д. был девственник. Когда офицеры предлагали познакомить его со своими знакомыми барышнями, князь Д. краснел как маков цвет, несмотря на то, что был прекрасный танцор. Наружность его была обаятельна, даже отчасти женственна; по всему виду своему и по естественному для себя поведению он не производил впечатления сурового воина-мужчины. Солдат, как во множественном числе, так и в единственном, называл он «голубчики», «голубчик». Помимо институтских наук был очень начитан, причём в области и русской, и иностранной литературы. Тексты Гёте, Байрона, Шекспира знал так, как мы, заучивши стихотворение Пушкина наизусть. Он свободно разбирал классиков, делая им оценку и сравнение с западниками, так что не раз приходилось мне удивляться его способностям. В совершенстве знал языки: французский, английский, немецкий и латынь. Оказывается, чтобы легче усваивать иностранные языки в разговорном отношении, у них дома существовал такой порядок: один день вся семья между собою говорила на французском языке, другой день – на английском, третий день – на немецком, а остальные дни на русском.
Когда князь Д. писал письма своим родным, то всегда обращался так: «дорогой батюшка», «дорогая матушка», «милый братец». Это доступно было знать мне по его личной наивности и потому, что он был ко мне очень привязан, всем со мною делился и во всём доверял мне. Бывало часто, что князь, написав письмо своему отцу, предлагал мне: «Я Вам прочту его…». И хотя, смущаясь такой откровенностью, я вежливо просил его этого не делать, он настаивал и всё-таки прочитывал своё послание вслух, поясняя: «Сейчас время военное, вдруг я напишу какую-нибудь глупость и смогу этим огорчить батюшку». Князь не пил и не курил, а вот без сладостей не ходил. Так удивительно сочетались в его личности огромный кругозор зрелого интеллигентного человека и искренность доверчивой души, в которой проглядывало детство.
После выпуска учебной команды начальник отдельной бригады генерал-майор К. особенно благодарил офицеров команды с занесением в послужной список за хорошее обучение чинов учебной команды. Кроме того, большой наградой для всех нас было представление к производству в подпоручики.
После таких успехов по службе у юного князя Д. было столько восторга! Он точно походил на Петю Ростова, которого принял к себе в отряд Долохов. В скором времени старший брат князя, служивший в одном из гвардейских полков, вызвал его к себе на фронт. Лишь одно письмо получил я от князя после его отъезда. И, увы, вскоре (прошло, наверное, не более двух месяцев с того момента) в «Русском инвалиде» я прочёл: «Подпоручик князь Д. без вести пропал, тут же – его фотография»… Не стало красавца-юноши, который многих и многое мог бы ещё осветить чистотой своего нравственного поведения и искренней любовью к ближним, любовью – без всякого различия классов…
* * *
Какую бы ни приносил пользу для армии офицер, находящийся в запасных тыловых частях, мы все были одного мнения: положение, когда я служу в армии, не находясь на фронте, равно «Я – У», что в переводе общеупотребительный язык означало: «я – устроился». И это нас не устраивало. Все мы считали единодушно, что для нас это – позор. Боялись: вот, кончится война, а я не был на фронте, не нюхал пороха и боевых наград не буду иметь…
Так называемая «общественность», в особенности интеллигенция, которая не втянута была в войну и не несла воинской повинности, всегда критически относилась к военным событиям. Многие из называвших себя «народниками» говорили, что война – это варварское уничтожение людей; что она несёт только слёзы и разруху, что она никому не нужна, кроме капиталистов, которые в войну только наращивают свои капиталы. Однако же, как бы ни относились эти критики к войне, а и они вместе с иными людьми толпами собирались в тылу у витрин больших магазинов, где были развешены топографические карты, на которых отмечались красными флажками позиции противника и наши позиции. И так же ликовали, так же радовались, когда сводка сообщала о нашей победе.
Офицер не так думал и говорил о войне, как думали и говорили «народники», ибо всякий офицер на войну смотрел совершенно иначе, так сказать, «через другую призму» – как воин. Он рассуждал так: война плодит героев; война пробуждает народы от спячки; война – двигатель культуры; в войне есть смысл жизни, который в обстоятельствах войны становится особенно ясен. Воин не боится смерти: если и суждено ему умереть, так умереть – как герою. Вот и осуждайте его… Он думал так, чётко и внятно, он не любил политику, и для него лучше было оказаться политически безграмотным, чем потерять честь офицера, которой он так дорожил.
Трижды вызывал меня к себе командир полка и настаивал, чтобы свой рапорт я забрал и выбросил бы из головы мысль о поездке в действующую армию. Он укорял меня: «У Вас в роте (а я уже в то время был на должности командира кадровой роты) семь литерных рот, которые нуждаются в военной подготовке[81]. Эти люди только прибыли к нам в расположение и сейчас представляют собою сырой материал, а их надо сделать солдатами, чтобы они были защитниками своего Отечества. Ввиду этого я не могу отпустить Вас от себя. Этот рапорт – Ваш каприз! Потрудитесь же исполнять мои приказания», – добавил он уже сильно повышенным тоном.
Я вынужден был подчиниться, но всё же, не упустив случая, попросил командира полка после отправки пяти маршевых рот, которые уже были обмундированы, но недостаточно ещё подготовлены в строевом отношении, выехать в одиночном порядке на фронт, на что дал он мне своё согласие. Несмотря на это согласие, шансов на выезд в действующую армию у меня было всё же мало. Самое важное: надо было сдать кому-то роту, а командир наш младшим офицерам мало доверял и не видел среди них никого, кто бы мог встать на моё место.
К моему счастью, выписался из госпиталя поручик С., который уже изрядно понюхал пороху. Он был продырявлен тремя пулемётными очередями без повреждения костей и, хотя ходил ещё с палочкой, но уже начал изнывать от тоски по своему полку, и тянуло его обратно на фронт. В рапорте своём он просил начальника гарнизона, чтобы его освидетельствовала медицинская комиссия: пригоден ли он будет по состоянию здоровья для отправки на фронт. Комиссия признала, что пока он может занимать только нестроевую[82] должность и продолжать службу в тылу, не оставляя амбулаторного лечения, в коем имеет необходимую нужду.
Как говорят, из всякого положения есть выход, так и здесь вышло. Опытный командир полка дал поручику С. льготы: не утруждать себя строевыми занятиями, иметь для этого из младших офицеров себе заместителя, который будет роту представлять на смотры, а сам он будет в административном отношении хозяином роты. И этим самым вопрос о сдаче роты у меня был решён. Я стал свободный человек, для меня как будто открылись новые пути – пути к доблести, к славе. Но когда это всё ещё будет? Скорее, скорее – на фронт, за наградами!.. Словом, за тем, чего в тылу не сможешь заслужить. Правда, за выпуск учебной команды получил я вне очереди, то есть раньше срока выслуги, производство в подпоручики (думаю, что за подготовку пяти маршевых рот) и орден «Станислава III степени с мечами и бантом»[83]. В представлении к ордену не было сказано точно, за что именно, а просто указывалось, что за усердную службу. Но то орден!.. А где же мой Георгиевский крест или Георгиевское оружие? Надо скорее ехать на фронт!..
Мой заместитель поручик С., видимо, был не из трусливых – кадровый офицер, участвовал несколько раз в атаках, имел ордена: «Анну IV степени за храбрость»[84], «Владимира IV степени с мечами и бантом»[85] и был представлен к Георгиевскому оружию. Георгиевское оружие нас прельщало потому, что оно носило звучное наименование и было золотым (то есть эфес у шашки был золотой, а клинок, конечно, был стальной).
Несколько вечеров кряду мы с поручиком С. просидели, беседуя, далеко за полночь. Я его расспрашивал, какое действие производят бои на солдат и на офицеров, а он мне особенно подчеркнул, на что именно нужно обращать внимание офицеру, впервые участвующему в бою. На фронте, поведал он, выработана своя терминология. Например, «боевое крещение» – это значит, что офицер впервые принимает участие в бою, и этот бой он должен провести как можно спокойнее, не выказывая растерянности. «Если первый бой свой Вы проведёте спокойно, можно тогда сказать, что для будущих боёв успех уже предрешён: Вы уже закрепили авторитет в глазах своих подчинённых, – пояснял он, – а если проявили растерянность, то переживёте мучительный стыд».
Очень добродушный старичок – призванный из отставки генерал-майор К., начальник гарнизона – принял нас, одиннадцать человек, отправляющихся из нашего полка на фронт. Принял ласково, с отцовской слезой. Мою фамилию он хорошо помнил ещё по учебной команде, а может быть, командир полка ему напомнил.
Генерал-майор дал нам кое-какие указания, а особенно говорил: «Люби́те солдат, дорожите их жизнью, будьте им отцом. Они могут привести вас к победе, а если вас ранят, то из какого угодно огня они вынесут вас… Предписание сейчас получите у адъютанта – я распорядился, чтобы с получением предписания все вы могли отдохнуть недельку; если же у кого поблизости есть родные, можете к ним заехать. А дальше – с Богом в путь!..». Облобызал нас троекратно по-христиански и опять прослезился.
В штабе сорок седьмого корпуса на румынском фронте мы успели только пообедать, как адъютант оперативной части уже принёс предписание отправиться нам в четвёртую дивизию, которая стояла на передовых позициях.
* * *
До штаба четвёртой дивизии добрались на подводах на второй день к одиннадцати часам дня. Пока в штабе оперативного отдела сдавали свои послужные списки, которые просматривал начальник штаба, было уже около полудня. В двенадцать часов пригласили нас на обед.
Столовая помещалась в каком-то сарае, вроде большого гаража, одна короткая стена у которого совсем отсутствовала – разрушена была немецким снарядом. Когда мы пришли, за столом уже сидело не менее тридцати человек, большинство из них – чиновники военного времени, а остальные – офицеры. На председательском месте находился полковник с бородой в простой солдатской гимнастёрке. Ещё не успели подать первое блюдо, как к нашему сараю подкатил легковой экипаж с одной дамой и кучером. Сидящий с краю стола офицер по знаку полковника быстро вышел к даме, и дама, не выходя из экипажа, начала что-то картавить по-французски. Офицер оказался не силён во французском языке и доложил об этом полковнику. «Господа офицеры, кто хорошо говорит по-французски?», – обратился полковник к сидящим за столом офицерам. Встаёт прапорщик Л. и направляется к даме. Переговоры у них продолжались не более трёх минут, вернее, не переговоры даже, а он только выслушал её: кто она, и что ей нужно. После чего подходит к полковнику и говорит: «Эта дама приехала от французского благотворительного общества, у неё идут сюда подводы с подарками для солдат, и ей по этому поводу нужно видеть старшего начальника». Полковник с бородой быстро встал, застегнул воротник у рубашки (между прочим, он всем разрешил, кто желает, расстегнуть воротники за обедом, потому как тогда была сильная жара) и пошёл к даме. Элегантно пригласил её к столу, посадив с собою рядом, и они начали разговаривать на французском языке.
Почему я стал рассказывать про этот обыкновенный обед, какие бывают в прифронтовой полосе? Только лишь потому, что прапорщик Л. – наш однополчанин, и он приехал с нами в числе одиннадцати из нашего запасного полка. Этот прапорщик Л. был очень оригинальный человек, и в полку он для нас был загадкой. Мы частенько говорили между собой, недоумевая: «Как он мог окончить военное училище?» (а он носил значок Московского Александровского училища[86]). Во-первых, он был очень низкого роста, сутуловатый, во время ходьбы раскачивался, а во время отдачи чести склонялся на левый бок – и таким образом окончательно свою и так незадачливую фигуру приводил в карикатурный вид. Выражение лица его было безжизненное, в глазах – усталость и безразличие ко всему окружающему. Никогда ни с кем он не говорил, а приходя в столовую, обязательно спрашивал у рядом сидящего: «Это место не занято?» и больше вы его не услышите. Одевался небрежно: то пуговица у рубашки не застёгнута, то поясной ремень перекосился так, что шашка тычется ножкой в пол, а фуражка своей тульёй[87] нырнёт вперёд, а сзади торчит вверх… Когда у нас в полку раз в неделю по вечерам бывали офицерские занятия – занятия исключительно тактические, производимые самим командиром полка, – тогда прапорщик Л. особенно привлекал наше внимание. Полковник С. любил подтянуть офицеров и в особенности обращал внимание на тех, кто неряшливо одет или не чётко на его вопросы отвечает, а также не терпел тех, у кого плохая дикция. А прапорщик Л. как раз все эти недостатки в себе объединял и частенько на тактических занятиях становился объектом общего внимания. Полковник С. даст, бывало, ему задачу: «Прапорщик Л., вот, к примеру, Вы – командир роты, противник занял вон ту рощу силами в количестве одной роты. Я приказываю Вам занять эту рощу своей ротой, действуйте!..». Л., не торопясь, встаёт, тихими шагами подходит к командиру полка, приложив руку к головному убору, оттопырив мизинец правой руки и согнув три средние пальца. И, склонясь на левый бок, отвечает: «Господин полковник, я не могу выполнить Ваше приказание. Я чувствую себя сегодня нехорошо и к занятиям не подготовился». Конечно, такой ответ был вопреки воинской дисциплине. Подобные ответы, очевидно, допускались в аудитории университетов, а отнюдь не на военной службе. В такие моменты мы сидели словно наэлектризованные, ожидая, ка́к будет на такой ответ реагировать наш полковник. Ведь вся-то сила в армии созидается на воинской дисциплине и на абсолютном исполнении приказаний. К нашему удивлению, у полковника только начинал прыгать живчик на левой щеке, и было слышно, как, будто не своим голосом, он произнёс: «Идите на своё место». А как ему хотелось – это было видно – продемонстрировать на Л. перед офицерами полка всю его неряшливость и незнание им воинской дисциплины, но что-то удерживало его. Что – нам неизвестно…
На второй день утром мы с прапорщиком Л. расстались. По распоряжению начальника штаба прапорщика Л. для пользы службы оставили при штабе дивизии, а нас распорядились отправить по полкам. Когда адъютант возвращал нам наши послужные списки, вслух прочёл он нам и послужной список прапорщика Л. Оказывается, тот был потомственным дворянином, окончившим филологический факультет и Институт восточных языков, в совершенстве знал французский, немецкий и английский языки. Конечно, такой человек будет нужен для штаба. После этого только мы и сообразили, почему гроза – наш командир полка – в обращении с Л. был сверх своих сил корректен…
* * *
На следующий день с подпоручиком П. мы уже пробирались по ходу сообщения на передовую линию в землянку к командиру 242-го Луковского полка[88] для представления. Застали его в землянке сидящим за массивным деревянным деревенским столом и склонившимся над большой топографической картой. Когда отдавали ему словесный рапорт о прибытии во вверенный ему полк, он с места не встал (нас это привело тогда некоторое смущение), но внимательно выслушал нас, каждого в отдельности. Может быть, с места не встал потому, что потолок был в землянке низкий, и высокому человеку – такому, как я – надо было склонять голову, а он был моего роста. Потом я вспомнил, что в боевой обстановке даже уставом запрещено вставать на ноги при рапорте, чтобы не обнаружить цель противнику.
Командир указал нам на скамью, предлагая садиться, а сам опять уткнулся в карту, на которой, как видно, изучал участок укреплённой полосы противника. Он часто левой рукой гладил шею и быстрыми рывками что-то с неё сгребал – нам было слышно: что-то валилось, вернее, сыпалось на карту – что-то вроде песка. Вдруг он резко поднял голову, заулыбался: «Не удивляйтесь, господа. Это паразиты, скоро они и вас будут есть… Такова окопная жизнь».
Наружный вид он имел следующий: простая солдатская гимнастёрка защитного цвета, воротник расстёгнут до живота, грудь покрыта волосом. Всё это было далеко не привлекательно (сразу возникал в памяти образ полковника С., который всегда был одет безукоризненно в китель военного покроя с блестящими золотыми погонами). Но остальное всё представляло большой контраст: большие голубые глаза всегда улыбаются, когда смотрят на вас и выражают неисчерпаемую доброту; гладко выбритое лицо, мягкий приятый баритон, – никогда не подумаешь, что этот человек может послать на верную смерть подчинённых ему людей.
Свернув топографическую карту вчетверо, командир подал её рядом стоящему адъютанту и сказал: «Распорядитесь, чтобы подали чайку». Чай был принесён из соседней землянки, где помещались вестовые и связь. К чаю было подано: на одной тарелке чёрный ржаной хлеб, причём корки отделены от мякиша, а на другой тарелке наломанный кусками шоколад (вкуса превосходного, очевидно, из гвардейского экономического общества), а также флакон с притёртой пробкой с лимонной кислотой.
За чаем командир расспрашивал нас о тыловой жизни. Больше всего о настроении публики, о театрах, но – ни одного вопроса о запасных полках, о подготовке маршевых рот, которые всё время шли на пополнение полков, находящихся на фронте. Всё это нам показалось странным, как будто мы представились не командиру полка, а частному лицу, которого военная жизнь и наука совсем не интересует, или – случайно заброшенному в лес схимнику, который не знает, что́ в мире делается.
Закончили чаепитие. Неожиданно для нас мягким и ласковым тоном командир произнёс: «Голубчики, вы идите отсюда в обоз первого разряда. Туда позвонит адъютант, чтобы дали вам двуколку. И вы уедете в обоз второго разряда, там отдыхайте, а когда будет нужно, вас вызовут. Назначения я вам не делаю потому, что на этих днях получил приказ быть готовым к наступлению. А после боя вас определю, кого в какую роту. С Богом!..», – пожал руку, и мы ушли от начальника, от которого зависела наша судьба.
В обозе второго разряда, кроме начальника хозяйственной части, офицеров не было, а были, преимущественно, чиновники по хозяйственной и строевой части. Надо заметить, заядлые были преферансисты. Многие из них были слабыми игроками в паре, так что почти всё время оказывались козлами отпущения. Если мы потом играли с ними, то выигрыш у нас был обеспечен.
Здесь пришлось вспомнить поручика С., который предупреждал: «Самое главное на фронте – провести “боевое крещение”. Провести его так, чтобы не показать, что ты боишься или расстраиваешься». А тут нам было очень странно, что скоро наши части пойдут в наступление, а командир полка не отправляет нас в тыл, куда изредка залетают немецкие тяжёлые семнадцатидюймовые снаряды, за размер и форму с особым юмором именуемые нашими воинами «чемоданы»[89].
Нам неведомо, отчего командир так поступил с нами: то ли пока не доверял нам солдат – как вновь приехавшим на фронт и ещё «не обстрелянным», то ли ждал, каков будет исход боя и, соответственно ему, какую нужно будет пополнить роту. Приходилось только гадать.
Офицерский состав в полку был очень мал. Младших офицеров во всех шестнадцати ротах было всего четверо: из шестнадцати командиров рот – в чине поручика был один, подпоручиков – шесть, а остальные девять командиров рот были в чине прапорщиков. Старые кадровые офицеры в первых же боях были выведены из строя: кто-то из них был убит, кто-то без вести пропал, кто тяжело ранен и находился на излечении. Учитывая всё это, нам казалось, что сидеть здесь и не участвовать в наступлении – преступление.
Через несколько дней пошли упорные слухи, что скоро закончится перегруппировка воинских частей, да и установка тяжёлых батарей уже подходит к концу – значит, наступление не за горами.
* * *
…Мы проснулись с П., вышли на улицу умыться – видим, бежит чиновник по строевой части, который в тылу полка замещал адъютанта и писал приказы по полку. По секрету нам сообщает: завтра с четырёх утра начнётся. А что начнётся – больше ничего не сказал.
Действительно, перед рассветом открылась артиллерийская канонада, и длилась она ровно двадцать четыре часа. Противник, чтобы заставить замолчать наши батареи, тоже открыл ураганный огонь изо всех своих тяжёлых и лёгких батарей. Тяжёлые снаряды противника, нащупывающего наши батареи, ложились от нас в двух-трёх километрах, отчего у нас вместо дня стояла будто тёмная ночь. Все эти сутки мы не спали, смотрели вперёд с наблюдательной вышки, и каждый думал: «Нет, там уже ничего не осталось живого – всё погребено». На двух верстах[90] участка фронта у нас было сосредоточено около ста шестидесяти тяжёлых батарей – мортир[91] и гаубиц[92], и около ста сорока трёхдюймовых пушек – лёгкой полевой артиллерии; всего было поставлено около трёхсот пушек.
На вторые сутки в четыре часа утра канонада внезапно стихла. Приблизительно к шести часам начало немного прояснивать, а в десять часов от нас уже было видно красное-красное, какого-то кровяного цвета солнце. Потянулись в одиночном порядке и небольшими группами раненые. А уже в одиннадцать повели группы пленных болгар и немцев. Причём у болгар лица были весёлые, даже радостные, а у немцев – лица злые, в глаза нам они не смотрели, не разговаривали, даже отворачивались.
В этот же день около двух часов дня я уже получил предписание явиться в распоряжение командира второй роты, а подпоручику П. – явиться в двенадцатую роту. Вторая рота в этом бою не принимала участия в атаке, весь первый батальон был в резерве, а принимали участие второй, третий и четвёртый батальоны.
Командира второй роты я ещё не видел до сего времени, несмотря на то, что в полку уже околачивался около недели. Зашёл к нему в землянку, вижу – спиной ко мне стоит человек, на нём солдатская шинель, накинутая на плечи, погон не видно. Этот человек разговаривает с кем-то. Я обратился к нему: «Могу ли я видеть командира второй роты?». Он повернулся ко мне лицом: «Я командир роты». Не рассматривая, кто там сидит, я ему представился и подал предписание. Он не замедлил меня представить сидящему в углу землянки офицеру, тот быстро встал и отрекомендовался: «Подпоручик Г.». Командир роты добавил: «Герой сегодняшнего боя!..». Подпоручик Г., склонив голову, произнёс: «Не надо преувеличивать»…
Мой непосредственный начальник, командир роты, был в чине прапорщика, ускоренного выпуска Киевского военного училища[93]. На фронте уже больше года, ротой командует десять месяцев, не имея ни чинов, ни орденов. В разговоре с ним я заметил, что всякий интерес к военной службе в нём угас, как будто кто-то его обидел или недооценил его заслуги перед Отечеством. Командир роты махнул рукой и устало произнёс: «Вот, хотя бы поручик Г. (подпоручик был не в чине поручика, но принято всегда было называть подполковника – полковник, штабс-капитана – капитан, подпоручика – поручик: так легче, и соблюдалась вежливость, и не умалялось достоинство человека), – да, поручик Г. отличился сегодня в бою со своей ротой, взял в плен целую роту противника вместе с командиром роты и одним младшим офицером. А что, Вы думаете, он за это получит? Кроме благодарности и приказа по полку – больше ничего. А по статусу должен получить Георгиевское оружие!.. Г., может быть, ещё питает надежду получить законную награду, но это потому, что он не знает наших существующих нынче порядков в полку. Он роту принял всего три недели тому назад, а в полку на фронте – всего один месяц. Не знает он и того, что кто ничего не делает – тот и получает награды. У нас был тут “знаменитый” полковой адъютант. Будучи адъютантом, он нахватал себе орденов и чинов до подполковника, а сейчас – уже командир третьего батальона. То есть подразумевается, что все успехи, какие имел полк, зависели от его рекогносцировки. Не командовал он ни одного дня ротой, а из адъютантов сразу принял батальон. И командир полка – у него на поводу… Как видно, ничего самостоятельно не решает».
По той причине, что наш батальон был во время боя в резерве, на него свалилась теперь немаловажная задача. Был отдан приказ: «Сегодня ночью первому батальону снабдить патронами второй, третий и четвёртый батальоны, которые заняли новые позиции между второй и третьей линией окопов противника».
Конструктивно строили окопы по сходному типу – как у нас, так и у противника. Всего окопы имели три линии. Первая линия окопов обращена к стороне противника; позади неё, от одного километра до полутора – вторая линия окопов; отступив такое же расстояние – третья линия окопов. Все три линии окопов соединены ходами сообщения, и все эти окопы имели название «укреплённая полоса». Всю укреплённую полосу противника наши части не смогли занять, между второй и третьей линией принуждены были остановиться и окапываться. Ясно, что после такого боя все боеприпасы были уже израсходованы, и воины были принуждены лежать в окопах, не поднимая головы, без единого выстрела…
Мой командир роты объявил себя больным и вместо себя назначил меня вести роту. По списку в роте было в то время 128 человек, а со мною пошло 96 человек: из остальных кто-то был в наряде, а некоторые – больны.
На указанном мне пункте получил 192 коробки патронов, в каждой коробке по триста штук, всего – 57 600 штук. По ходам сообщения добрался на командный пункт, где находился командир третьей батареи батальона. Это был тот самый подполковник, о котором так нелестно отзывался мой командир роты. Хотя по разрушенным ходам сообщения роту я довёл в том же составе, в каком она и вышла, но потери были: у нас оказалось двое раненых; впрочем, и они дошли сами, без помощи санитаров.
Командира батальона застал я сидящим в окопе, над ним был сооружён маленький блиндаж из камыша, сверху тонким слоем засыпанного землёй. Этот блиндаж нисколько не защищал от снарядов и от тяжёлых осколков, а лишь предохранял от гальки и земли, которые сыпались с бруствера.
Доложил командиру о своём прибытии, о количестве людей и патронов. Он в упор посмотрел на меня, потом обвёл глазами с ног до головы при свете электрического фонарика (свечки, светившей слабо, ему, видимо, показалось мало) и произнёс: «Патроны не мне нужны, а моему батальону, который лежит под носом у противника!..». Последние слова проговорил громко и со злостью, как будто его батальон лежит под носом у противника по моей вине.
Когда человек находится в тяжёлом или даже просто в весьма затруднительном положении, мысли у него работают молниеносно. То же получилось и со мной. Всё, что сказал мне мой командир роты о человеке, с которым я теперь столкнулся, очевидно, оказалось правдой. И у меня быстро созрело желание парировать несправедливый упрёк, опровергнув нападки. Но как я мог это сделать? Единственно – показав на деле, что я не трус. Зная, что командир обязан поддерживать живую связь со своим батальоном, а значит, должен определённо знать для этого путь, я спросил его, каким путём нам следует продвигаться. Он указал: «Если отсюда идти прямо на выстрелы противника, то расстояние будет семьсот пятьдесят шагов; если идти по ходу сообщения – будет около двух тысяч шагов, и это второй путь. Из этих двух путей выбирайте сами». После этого посмотрел на меня и говорит: «О, да Вы, я вижу, только что прибыли в полк…», – из чего я заключил, что скрытая мысль его была такова: «Вы трус, и я теперь над Вами поиздеваюсь». Всё это принял я за оскорбление, и мгновенное моё решение – избрать короткий путь – осталось только привести в исполнение. «Дайте мне двух солдат и проводника для связи», – сказал я. Двух человек он мне дал.
…Я приказал фельдфебелю: «Стой здесь, пока вся рота гуськом, цепочкой в затылок с дистанцией в один шаг не пройдёт мимо тебя, а потом за ними иди, и ты». Сам я выскочил на бруствер окопа и скомандовал: «Рота, за мной!..».
Противник усиленно обстреливал весь район. Ружейных выстрелов было мало, обстрел вёлся почти исключительно из пулемётов, причём так систематизировано, что ни одной, кажется, сажени[94] по фронту не было не обстрелянной – всё сплошь находилось под пулями каждые пять минут. Кроме этого беспрерывно очередями противник обстреливал нашу пехоту артиллерийским шрапнельным[95] огнём, защищая себя, свои позиции. Он не давал нашим войскам производить окопные работы и накапливать силы, которые могли бы повторной атакой выбить противника из третьей линии его окопов.
Моё и моей роты продвижение вперёд было чрезвычайно медленным. Передвигаться приходилось мелкими перебежками, так как через каждые десять минут противник выпускал светящуюся ракету. В это время сильно освещалась местность, и мы становились для противника уже видимой целью. В это время все мы спешно ложились и не вставали до тех пор, пока не наступит темнота. А в общем мы остались в живых только потому, что местность была покрыта мелким камышом и высокими кочками, а если б этого не было, нас в течение десяти минут всех бы расстреляли.
Здесь-то я и принял своё «боевое крещение», здесь и вспомнил слова командира нашего запасного полка полковника С.: «При неопытности и непонимании своего манёвра можешь погибнуть сам и погубить людей, судьба которых в твоих руках». На короткое время обуял меня страх – страх не за свою жизнь, а за жизни своих людей, которые безропотно мне повиновались: пошли в это пекло свинцового огня, можно сказать – на верную смерть. А я ради своего тщеславия, ради желания не показать себя трусом избрал для своей роты самый опасный путь под обстрелом, пренебрегая жизнями своих подчинённых!..
Патроны были доставлены, и взяты были расписки о приёмке патронов командирами рот третьего батальона, и под тем же ураганным огнём возвратился я к командиру третьего батальона. Со мной возвратился только тридцать один человек, а где же остальные? Всё было покрыто ночной темнотой. Когда я увидел, что людей вернулось со мной так мало, у меня явилась внутри такая злость по отношению к командиру батальона, что я не замедлил ему отпарировать за то оскорбление, которое он выразил в своих словах, отвечая на мой вопрос о выборе пути доставки патронов. Я подыскал веский аргумент: «Я подам на Вас рапорт командиру полка! Вы не обеспечили меня проводниками, которые обязаны знать этот путь. А ваши проводники от меня позорно убежали, прикрываясь ночной темнотой, из-за чего я не мог быстро продвигаться и, похоже, потерял шестьдесят процентов из состава моей роты», – отчеканил я, повернулся и, не дожидаясь его ответа, ушёл с остатками роты.
Прихожу в расположении роты и в окопе на левом фланге слышу разговор солдат между собой: «Жаль нашего поручика, наверное, он убит. Он такой отчаянный – пулемёты строчат, а он ходит, не ложится, ищет, кого куда ранило…». В землянке, слышу, командир роты даёт распоряжение фельдфебелю: «Как только начнёт рассветать, немедленно отправь всех раненых с санитарами на медицинский пункт в полевой госпиталь». Оказалось, шестьдесят три человека моих вернулись с фельдфебелем через ходы сообщения, а двое раненых с санитаром пришли ещё с вечера.
Всех раненых оказалось тридцать три человека, убитых, слава Богу, не было ни одного. Не смогли нести тяжёлые коробки с патронами одиннадцать человек. Восемьдесят пять человек несли по две коробки – итого сто семьдесят коробок было доставлено нами на передовую линию. Таким образом, всего на передовую линию доставили 51 000 патронов.
В десять часов утра уже были известны потери третьей роты: убитых и раненых – 51 человек; потери четвёртой роты – 49 человек, а патронов обе эти роты доставили на передовую только 48 000 – то есть меньше, чем мы одной нашей ротой.
Здесь кажется довольно странным вот что. Из нашего полка наступали три батальона на укреплённые окопы противника, и они понесли потери убитыми и ранеными 117 человек. А в трёх ротах, которые не участвовали в атаке, а участвовали только в доставке патронов, потери оказались больше – 133 человека. Военному человеку трудно в это поверить, но это так.
Цель высшего командования, конечно, нам была понятна. Ясно, почему оно держало наши батальоны под носом у противника без боевых патронов и без надлежащего укрытия. Планировалось не оставить позиции, а с наступлением темноты подтянуть резервы, собрать вместе накопленные силы и, в ночное же время атаковав противника, совершить прорыв. Прорыв укреплённой полосы неизбежно привёл бы к крупному поражению противника, справа и слева находящиеся в окопах его части понесли бы огромные потери от нашего флангового огня, и должно было последовать массовое отступление врага. Но всё это противник учёл и не дал нам успешно завершить намеченный манёвр.
Когда я узнал, что в роту вернулись мои шестьдесят три человека, то успокоился, но простить себе не мог того, что так много оказалось раненых. Эти потери я приписал себе, несдержанности своей, поскольку так необдуманно повёл людей по открытой местности. Командир роты не сделал мне ни упрёка, ни замечания, а напротив, успокаивал, говоря: «Командир батальона мог бы и не давать права на выбор, по какому пути Вы должны идти, а просто приказал бы: идите здесь. И Вы были бы обязаны подчиниться ему». Когда я ему рассказал, что хочу подать рапорт на командира батальона за то, что он дал мне таких ненадёжных проводников, которые не знали местности и в ночной темноте позорно сбежали от меня, намерение моё он не одобрил, сказал: «Он Вас съест. Найдёт для себя оправдание, а Вас обвинит – и ему, а не Вам будет вера».
Конечно, моя вспыльчивость в обращении с командиром батальона нарушила мой покой. Во-первых, я не имел опыта и выдержки в боевом отношении. Второе, не имел я пока что и авторитета среди тех солдат, которые были доверены мне. Третье, проявил храбрость безрассудно, лишь для того, чтобы все могли видеть, что я не трус. А что касается обязанности помнить о том, что впереди лежит наш батальон под огнём противника и без патронов, то об этом я и не думал. Четвёртое, за дерзкое отношение в разговоре с командиром батальона я мог понести дисциплинарное наказание. И всё вместе взятое не делало мне чести…
Бои кончились, обе стороны приступили к восстановлению разрушенных окопов. Наш полк сменили, и он был отведён в глубокий тыл на месячный отдых. Здесь только мне представилась возможность познакомиться со всеми офицерами полка. Я выбросил из своей головы мысль подавать рапорт командиру полка на командира батальона – и, наоборот, сам ждал, когда меня вызовет командир на объяснение. Если б я начал это дело, тогда бы определённо должен был понести дисциплинарное наказание за нарушение субординации. На самом же деле всё вышло не так, как я ожидал.
После строевых занятий приходит как-то вестовой от командира батальона: «Ваше благородие, командир батальона просит Вас сейчас же к нему прийти», – и ушёл. Мы с командиром роты переглянулись, и он говорит: «Наверно, на объяснение. Советую Вам: какую линию намерены были вести раньше, на том и стойте. Легче разговаривать с командиром полка, чем с этим господином».
Прихожу к командиру батальона. В деревенской румынской избе в горнице[96] накрыт был стол, на столе сервирована закуска и выпивка из неплохих румынских вин, а в другой стороне комнаты – стол для преферанса с приготовленной бумагой для записей и двумя колодами новых карт, ещё не раскупоренных. Не только учтиво, но даже с приторной любезностью встретил меня командир батальона, взял под руку, провёл в горницу и представил меня ещё двум командирам рот, которые были из его батальона: «Я слышал, Вы хорошо играете в преферанс, поэтому, полагаю, Вы нам доставите большое удовольствие, маэстро. А сначала прошу к столу подкрепиться». С этого дня я стал у него постоянным гостем, и ни словом он не обмолвился никогда о нашем знакомстве под шрапнельным огнём и под градом пулемётных пуль.
Мой командир роты долго удивлялся, как мог этот зверь простить мне такую дерзкую выходку в отношении него, когда всех офицеров полка он держал в страхе, ещё будучи адъютантом. Вообще этот подполковник для всех офицеров полка был загадкой. Много ходило о нём слухов, будто б он имеет большие связи и в тылу, и в штабах действующей армии, поэтому и добродушный командир полка был у него на поводу.
* * *
Не прошло и месяца, который дан был для отдыха полка, как приказом по дивизии я был командирован в штаб дивизии для принятия учебной команды. Сформировал её поручик Г. Что-то с ним случилось: заболел и уехал в тыл на излечение, а учебную команду его пришлось принять мне. Состав её был двести сорок человек, а офицеров было только четверо; причём старшего офицера, помощника мне – не было. Наблюдающим за учебной командой был назначен подполковник Д. Человек он был тяжелораненый: нижняя челюсть совершенно отваливалась, и рот раскрывался, из-за чего изо рта текла слюна, и говорить он совсем не мог, а для того, чтобы говорить, он всё время носил на челюсти поддерживающую повязку. Действительно, на фронте были настоящие патриоты. Например, этот подполковник Д. был после ранения стопроцентный инвалид: питался только жидкой пищей, так как нельзя ему было жевать, а с фронта всё равно не хотел уходить, стараясь хоть небольшую, но – принести пользу Отечеству. И он, само его присутствие, действительно, здесь было нужно.
Из штаба корпуса присланы были сто пятьдесят два молодых офицера ускоренного курса сроком на шесть недель для прохождения полевых занятий, которые нельзя было проводить без теоретической подготовки. Подполковник Д. был генштабист и хороший теоретик, он вносил много нового в устав полевой службы при окопной войне, и коррективы его были очень нужны и полезны. Он не мог громко и отчётливо произносить фразы, речь его была отрывистая, он щёлкал зубами, и порою было почти ничего невозможно понять из его сообщения. И мне приходилось взять на себя роль его «переводчика» и руководителя процесса обучения как на теоретических занятиях, так и на практических. В награде за понесённые мною труды я не был обойдён: получил орден «Владимира IV степени» и был представлен к производству в поручики.
* * *
Вот уже полвека прошло с тех пор, как мы, молодые, охваченные энтузиазмом патриоты шли на защиту своего Отечества. Не надо думать, что мы только хотели приобрести воинскую славу и желали боевых наград, нет. Тут руководил нашими душами живой таинственный порыв, который не давал нам покоя: кто смеет посягнуть на нашу культуру, кто может ополчиться на нашу национальную свободу?
Когда начинаешь глубоко задумываться о прошлом, приходишь к выводу: мы были, увы, слишком недальновидны. Как могли мы допустить к власти интернационалистов-революционеров? Как не разогнали вовремя Государственную Думу Маликовых и Родзянок, когда у нас была такая армия, которая в это время была снабжена и провиантом, и боеприпасами лучше всех союзных армий противника? Были сотни тысяч офицеров – «штабс-капитанов», как Солоневич их называет, и они так близко стояли к солдатам. Эти штабс-капитаны хорошо знали психологию своих солдат, в сражениях они срослись с этими солдатами и представляли, по сути, с ними единое целое. Разве в то время наша армия не могла выйти победительницей в войне и защитить трон? Она всё могла сделать! Но – почему же ничего не сделала? А вот почему.
Видимо, верно говорят, что революция началась с верхов, а низы ничего не знали, в особенности – армия, начиная с солдат и вплоть до командиров полка. Всё то, что мы, находясь на фронте, слышали, доходило до нас уже в искажённом виде. Сведения о том, что делалось в верхах, откуда мы получали приказы, низы принимали на безусловную веру, воспринимая всё как уже предрешённое и неизбежное, чему оставалось только подчиниться. Некоторые цитируют слова Лермонтова: «Не будь на то Господня воля – не отдали б Москвы». Значит, если б не Господня воля, не было бы и революции… А другие утверждают, что нам революцию навязали иностранцы, Запад: им не нужна была сильная Россия.
На все эти предположения невольно напрашиваются вопросы. И главные вот такие: где в то время была наша интеллигенция, которая, именуя себя «народниками», занимала в тылу тёпленькие места? и что делали профессора наших высших учебных заведений? почему они не собрали тогда в больших городах, в особенности, в столицах, ни одной студенческой демонстрации с призывом: «Долой революцию! К победе Армии!»?
Этого не было. Едва ли не вся тыловая интеллигенция жадно впитывала новые революционные идеи, как губка впитывает влагу. Эти идеи – не конституционные! – ломали, а вскоре и сломали весь существовавший столетиями строй Российской империи, привели и к свержению монархии.
Да, прошло уже полвека с той давней военной поры, а ка́к живо все эти верные сыны своей Родины – солдаты, офицеры-фронтовики, смелые воины – воскресают в моей памяти!..
Не забыть мне, как я пробирался с румынского фронта на Урал, когда была объявлена «демократизация» и вскоре – демобилизация Армии. Ехал я с солдатами-сибиряками в холодных товарных вагонах. На каждой из больших станций наш эшелон поверх вагонов революционеры обстреливали из пулемётов – с целью, как они выражались, «острастки». Расставляли пулемёты на перроне и лезли в вагоны, отбирая оружие и снимая с поезда офицеров-фронтовиков. Солдаты-сибиряки никого не впускали к себе в теплушки, не сдавали своих винтовок и не выдали вооружённым большевикам ни одного офицера. Эти солдаты, ехавшие со мной, между собою говорили: «Если нас обманули, и если не понравится нам новая власть, мы её разгоним, и винтовки нам будут нужны. Поэтому ни в коем случае не сдавать оружие!..».
Когда я добрался до своего города и вышел на перрон, то увидел огромный плакат. На нём крупными буквами было написано: «Офицеры, возвращающиеся с фронтов, немедленно должны встать на учёт у воинского начальника. Не вставшие на учёт, если будет обнаружено их место жительства, немедленно будут преданы военному трибуналу».
Я вхожу в это учреждение в полной надежде встретить того же полковника, который занимал этот пост прежде, но только без погон. Но вместо него начальником оказался еврей, который до того времени был в этой канцелярии писарем по хозяйственной части. Поразила выхоленная его физиономия, из прекрасного шевиота[97] гимнастёрка, диагоналевые[98] брюки-галифе, со вкусом сшитые офицерские шевровые[99] сапожки, на мизинце было массивное, с большим рубином кольцо…
И что за дикость!? Производство в офицеры я получил я от Императора Всея Руси, а этот еврейчик своим росчерком тут же разжаловал меня в рядовые (выдано было удостоверение: «рядовой»). Какая ирония судьбы! Тут-то я и понял, что попал в сети, как и многие мои фронтовики-сослуживцы: всего этого на фронте мы не знали.
В заключение скажу: у нас, в Отечестве нашем, были пророки – но мы им не верили. Они в церквях с амвонов нам говорили о грядущей революции и о будущих народных бедствиях!.. Мы же голосу их не внимали, мы не верили, что в России может восторжествовать зло. А вышло, что всё, в человеке Богом данное – добро, любовь – было попрано. И злом побеждено оказалось добро»…
На этом и закончил Николай Александрович свой рассказ.
10 мая 1964 года,
город Джилонг.
Три жемчужины
Мне не забыть шести часов, проведённых мною на кордоне[100], как называли в то время этот дом жители Урала. Скорее всего, правильнее было бы его называть постоялым двором, но на топографической карте он был указан именно как «Кордон». С тех пор, как я там был, прошло уже сорок семь лет: это было в конце августа или в начале сентября 1918 года, в первый период Гражданской войны.
Мною было получено тогда приказание относительно одной из деревень, которая была расположена на трактовой дороге[101] на расстоянии от одного уральского завода в двадцати километрах, а от другого завода по этому же тракту – в сорока километрах. Цель была такая: перерезав трактовую дорогу, занять эту деревню обходным путём и потом удерживать её в своих руках в ожидании более крупных наших сил, которые должны подойти по тракту и двинуться на Н‑ский завод. Н‑ский завод с населением около восьми тысяч человек – торговый пункт этого района – был уже очищен белыми частями от красных, вследствие чего я с отрядом и был отозван к своему дивизиону, который находился в то время в сорока километрах от нас.
Такой переход для конницы мог занять девять или десять часов. Но в приказе было указано: явиться в штаб дивизиона через двадцать четыре часа с того момента, как будет получен приказ.
Образовавшимся свободным временем я положил воспользоваться, устроив стоянку во время перехода, чтобы не переутомлять коней и людей, поскольку до того несколько суток мы находились под ударом красных отрядов, и не было никакой возможности дать отдых казакам и расседлать лошадей.
Пройдя двадцать километров, полпути, мы достигли кордона. Противника нет, кругом непроходимая тайга, стеною тёмные ели стоят – до тридцати метров высотой. Здесь я и решил дать отдых людям и коням.
Деревянный рубленый дом кордона из толстых еловых брёвен под деревянной же смолёной крышей скрывался за высоким бревенчатым забором с толстыми смолёными столбами. Забор местами покосился, то вправо, то влево клонясь своими тоже просмолёнными толстыми плахами, и на первый взгляд кордон напоминал старую заброшенную крепость. Но когда зайдёшь в ограду, впечатление складывалось совсем иное: сразу же становится понятно, что здесь кто-то живёт, да живёт, притом, как хороший хозяин. В ограде по обеим сторонам от входа сооружены навесы, крытые тесовыми досками. У стен стоят длинные колоды, в которые можно засыпать овёс для коней, за колодами сделаны деревянные решётки для сена. От самых ворот до крыльца на толстой проволоке – две векши[102] с висячими цепями для спуска собак, которые бегают по блоку взад и вперёд в ночное время.
Сам дом, новый и крепкий на вид, очевидно, был не реставрирован, а несколько лет тому назад построен заново, о чём свидетельствовали окна со ставнями, расположенные высоко, на оконных наличниках – современная резьба для украшения, а на трубе – железный чехол, тоже с резьбой и даже с красивым петухом. Посланные как квартирьеры[103] казаки возвратились с подробным докладом: самовар уже на столе, колоды очищены от мусора, сена на двор принесено много, и вода в колодце лучше, чем речная.
Я не успел ещё слезть с коня, как из дома вышел на крыльцо красавец-мужчина лет сорока. Поклонившись в пояс, он сказал: «Пожалуйте, барин, хлеба-соли откушать». Слова приветствия меня немного удивили, и я подумал: «Вероятно, он пока мало что слышал о революции». Ведь ещё в 1917 году Керенский[104] издал свой Приказ №1, которым все титулы отменялись: теперь при обращении к офицеру солдат называть его должен был не «Ваше благородие» или «Ваше высокоблагородие», а просто «господин поручик», «господин полковник» или «господин генерал».
Все эти мысли, однако, пролетели молниеносно, а своё внимание я сосредоточил на необыкновенной красоте этого мужчины. Рост его был выше среднего, на румяном лице – большие глаза, густые брови, высокий лоб, прямой неширокий тонкий нос, посредине которого – маленькая-маленькая горбинка, как будто специально художником или скульптором созданная для ещё большей выразительности облика. Впрочем, даже если б эту горбинку убрать, то образ вышедшего к нам навстречу хозяина кордона, став чуть более обыкновенным, не утратил бы природной красоты. Если сбрить бороду, то можно было дать ему не более тридцати лет. Тонкие розовые губы выглядывают из-под густых тёмных усов. Подстрижен под кружок, волосы зачёсаны, отчего лоб выглядит ещё выше. А бороду, очевидно, он подравнивал. По всему видно, что человек в гармонии с собой и со своей красотой.
Когда я зашёл в избу, то увидел: у огромного стола, на котором поставлен большой самовар, ко мне спиной стоит женщина, переставляя или расставляя тарелки.
– Анна, к нам гость приехал, – произнёс хозяин. Анна быстро повернулась к нам лицом, низко поклонилась:
– Милости просим у нас откушать хлеба-соли… Мария, где ты?.. Принеси барину полотенце!.. Пройдите сюда к умывальнику, Вы с дороги – умойтесь и садитесь за стол.
Взглянув на хозяйку дома, я снова пришёл в восторг – и от её поразительной красоты. И подумал: «Такая глухая тайга держит у себя в плену такую красивую пару! Жить бы этим людям не здесь, а в большом городе, в среде культурного общества».
Не успел разобраться в тонкостях очертаний лица Анны, как из-за заборки[105] на возглас матери вышла девушка лет пятнадцати или шестнадцати с накинутым на голову платком, закрывавшим у неё бо́льшую часть лица, неся холщовое полотенце в руках. Проходя мимо меня, девушка приостановилась, молча сделала низкий поклон, потом прошла к умывальнику, повесила полотенце на большой железный крюк и опять ушла за эту же заборку.
Когда я умывался, хозяйка уже налила мне стакан крепкого чая и поставила его на стол напротив большого деревянного стула с высокой спинкой. Было видно, что этот стул сделан не в столярной мастерской, а изготовлен столяром-любителем с помощью имеющихся в его распоряжении примитивных инструментов.
Очевидно, на постоялых дворах существует такой порядок: как только люди приезжают, сразу садятся за стол и пьют чай, а обед здесь подают позже, уже после чая. За большим столом, куда меня пригласили, можно было свободно поместить человек двадцать, а я оказался один. Хозяин с хозяйкой за стол не садились, почтительно стоя рядом у стола. Я попросил их сесть, мне ответили:
– Кушайте. Мы привыкли стоять у стола и ухаживать за гостями.
Я подумал: «За лишнюю услугу хотят побольше получить на чай…», – и не ошибся.
Теперь вернусь к тому, что у меня запечатлелось на всю мою жизнь при встрече с этими людьми, живущими в таёжной глуши.
Многие привыкли полагать, что любого человека достаточно одеть в красивую одежду – и он будет красив, если у него правильны черты лица, если опрятна одежда и если соблюдается чистоплотность, что является одним из главных факторов красоты. Современная женщина берёт на себя обязанности художника: перед зеркалом часами сидит и производит над собою опыты, соображая, как применить и какую наложить на своё лицо косметику, чтобы сделаться красивой. Но, как ни старается, всё это – фальшь. Здесь же, в этих людях я увидел оригинал естественной, подлинной красоты, которую создал Высший Художник.
Анна была высокого роста, но не царь-баба – то есть рост у неё как у женщины был выигрышный, под стать мужу. Большие открытые карие глаза – настоящее зеркало души – отражали душевную доброту и незлобивую покорность, правильный овал лица с тонкими нежными щеками, с красивым носом, пропорциональным для её лица, сохранившего румянец молодости… Неторопливая певучая речь дополняла гармонию её облика. Смотря на неё, думалось: «Наверно, эта женщина из хорошей патриархальной семьи, имеет хорошее воспитание, а может быть, с детства жила в услужении у хороших господ».
Оба они с мужем с первой минуты нашей встречи внушали доверие. Казалось, что их в эту тайгу забросила судьба случайно, только чтобы не смотреть им на тот хаос, который уже свирепствовал в заводских районах. Пока не касаясь их биографии, обращу внимание и на красоту их дочери Марии.
Когда Мария вынесла полотенце и низко поклонилась мне в знак приветствия, у неё на голове, как я упоминал, был платок, который закрывал бо́льшую часть лба и щёк. Я на лицо её тогда не обратил внимания, а заметил только, что девушка была босиком, и подумал: «Хозяин – в высоких сапогах, хозяйка – в чулках и кожаных башмаках, а эта девушка – босиком; значит, она у них прислуга». Потом уже я узнал, что Мария – их дочь.
Сидел я спиной к той заборке, за которую ушла Мария. Разговаривали мы с хозяином. И вот оглянулся я назад, как будто под властью гипноза: в это время Мария смотрела на меня, откинув занавеску, которая висела вместо двери. Взгляд мой встретился с её взглядом – и мигом она скрыла своё лицо за занавеской. За эти пять-шесть секунд я увидел, что эта девушка – дивной красоты. Отец Марии заметил моё изумление, и этот случай как будто дал ему повод вызвать Марию:
– Мария, иди убирай посуду со стола!..
За заборкой послышался тихий ответ: – Чичас…
Когда Мария пришла делать уборку, на ней уже не было платка. Тёмные волосы на голове её были гладко причёсаны, а сзади висела большая длинная коса. Мне кажется, было бы грешно не обратить внимания на её удивительную красоту – такой может наградить только Творец. Правильные черты лица, щёки нежно-розовые, густые тёмного цвета брови, длинные ресницы обрамляют и предохраняют большие голубые глаза, в которых проглядывает то детская наивность, то восторг, то выражение грусти. Небольшой рот с тонкими красивыми губами, точёный и словно подобранный под себя подбородок придаёт красоту и стройность длинной шее, которая носит на себе очаровательную головку. Выражение глаз этой юной девушки не должно никого удивлять: революция свирепствовала в крупных заводских населённых пунктах, а не здесь, в тайге. На этом постоялом дворе юная душа Марии, живущей под защитой патриархального семейного уклада, ещё сохраняла мир и гармонию.
Но нормальная, привычная хозяевам деловая жизнь на кордоне была совершенно парализована. Движение по этому тракту между заводами совсем прекратилось: как хозяин говорил, больше полугода ни один человек здесь не проезжал. Слушая его, подумал я, однако, не о хозяйстве: «Правильно пословица говорит, от бобра и родится бобёр, а здесь от красивых родителей родилась красавица-дочь Мария, и тайга её хранит»…
Любопытство всё же меня заставило задать хозяину несколько вопросов. Он охотно мне отвечал, благодаря чему в уме у меня составилась довольно полная биография этой семьи.
Имя хозяина было Георгий, но жена Анна по-домашнему просто называла его Егором. Когда она спросила его: «Егор, ты дал баринову коню овса?», – эти её слова моего собеседника заметно шокировали, и на лице его появился отпечаток недовольства. «Сколько ни учи, была деревенской бабой – так и останется ею», – с некоторой досадой пробормотал он.
Хозяин пояснил, что кордоном называют этот дом по старинке. «Мне, – говорил он, – отец мой, теперь покойный, рассказывал, что в ту пору, когда строили заводы на Урале братья Строгановы, здесь, по этому тракту шли большие обозы с разными материалами – с провизией и другими товарами. А потому через каждые двадцать вёрст на тракте стояла вооружённая охрана. Народ-то в то время был совсем «аховый», отчаянный, поэтому и старались прикрепить их к одному месту, чтоб не могли бродяжить. Ведь тот народ, который бродяжил, был форменный душегуб: нападут, порежут, ограбят и найдут в кармане один рубль – а душу-то уже загубили… Поэтому, – продолжал Егор, – и было крепостное право. Удержать такой бродяжий народ на одном месте, чтобы он жил и работал, было невозможно. Всегда таких бродяжьих охраняла стража, но немало их убегало и из-под стражи. Собирались шайками в лесу, и эти шайки нападали на обозы и грабили. Потому приходилось все обозы сопровождать вооружённой охраной от одного кордона до другого. И то бывало, как рассказывал дед моему отцу, что и всю охрану перебьют. А теперь что – жить можно спокойно. У меня вся охрана – одно ружьё да две цепных собаки. Есть, правда, ещё третья собака, охотничья – за белкой идёт хорошо! – хозяин улыбнулся. – А дом наш давно называют постоялым двором.
Когда жив был ещё мой отец, – вздохнул он, завершая разговор, – очень много по этому тракту проезжало разного люда: на рудники, на золотые прииски. Ездили взад и вперёд управляющие, купцы и золотопромышленники, и доход здесь был очень хороший. Да и без отца уже я сам тоже работал здесь хорошо, вот только этот год – как застопорило… Эта революция остановила всю работу. Приедешь на завод – там никто не работает, только на митинги все бегут. Придётся, наверное, бросать это дело и переезжать в Н‑ский завод. Вот, и Мария у нас уже скоро заневестится, пора замуж её выдавать»…
Хозяин умолк. Я не ошибся, предположив, что Егор с Анной так прилежно ухаживали за мной, называя меня барином, чтобы получить побольше на чай. Впрочем, это обстоятельство для меня в то время было второстепенным. Куда более интересовало меня то, что в такой дали, в глухой тайге я обнаружил эту чудной красоты семью – мужа, жену и дочь их, как будто во глубине морской три красивейших жемчужины. «Неужели, – размышлял я тогда, – существует какой-то закон, который скрывает от нашего взора человеческую красоту там, куда не может заглянуть художник из цивилизованного мира, скрывает так же, как дно океана держит в своих глубоких потайниках драгоценный жемчуг?..».
И теперь вспомнил я об этой встрече… Через сорок семь лет не забылось давнее яркое впечатление, и не смог я удержаться, чтобы не занести этот эпизод в свой дневник. Но вот что сейчас меня заботит, вот что очень, очень хотелось бы знать: продолжится ли род этих людей, одарённых такой удивительной красотой? Останется ли он жить на нашей Руси – или исчезнет, умрёт, а может быть, и умер уже вместе с Марией? Бог весть.
30 ноября 1965 года.
Они умели прощать
Деревня В. расположена по двум сторонам реки, а часть этой деревни отделена ещё притоком, который впадает в реку. Таким образом деревня оказывается разделена на три части.
Сразу после Ильина дня в жаркую солнечную погоду за несколько часов сгорело в деревне В. двадцать восемь домов. Причиной возникновения пожара стал поджог дома Сысоича.
Иван Сисоевич Лузин был человеком особенно замкнутым, и из-за этой замкнутости все соседи его недолюбливали. Да, пожалуй, и любить-то его было не за что. За всё время с той поры, как он женился, никто у него хлеба-соли не отведал: он к себе никого не приглашал, сам ни к кому не ходил. Но самое главное – и в церковь он не ходил, на что больше всего люди и обращали внимание. Так и жил наш Сысоич (как называли его все в деревне) –обособленно и замкнуто, и никто и никогда не проник в тайну его семейной жизни. Наружность у него была характерная: среднего роста, с крупной лысой головой, а большую плешь на самой её верхушке, на темени, окаймляли рыжие волосы. Лицо круглое, как полная луна, с надутыми, словно пузырь, щеками; по сравнению с длинным туловищем руки и ноги непропорционально коротки, пальцы рук – тоже короткие и настолько толстые, что, когда смотришь на них, кажется, что хозяину ни за что не согнуть их и не сжать в кулак, а если и сожмёт, то, захватив такими пальцами что-либо, держать будет крепко, как в тисках.
Семья Сысоича состояла из трёх человек: он сам, жена его и его мать. Жена его была худющая, как скелет, отчего казалась выше мужа ростом. Вероятно, она страдала какими-то женскими болезнями: соседи часто замечали, что низ живота у неё был плотно замотан-забинтован даже в летнее время. Очевидно, по болезни её и не было в семье детей. Мать Лузина за глаза все называли Сысоихой, но, встречая её на речке или на деревенской улице с коромыслом, приветствовали ласково, именуя бабушкой, а молодые девицы величали бабусей. На приветствие пожилых женщин Сысоиха отвечала небрежно. Пробасит своим хриплым голосом: «Здоро́во!», а молодым девушкам иногда и улыбнётся, скажет: «Здоро́во, стрекоза!» – и двинется дальше. Многие говорили, что Сысоихе уже больше восьмидесяти лет, что теперь она совсем состарилась, но и когда выходила замуж, была уже немолода и такая же – совсем седая. Все деревенские бабы, которые верили в колдовство, Сысоиху боялись. Казалось им, что при встрече глаза старухи выражали гнев, отчего всякий человек невольно приходил в испуг. Вот такой была мать Сысоича.
Народ знал, что у Сысоича денежки есть: он человек непьющий, хороших, добротных вещей ни для себя, ни для семьи сроду не купит, даже и сбруя у его коней – из самодельной сыромяти. Вообще это был человек прижимистый во всём, копейку из своих рук не выпустит. Каждый год продавал Сысоич выращенных быков на мясо скупщикам из Вышинского завода, продавал и свиней, и масло, и яйца, а в сапожные мастерские доставлял берёсто[106]. Притом с рабочими он производил расчёт не совсем честно; когда рабочие от него после расчёта уходили, то со злостью отзывались о нём, говоря как о человеке нечестном, и дали ему кличку: «Скряга». Вот, к примеру, когда поступает к Сысоичу рабочий, то выговаривает себе плату. И тот, принимая, заверит рабочего, что при расчёте – как договорились, то он и получит. А на деле выходит не то: при расчёте обязательно хозяин рабочего обманет. Вынет из стола засаленную грязную тетрадку, у которой вместо корок обложки прилеплена грязная холщовая тряпка, тут же на грязном шнурке – не более двух дюймов огрызок карандаша. Достанет тетрадку и начинает в ней рыться. «Помнишь, – говорит, – тогда-то ты был пьяный, и я давал тебе деньги?» – «Помню, как же не помнить. Ты мне двадцать копеек тогда давал». – «Как двадцать копеек, а рупь-то забыл? Нализался, как свинья, и пристал ко мне, как банный лист…». И таким образом у Сысоича получался следующий расклад: «Значит, давал я тебе ещё рупь на рукавицы; вот беру рупь за рукавицы, и вот – тебе три рубля». В округе его повадку знали все, и из ближайших деревень во время страды никто на работу к Сысоичу не подряжался, а он подряжал рабочих из дальних районов – тех, кто его совсем не знал.
Соседи, которые жили с ним поблизости, частенько осуждали Сысоича за то, что при расчёте с рабочими он их обижает, и тем из рабочих делает себе врагов. Подряжает на работу людей незнакомых, иногда и форменных бродяг, которые могут в любое время по деревне пустить «красного петуха», а ведь от пожара многие пострадают и безвинно. В глаза, впрочем, об этом никто ему не смел говорить: боялись старухи Сысоихи. Слух ходил такой, что в доме и по всему хозяйству командует она, как Баба-Яга, на которую, и впрямь, была похожа: что скажет Сысоичу, то он и делает.
Соседом у Сысоича был с одной стороны Григорий – человек общительный, любивший в свободное время выпить, повеселиться и принять у себя гостей. В часы веселья не забывал он Сысоича, говаривал: «Ох, и доберусь же я когда-нибудь до него, покажу ему, где раки зимуют, научу, как надо с рабочими общаться. Если спялят из-за его жадности мой дом, я их обоих с матерью брошу в огонь».
В то время народ очень боялся пожаров. О пожарах заставило думать и пробудило этот страх земство, по распоряжению которого приступили к озеленению деревень. Система была такая: вокруг каждой усадьбы должны быть высажены тополя, а кто уклонится от этого распоряжения, будет подвергнут штрафу. Год назад посадка тополей была произведена в деревне между всеми усадьбами, но деревья ещё были молодыми и защитой от огня пока не могли служить.
С другой стороны дома соседом Сысоича был Ермолай Дмитриевич, которого все называли Ермило Митрич – и в глаза, и за глаза, и никак иначе. Этот мужичок тоже был очень бойкий. В материальном отношении жил хорошо. Может, потому, что у него было два сына взрослых, оба хорошие работники, и ещё дочь, которая тоже в страдное время доброму мужику в работе не уступит.
Как и Сысоич, Ермило Митрич тоже не любил никому помогать; бывало, жалел нищему совок муки пшеничной дать. Такие нищие частенько приезжали в деревню на тощих лошадках, говоря: «Я уж только мучкой собираю, а кусочки-то у меня в мешочке превратятся в крошечки, и куда их?..». И, смотришь, обойдёт такой проситель десяток домов в деревне, у него мешочек-то и наполнится; тогда он сходит к лошадке, высыплет муку в большой мешок – и пошёл опять дальше. А цыган Ермило Митрич вообще выгонял из своей ограды, как говорится, «в тычки», называя их лентяями и попрошайками. Притом то, что близко лежит, он сам не гнушался присвоить. Нрава был крутого, чуть что с кем не так, слово за слово – и в ухо! Водку пил редко и мало; выпивал только в Рождество, на Пасху и в престольный праздник, а вот в драках участвовал частенько. Со стороны посмотреть – никто и не скажет, что он трезвый скандалит с кем-нибудь, всяк подумает, что он пьяный. Поэтому, видимо, и привыкли называть его Ермило Митрич. Впрочем, ему и нравилось, что его так величают, опасаясь, как бы не попасть случайно под его кулак. Старшего сына Ермилы Митрича звали Василием, ему уже исполнился двадцать один год, и в будущем году он должен был идти на призыв. Василий был тихий, задумчивый и малоразговорчивый, но отличный гармонист и обладал хорошим музыкальным слухом. Если услышит песенку с незнакомой ему мелодией, то назавтра же уже будет её играть, причём, как говорится, «без сучка и без задоринки». Второй сын Ермилы Митрича был Илья, девятнадцати лет. Этот был весь в отца, а кулак его был уже и сильнее отцовского: после его удара никто не мог устоять на ногах.
Ермило Митрич любил выделяться среди других. Например, если люди носят на голове фуражки, то он обязательно купит себе шляпу; если у соседей ворота не крашены, то он свои ворота выкрасит в голубой цвет – такой же, как и на окнах, и дела ему нет, подходит этот цвет к воротам или нет, лишь бы такие были только у него. Коровы у всех в деревне были одной породы, а он разводил особенных – «симменталок». В воскресные дни любил Ермило Митрич играть в картишки, «банчок по маленькой», и тут уж он на своём жаргоне предпочитал выражаться: «Ты мне недодал две кепейки (а не копейки)». И хотя игра была «по маленькой», а драка часто выходила – большая…
Кроме того, любил он коней, очень любил, и для него не важно было, скакун конь или рысак. Лишь бы взял в руки вожжи, гикнул – и с места в карьер понеслись!.. Тогда уж Ермило Митрич преисполнялся самых радостных чувств. Однажды был с ним преинтересный случай: на трёх подводах повёз он в Вышинский завод продавать овёс, а при возвращении домой в ночное время гикнул на своих сытых лошадей, они понесли его сколько было в них силы. И у него еловой ветвью сшибло с головы бобровую шапку, которую только что он купил. Так Ермило Митрич не остановил своих лошадей – так и приехал домой без шапки.
Жена его спрашивает: «Почему приехал без шапки?». А он ей в ответ: «Шапку с моей головы сшибло, но коней я не стал останавливать – бежали они очень ба́ско (что значит – красиво)»…
На сельской же сходке кричал всегда Ермило Митрич всех больше, стараясь, чтобы последнее слово было за ним. Вот этот бойкий, резвый и смелый человек никогда не отзывался плохо о Сысоиче. Многие поговаривали: «Ермило Митрич, хотя и храбрый, а старухи Сысоихи, видимо, побаивается. Ведь хорошо знает, что от Сысоича без греха ни один рабочий не уходит. И это всё к добру не приведёт».
Что соседи говорили о Сысоиче, чего боялись – то и постигло их. Причём не только живущие близко к Сысоичу пострадали, но погибли в пожаре и далеко отстоящие дома. Всего же их сгорело, как уже упоминалось, двадцать восемь.
Дело было так. В Ильин день под окном Ермилы Митрича собралось много парней и девушек, для которых Василий играл на гармошке кадриль и разные другие плясовые мелодии. Некоторые из собравшихся видели и слышали, как вышел из ограды Сысоича низенького роста мужичок с рыженькой бородёнкой в красной рубахе, через плечо его был перекинут вещевой брезентовый мешок. Мужичок с возбуждённым лицом и глазами, полными гнева, прокричал: «Не заплатил мне Скряга того, что я заработал!.. Даже обедом ради праздника не накормили!..» – махнул рукой и пошёл по улице. Заглянул в лавку к Епифану, купил фуражку и дешёвенький пиджачок и отправился по дороге, ведущей в сторону отдалённой деревни Г. В тот день его больше никто не видел.
21 июля, назавтра после Ильина дня, около одиннадцати часов в знойную жаркую пору запылала задняя часть двора Сысоича, где у того под деревянной крышей были амбар и кладовая, срубленные из брёвен. Сначала вверх выбросило столб чёрного дыма, а через минуту вырвалось сквозь крышу яркое пламя. Деревенский народ в это время успел уже выехать на покос, в домах остались, большей частью, старики, старухи и малые дети, которые на покосе не могли быть помощниками.
Григорий, сосед Сысоича, в Ильин день изрядно подвыпил и на покос не выехал, остался дома под тем предлогом, что нужно наладить вилы и грабли. Сидя с зареченским Кузьмой, они опохмелялись под свежий огурчик, а про вилы и грабли, которые требовалось наладить, Григорий совсем и забыл. На покос у него выехали жена, два сына и моло́душка[107] – жена старшего сына, работники все хорошие. На косьбе жена Григория иного мужичка за пояс заткнёт и на балагане[108] быстро может сварить вкусную кашу со сметаной. Выходит, что Григорию заботиться было не о чем.
А Кузьма из-за речки – как привыкли его называть, «выпивоха» – на второй день после праздников или воскресных дней привычки не имел выходить на работу; всегда кого-нибудь из любителей выпить найдёт с полубутылкой в кармане. При встрече такого человека, который может его осудить за пьянство в рабочее время, быстро входил в сделку со своей совестью: подберёт аргумент, что, дескать, если он не опохмелится, то неделю должен лежать в постели с головной болью. Ему тоже по хозяйству заботиться было ни о чём не надо: всем хозяйством у Кузьмы управляла Сергеевна, его жена. Роста она была высокого, обладала большой силой. Детей не имела, тяжёлой работы не боялась, легко брала с полу и поднимала пятипудовый куль с зерном или с мукою и несла в амбар, а своего Кузьму, если он вертится на дороге, пихнёт в сторону и скажет: «Не вертись тут, только мешаешь».
Все мы знаем, что муж всегда старается отстаивать свои права в первенстве и быть авторитетом в семье, жена же должна его слушать и быть в его подчинении. Очевидно, эта мысль, что не жена в доме хозяйка, а он хозяин, Кузьме не давала покоя. Когда бывал под куражом выпитого, частенько говорил он своим собеседникам: «Про меня говорят, что я у своей жены под башмаком, но это неправда. Что́ я ей ни прикажу делать, то она и сделает, а не позволю самовольничать!.. За самодурство живо оплеуха ей прилетит, в этом я повадки не даю». Бывает, под рюмку водки у кого-нибудь нечаянно сорвётся с язычка острое словечко, которое попадёт Кузьме, как говорится, не в бровь, а в глаз. Ну, тут в маленьком человеке этом проявится большой дух, который заставит Кузьму уже не говорить, а действовать. Как только одна нога через порог, Кузьма уже открывает рот и с руганью и яростью налетает, как петух, на свою жену с кулаком: «Я тебе покажу, умница, кто у нас в доме хозяин, ты или я!» – но, конечно, его кулак Сергеевна задержит ещё в воздухе, скрутит Кузьму всего в комок, закинет в чулан и закроет дверь снаружи, чтобы там проспался. В холодное время бросит ему туда кошму[109] как подстилку да добавит подушку и тулуп…
Вот эти два человека, Григорий и Кузьма, сыграли довольно большую роль в деревенском пожаре. При возникновении пожара они сидели и выпивали в кухне у Григория, а из кухни выходило окно на сторону Сысоича. Они почти сразу обнаружили возникший пожар и сразу же побежали к Сысоичу в ограду, где калитка оказалась приоткрытой. Забежали в ограду, увидели лежащую в луже крови Сысоиху, которая одной рукой крепко зажимала коромысло, вёдра же с разлитою водой валялись по бокам её на земле в ограде. Тут же неподалёку лежал топор, окровавленное лезвие которого было покрыто человеческими мозгами. Удар был нанесён острием топора по голове старухи, и череп её был расколот на две половины, так что убитая лежала с вывалившимися мозгами… Григорий с Кузьмой, хотя и были по пьянке, быстро смогли убитую Сысоиху вынести на улицу, прикрыли рогожей и рядом с нею положили топор, а сами побежали за пожарной машиной.
На визг детей, рёв старушек и крик стариков быстро сбегался народ. Шланг от пожарной машины спустили в колодец, который был на улице вблизи от дома Григория. Хотя старики и старухи были мало трудоспособны, но Григорий сумел их поставить качать воду. Шлангом пожарной машины и вёдрами воды обливали дом Григория.
Пять раз загоралась на нём крыша, но, в конце концов, дом отстояли. Ведь если бы загорелся дом Григория, то следом неизбежно загорелся бы и дом его соседа. Дом был большой, а проулок между ними – всего в одну сажень. Без сомнения, пламя пожара перебросилось бы на южную сторону деревни, и там сгорело бы ещё тридцать два дома плюс к сгоревшим двадцати восьми домам на северной стороне. И тогда на второй улице от речки, называемой Верхней, из шестидесяти домов не осталось бы ни одного.
Никто из нас не согласится с тем, что алкоголь, если человек умеренно выпивает, на этого человека не может производить вреда – ни на здоровье его, ни на его характер. Вино, действительно, веселит сердце человека и поднимает настроение, но человек пьёт его не только в то время, когда ему надо создать настроение или в обществе повеселиться. И если посмотреть на Кузьму, найдётся в нём всё то, что мы отрицаем и во что не хотим верить.
Наш Кузьма шесть лет как женился на Сергеевне, и выделен[110] был своим отцом из семьи. Отец его частенько не без гордости говаривал: «У меня Кузьма, хоть и не выдался ростом, но ума у него не отнимешь. Много ли я помог ему в постройке дома? Ан, посмотри, ещё не прошло и пяти лет, как он у меня в отделе[111], а зайди-ка к нему в дом, так уже увидишь: в доме – полная чаша. Правда, его и Сергеевна добрая хозяйка и работница хорошая, не из плохой семьи. А если коренник хорош да недурная пристяжная, оно дело-то и ладно выходит». И отец был прав, хваля своего сына Кузьму, который до женитьбы и после женитьбы шесть лет не выпил вина ни рюмки. Жили они с женой после свадьбы, как говорят, душа в душу. Жена его всегда называла Кузя, а он её – Анна.
И вот стряслось у них горе. Однажды приезжает этот Кузя с мельницы, куда возил молоть зерно – пьяный. Анна бросилась к нему с испуганным лицом, увидав его лежащего на мешках с мукой, со слезами начала его трясти: «Кузя, а, Кузя!.. Что с тобой?..» – подумала, что, наверное, тяжёлые мешки поднимал на мельнице и надорвал внутренности. А Кузя лежит и мычит, как корова. Она, не открывая ворот, взяла своего Кузю на руки и унесла домой. Когда же несла на руках, очевидно, своими проворными и сильными руками намяла Кузьме желудок, и из него пошла рвотная масса. Тут Анна и догадалась, что её Кузя – пьян… Когда проспался, рассказал он своей жене Анне всё, что было.
В селе, что было неподалёку, имелся пруд, и там была построена большая лесопилка и мельница. На эту мельницу деревенские мужики со всей округи возили молоть зерно. В тот день оказался большой подвоз зерна, поэтому Кузьме пришла очередь молоть зерно на муку уже под вечер. Мужиков на мельницу съехалось много, время было уже холодное. А коли записался ты в очередь – значит, надо торчать на улице. Если надо погреться, то по очереди можно заглянуть в сторожку[112]. Здесь-то у мужичка и приходит мысль сбегать в «казёнку»[113], там за десять копеек купить «мерзавчик»[114] и пропустить его для согревания всего замёрзшего тела, чтобы теплота от выпитого по ногам пошла. Частенько бывает и так: начинает мужик с «мерзавчика», а потом уже несёт за пазухой и полбутылки водки. Большие любители выпивки ехали на мельницу, как на праздник: там они и выпьют, и с кумом повидаются, и время до помола пролетит незаметно, и ехать домой можно весело и с песнями. Вот несколько человек из таких-то бойких любителей выпить и сговорились напоить Кузьму, хорошо зная, что он водку ещё никогда в рот не брал, и это их ещё больше заводило.
«Как ты дураков стал слушать, что водка согревает всё тело с ног до головы?», – упрекала его Анна. А он ей: «Нет, я помню, что сделал из маленькой бутылочки три глотка, и они как будто по всему телу стали обжигать огнём. Потом опять стали меня мужики просить: выпей да выпей!.. – и я ещё выпил. А потом помню только, как посадили меня на мешки с мукой, и больше ничего не помню».
Хотя от села с мельницей до деревни было всего шесть вёрст, эти люди всё же не отправили беспамятного Кузьму домой в одиночку, а привязали его коня к саням одного из его соблазнителей. Этот виновник честно сопроводил Кузьму до самого дома и постарался не попасться на глаза Сергеевны, чтобы не краснеть за участие в затее напоить Кузьму до потери сознания. Увы, с этого момента стал Кузя зашибаться рюмочкой. Год от года выпивать начал он чаще, и в водке находил уже не одно веселье, а, как сам потом говорил, и вкус: «Я пью потому, что она очень вку-усная, я всегда пью её маленькими глоточками»… Вот какое действие алкоголь произвёл на Кузьму.
Теперь в дни, когда он не пил, Кузя с нетерпением ждал воскресного дня: его организм уже требовал этого жгучего напитка, жаждал алкоголя. Это был первый симптом пьянства. Дальше в нём стала развиваться мания величия: как только выпьет, так умнее его, Кузьмы, никого нет: он всё знает и всё может, и все окружающие для него – не люди, а пешки, которые он, как на шашечной доске, может переставить туда, куда захочет, – это было второе действие алкоголя. Потом в характере его стала развиваться злость, и этот симптом был самый ужасный. Многим в пьяном виде заявлял Кузьма: «Я бы очень был рад убить до смерти свою бабу, да только у меня силы не хватает, и она больно проворная… Я б её не ножом зарезал, а бил бы её до тех пор, пока она была б ещё жива». Способность на всё житейское у Кузьмы пока что отнять было нельзя: он был с малых лет смышлёный, его отец и мать были хорошие люди, и вся их родо́ва[115] была тихая, мирная, непьющая, и хозяева были хорошие, и многие соседи брали с них пример.
Когда опасность для дома Григория миновала, на северной стороне уже вовсю горел дом Ермилы Митрича, и наш Кузьма быстро сообразил, что пожар уже не остановить, и он неминуемо захватит и дом Епифана. И тогда он быстро сделал перебежку туда.
Дом у Епифана был двухэтажный. В нижнем этаже в одной половине был мануфактурный[116], можно даже сказать «универсальный» магазин; в другой половине – мучная торговля, а верхний этаж занят был как хозяйская квартира. Вот Кузьма и забрался в квартиру второго этажа, решив спасать купеческое добро. Из магазина в то время уже выносили разный товар на улицу, но и в верхнем этаже было много добра: дорогие шубы, бобровые шапки, а у дочери епифановой были шубы и с собольими воротниками. Она с мужем ежегодно ездила в Нижний Новгород на ярмарку. Муж её имел права купца второй гильдии[117], а отец её, Епифан, уже был старичок и в торговые дела не вмешивался.
Здесь, наверху, Кузьма натолкнулся на большой соблазн: притянуло его к буфету с разными винами, и стал он пробовать вино из разных бутылок… При возникновении пожара у него случился сильный испуг, вследствие чего он стал постепенно отрезвляться после выпивки и приходить к здравому рассудку. Он учёл, что его дом – за речкой, и значит, дому его опасность не угрожает, тем более что из села прибыли уже две пожарных машины, вот-вот из соседних деревень приедут ещё две-три, значит, о своём доме можно не беспокоиться. И если б этот маленький мужичок не прикладывался к обнаруженным бутылкам с вином, то и он мог бы принести какую-то пользу в спасении имущества от огня. Но тут пришла ему в голову мысль, что надо помогать вытаскивать сундуки, и каким-то образом занесло его в кладовую, которая была в конце коридора. При потерянном от выпитого вина равновесии столкнул он с верхней полки в кладовой корзину с сырыми яйцами, эти яйца повалились ему на голову и залили его волосы и бородёнку. После чего опять потянуло его к буфету, и тут уж он твёрдо решил этот самый буфет разгружать. Задумано – сделано: берёт стопу тарелок, несёт их к раскрытому окну и бросает со второго этажа вниз на землю… Народ из квартиры все сундуки повытаскивал на середину улицы, и магазин с товарами освободили, а Кузьма всё ещё не успел очистить буфет с посудой. В конце концов, когда дом уже был охвачен пламенем, два сильных мужика, рискуя своей жизнью, забежали через парадный вход вовнутрь и вытащили Кузьму на руках из дому. Минута промедления – и он сгорел бы. Однако вместо благодарности, что его спасли, он ещё больше ожесточился на всех и вся…
Весть о пожаре скоро донеслась и до людей, работавших на покосах; быстро узнали о нём и в соседних деревнях. Пламя стремительно перебрасывалось с одного дома на другой, каждый новый дом тоже загорался, как факел, и с него, охваченного огнём, вместе с пламенем выбрасывало в небо высокий столб чёрного дыма… Дома в деревне – большие, рубленые из сосновых брёвен, крытые тёсом тоже из соснового леса и просмоленные с целью защиты от гниения – воспламенялись мгновенно.
Сотни людей верхом на конях через час после того, как начался пожар, прибыли в деревню и наполнили улицы. Не будь такого множества народа, вероятно, выгорела бы вся деревня, но с огнём боролись всем миром. На ближайших улицах затаскивали на крыши бочки и мётлы, нечто вроде швабр с окончанием из тканых материалов; подавалась наверх вода вёдрами, привязанными на верёвках, из вёдер бочки наполнялись водой, потом в них окунали швабры и мокрыми швабрами смачивали крыши. Искрящийся пепел, ещё не остыв в воздухе, лохмотьями густо, как снег, валил на крыши, и без такого смачивания пепел мог распространить пожар ещё сильнее.
Работа кипела… Кто же так распоряжался этой массой народа, которая действовала так согласно и так собранно? На первый взгляд могло создаться впечатление, что неорганизованная толпа только мешает друг другу работать, а пользы от неё никакой. Но в действительности всё было не так: каждая минута совместного труда при тушении пожара имела смысл, и работа осуществлялась в нужной форме и в нужный момент, каждый участник был на своём месте и стремился выполнять свою задачу как можно лучше. Молодой могучий человек избрал себе место на крыше, сбивая воспламенения от пепла, менее сильные оказались на телегах с бочками для подвозки воды из реки, в помощь им – подростки и мальчики, которые старались как можно скорее наливать речной водой порожнюю бочку. Самые сильные физически были у пожарных машин, громогласные и умеющие ездить верхом на конях – в карьер скакали по улицам, осматривали дома и кричали сидящим на крышах людям, не горит ли где ещё, о результатах докладывая тем, кто управлял пожарными машинами, а старики и старухи охраняли имущество, вынесенное на середину улицы.
Во время этой суеты и хаоса житель деревни Фаддей, имевший дом на той же улице, которая горела, но на южной её стороне, бегал, разыскивая земского старосту: рассказать ему, что, когда он, Фаддей, полным махом гнал своего коня, торопясь на пожар, на самом ближнем к деревне поле, засеянном пшеницей, увидел, что как будто лежал там, в этой пшенице, человек. Староста послал туда нескольких верховых, и они нашли прятавшегося человека на том самом месте, где указал Фаддей. Человек, очевидно, был уверен в том, что его никто не заметит, и решил пролежать в поле до темноты, а уже ночью отправиться восвояси по дороге, ведущей в отдалённую деревню.
Когда привели этого человека в деревню, и толпа окружила его, он тут же сознался: «Да, Сысоиху зарубил я – за то, что не успел найти деньги в сундуке. Когда хозяин меня рассчитывал, он ходил в горницу, открывал сундук, и при повороте ключа происходил мелодичный звон. Таких замков у разных сундуков много было, я этот звон слышал прежде. А когда убил старуху, то испугался: вдруг кто-нибудь зайдёт в ограду и увидит её, убитую. И я решил дом поджечь. Совсем и не подумал, что будет такой пожар. А на берёсто, чтобы скорее этот дом сгорел вместе со старухой, я вылил из банки керосин». Здесь пьяный Кузьма, от злости не выдержав, начал, подскакивая, кричать: «Дайте мне его, я своими руками задушу! Если не дадите, бросайте его живьём в огонь, пусть он там сгорит!..». В толпе зашумели, и много послышалось голосов: «Не надо его в огонь, в нём ведь душа живая; он не собака, такой же человек, как и мы… На это есть законный суд, а мы душегубами не будем. Везите его в волостное правление и сдайте под стражу!».
На третий день после пожара из города Н. приехал судебный следователь, а также два врача, из медиков один был хирург. Сделали вскрытие трупа Сысоихи, нашли, что смерть последовала моментально после нанесённого топором удара. Городской окружной суд не потребовал привезти подсудимого на суд, а за его чистосердечное признание у судебного следователя на допросе в убийстве человека и в поджоге дома Ивана Сисоевича Лузина суд вынес приговор: к двадцати годам каторжных работ со ссылкой в Сибирь.
Назначили день и число для отправки осуждённого на этапный пункт, откуда под охраной должна была отправляться в Сибирь небольшая партия уголовных преступников. День отправки преступника народ живо интересовал, каждому хотелось на этого человека посмотреть: как он выглядит после осуждения, будет ли просить у народа прощения за содеянное им злодеяние? По поводу этого из деревень, принадлежащих к волостному правлению, поступали заявления на имя волостного старшины с просьбой заранее объявить день и число отправки, чтобы желающие могли проводить преступника.
Со дня объявления судебного приговора прошло более месяца, наступил конец сентября, утренники[118] уже стали холодные. И вот в назначенный день в девять часов утра к зданию волостного правления[119] подъехала парная подвода, за ней вторая одноконная телега, на которую был погружен фураж для лошадей. Прошло несколько минут – выходит на крыльцо стражник, а за ним идёт маленький рыженький человек. На руках наручники, которые дают преступнику возможность действовать только в пределах своего туловища. Кандалы на ногах при спуске с лестницы беспрепятственно позволяют ему двигаться. Осуждённый идёт медленно, но звон цепей приводит публику в ужас, и среди тысячной толпы слышится какой-то глубокий вздох, похожий на стон. Понять трудно, то ли это стон от чувства жалости, то ли от чувства ненависти, ведь этот невзрачный мужичок оставил без крова около ста шестидесяти человек в деревне!.. В телегу преступник сел при помощи двух стражников, а по бокам его на возвышенные сиденья опустились ещё два стражника с обнажёнными шашками; револьверы в кобурах висели у них на кожаных поясах почти на самом животе, и толстые, малинового цвета шнуры шли через шею.
Публику близко к телегам не пускали. Как только поравнялись с церковью, преступник что-то сказал стражнику, и тот приказал вознице остановиться. Когда подвода остановилась, с помощью стражника преступник встал на ноги, снял с головы помятую фуражку, повернулся к церкви лицом, три раза перекрестился, захлёбываясь в слезах и стараясь крикнуть что-то. Но слёзы и спазмы в горле помешали ему громко произнести прощальные слова, их услышали только близстоящие. Слова его были: «Простите меня, ради Христа!..». После этого послышался в толпе женский плач, а среди мужчин раздались голоса: «Задержите телегу!..». Стража заволновалась, не разобрав, почему просит толпа задержать телегу, и стала кричать вознице: «Понукай, понукай скорее!..». Хорошие кони быстро с места подхватили, оставив толпу позади. Вторая, одноконная, подвода остановилась.
Оказывается, цель задержать отъезд преступника была такая: многие привезли для него с собой подорожников[120] да кое-какую одежонку – казённой-то одежды осуждённому на каторгу ещё не выдали, одеть его должны были только на этапном пункте. На запасную подводу женщины стали складывать мешочки с подорожниками, приговаривая: «Ты на них не садись, там у меня маслице да яички, хотя они и варёные, ты всё сомнёшь в лепёшку». Такое наставление они давали вознице, а мужики наложили в большой джутовый[121] куль старых шубёнок, шапок, катанок[122], варежек, несколько пар белья… Просили возницу передать этот мешок преступнику – всё это ему будет нужно, ведь зима на носу. А один мужик снял со своих ног сапоги и тоже бросил их в телегу… Вот как умел русский народ прощать, вот какое у него было доброе сердце!
2 июня 1966 года.
Не по призванию
Спустя три дня после моего приезда в Н‑ский запасный полк я познакомился с подпоручиком Подкорытовым. Познакомились мы с ним во вновь сформированной полковой учебной команде. Командир полка, как видно, придерживался такой тенденции: офицерский состав подбирал в учебную команду из офицеров, приехавших из военных училищ, с военной школьной скамьи – тех, которые ещё не успели забыть порядков, что существовали для юнкеров. В приказе по полку было указано: командиры рот должны откомандировать от своих рот самых лучших солдат, которые за восемь месяцев прохождения учебного курса должны быть достойны к производству в унтер-офицеры.
Когда я представился начальнику учебной команды, он направил меня в первую полуроту к подпоручику Подкорытову принять первый взвод и вступить в свои прямые обязанности. В это время подпоручик Подкорытов в классе что-то объяснял и читал обоим взводам из «Устава внутренней службы» приятным тенорком. Через приоткрытую дверь слышен был его голос, который, казалось, принадлежал не взрослому мужчине, а подростку лет десяти-двенадцати. Приход мой его не удивил, он меня уже поджидал. Приказ по полку о назначении меня в учебную команду он прочёл накануне, только не знал, какой я приму взвод: начальник учебной команды до моего прибытия роли между офицерами ещё не распределял.
Впечатление подпоручик на меня произвёл очень приятное. Он был такой чистенький и аккуратный в своём кителе с золотыми погонами, как будто ученик пятого класса, одетый в офицерскую форму во время любительского спектакля и исполняющий роль по ходу пьесы. Думаю, многие вынесли бы о нём такое же впечатление, потому что Шура Подкорытов был некрупного телосложения и, кроме того, в нём как будто проглядывала некая женственность, настолько он был приторно-нежный. Казалось, это хрупкая фарфоровая куколка, которую можно случайно столкнуть пальцем со стола – она упадёт на пол, и вся рассыплется, разлетится на мелкие крошки. Рост у него был ниже среднего; шашку носил всегда в левой руке – в противном случае она бы волочилась по полу, и он бы заплетался, спотыкаясь и задевая её ногами. Шаг его тоже был не военного солдата или обыкновенного взрослого мужчины: он передвигался мелкими шажками, семенил, да и рядом никогда не шёл, а старался, как ребёнок, забегать вперёд. Вот такой внешний вид имел наш герой. Из него, казалось, могла бы получиться славная девушка, но никак не походил Шура на офицера, который должен воспитать своих солдат в духе храбрости и повести их в бой.
В полк подпоручик прибыл до меня, всего одной неделей раньше. Столоваться в офицерском собрании он не хотел, а предпочёл снять комнату в частном доме вместе со столом[123] у хороших знакомых, с которыми была в добрых отношениях его мать, Подкорытова Клавдия Семёновна.
Клавдия Семёновна много слёз пролила, когда муж её и отец Шуры Павел Петрович Подкорытов бесповоротно решил определить своего отпрыска в военное училище. Взгляды родителей на то, куда направить сына после окончания гимназии для продолжения образования, сильно отличались. Мать видела в нём человека невоенного, так как Шура подавал большие надежды на успех в сфере музыкального и художественного искусства. Учась в гимназии, он уже хорошо играл на рояле, обогнал даже и сестру свою Зину, а Зина уроки брала в музыкальной школе, и в добавление к тому, на дом к ней приезжал преподаватель музыки. Это давало повод Клавдии Семёновне полагать, что своего Шуру она отдаст в Консерваторию для приобретения высшего музыкального образования. Если же Шура попадёт в военное училище, ничего хорошего из того не получится, понимала она. «Он у меня с детства был слабенький здоровьем, вы́ходили и вырастили мы его с няней, Матвеевной: если б она не просиживала у его кроватки целые ночи без сна, доктора не смогли бы поднять его на ноги. А там, в военной школе, его совсем измотают, и не будет из него ни хорошего офицера, ни хорошего музыканта», – говорила она. Павел Петрович возражал: «Если затянется война с немцами годика на два или на три, тогда неизбежно призваны будут на военную службу и студенты из всех высших его к отбыванию воинской повинности. И тогда уж его не будут спрашивать, где он хочет служить, забросят туда, куда нужно будет, и окажется он там, где потребуется. Он у нас пока что не перерос для училища, ему и двадцати нету. Бог даст, кончится война, и он в любое время сможет уйти с военной службы. Вот тогда и будет продолжать музыкальное образование. Что касается того, что физически он слаб, и там его могут изломать, то с этим я тоже не согласен. Наоборот, из него сделают настоящего солдата, он окрепнет, и не нужна будет ему нянька, чтобы одеваться. Слышно, что курс в военном училище вместо трёх будет сокращён до одного года, но за тот год из него сделают человека здорового. И, во всяком случае, за этот год не отправят его в действующую армию».
Поступил Шура Подкорытов в военное училище на основании поданного им заявления ещё до выхода Высочайшего Указа о сокращении сроков обучения и о прохождении трёхлетнего курса за один год, так что в этот выпуск из всех военных училищ вышли юнкера, произведённые в подпоручики.
Квартир для офицеров в полку не было. Офицеры получали месячное жалованье плюс квартирные, поэтому имели право снимать квартиры в любом месте, лишь бы вовремя, не опаздывая, являться на занятия. Я первое время, пока не подыскал подходящей квартиры, жил в гостинице. Подпоручик Подкорытов, узнав, что я плачу в гостинице за один номер без стола три рубля в сутки, предложил мне переехать к нему: «У меня комната с отдельным входом, я пользуюсь всеми удобствами, и есть комната для наших вестовых». Я был рад предложению и, как только окончились занятия, отправился осмотреть квартиру Шуры.
Его все звали Шурой, кроме командира полка. Тот, когда был в хорошем настроении, всегда офицеров называл по имени-отчеству, независимо от чина и служебного положения. А будучи в плохом расположении духа, обращался исключительно по фамилии и званию. Как крикнет громко: «Поручик Подкорытов, постройте немедленно свой взвод!» – тут уж надо ожидать, что вот-вот получишь от него замечание или выговор. В полку было более семидесяти офицеров, и имя-отчество каждого командир полка помнил; очевидно, у него для этого была специальная тренировка.
Клавдия Семёновна каждую неделю навещала сына, причём приезжала в разные дни обычно во время обеда или ужина – проверяла, как кормит хозяйка, привозила обязательно закуски с таким расчётом, чтобы ели мы оба. А его сестра Зина приезжала каждую субботу за нами на американке[124], в которую запрягали спокойного старого мерина – настолько спокойного, что разрыв артиллерийского снаряда его не напугает, он и ухом не поведёт. Ровесник с Шурой (возрастом в двадцать один год), конь этот был доморощенный. Кормили его хлебом, сахаром, а иногда дадут ему и конфету. Он всё это любил и в людях не видел для себя врагов, всех считал такими же добрыми, как те, кто ухаживал за ним.
Зина сядет на переднюю беседку в повозке лицом к нам, слегка согнётся (беседка гораздо ниже заднего сиденья) и глядит на нас снизу вверх. «Смотрю я на вас, говорит, – и не могу смириться с мыслью, которая грызёт моё сердце: неужели придёт то время и для нас, когда мы будем с жадным нетерпением перелистывать журнал «Русский инвалид» и искать ваши фотографии в его отделах раненых, убитых или без вести пропавших? Брр… это ужасно!». Помню, скоротав время этим грустным разговором с Зиной, мы приехали в большое село Ч., до которого от центра города было всего восемь вёрст, а нынче окраина города уже соединялось с этим селом. И я впервые побывал в доме Подкорытовых.
* * *
Дом у Павла Петровича Подкорытова был барский, и надо заметить, что этот казённый дом утопал в огромном сосновом лесопарке. Парк был в длину и в ширину на две версты[125], по терминологии и планам лесоводства – две на две версты, и имел название «Квартал». В парке было два зарыбленных озера, в большем из них разводилась рыба окунь, а в малом озере – рыба голавль. Порода леса в парке была исключительно сосна. Сосны были высотой до двенадцати саженей, на семь или восемь саженей от почвы на стволах их не было ни сучка (обычно крестьяне называли такой лес «свеча»), вверху распускались сучья и ветви, покрывая весь парк сплошной шапкой.
Павел Петрович этот парк лелеял и оберегал, как сокровище: парк имел и художественную ценность, создавая красивую панораму, и служил целям развития лесоводства. Увидев, что кто-то сломал или срубил молодое деревце, Павел Петрович с сердечной болью говорил: «Ка́к человек не понимает простой истины, что вот, теперь он загубил молодую жизнь этого деревца, которое через двадцать лет наградило бы человека в двадцать раз больше, чем он получил сейчас». Он за деревце это переживал так, как мать переживает за своё дитя, когда оно заболело. Он был, действительно, настоящий учёный лесовод: окончил Петроградский Лесной институт и сразу же поступил на государственную службу, занимая пост лесничего в большом лесном районе, который находился в эксплуатации. Немало было послано им проектов в Государственный отдел лесоводства о рациональной вырубке леса, сохраняющей прирост его и, вместе с тем, дающей государству прибыль. Недаром существовала народная поговорка: «За Богом молитва, за царём служба не пропадают», так и здесь получилось. Ум и честное отношение к служебным обязанностям явились главным фактором для продвижения Подкорытова по службе по ведению лесного хозяйства, и вскоре Павел Петрович приобрёл имя учёного лесовода. Правительство ему как учёному и хорошему, знающему лесоводу доверяло большие лесные районы и в чинах не обижало. Не было бы революции, годика через два он уже получил бы чин статского советника по гражданскому ведомству. В то время, как я познакомился с семейством Подкорытовых, Павел Петрович занимал пост окружного лесничего. В его ведении было шесть отдельных лесничеств.
Дом, как было сказано выше, был огромный, барский. Он построен был по общему типу домов, которые строились в ту пору для всех лесничеств. Впрочем, архитектура была единая, но этот дом по своей грандиозности был особенный. Все типовые дома лесничеств были из восьми комнат, не считая кухни, ванной и удобств. А этот дом был из двенадцати комнат, причём кабинет и зал были гораздо больше, чем в прочих домах. Очевидно, здесь предусматривалось то обстоятельство, что к окружному лесничему по служебным обязанностям могут приезжать одновременно несколько лесничих из всего района; также и в просторном кабинете хватало площади стен, где можно было развесить планы всех лесничеств, а в комнатах – разместить людей.
Когда мы – Зина, Шура и я – приехали в усадьбу Подкорытовых, Шура сказал мне: «Пойдёмте, я познакомлю Вас с папой». С Клавдией Семёновной я познакомился уже три дня тому назад у нас в квартире.
Зайдя в кабинет учёного лесовода, я немало был удивлён огромностью этого помещения. Все стены его были завешены планами, этюдами панорамных видов леса, и впечатление от этого получилось такое, как будто я зашёл в музей, где вся красота лесной природы помещена для обозрения на этих стенах. Величина кабинета и высота огромных окон давали понять, что здесь отразилась широкая и основательная натура русского человека. На противоположной стороне от входной двери виден был небольшой письменный стол, за которым сидел, как будто, маленький человек в форменном сюртуке. Но когда стали подходить к нему ближе, этот человек стал казаться всё больше и больше, а сам письменный стол оказался весьма впечатляющего размера.
Павел Петрович встал и вышел из-за стола раньше, чем мы успели подойти к столу близко, вышел нам навстречу и протянул мне свою пухлую руку. Рост его был точно такой же, как у Шуры, то есть ниже среднего. Руки, ноги и устроение всего корпуса тоже было довольно хрупкое, как и у Шуры, разница была только в том, что у старшего Подкорытова уже стало расти брюшко, и он носил маленькую бородку.
«Мне Кланя говорила о Вас, даже успела вынести своё заключение, что для Шуры Вы будете хорошим и нужным другом. Он у нас слишком сентиментальный, и друг с твёрдым характером и с сильной волей для него будет полезен». Эти слова меня удивили: как могла Клавдия Семёновна так быстро определить мои качества, в которых я и сам не разбирался? Есть ли у меня твёрдый характер и сила воли, я и сам не знал, а с нею успел познакомиться только три дня назад и разговаривал с матерью Шуры не больше одного часа.
Семья у Подкорытовых была резко противоположных взглядов на развитие науки, делясь на две части. Отец Павел Петрович полностью предан был своему делу, и главный жизненный интерес у него был в том, чтобы, приложив все свои старания и применив знания в отрасли лесоводства, добиться рентабельности лесного хозяйства. Государство богатеет, справедливо полагал он, если у него есть честные работники, знающие и исполняющие своё дело как следует, надёжные люди, на которых можно опереться. Чтоб можно было доверить им решение текущих задач и быть уверенным, что в сложной ситуации они найдут нужное решение – не растеряются, проявят должные умения, смекалку и выдержку. И сохранят лес – ценнейший природный дар. Да-да: в мыслях окружного лесничего неизменно оставался лес: его заботила сохранность лесных угодий и способы их восстановления, возможность развития лесных хозяйств и проекты по грамотному использованию леса. Он был учёный, проверявший свои идеи на практике.
А Клавдия Семёновна – немного сентиментальная, уступчивая, обладающая мягким характером и щедрым сердцем – стала для Павла Петровича не просто верной женой, а и преданным другом на долгие годы. Приняв на себя множество домашних забот, она была хранительницей большой семьи и её добрых традиций, которые во многом сама и создавала как натура творческая и жизнелюбивая. Она обожала, образовывала и всячески опекала детей, сама тонко ощущала и их учила чувствовать гармонию окружающего мира и понимать ценность искусства. И в этом виделся ей смысл и радость человеческой жизни. Не возможной государственной пользой, а красотой и многообразием привлекали её лесные просторы. Основная же задача науки и, в особенности, лесного дела, была уверена Клавдия Семёновна, в том, чтобы этой красоте служить – так же увлечённо и самоотверженно, как делает это её муж Павлуша.
Впрочем, не было никаких разногласий в семье Подкорытовых несмотря на столь разные интересы и особенности мироощущения каждого из супругов. Павла Петровича Клавдия Семёновна любила крепко и с гордостью о нём говорила, что её муж у начальства на хорошем счету: без него ни одна комиссия не состояла, и без него ни один доклад не был отправлен в Петроград. Очевидно, поэтому и согласилась она по настоянию Павлуши отправить своего первенца в военное училище. Конечно, она не глупая женщина и постаралась взвесить всё, что и как лучше сделать в это военное время для Шуры. И правда, размышляла она, если окончится война, то Шура её сможет поступить в Консерваторию, а Миша к тому времени может быть зачислен в Технологический Институт, тогда два сына у неё будут жить в Петрограде.
Сама она любила музыку. Как только Зина окончила гимназию, Клавдия Семёновна отдала её в частную музыкальную школу. Играла девушка на пианино, способности у неё были хорошие, частенько выступала она на концертных вечерах и пользовалась большим успехом. Клавдия Семёновна заранее предрешала, что дочь у неё будет преподавательницей музыки.
А тут внезапно для всех нас, служивших в запасном полку, как гвоздь прокалывает карман из тонкой материи, так же вылез наружу музыкальный талант Зининого старшего брата Шуры Подкорытова. Он проявил большую способность к музыке: играл неплохо, сам писал ноты, пел приятным тенорком с большим чувством. И наконец, в своём зале даже поставил оперу «Пиковая Дама»[126], где исполнил роль князя Елецкого. В запасном полку нашёл он и Германа, и ещё многих офицеров подготовил к выступлению на сцене, втянув их в исполнение этой оперы. Слабенький физически, Подкорытов своротил такую глыбу, осуществив постановку классической оперы! Правой его рукой в этой работе была его сестра Зина. Музыкантов в оркестр подбирала она, а Шура занимался распределением ролей и выбором голосов. Словом, дел у обоих было по горло.
Когда у Шуры возникла идея поставить «Пиковую даму», никто из нас не верил, что он сможет создать необходимую для постановки музыкально-вокальную труппу. Подкорытов, взяв на себя и обязанности режиссёра, сделал общее собрание всех, кто должен участвовать в постановке, где внёс предложение о сроках готовности. Потом разослал почётные билеты с повышенной ценой местному зажиточному классу, афишировал по городу, что вся прибыль от постановки пойдёт на подарки солдатам, находящимся в действующей армии, и за эту идею все ухватились с энтузиазмом. Особенно горячо взялась за это исполненная патриотических чувств молодёжь, воодушевлённая тем, что всё это будет сделано для солдат действующей армии.
Расходов по постановке оказалось мало. Парики, костюмы взяли напрокат, причём давали весь необходимый реквизит совершенно бесплатно, как на благотворительный вечер. Гримёры, парикмахеры, декораторы – все работали безвозмездно. А поэтому подкорытовский «театр на дому» собрал довольно крупную сумму денег на подарки для солдат.
В отзыве, который написал рецензент в городской газете о постановке оперы «Пиковая дама» в частном доме, не было никакой критики, ни слова о тех недостатках, которые, очевидно, и средним, не слишком искушённым ценителям искусства бросались в глаза и, как говорится, резали слух. Автор рецензии отнёсся очень благосклонно и к самому факту благотворительной театральной постановки, и к большей части персонажей, которых подчёркнуто хвалил. Эти похвалы и добрые отзывы служили стимулом для дальнейшей работы и вдохновляли участников.
Частые отлучки нашего Шуры из учебной команды по делу постановки оперы были скрыты от командира полка, но, когда работа эта стала приближаться к концу, начальник учебной команды выхлопотал у командира полка для подпоручика Подкорытова двухнедельный отпуск, а первый и второй взводы были поручены мне.
* * *
Правильно мне охарактеризовал Павел Петрович своего Шуру, что он человек слишком сентиментальный – действительно, он часто бывал приторно нежен и очень склонен к горячим душевным излияниям. Прочитав книгу, где автор в романе выведет отверженную любовь молодого человека к девушке, которая полюбила его чистой платонической любовью, Шура страдает за эту девушку, и так тяжко страдает, что забывает свои обязанности по службе. Он будет к вам несколько дней приставать со своими комментариями по поводу этого романа и не угомонится до тех пор, пока не произойдёт в его жизни что-то такое, что сможет произвести на него более сильное впечатление. И только это новое событие в его личной жизни сможет отвлечь его размышлений над прочитанным, которые, овладев душой Шуры, просто изнуряли его.
В обществе молодёжи Шура был незаменимым другом, и сам он искренне любил всех окружавших его. Играл хорошо на гитаре и на фортепиано, пел выразительно, знал уйму романсов наизусть, и когда исполнял их, аккомпанируя себе на гитаре или пианино, его лиризм проникал в души окружающих. И, тем не менее, представьте себе: ни одна девушка из этого общества не влюбилась в него! Его пение и музыка вызывали у девушек лишь грусть, и они открыто говорили ему: «Шура, всё пение твоё насыщено такой тоской! Мы от твоих грустных романсов не можем ни душу успокоить, ни окрасить своё будущее счастьем».
Был среди нашей молодёжи прапорщик Зорин, который, окончив Духовную семинарию, не захотел идти по духовной линии, а подал прошение о поступлении в Университет на юридический факультет, куда и был зачислен. Но вдруг явилась у него новая мысль: «Моя страна ведёт войну с нашим исконным врагом, а я буду скрывать свою шкуру в стенах Университета… Нет, этого быть не должно!», – и ушёл в школу прапорщиков. В запасном полку служил он только потому, что ждал маршевую роту: когда её будут отправлять на фронт, он её поведёт. Он у нас слыл за весельчака и большого мастера рассказывать анекдоты. «Вот, – подшучивал он над Шурой Подкорытовым, – я знаю, почему у Шурки моего излюбленные романсы такие печальные. Ведь он их и сам любит, и с их помощью любит наводить грусть на девушек. Он старается расположить к себе окружающих девиц: авось, и втрескается в него какая-нибудь со своим любвеобильным сердцем».
Прапорщик Зорин в своих шутках открыл истину: Шурка его, как он его называл, действительно, тосковал по любви. Он хотел, чтобы его смогла полюбить хорошая девушка так, как он умеет любить сам. Но все окружающие не соответствовали его требованиям. Общество, в котором он вращался, было очень натурально, приземлённо, круг интересов его был весьма ограничен и прост, и все девушки были очень практичны в жизни. Они, уже окончившие гимназию, реально столкнулись с действительностью взрослого существования. И, обретя самостоятельность, каждая из них почувствовала желание самой разобраться и устроиться в ней – самой, а не при помощи случайных и легкомысленных подруг. Для них понятие «любовь», на основании которой можно бы строить счастливую жизнь в будущем, не возбуждало особенных чувств. И Шура со своими горячим ожиданием настоящей любви, с такими возвышенными взглядами, конечно, был далёк от них. Как говорили местные девушки, «Шура не сможет окрылить будущую жизнь счастьем той, которая выйдет за него замуж».
И вот, по вечерам стал я замечать отсутствие Шуры дома (а до этого времени он всегда спрашивал меня, где мы проведём сегодня вечер). Утром я встал, спрашиваю: «Где ты был вчера? В офицерском собрании тебя не было, в театре тоже. Где же целый вечер пропадал?» – «Да… я был тут у одних знакомых, – отвечает, – семья очень милая, я хочу достать ноты для оркестра на оперу «Евгений Онегин» через них». Всё это звучало так естественно, и хорошо было бы приобрести такой ценный нотный материал. Но плохо то, что я не вижу ни нот, ни Шуры, причём каждый вечер. Иногда до часу ночи наблюдаю только пустую кровать и на столе книгу Тургенева «Дворянское гнездо» с закладкой всё на одной и той же сто двадцатой странице. Такого раньше никогда не было.
Милая семья, как оказалось, жила от нас всего через два дома: вдова-еврейка с дочерью Зюзей. Мать у Зюзи была уже старуха, волосы седые. При походке корпус её уже не держался прямо, и она всегда была сгорблена. Когда она, возвращаясь с базара, проходила мимо нашего дома, я часто её видел и прежде. В памяти она у меня осталась из-за необычной свой внешности, таких старух увидишь, бывает, очень редко. Ходила она на базар в шапочке, которая напоминала скуфейку[127] и сшита была, очевидна, ею самой из старой ротонды[128] малинового цвета, седые волосы из-под скуфейки вылезали наружу, во время ветра их так широко раздувало, что смотришь издалека – и думаешь: идёт тебе навстречу старый дьячок.
Зюзю, не погрешив против истины, можно было назвать старой девой, и она бы не должна на это обижаться, услышав, что её так именуют. Роста она была высокого, почти на голову выше Шуры, с каштановым цветом волос, в весеннее время всё лицо её было покрыто веснушками. При разговоре букву «л» Зюзя не выговаривала и, если надо сказать «Лара», она произнесёт: «Рара». Конечно, на крестинах у неё не были ни Шура, ни я, но при первой встрече ей можно было дать не менее тридцати пяти лет. Шура же с пеной у рта доказывал, что ей только двадцать шесть, и она старше его всего на шесть лет. А сколько её матери-старухе лет? Но он и мать Зюзину старался «омолаживать», говоря, что просто еврейки скорее старятся, чем русские. Зюзя и так не блистала красотой, а если оденет обыкновенное домашнее платье покороче, то обнаружит ещё и свои тонкие кривые ноги. Но наш Шура ничего этого не замечал: он влюбился в Зюзю, и для него дороже её и милее никого не было на свете.
Материальное положение у Зюзи с матерью было не блестящее. Они снимали дешёвую квартиру, а вся квартира была – комната с кухней, и больше ничего. В комнате стояли две кровати, здесь мать с дочерью и принимали дорогого гостя Шуру. Зюзя служила в еврейской библиотеке, и её жалованья только-только хватало на скромную их жизнь.
Шура был непьющий и некурящий, на стол и квартиру уходило у него сорок пять рублей в месяц, жалованья же подпоручик получал девяносто рублей, плюс квартирных пятнадцать рублей. Таким образом карманных денег у него оставалось около шестидесяти рублей, потому он к Зюзе шёл всегда с подарком. И раньше был он не большой ревнитель военной службы, частенько мне говорил: «Я пошёл в военное училище не по призванию, не хотел огорчать своего отца и подчинился его воле. А рождён я не для того, чтобы учить солдат военному делу. Я хотел бы в будущем быть композитором, с этой мыслью и не расставался, когда учился в гимназии. А эта военная школа у меня всё сломала, перевернула всё вверх дном, и мысли мне полезли в голову такие, что очень далеки от идеи творчества», – и Шура, схватившись обеими руками за голову, заплакал, как малое дитя.
Я встал с кровати (это было перед сном, а когда мы ложились спать, то всегда обменивались друг с другом впечатлениями, которые у нас накопились за прошедший день), подошёл к нему выяснить причину такого нервного состояния. «Я влюбился в Зюзьку и не могу без неё ни одного дня прожить», – сквозь слёзы признался мне Шура.
Не сказав ему ни слова, вернулся я к своей кровати, выключил свет настольной лампы, и у нас в комнате наступила абсолютная тишина. Матовый свет ночника в канделябре способствовал не сну, а глубокому раздумью. Я долго лежал без сна, пытаясь разобраться в том, что случилось так внезапно с моим другом, которого считал я совсем молодым и неопытным человеком – ведь мой-то возраст в то время был уже двадцать шесть лет.
В течение нескольких дней после того, как Шура признался мне в своей влюблённости в Зюзьку, я молчал, не обсуждая ничего, даже избегал встречаться с ним взглядом. Мне надо было подобрать сильные аргументы, прежде чем начинать разговаривать с товарищем на эту тему. А ещё было для меня очень важно то, что́ мне сказала Клавдия Семёновна тогда, когда в их доме я был принят как близкий человек. Сказала, что Шура ещё молодой, с натурой впечатлительной и увлекающейся, и что может легко как-нибудь попасть по службе впросак, так как он на военную службу пошёл не по призванию. «Он у нас увлекается музыкальным искусством, поэтому по службе у него могут быть промахи, которые исправить будет трудно. И не надо скрывать, что из нашего пола есть легкомысленные особы – девушки, которых привлекают золотые погоны», – вздыхала она. Это был не просто разговор – здесь была открытая просьба матери, надеющейся на то, что её Шура в семье офицеров обретёт хороших друзей. Забота о сыне у Клавдии Семёновны была не напрасная: когда он юношей учился в гимназии, сравнимых с нынешним офицерским жалованьем денег Шура не имел в своём кармане, отец давал ему только на необходимые расходы. Теперь же учесть бюджет его со стороны было труднее.
Итак, у меня создалась проблема: держать ли то, что я услышал от Шуры, втайне от его родителей или посвятить их в эти обстоятельства и общими силами избрать метод, какой бы нашего героя отдалил от Зюзи. Решил пока ничего не доводить до сведения родителей, а принять свои, товарищеские меры воздействия на него. Наша комната с фикусом и двумя пальмами Подкорытову очевидно уже надоела, всё это казалось ему мещанством. Перед сном ежевечерне – у нас с ним один и тот же разговор, с типичными избитыми темами, обсуждавшимися нами, и перед его глазами вечером был только я один. Он мне говорил: «У Зюзи в комнате уют, а у нас нет этого уюта». В общем, мой Шура стал беспричинно хандрить, как избалованный родителями мальчик. Я предложил ему: «Раз тебе всё здесь противно и скучно, давай перейдём столоваться в офицерское собрание. Там всегда большое общество офицеров, там ты встретишь много новых лиц, услышишь беседы на разнообразные темы, которые нам с тобою не приходили в голову. И правда, мы с тобой здесь что-то закисли».
В офицерском собрании была большая гостиная, из неё одни двери выходили в большую столовую, другие двери – в биллиардную, третьи – на большую террасу; в этой же гостиной стояло хорошее пианино, и это могло привлечь Шуру, который мог бы играть здесь каждый вечер.
Квартиру мы решили не сменять: этим мы могли бы удивить и смутить Шуриных родителей, начались бы разговоры, что́ именно заставило нас совершить такую пертурбацию. Мы только отказались столоваться у любезной хозяюшки, сказав, что хотим избавить её от лишних хлопот. Хотя не она была кухаркой, а готовила еду и подавала нам её прислуга, но всё же без глаза хозяйки ничего не делается. А что касается стола, то мы заранее знали, что Клавдия Семёновна не будет препятствовать нам.
Она успела ещё раньше рассказать нам, что прапорщик Зорин говорил ей: «У нас заведовавший офицерским собранием поручик К., очевидно, бывал на выставках по кулинарии. Он умеет разбираться во вкусе разных блюд, и всегда у него богатейшее меню, кормят нас очень вкусно; наверное, сам Крылов позавидовал бы тому, как мы едим».
Если в полку в то время было более семидесяти офицеров, то обедали в офицерском собрании минимум пятьдесят человек, и это общество ежедневно собиралось сюда. Здесь была биллиардная с двумя столами, две комнаты с ломберными столами для карточной игры (в преферанс, но не для азартных игр, азартные игры были строго запрещены). И молодое общество офицеров чувствовало себя как в своём клубе, многие из них стремились показать своё искусство. И чтобы наш Шура не тосковал, это общество ему было кстати.
* * *
Многие знали подпоручика Подкорытова как талантливого музыканта и певца, и с первого же вечера встретили его с радостью.
Есть в литературной критике В. Белинского: «Один кричит: я хочу арбуз. А другой кричит: дайте мне солёный огурец». То же самое получилось, когда Шура пришёл в офицерское собрание. Один кричит: «Шурка, спой «Жалобно стонет ветер осенний»; а другой кричит: «Кому нужна эта грусть, ты спой, чтобы веселило душу»; третий же просит сыграть на пианино арию из оперы «Кармен». И так нашего Шуру взяли в оборот: часика два попоёт, поиграет, побудет в плену офицеров полка (хотя и не совсем уж близких друзей, но весьма в весёлом обществе) – и временно забудет свою Зюзьку.
Прошло несколько дней, и Шура не отлучался никуда, вечерами читал книги, а с вестовым записки посылал – очевидно, Зюзе. И, как будто, на каждую записку получал ответы. В один из таких вечеров в ответ ему принесли не маленькую записку, а большое письмо. Он прочитал его и задумался. Потом говорит: «В городском театре двенадцатого октября пойдёт опера «Черевички», ты пойдёшь на эту оперу?» – «Если в наряд по полку́ не попаду в это время, обязательно пойду, а ты как – пойдёшь или нет?» – «Мне, вероятно, не придётся идти: один я идти не могу: Зюзьку оставить неудобно, а у неё соответствующего платья нет. Сшить в дамском салоне за десять дней успели бы, но там будет дорого. У неё денег нет, и у меня в кармане пусто, а получка будет двадцатого. Если ты выручишь деньгами, я буду очень благодарен», – вздохнув, завершил он свою просьбу. Теперь только я он него узнал, что он каждый месяц после получки тридцать рублей отдавал матери. А Клавдия Семёновна передо мною погрешила: говорила, что Шура сейчас имеет слишком много карманных денег. Ну, ничего, это обыкновенная женская хитрость, и хитрость эта для каждой женщины нужда в семейной жизни.
«Денег я тебе дам с условием, – ответствовал я, – сделай своей Зюзьке последний подарок и после этого забудь про неё. Какой же ты офицер? Считаешь себя защитником родины, а сам влюбился в старую деву, которая тебе подойдёт в матери, и плачешь от этой любви, как мальчишка. Война кончится – уйдешь с военной службы и найдёшь себе русскую девушку. Я сомневаюсь, что Зюзя может любить тебя так, как ты её любишь». Возмутило меня то, что Шура перед этим несколько дней не упоминал её и к ней не ходил. Я стал уже пожинать лавры, полагая, что манёвр мой с офицерским собранием был верный – а тут оказалось, что заключение моё было преждевременное и ошибочное.
«На Зюзьке я женюсь, в скором времени с моими родителями по этому поводу будет объяснение», – заявил он. «Хорошо сделаешь, – возражал я, –мать свою убьёшь этой новостью, и мне свинью подложишь, что я проглядел и не смог вовремя отговорить тебя от этого глупого поступка. Выходит, ты и понятия не имеешь о любви, когда не в состоянии отличить естественную любовь от мальчишеского увлечения». – «Нет, ты ошибаешься, – горячился он, – в ней все почти положительные качества налицо: у неё доброе сердце, она не способна говорить неправду, её чувства стремятся всегда к возвышенному, материальную сторону она никогда не затрагивает, и эти вопросы для ней слишком ничтожны. По сравнению с нашими русскими девушками (а, те, которых я знаю, интересуются только тем, кто сколько получает жалованья) она – как небо от земли. Глаза у неё – зеркало души, её мягкий картавый говор вызывает у меня чувство радости, и всё это, вместе взятое, доказывает, что Зюзька будет мне очень хорошей женой».
«Ну-ну, могу тебе верить и не верить в то, что материальная сторона её совершенно не интересует. Но подарки-то она от тебя принимает». – «За эти подарки мне часто от неё попадает. Были такие случаи, что подарок принимает не как наша русская девушка, а и в руки его не возьмёт, и сделает выговор, и, бывало, до часу после этого не разговаривает», – убеждал меня влюблённый товарищ.
* * *
Клавдия Семёновна и Павел Петрович не знали, что сын их завязал такой крепкий узел, который не развяжет ни мать его, ни отец, ни близкие его друзья, а развязать его сможет только время и расстояние.
Новостью об этом романе я поделился с Шуриной сестрой Зиной – с условием, чтобы она об этом не говорила Клавдии Семёновне. Из Зины оказался хороший партнёр. Тактично и дипломатично она стала заменять своими визитами поездки Клавдии Семёновны, которая прежде раз в неделю навещала Шуру. Теперь вместо матери стала ездить Зина. А Шуре она передавала сведения о состоянии матери, говорила: «Мама за тебя переживает, наверное, не миновать тебе отправки в действующую армию. Ты хотя бы здесь будь с нею ласков и ничем не огорчай её». Слова Зины отдалили намерение Шуры объясниться с родителями по поводу женитьбы на Зюзе. У нас с Зиной был общий взгляд на ситуацию: уедет Шура на фронт в действующую армию – и забудет Зюзю, и этому любовному роману придёт конец.
Этот чаемый Шурой союз с Зюзей со стороны казался нелепым. «Шура, ты за какой это дамой волочился и рассыпался перед нею мелким бисером? Заранее тебя, Шурка, предупреждаю: не врать! Мы почти плечьми с тобой столкнулись в фойе, и ты постарался меня не заметить. Я понял, что эта дама – твоя любовь. А она что ж? Признаюсь, хотя у неё была прекрасная роза приколота к роскошному платью, но это мало скрасило рыжий цвет её лица», – так третировал Подкорытова прапорщик Зорин. Судя по всему, Зорин уже догадывался о влюблённости Шуры в Зюзю, потому и был так резок, давая нелестный отзыв о даме, которой поклонялся Шура.
* * *
В учебной команде стали готовиться к экзаменам, занятия проходили усиленно. Всё пройденное повторялось снова и снова. За строевую подготовку беспокоиться было не надо: наши учебные чины были подготовлены в строевом отношении хорошо, а всего труднее для них были классные занятия, где шло изучение воинских уставов, – здесь требовалась хорошая память. А поэтому подъём учебной команды сделали на полчаса раньше, вследствие чего и офицерам нужно было на полчаса раньше являться на занятия.
Такой режим для нашего героя оказался тяжёлым. Его вестовому немало пришлось потрудиться, чтобы вовремя поднимать с постели своего барина. Всё обмундирование он подготовит, начистит заранее так, что всё блестит, в особенности сапожки, которые, кажется, могут заменить зеркало, – а барин его всё не хочет вставать с постели! Словом, утром подняться и одеться для Шуры было настоящей проблемой, и чтобы не опоздал он на занятия, приходилось и мне вмешиваться не совсем вежливо в дело его пробуждения. И потом Подкорытов за то меня всегда благодарил и для следующего раза давал инструкции: «Ты возьми меня за ноги и стащи с кровати на пол – вестовой этого не сделает».
На мои резкие, а подчас и оскорбительные замечания он не обижался, отвечая так: «Я иду не по той дороге, по которой должен идти, а ты всё время меня подгоняешь. Ты часто мне читаешь нотацию, что вот теперь наша страна переживает тяжёлые времена и испытания в Мировой войне, и в это время каждый сознательный человек должен думать о благополучии своего Отечества, а не о личной жизни. Всё это я и сам прекрасно знаю. Но я понимаю так (и думаю, не ошибаюсь): во-первых, личной жизни у меня уже нет. Я весь предан Родине, которой служу по своей силе. Я не карьерист, я похоронил свои порывы заниматься музыкальным искусством, я стал военным. Только лишь чувство любви нарушает мой покой, и оно словно делит мою цельную личность надвое, и каждая из этих двух моих половин – конечно, неполноценный человек. Я думаю, что моя душа более двух тысяч лет назад сроднилась с душою Платона, а потому платоническую любовь я рассматриваю не как доктрину, а как истину. А в нашем веке чистой любви нет, она опошлена. Согласись, сегодня, как правило, мужчина смотрит на женщину как на самку и меньше всего думает о том, сможет ли девушка, на которой он хочет жениться, быть достойной матерью: ему это не важно, а важно то, что он сумел покорить эту или другую девушку. Может быть, я в этом и неправ, а может, вся современная жизнь построена на этом, и изменить ничего нельзя. Но думаю, бытие человечества на нашей планете сократится, скорее, при упадке нравственности, чем из-за существования платонической любви.
Тебе, возможно, будут непонятны мои чувства к Зюзьке, как не понимает их и прапорщик Зорин, который с презрением выразился: «Ты рассыпался перед ней мелким бисером». Да, может, ему со стороны и виднее. Но я этого не чувствую и не замечаю, когда Зюзя перед моими глазами. Я вижу в ней не просто девушку, а вижу человека – чистого, отрешённого от мира сего. Глаза её ласкают мою душу, как будто блуждающую в потере счастья и покоя, голос её без слов выражает согласие со мною и единодушие, противоречиям меж нами нет места… Вот тебе моё признание. Хочешь – называй меня мальчишкой, я на это обижаться не буду.
Прекрасно я понял, почему ты захотел, чтобы мы столовались в офицерском собрании. Цель твоя отчасти была достигнута: с Зюзькой я встречаться стал реже. Но от этого любовь моя к ней не уменьшилась, а наоборот увеличилась. Хотя ты меня и называешь мальчишкой, говоришь, что это не любовь, а просто первое увлечение девушкой, с этим я не согласен. Я уже вполне созрел, чтобы здраво мыслить, а кроме мысли у человека есть ещё и сердце, и какая-то таинственная сила, которая не подчиняется рассудку. Пусть она будет считаться ниже разума, а своё влияние на человека производит. Для примера приведу тебе такие факты из происходившего со мною. Бывает, с вдохновением начинаю играть пьесу на пианино – и внезапно явится передо мной образ Зюзьки, и у меня руки под неодолимой слабостью опускаются. Или начинаю петь какой-нибудь романс – и то же повторяется, и романс мой остаётся недопетым…
Если узнает моя мама, что я так люблю Зюзьку, она немедленно окружит себя знахарками и будет по наговору их поить меня разными настоями трав, и они обязательно признают во мне «порчу». Всё это пока только кажется вроде сказки, в которую ты не веришь. Но когда станут над тобой производить всякие эксперименты, то это уже будет насилие над личностью. Может быть, во мне недостаточно силы воли, потому я и не могу до конца разобраться в своих чувствах по отношению к Зюзьке. В моём сознании кружатся всякие прогнозы, появляется мысль: «А может, надо, и впрямь, просто всё это пережить?». Над этим вопросом я теперь начинаю задумываться.
Ничего в жизни человека не бывает лёгким, за что ни возьмись: вся жизнь соткана из сплошного труда и страданий. И этот труд, и страдания эти дают человеку жизнь. А кто уклонится от этого труда, тот неизбежно должен погибнуть. Гений Пушкин определял этот труд так: «Порой гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь…». Почему же я должен быть выделен из общего закона, который создан для человечества Высшим Творцом? Я думаю, что мне потерю Зюзьки трудно будет пережить, но к борьбе с этим чувством я должен быть готов. И хочу прийти к такому решению: ехать на фронт, как только пройдут экзамены в учебной команде. И как распустят её по ротам, подаю рапорт командиру полка об отправке меня в действующую армию. Как ты на это смотришь?..», – вопросительно взглянул он на меня.
– Если хватит у тебя мужества провести в жизнь это решение, то этот выход будет, наверное, единственный, чтобы изжить не совсем нормальное твоё увлечение Зюзей, – отвечал ему я. – Тогда можешь с гордостью носить на своих плечах офицерские погоны, которые дал тебе Государь Император не для украшения твоего мундира, а как символ, который воплощает идею защищать Государя Императора, Веру и Отечество.
Раз уж решил Шура ехать на фронт, у нас с ним возникла сложная проблема: как подготовить Клавдию Семёновну к этой неожиданной новости. На помощь нам снова пришла Зина, которая оказалась тонким дипломатом. Он, узнав от нас причину, которая заставляет брата принять решение безотлагательно ехать в действующую армию, она смогла так подготовить к этому Клавдию Семёновну, что та смотрела на предстоящие события как на неизбежность. «Если Шуру убьют на войне, я всё же останусь не одна: со мной останется Зина, пока не выйдет замуж, и Миша, – успокаивала себя она. – А может быть, и Шура останется жив: не всех же убивают».
Когда с прощальным визитом в дом к Подкорытовым приезжал прапорщик Зорин, он шутил и смеялся: «Меня немецкая пуля не возьмёт, она может только ранить меня. А если ранит, то на излечение приеду обязательно сюда, к вам поближе. И вообще убитых бывает только двадцать пять процентов, а среди остальных семидесяти пяти процентов бывают раненые, это уже точно высчитали». Шутки Зорина дали некоторое успокоение сердцу любящей матери Шуры.
* * *
Шура Подкорытов решение своё не изменил. Как только распустили после экзаменов учебную команду по ротам, он подал рапорт командиру полка об отправке его на фронт в одиночном порядке. Командиру полка очевидно было не угодно, чтобы офицеры учебной команды уезжали на фронт: имея хорошую строевую подготовку, с этой подготовкой они нужны в запасном полку для обучения солдат из запаса.
После роспуска учебной команды я принял роту, в которой в то время было семь литерных рот. Работы было много, я попросил командира полка выделить мне помощника. Старый командир роты заболел и уехал в Москву, надежды на возвращение его не было, и командир полка назначил мне в помощь подпоручика Подкорытова, отклонив его рапорт об отправке на фронт.
Прошло два месяца с тех пор, как Шура подал свой рапорт об отправке его в действующую армию. Сердечные раны его платонической любви к Зюзе не затягивались. Значит, недостаточно оказалось одного рассудка на подавление этого чувства, а требовалось ещё и пространство, которое должно было отделить их друг от друга. После отправки пяти маршевых рот очередную просьбу Шуры командир полка удовлетворил.
Находясь на фронте, Шура каждую неделю аккуратно получал письма от Зюзи и так же аккуратно отвечал ей на каждое письмо. Всё то, о чём писала она ему, он держал втайне. Только был случай, сказал своему командиру роты: «Как бы я был счастлив, если б в первом же бою меня убили». Последнее письмо, посланное им к Зюзе, вернулось обратно с надписью почтамта: «За не нахождением адресата».
С этого времени наш Шура стал как будто перерождаться. Если где достанет гитару, или окажется на немецком фольварке сохранившееся пианино, он с жадностью набрасывался на эти музыкальные инструменты и играл до тех пор, пока не утратит все свои силы.
* * *
В 1925 году я заглянул в Общественное собрание в городе Маньчжурия (в ту пору власть в России уже принадлежала большевикам). В Общественном собрании в это время труппой самодеятельности готовилась для постановки на сцене «Сказка о Царе Салтане»[129]. К моему великому удивлению, здесь я и встретил Шуру Подкорытова.
В городе Маньчжурия я прожил тогда ещё не более десяти дней, никуда пока не ходил и публику совершенно не знал, а потому никто мне не мог сообщить, что здесь около Общественного собрания обретается неплохой декоратор. В тот момент, когда я его увидел, Шура Подкорытов был занят: торопился, о чём-то требовательно спрашивал, бегал по сцене. С его слов я позже понял, что он с кого-то требовал отыскать потерявшиеся кисти. Оказывается, он здесь слыл за хорошего декоратора и, очевидно, выполнял свою работу без нареканий.
Да, это был действительно Шура Подкорытов, но изменившийся внешне и внутренне, совсем не тот, которого я знал раньше, когда мы расстались в 1918 году. Голос, походка и рост его остались теми же, но розовое с пухлыми щеками лицо было изуродовано шрамом от осколка снаряда. Ранение случилось, когда Красная Армия наступала на город Читу. Вид Шуриного лица был бы не столь уродлив, если б не был повреждён у него и правый глаз, нижнее веко которого было стянуто швом, отчего глаз потерял форму и стал казаться куда меньше, чем левый.
– Ты не смотри на моё изуродованное лицо, а обрати внимание на то, что жив я, – говорил Шура. – Тридцать суток лежал я в госпитале, не приходя в сознание. Да меня и вытащили из кучи убитых, которых готовились хоронить в братской могиле. Когда я находился в этом бессознательном состоянии, мне и сделали операцию Как говорят, прооперировали так, на всякий случай, поскольку очень-очень мало было надежды на то, что я выживу.
Действительно, операция была сделана небрежно. Если б сделать её, не повредив нижнего века правого глаза, тогда у Шуры остался бы только шрам на щеке, как у средневекового рыцаря. Подкорытов и раньше любил вертеться перед зеркалом, таким остался он и до сего времени. В зеркале осматривал всегда левую половину лица и несколько раз мне говорил: «С этой стороны я ещё похож на выхоленного барчука, а справой стороны – урод!..», – и после этих слов наливал себе стопку водки, залпом выпивал её, а закуской у него была корка чёрствого хлеба и солёный огурец.
Комнату Шура занимал в здании переселенческого пункта. Очевидно, его любила интеллигенция города Маньчжурия, по просьбе которой и разрешил ему городской голова жить здесь бесплатно. Ночевал я у него одну ночь, и фактически до рассвета мы с ним не сомкнули глаз: всё говорили о прошлом, о том, кого куда забросила судьба.
Оказалось, что Павел Петрович Подкорытов, отец Шуры, был расстрелян. К этому учёному лесоводу назначили для контроля комиссара – дезертира, бежавшего с фронта во время керенщины[130]. До Октябрьской революции он скрывался в селе Ч., а когда пролетарская революция пришла к власти, ему дали этот пост как заслуженному революционеру, который первый воткнул свой штык в землю и стал агитировать за окончание войны. Он был сын лесника, то есть лесного объездчика. Человек был неграмотный, с образованием, полученным в трёхгодичной сельской школе, потому почву под собой чувствовал твёрдую, и права ему даны были широкие. Без его подписи Павел Петрович не имел права отдавать распоряжения по лесоводству.
В те смутные годы стал расхищаться лес, началась безобразная его рубка. Видя это, не сдержал сердца учёный лесовод, заявил своему комиссару, что это бесчинство надо немедленно прекратить, потому как валежник с сухими сучьями летом будет пищей для огня; тогда пойдут лесные пожары, и выгорит весь лес. Комиссар ему в ответ: «Лес – это народное достояние, и ты не имеешь права запрещать рубить лес».
После этой короткой размолвки с комиссаром вытащили Павла Петровича из кабинета озверевшие пьяные мужики, которых Октябрьская революция выпустила из тюрем. Прежде сидели они кто за кражу, кто за убийство – аморальный элемент… Они и вынесли приговор: царского прихлебателя надо расстрелять! Они же и привели приговор в исполнение.
Вскоре после расстрела Павла Петровича с Клавдией Семёновной случился сердечный припадок, а через три дня после того – смертельный удар.
Шурин брат Миша Подкорытов гимназию окончил, имел аттестат зрелости, но о поступлении в Технический Институт ему и мечтать было нельзя: началась вербовка в Красную Народно-Революционную Армию… Осталась одна Зина. Из казённого дома учёного лесничего её выгнали с одним узлом в руках. Ушла она к одной знакомой, та уже устроилась в этом же селе учительницей, и подруге хотела помочь тоже устроиться учительствовать. Подала Зина заявление в Отдел народного образования, но получила отказ. На заявлении – резолюция комиссара по народному образованию: «Детей расстрелянных отцов на эту почётную должность не принимаем». После чего не прошло и месяца, как пришли двое вооружённых из сельсовета и увели Зину к военному комиссару, тот спросил её: «Ты будешь – Подкорытова?» – «Да, я». – «Ну, вот. У нас сформирован санитарный отряд, будешь там работать. Девка ты грамотная, говорят, хотела в учительницы попасть. А, кстати, и доктор требует от нас: дайте мне хоть одну грамотную, у меня только один кухтрест[131]».
Обо всём этом, о судьбе всей моей семьи я не мог бы узнать, – вздохнул Шура, – если б не передал мне эти сведения один человек, прибежавший в Маньчжурию из города Читы. Он там был в госпитале на излечении, а в то время в этом госпитале работала сестрой Зина. Оказывается, с этим человеком в одной палате лежал и Михаил Подкорытов – мой брат Миша, а Зина за ним ухаживала. У него в этом же бою, в котором меня ранило, оторвало ногу ниже колена, и ногу ему ампутировали. В общем, ирония судьбы: я был в войсках Белой Армии, а он в Красной Армии, и обоих ранило в одном бою».
– Слышал, что ты не одни только декорации можешь писать, – сказал я. – Про тебя говорят, что ты хороший художник. Мог бы здесь устроить свою жизнь неплохо, а ты живёшь в таких ужасных условиях. Семь лет мы с тобою не виделись – и вот, судьба снова нас столкнула. Но я в тебе не вижу того, прежнего Шуры. Ты тогда не пил и не курил, на всё это смотрел с отвращением как на мерзость, а сейчас пьёшь так, как пьют алкоголики, не нуждаясь в закуске. А ведь это очень вредно для здоровья.
Действительно, у него уже был отёк лица, и цвет лица его приобрёл малиновый оттенок, как у алкоголика. На работу утром Подкорытов не выходил, не выпив полбутылки водки…
Шура кивнул: «Я понимаю, что всё это вредно для здоровья, и многие меня ругают за выпивку. Но что я сделаю, когда от меня не осталось даже полчеловека? Как не пить? Ты же меня прежде хорошо знал, помнишь, кем я был раньше, для чего я должен был жить. Правда, было у меня временное сердечное увлечение Зюзькой, но всё это переболело и прошло, не оставив следа в сердце, да и было это чувство не от здравого разума. Переборол его, ушёл в действующую армию, ты сам знаешь. Но надо мною с тех пор повис злой рок, и в этот злой рок я верю – от него никуда не уйдёшь, он всю жизнь будет преследовать тебя – до тех пор, пока ты жив. Избавление от него – смерть.
Да, много я теперь об этом думаю… И вспоминаю слова великого критика Белинского: «Искусство есть непосредственное созерцание Истины, или мышление в образах». Вот это созерцание я испытал на себе. Мне ведь с юности не надо было много размышлять, обдумывая замысел и мои действия, когда зародилась у меня идея творчества. Разучить ли «Крейцерову сонату» или набросать какой-нибудь этюд как художник, применяя средства изобразительного искусства – всё это давалось мне так легко! Так легко… И я только сейчас стал понимать, как, на самом деле, тяжело для меня было пойти не по призванию и начать изучать военную науку с тем, чтобы стать честным защитником своего Отечества.
Что полезного я сделал за эти годы, находясь в войсках? Да ровно ничего! Толка куда большего, чем от меня на моём месте, было бы для Отечества от любого неграмотного ефрейтора! Если нет у меня теперь ни чинов, ни орденов, в этом я никого не виню, потому что сам не заслужил этого. Может быть, если б я попал не в военное училище, а в Консерваторию или в Школу художников, я принёс бы России куда больше пользы: композиторы и художники у нас считаные… Теперь же видно, что нашим революционным вождям культура и вовсе не нужна, так как искусство для них не является непосредственным созерцанием Истины. Им не нужно созерцание – нужна мысль, и мысль не свободная, а вполне определённая, принудительная, которую можно навязать всему обществу, чтобы все – все! – мыслили одинаково, и чтобы свободной мысли не было места в голове человека.
Вот, придя к этому выводу, я и нахожу, что именно здесь, отказавшись от созерцания Истины в искусстве, человечество нарушило главные обязанности своей жизни, уклонилось от тех правил, которые были даны человеку, как только вышел он из рук Творца. За это нам и послан злой рок – ты можешь называть его и злым духом или… как хочешь, в общем, называй. А я буду называть именно так. Меня уже ничего в нынешней жизни не интересует, а вот этого злого рока я избежать не могу. Стал замечать, что прошлое мне кажется сном, а не действительностью. Ведь наш дом был счастливой детской лужайкой, райским садом для молодости. Там мы собирались не для одного веселья, а часто устраивали литературные вечера, постановки драматических пьес – словом, каждый старался показать своё искусство. А теперь всё потеряно, революция всё сломала, опошлила всё высокое и мечты втоптала в грязь!.. А ты меня ещё осуждаешь за лишнюю стопку водки! С правой стороны на меня кто ни взглянет – ничего не скажет, чтобы не огорчить меня. Но подумает: «Передо мной физический урод…», – и прав будет. Нет-нет, погоди, ещё не всё сказал я в своё оправдание. Пушкин писал: «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит…». Неужели и он, великий Пушкин не мог увидеть, не мог создать цели для продолжения своей жизни? Ведь у него были дети и красавица-жена… Так почему же моё сердце не должно искать покоя? Ведь я всё и всех потерял, я остался один в чужой стране».
Никакие мои разговоры с Шурой не действовали, все попытки спасти его от алкоголя уже были бесполезны. Они только доводили его до слёз, до такого состояния безнадёжности, что, обхватив свою голову обеими руками, он падал на солдатскую кровать с матрасом из набитых соломой джутовых мешков – и плакал как дитя.
Было у меня с другом моим Шурой Подкорытовым четыре встречи, четыре беседы. И за это время я убедился в том, что этот человек уже ушёл из нашего мира – осталась только тень его. У Шуры открылась особенная, своеобразная философия, которая человека приуготовляет не к земной жизни, а к жизни вечной. В те дни, когда я его посещал, он был уже покорный раб своей судьбы, не способный бороться за существование. Решил я, было, две недели его не навещать, перерыв сделать в общении, столь болезненном для него. А тут прошло всего пять дней – и я услышал, что Подкорытов лежит в городской больнице, причём находится в тяжёлом состоянии. Надо было поспешить свидеться, отправился в тот же день.
В больнице пациентов можно было навещать после двух часов пополудни. Увы, в третьем часу, когда я пришёл туда, дежурная фельдшерица сказала: «Вчера в десять утра Подкорытов умер, сегодня в полдень его похоронили на городском кладбище».
Эпилог
После смерти Шуры прошло около шести лет. Я приехал в город Маньчжурия и в день Радоницы отправился на кладбище поклониться могилке незабвенного друга. А если там поблизости найду батюшку не совсем ещё уставшего, то надеялся попросить отслужить на этой могилке панихиду. К великому моему сожалению, могилы Шуры я не нашёл. При похоронах был поставлен там стандартный деревянный крест, на нём была сделана надпись: «Здесь покоится тело раба Божьего А. Подкорытова». Похоронен он был за общественный счёт на окраине кладбища, где могилы продавались по удешевлённой цене. На кладбище том сторожа не было, и оно не было обнесено оградой. А бедное китайское население этим воспользовалось, и для отопления своих убогих квартир китайцы стали деревянные кресты спиливать, выдёргивать из земли и уносить домой на топливо. Очевидно, и с Шуриной могилы тоже был унесён крест. В Маньчжурии в осеннее и весеннее время сильные ветра бывают, с этими ветрами, видно, занесло холмик песком, принесло семена и замаскировало Шурину могилу травой.
С тех пор, как мы повстречались с Шурой Подкорытовым в городе Маньчжурия, прошёл уже сорок один год, но его образ и все с ним связанные события, что перечислил я в своём повествовании, воскресли в моей памяти, как живые.
Всякий человек подходит к тому рубежу, когда чувствует, что неизбежно вскоре должен будет сойти с дороги жизни и другим уступить путь, по которому пойдут другие, более сильные, ибо дорога эта – для них. В этот момент человек начинает рассчитываться с жизнью, подводить итоги. Ему не идут на ум дни тяжёлых переживаний из прошлого, а, напротив, открываются всё новые светлые образы, и в этих образах он старается найти всё самое чистое, красивое – как целительное средство, избавляющее его от неизбежных страданий. Поэтому и я не могу пройти мимо воспоминаний о моём дорогом друге, у которого была удивительно чистая душа, искренне стремящаяся к созерцанию подлинной красоты и ко всему возвышенному.
Может быть, какой-то читатель осудит Шуру Подкорытова, назовёт его слабохарактерным, не имеющим силы воли, поскольку он не смог выполнить своих общественных обязанностей, которые даны человеку. Не смог преодолеть трудности и продолжить свой путь: жить, чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать, вместо того, чтобы, ссылаясь на злой рок, оставаться во власти этого рока. Но поверьте, такой приговор может оказаться не совсем справедлив. В пользу друга моего можно найти оправдание даже с логической точки зрения, обратив взор на его прошлое, на пережитое им в самом расцвете его юношеских, его светлых лет. Ведь Шура с детства привык видеть в жизни всё то гармоничное, что его окружало и к чему все близкие его стремились. Гимназические годы у него проходили в труде и в радости, и каждый год открывал ему всё новых людей, в которых он стремился искать доброту и таланты, а не видеть плохое. Раньше я упоминал, что по инициативе Шуры в их усадьбе часто устраивались литературные вечера. То есть это не были вечера для писателей, а просто устраивались совместные читки книг мировых классиков и их разбор, разговор о том, кто больше внёс вклад в словесность, кто ценнее оказался для общей культуры. Юному Подкорытову и мысли не приходило, что жизнь может быть иной. Он сознавал также и то, что в нём самом есть не просто способность, а талант – как как в музыкальном, так и в художественном искусстве. Но этот талант ему не пришлось применить – ни для себя, ни на пользу окружающим. Всё изменила война, революция… Судьба толкнула Шуру не на ту дорогу, по которой ему предназначено было идти, а туда, где всё было чуждо для него; она заставила его встать на воинскую стезю, где потребовалось ему быть начальником, учителем и другом подчинённых ему воинов, «отцом солдатам», которых он должен подготовить и как командир вести в бой. Поэтому и сказал он мне когда-то: «Я иду не по своей дороге, а ты меня подгоняешь, как обязанного по ней идти…».
И он был, конечно, прав. Уклад жизни всей семьи Подкорытовых был на редкость тих и красив. Ведь эта семья не имела рабов, которых эксплуатировали бы для удобства или повышения собственного благосостояния. Она жила на те скромные средства, что получал Павел Петрович как государственный чиновник. Несколько лет Клавдия Семёновна даже учительствовала, чтобы бюджет, который был нужен на жизнь семьи на и на образование детей, не истощился. Из этого бюджета Павел Петрович мог давать Шуре только небольшие деньги на необходимые расходы; экономия была видна во всём.
Я никогда не слышал, чтобы в семье Подкорытовых возникали противоречия и серьёзные споры на почве семейных порядков. И вдруг так неожиданно эта крепкая и дружная Подкорытовская семья рассыпается, как карточный домик!.. Павел Петрович, как уже упоминалось, был без суда и следствия расстрелян. И кем расстрелян – уголовными преступниками, выпущенными из тюрем! Слава Богу, у тех мужиков, которые его знали как доброго барина, рука на это не поднялась… Потом – скорая смерть Клавдии Семёновны… Принудительная работа для Зины… Судьба Миши, мечтавшего поступить в Технологический Институт – и оставшегося без ноги. Теперь он живёт в Чите и на культях своих ходит в общественную столовую как инвалид за тарелкой супа, в которую добро что попадёт одна-две картофелины да листок кислой капусты, и там же получает двести граммов чёрного хлеба в день. А нежный и скромный Шура под конец жизни, к тому же, и наделённый физическим уродством, оказался в чужой стране.
Как я ни пытался ему доказать, что алкоголь для его здоровья вреден, что надо постараться остановиться и прекратить пить, надо избрать какую-то цель в жизни и обязать себя жить, стремясь к этой цели, – но он не внимал мне. Снова и снова повторял: «Какую же я могу избрать себе цель? Теперь искусство не есть созерцание Истины, теперь в нём осталась одна мысль, и мысль эта для всех должна быть единственной; иной, свободной – не нужно. Если же народу дадут свободно мыслить, то он начнёт творить. А свободное творчество для коммунизма гибельно: он, потеряв свою жёсткую основу, разрушится, разлетится, обратится в ничто, как уничтожилась наша семья, да и не только наша – у нас на Руси таких семей множество… Вот, известно, что в последнее время уничтожено было несколько миллионов за три года. Что это, как не злой рок?», – вопрошал меня он.
Размышлял я об этом не раз и, в конце концов, пришёл к заключению: такие хрупкие и чистые люди, как Александр Павлович Подкорытов, в нашем греховном мире жить не могут. Они, видимо, нужны Богу.
20 августа 1966 года,
город Джилонг..
И в сказках своих не расскажут. Памяти первой российской эмиграции ХХ века
Посвящается Александре Феодоровне.
К одиннадцатилетию кончины Александра Васильевича Луппова
Можно сказать, не только с каждым годом, а и с каждым днём уходят от нас в вечность благородные люди из российской эмиграции. Вот уже прошло одиннадцать лет, как ушёл в вечный мир дорогой наш друг Александр Васильевич Луппов.
Он пришёл в Китай вместе с Белой Армией, перенёс Ледяной Поход, как и все те из доблестных борцов против красных, кто волею судьбы оказался на чужбине – и здесь остановился, избрав для себя новый жизненный путь в эмиграции. Здесь, в Северной Маньчжурии, на основании договора Царского Правительства было много рабочих и служащих из России, которые трудились на Северо-Маньчжурской и Южно-Маньчжурской железных дорогах. Это и привлекало российских эмигрантов, побуждая их избрать остановку именно тут, остановку пока временную, а дальше – будет видно…
Центром притяжения для эмиграции был город Харбин[132], где находилось Главное Управление Восточной и Южной китайских железных дорог[133]. Увы, это не давало особых преимуществ и, тем более, не обеспечивало полного удовлетворения жизненных потребностей эмигрантской интеллигенции. Легче было устроиться на любой чёрный труд солдату, чем офицеру найти себе место. Те, кто не смог найти в Харбине работу, которая позволила бы обеспечить себя куском хлеба, стали разъезжаться, рассасываться по провинциальным городам Манчжурии.
В поисках заработка, который мог бы обеспечить существование, в серой шинели на плечах Александр Васильевич Луппов пришёл в город Хайлар[134], имея при себе документы медицинского факультета Казанского Университета. Директор хайларской школы, которая уже в то время обладала правами гимназии, предложил ему должность преподавателя в старших классах по тем предметам, которые он сам изберёт. Многие в то время позавидовали бы Луппову, если б он принял предложение директора гимназии. Но Александр Васильевич педагогом быть не захотел, предпочёл избрать труд, который был более тесно связан с медициной. Тогда многие из российских эмигрантов стали заниматься медицинской практикой – и военные врачи, которые пришли в рядах Белой Армии, и медицинские работники, прибывшие в Харбин в первые дни революции.
Все города были переполнены беженцами, в жилплощади ощущался огромный недостаток, вследствие чего разных заболеваний среди народа было много, и зачастую обнаруживалась большая нехватка медицинского персонала. Учитывая такое положение, усиленно занимались медицинской практикой не только доктора, но и военные фельдшеры, за плечами у которых были только годичные медицинские курсы. Они избирали себе места для практической работы медиками в посёлках, где осели на жительство российские эмигранты.
Александр Васильевич на эти обстоятельства смотрел неодобрительно. Его благородство и честность не позволяли ему избрать такой путь для обеспечения заработка, несмотря на то, что он мог бы заниматься медицинской практикой по праву. Пройдя на родине один курс в Институте ветеринарных наук, он потом перешёл в Казанский университет на медицинский факультет и только с третьего курса университета был призван во время Первой Мировой войны на военную службу.
Действительно, занимаясь медицинской практикой, можно было тогда в короткое время неплохо обеспечить себя материально, но Луппов был к себе строг как к профессионалу: он считал, что, не закончив полный курс университета, будет ему нечестно браться за это дело. И потому, имея на руках документы из Казанского университета[135], а также документы об окончании Вятской Духовной семинарии[136], он решил представить их в отдел здравоохранения Харбинского Городского муниципалитета вкупе с заявлением о своём желании работать в аптеке.
В то время городские аптеки, можно сказать, хромали на обе ноги из-за отсутствия грамотных, образованных провизоров. Медицинский отдел здравоохранения Харбинского Городского муниципалитета, видя благородного человека с такими документами и со знанием латинского языка, подверг его, однако, предварительному испытанию, где и показал Александр Васильевич блестящие знания. По результатам испытаний ему были выданы документы на звание провизора. Чувствуя к работе фармацевта призвание, на ней он и остановился, вернувшись в Хайлар уже в звании провизора.
Не одну, а несколько городских аптек он своим честным трудом привёл в порядок. Он принципиально следил за тем, чтобы по рецепту врача аптека отпускала только качественное лекарство. В то время патентики[137] было очень мало, приготовление лекарств происходило прямо в аптеке из разных частей; так готовились специальные лечебные препараты – порошки и разные микстуры. При этом надо было учитывать и реакции химического взаимодействия между двумя или несколькими веществами, входящими в состав готовящихся лекарств. Если при этом новое вещество не получалось или что-либо вызывало сомнение, Александр Васильевич не останавливался только на фармакопее[138], а брал в руки книгу по фармакологии[139]. И если обнаруживал в назначении ошибку врача, то готовую микстуру выливал в помойку, а рецепт возвращал врачу, поскольку прекрасно знал, что выписанное лекарство будет для больного бесполезным. Это, безусловно, снижало в некоторой степени процент заработка аптекарей, и некоторые хозяева аптек, где он служил, были недовольны такой принципиальной позицией. Но, в то же время, везде в аптеках, где работал Луппов, клиентура вскоре увеличивалась.
Доктора и фельдшеры не обижались, когда Александр Васильевич возвращал им рецепты, ведь в таких случаях честный провизор выступал как ответственный контролёр рецептуры, и все ошибки, найденные им в прописи врача, предотвращали и лекаря, и пациента от случайных неприятностей. Поэтому все врачи, в конце концов, стали пациентов со своими рецептами направлять именно к Луппову, присовокупляя к ним наставление: «Там, у Александра Васильевича, Вы получите доброкачественное лекарство».
Я неоднократно слыхал от учениц, которые под его руководством осваивали практическую работу, готовясь на фармацевтов, что часто Александр Васильевич, заметив осадок на дне флакона в уже приготовленной ученицей микстуре, или необычный цвет, или мутную консистенцию её, выливал всё и приготовлял по тому же рецепту микстуру сам. Когда замечали ему, что выливать лекарство в помойку – для аптеки убыток, ответ всегда был один: «Пусть будет убыток, не важно, но я должен из аптеки отпускать лекарство такое, которое принесёт пользу больному. Я не спекулянт».
Дело своё он по-настоящему любил и всегда находился на своём месте. В городе Хайларе не было дежурных аптек, и если в неурочный час случалось с кем-нибудь внезапно какое-нибудь заболевание, то достать для больного нужное лекарство нигде невозможно было до утра, до той поры, пока не откроются аптеки. Но все знали, что в этой ситуации Александра Васильевича можно было поднять с постели в любое ночное время, и он безропотно вставал и отпускал то лекарство, которое требовалось пациенту.
Много лекарств отпускал он для бедноты, не беря с неимущих никаких денег. И заметно было, что, оказывая такую помощь многим, всякий раз в этих случаях он находил душевное удовлетворение и успокоение христианской своей совести. Часто отпускал в кредит лекарства и людям хорошо обеспеченным в материальном отношении, и всё это записывал в книжку на память. При этом привычки не имел просить этих людей погасить задолженность до той поры, пока не напомнит ему о том сам должник. Тогда Александр Васильевич заглянет в свою памятную книжечку и скажет, сколько тот должен.
Бывало, в свободную минуту станет просматривать свою книжку, куда записал на память суммы, кто и сколько ему должен, и начинает ставить в ней кресты, тихо сам с собою разговаривая: «С этого не получишь, ему самому ещё надо помогать, а не с него брать – крест… Этот недавно был в аптеке и брал лекарство, а про задолженность молчит: забыл или не хочет платить – крест…». И таким образом добрую половину должников из своей книжечки вычеркнет.
Очень много принимал он к себе в аптеку на практическую работу девушек, которые, поработав под его наблюдением, уезжали потом в Харбин на фармацевтические курсы.
Только работой интересы его не ограничивались. Около шести лет – два срока – Луппов был секретарём Ревизионной комиссии при проверке денежной отчётности в Правлении Бюро эмигрантов. Всю общественную работу Александр Васильевич выполнял без вознаграждения, считая её своей прямой обязанностью.
Кроме того, Александр Васильевич прекрасно играл на всех музыкальных струнных инструментах. И кажется, всё то, что он знал, все свои знания стремился передать другим, много личного времени посвящая музыкальным занятиям. Бывало, соберёт молодёжь школьного возраста, скажет им: «Хотите быть музыкантами – приходите ко мне по вечерам, я буду с вами заниматься. У кого есть гитары, мандолины, балалайки – несите с собой». Придут, принесут. Он проверит принесённые инструменты, настроит их. А те инструменты, в которых найдёт технические неисправности, оставит у себя, все недостатки устранит и отдаст потом ученику. Ученики у него были от десятилетнего возраста и включительно до тех, кто уже окончил гимназию. Думаю, не ошибусь, утверждая, что через его «школу музыки» прошло не менее восьмидесяти человек, и ни с кого не взял он ни одной копейки, ни гроша ломаного.
Одно преподавание его не устраивало – он создал струнный оркестр, в котором было около тридцати пяти участников. На все произведения, которые разучивали, ноты писал сам и раздавал всем участникам оркестра, чтобы они в свободное время дома могли упражняться. В неделю два раза делал репетицию – «сыгровку». И на ней делал отбор: кто уже может играть в оркестре, а кто ещё слаб.
Малоспособных к музыке или лентяев Александр Васильевич никогда не обижал, а старался поддержать интерес к занятиям. Обязательно найдёт такой вариант или особенность, которым в ученике разовьёт к музыке любовь – и смотришь, прежде плохой ученик своим старанием догонит впереди идущих. После урока или репетиции всегда сыграет на гитаре что-нибудь из красивых коронных вещей своего репертуара – и этим зачарует всех. И тот из учеников, кто поначалу в поту выколачивал свои удары по нотам, стараясь только не сбиться со счёта, а когда услышит его игру, воспрянет духом и усилит свои старания. Тем, у кого не было своих музыкальных инструментов, он давал свои собственные, запас у него был. Даст ученику свой инструмент, скажет: «Учись… Если из тебя будет толк, тогда и свой купишь».
Александр Васильевич, очевидно, обладал очень тонким слухом. Если кто-нибудь в его отсутствие взял в руки его гитару, настроенную им, то, когда он, не ведая о том, после этого человека брал её, то сразу замечал, что у кого-то инструмент уже побывал в руках, и тут же начинал его настраивать.
Помимо музыкальных дарований, он был и хороший шахматист. Если только узнает, что завтра кто-нибудь придёт составить с ним партию в шахматы, то непременно проштудирует по учебнику несколько партий: Алехина[140] с Эйве[141] или Ботвинника[142] с Ласкером[143], и применит в процессе игры какую-нибудь новую комбинацию из их партий – и успех всегда был на его стороне. В шахматной игре у него было три метода, и он от них никогда не отступал. Один из них – игра комбинационная; второй метод – игра активная: если он противника начинает прижимать, тогда уже «держит за жабры»; а третий метод игры – пассивная оборона, причём в конце игры преимущество всегда оставалось за ним.
При Бюро эмигрантов Луппов организовал шахматную игру для молодёжи. В этой организации участвовало около сорока человек. Когда это собрание шахматистов под его началом обрело строгую организационную структуру, он разбил всех игроков на категории. С игроками первой категории частенько играл на нескольких досках, и я не помню такого случая, чтобы он проиграл кому-нибудь хоть одну партию.
В любом из своих занятий Александр Васильевич очень много усилий и времени отдавал молодёжи, всё делая без с какой-либо корыстной цели, без малейшей выгоды для себя. Совершенно очевидный вывод один: он любил молодёжь. В зимнее время при Бюро эмигрантов были учреждены курсы сестёр милосердия, и он там был лектором. Притом ещё и находил время сходить на речку покататься на коньках вместе с молодыми воспитанниками.
Вся молодёжь города Хайлара, начиная от десятилетнего возраста и кончая абитуриентами, знала и любила Луппова. Не пройдут мимо него, чтобы не поклониться и не сказать: «Здравствуйте, Александр Васильевич!..» – а он на эти приветствия отвечал не словами, а улыбкой, и эту привычку его уже все знали. «В многоглагольствовании нет спасения», – частенько говорил он. Бывало, кого-нибудь из учеников спросит: «Ну, как твои дела по музыке (или по шахматной игре)?» – и этот ученик просияет уже от того удовольствия, что с ним разговаривает сам Александр Васильевич.
Я уже упоминал о том, что за всю свою общественную и наставническую работу Луппов не получал ни гроша, трудясь исключительно из любви к молодёжи и к искусству. Отдыхал он только в летнее время. Когда вскроются реки, пройдёт лёд, вода спадёт и сделается прозрачной, когда наступит тепло, тогда он уже заранее договорится с каким-нибудь Иваном или с Феодором, который должен будет его по воскресеньям возить на речку Аргунь[144] на ловлю удочками карасей и сазанов. К тому времени снасти для ловли у него уже приготовлены, и достаточное количество красных червяков для рыбалки уже копошатся в зарослях шиповника. Но и здесь отдых его временами наполнялся беспокойными мыслями об аптеке, в которой оставлял он на время своего отсутствия фармацевтку со своими ученицами. Абсолютного доверия к женскому полу у него не было. Слабость в них находил, понимал: не имеют они твёрдой уверенности в знаниях специфических наук, действуют со свойственной им женской логикой.
Памятью Александр Васильевич обладал превосходной. Бывало, кто-нибудь из учеников обратится к нему с вопросом: где стоит тот или иной препарат – и он, не отрываясь от собственной работы, ответит: «В витрине №3, слева второй штанглас[145]».
Не только русскую историю и мировую историю он знал хорошо, но знал и выдающихся деятелей всемирной истории, помнил, что́ каждый из них дал государству. Не было случая, чтобы он пропустил хоть одну крестословицу[146] и не смог бы её решить. За решение этих крестословиц типография выдавала призы. Конечно, нужно было вырезку с крестословицей послать в редакцию газеты, но он этого никогда не делал. Кто-нибудь предложит ему: «Александр Васильевич, пошлите решение этой задачи в редакцию, и Вы получите приз». Он на это отвечал: «Зачем мне всё это? Чтобы я был конкурентом для молодёжи? Нет, пусть этот приз получит кто-то из молодых, ему будет лестно и полезно».
Нельзя не упомянуть и следующий знаменательный случай. Однажды накануне праздника Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца, я закрыл свой магазин и, почувствовав физическую и умственную усталость, зашёл к Луппову в аптеку, которую он всегда закрывал только в десять часов вечера. Зашёл я к нему, сел на кресло, почувствовав неодолимую истому, и решил ко Всенощной в церковь не ходить, тем более, что служба уже шла более часа, и появиться в храме получилось бы, как принято говорить, только к шапочному разбору. Решил: лучше посижу и отдохну. Александр Васильевич тогда в аптеке был один: перед службой церковной он всегда отпускал из аптеки фармацевтку и учениц, и покупательниц в это время тоже не было. У нас с ним возник разговор о святителе Николае: о том, как его почитает наша Православная Русь, и как смогла русская эмиграция в Китае передать свою глубокую веру в Николу Чудотворца китайскому народу, почитающему чуть не за Бога Конфуция.
В буфете третьего класса на Харбинском вокзале стояла в киоте большая икона Николая Угодника, и в большом бронзовом подсвечнике рядом с нею всегда горело много свечей. Так что лик Святителя Николая иконописной художественной работы ярко освещался. Желающие поставить свечу клали десять копеек на большое блюдо и, взяв с этого же подноса свечу, тут же зажигали её и ставили перед иконой Святителя. Китайцы, наблюдая это, присматривались к святому образу, любимому русскими людьми, и многие из них тоже стали ставить свечи Николаю Чудотворцу. И говорили на ломаном русском языке: «Этот старика шибко добрый»…
В разговоре с Александром Васильевичем у нас получился маленький перерыв. Воспользовавшись этим, Луппов взял большой лист чистой бумаги и, стоя за конторкой, стал что-то писать быстрым размашистым почерком. Помнится, прошло не более получаса, и он, закончив писать на четвёртой странице, говорит мне: «Я написал отцу Феодору проповедь на завтрашний день, которую он мог бы прочитать после Литургии. Он молодой священник, мало ещё у него опыта и, можно сказать, нет ещё навыка читать проповеди без листка». Однако, хорошо зная его, я был уверен: Александр Васильевич, со свойственной ему тактичностью и осторожностью, и не желая чем-либо обидеть ни единого человека, написанную им проповедь отцу Феодору не предложит. Так и получилось. По моей просьбе проповедь эту прочитал он мне – и, не преувеличивая, скажу: такую проповедь редко услышишь. В городе Маньчжурии был очень сильный и талантливый проповедник епископ Иона, вот из его уст я слышал проповедь наподобие этой. Проповедь свою епископ Иона произнёс во время перенесения в собор иконы Николая Угодника, обновившейся в доме, где жила семья бедных эмигрантов Опариных, людей очень религиозных.
В нашей мирской суете мы часто бываем не в состоянии заметить и оценить добрые дела ближнего. Также и здесь, в своих описаниях, я не могу перечислить все многочисленные заслуги Александра Васильевича Луппова, вспомнить всё то доброе, что сделал он для нашей эмигрантской молодёжи, всю безукоризненно выполнявшуюся им общественную работу, которую возлагало на него Бюро эмигрантов. В нынешнем своём обозрении я отметил только те яркие штрихи его личности, над которыми при жизни его я нередко задумывался, восхищаясь его благородными поступками. Кротость и смирение – качества истинного христианина – отличали его до самой смерти.
Наша жизнь – как бушующий океан. Все мы подвержены общечеловеческому закону «борьбы за существование», вопросы политические и экономические часто занимают наши мысли, заставляя ум усиленно работать в поисках «за» и «против». Безусловно, при этом мы часто приходим в негодование, не находя в подобных размышлениях утешения и не обретая спокойствия. Луппов же был всегда кроток и твёрдо знал, что в ожесточённом споре никогда не приблизишься к истине. Дискуссию он признавал полезной только ту, когда стороны освещают свои взгляды спокойно. Если вдруг заметит, что оппонент начинает волноваться или принимать противоречащие ему взгляды близко к сердцу, он тут же прекратит разговор. Даже когда сам он не участвовал в споре, а только слышал спорящих между собой, в тот момент, когда спор переходил в острую форму, он уходил, слушая спорящих не желая. Он никому не делал замечаний, не стремился навязать свою мысль другому, ибо в этом видел мало пользы. Он признавал только одно: лучший способ убедить – когда человек даёт другим пример своими добрыми делами.
Я завидовал кротости и выдержке Александра Васильевича и всегда приписывал эти качества свойству его характера, но теперь убедился, что в этом я ошибался. Как многие из нас ошибаются, говоря: «У него золотой характер, он невозмутимый человек». Нет, такое рассуждение ошибочно. Каждый человек подвержен слабостям и страстям, каждый может порою возмущаться, проявлять гнев или зависть, может ненавидеть и, наконец, быть эгоистичным. Виссарион Белинский призывал: «Человек, отрекись от собственного «я», и тогда ты не будешь реагировать на нанесённые тебе твоими ближними обиды, тогда ты будешь больше любить ближнего и приблизишься к истине».
А разве Александру Васильевичу не причиняли неприятностей за его жизнь? Он жил в эмиграции, и у него испытаний было много, как и у всех нас. Но он ни в одном трудном случае не старался проявлять своё собственное «я», он умел себя держать в кротости. Быть может, это стоило ему больших трудов и усилий. Так что всё говорит за то, что положительные и отрицательные черты у человека определяются не свойством его характера, а свойством его здравого и цельного разума – целомудрием.
Надорвалось его сердце в тяжкие дни переживаний, настигших нас всех, живущих в городе Хайларе. В шесть часов утра, не успел Луппов встать с постели и выпить стакан чая, как город был подвержен бомбардировке с воздуха советской авиацией. В десять часов утра он пришёл к нам уже контуженный, и было уже заметно, что он потерял дар речи. Очевидно, благородное сердце Александра Васильевича не выдержало крови и разрушения, и в скором времени с ним случился сердечный припадок. Паралич сердца надолго приковал Луппова к постели. Спустя продолжительное время хайларские доктора, подлечив любимого своего друга, облегчили его состояние до такой степени, что он стал уже говорить, хотя и не совсем чисто, и смог подниматься с постели и сидеть в кресле. Однако тяжёлый сердечный недуг не оставил Александра Васильевича; он прогрессировал, мучая его, в течение нескольких лет. И за все годы тяжких испытаний никто не слышал от него ни слова жалобы, никакого ропота на то, что он страдает так мучительно. Терпеливо нёс он свой крест до самой смерти.
Проанализируешь жизнь Александра Васильевича Луппова за те годы, что знал его – и поймёшь её суть: этот человек за свой век сотворил очень много доброго для других людей и никогда не делал ближнему того, чего не хотел бы для себя. Притом, что жизненные потребности у него были те же, что и у всех прочих его окружавших людей. В каких бы условиях он ни находился, всегда был молчалив и кроток, был, по сути, олицетворением абсолютной честности, смирения и кротости. Луппов сочетал в себе всё то, что требуется от человека Законом Высшего Творца и Судии – тем Законом, что дан нам в Десяти заповедях Божиих. Он не говорил много о погибшей России, а за русский народ переживал, любя его куда больше тех многих, кто называл себя патриотами своей страны.
Темп жизни человечества во второй половине ХХ века так увеличился, что современный человек потерял покой. Теперь на первом месте в мыслях: как бы ему не отстать от других, а обязанности христианина любить друг друга ушли, покрылись мраком. Неужели приходит время, когда мы, как греческий философ Диоген в свою пору, днём с фонарём станем искать человека? Если к тому идёт, то, наверное, таких людей, как Александр Васильевич Луппов, который ушёл от нас на вечный покой, будущее поколение тоже будет искать днём с огнём… А может, и того хуже: и в сказках своих не расскажут, и в песнях о нём не споют?
21 сентября 1965 года,
город Маршалл.
Заметки из книги «Вселенские соборы» профессора богословских наук А.В. Карташева (Из записей Игнатия Волегова)
- Первый Вселенский собор в 325 году в Никее. На Востоке тогда стала распространяться арианская ересь[147], и Осий[148], придворный епископ императора Константина Великого, стал настаивать на том, чтобы собрать Вселенский Собор, и повлиял на решение императора. Открытие Первого Вселенского Собора осуществил Константин Великий. После длительных споров на Соборе император Константин Великий утвердил: «В “Символе Веры” слово “омоу́снос” означает “единосущее”». После этого догматы арианства в христологии были отвергнуты. В то время столпами Востока остались Антиохийцы, которые в своей формуле на поместном Соборе установили «Символ Веры» при участии пятидесяти девяти епископов.
- Маркелла[149] и всех Никейцев Запад и Рим признали.
- На поместном соборе в Сардиксе[150] произошёл раскол Востока с Западом. Главным виновником можно считать Маркелла с его учеником Фотином[151].
- Миланский Собор[152] в 355 году окончательно произвёл разрыв.
- Четвёртая Сирмийская формула[153] подписана западниками под давлением Урсакия и Валента[154] – придворных епископов императора Константина.
- «Лукиановский символ»[155] утверждён (принят) поместным собором Антиохийским при участии девяноста четырёх епископов.
- Юлиан Отступник[156] перед смертью воскликнул: «Ты победил меня, Галилеянин!».
- Западный богослов Иларий[157] одобрил «Символ Веры» Лукиана.
[1] Владимир Александрович Ольдеро́гге (1873–1931), русский и советский военный деятель.
[2] Вариант написания топонима: деревня Волегова; подчинялась волостному центру – селу Илим. Этимология по одной из версий: произошло от древнепермского «волег». Волег – древний языческий родовой бог некоторых племён коми-пермяков, коми-зырян – коренного населения Пермского края. Отсюда и название населённых пунктов – деревень, которые образовывали фамилии.
[3] Чу́совая (в верховьях – Полдневая Чу́совая) – река на Среднем Урале, левый приток реки Камы. Протекает по территории Челябинской, Свердловской областей и Пермского края России. Берёт начало на восточных склонах Уральского хребта, в Азии, пересекает его и затем протекает по его западным склонам в европейской части России.
[4] Ба́рка – деревянное плоскодонное несамоходное речное судно без палубы для перевозки грузов, применявшееся с начала XVIII века до конца XIX века на крупных водоёмах Российской империи.
[5] «Бойцами» называются береговые скалы, отвесно обрывающиеся в воду.
[6] Стро́гановы (Строгоновы) – род русских промышленников и помещиков, из которого происходили крупные землевладельцы и государственные деятели XVI-XX веков. С XVIII века – бароны и графы Российской империи.
[7] По имеющимся источникам, это было нападение башкир. Башкиры – исконное население Южного Урала, земли башкир при монголо-татарском нашествии вошли в состав Золотой Орды, башкиры ассимилировались и стали тюрко-язычными. Но, в отличие от татар, которые пришли из Средней Азии и являются монголоидами – тюркской народностью и по крови, и по языку, башкиры по крови – угры, они ближе по крови татарам московским, т.е. русским, являющимся мордвино-татарами или угро-тюрками.
[8] Электронная версия книги: http://hrono.info›text/podyem/voleg.html;
http://irkipedia.ru›sites…pdf/automat/ignatiy_volegov.pdf;
http://militera.lib.ru/memo/russian/volegov_ik/index.html.
[9] Институт унтер-офицеров в Русской Армии существовал с 1716-го по 1917 год. Воинский устав 1716 года к унтер-офицерам относил: сержанта – в пехоте, вахмистра – в кавалерии, а также каптенармуса, фельдфебеля, подпрапорщика, капрала, ротного писаря, денщика и ефрейтора. Положение унтер-офицера в военной иерархии определялось так: «Те, которые ниже прапорщика и своё место имеют, называются “унтер-офицеры”, т.е. нижние начальные люди».
[10] Кунгу́р – старый купеческий город в Пермском крае, официально основан в 1663 году. Отличается от большинства населённых пунктов Урала, поскольку возник как торговый город, а не рождён заводом. Расположен в Среднем Предуралье, в 90 км к юго-востоку от города Перми.
[11] Русско-японская война 1904–1905 годов между Российской империей и Японией за контроль над Маньчжурией, Кореей и Жёлтым морем.
[12] Так простой народ часто называл Первую Мировую войну, в которой Германия была главным противником Российской империи.
[13] Князь Николай Дмитриевич Голи́цын (1850 – 1925) – государственный деятель Российской империи, последний председатель Совета министров (27 декабря 1916 – 12 марта 1917).
[14] Российский фильм снят по мотивам одноимённой повести Леонида Юзефовича. Автор сценария и режиссёр Сергей Снежкин; оператор Сергей Мачильский; продюсеры – Эдуард Пичугин, Ольга Аграфенина. Содержание, фабула и круг действующих лиц повести в сценарии были подвергнуты серьёзным изменениям. Действие фильма разворачивается в Перми 25–26 декабря 1918 года. Фильм вышел в прокат 17 марта 2016 года продолжительностью 1 час 40 минут. Выход кинокартины сопровождался конфликтом между режиссёром и продюсером, в результате чего С. Снежкин и Л. Юзефович потребовали убрать их фамилии из титров.
[15] Владимир О́скарович Ка́ппель (1883–1920) – русский военачальник, участник Первой Мировой и Гражданской войн. Убеждённый монархист, один из руководителей Белого Движения на Востоке России. Генерального штаба генерал-лейтенант, главнокомандующий армиями Восточного фронта Русской Армии. Во всех боях Каппель проявил себя талантливым генштабистом. Его войска всегда совершали успешные манёвры и атаки противника с флангов и тыла, что зачастую приводило к победам при минимальных потерях. Каппелевцы сражались упорно, смело и яростно. В конце 1918 года, в ходе объединения антибольшевистских вооружённых сил Востока России возглавил Первый Волжский («Ка́ппелевский») корпус Русской Армии. В декабре 1919 года, приняв командование гибнущим Восточным фронтом, смог спасти армию от окружения под Красноярском и вывести её к Байкалу, хотя и ценой собственной жизни.
[16] Степан Аки́мович Оку́лов (1884–1934) – пермский революционер, затем функционер советского Зауралья. В годы Гражданской войны участвовал в подавлении контрреволюционных выступлений, в расстрелах и других акциях «красного террора». В конце 1917 года в Перми назначен красными на должность окружного военного комиссара, а с весны 1918 года исполнял обязанности губвоенкома. Пермский Губернский военный комиссариат, которым он руководил, в сентябре 1918 года, за три месяца до вступления в Пермь белых, переехал в здание бывшей семинарии. Доступ на территорию учреждения был закрыт, а впоследствии там обнаружили горы обнажённых трупов – свидетельство крайней жестокости и массовом характере проводимых расстрелов и издевательств над людьми.
[17] Историческая неточность. Священномученик Андрони́к (в миру Владимир Александрович Нико́льский; 1870–1918) – архиепископ Пермский и Кунгурский; духовный писатель; почётный председатель Новгородского и Пермского отделов «Союза Русского народа». Был зверски убит большевиками. Палачи отвезли его в лес по Сибирскому тракту в ночь на 7 июня 1918 года и заставили вырыть себе могилу, грозя закопать его живым. Закончив работу, Владыка помолился, поклонился на четыре стороны и лёг в своё последнее пристанище. Его начали закапывать заживо, затем несколькими выстрелами чекисты закончили свою «работу адову». Перед этим они сняли с Владыки архиерейский наперсный серебряный крест, на цепи от которого затем водили собаку. Владыка Андроник причислен к лику святых Русской Православной Церкви в августе 2000 года.
Репрессии против Церкви в Прикамье в 1918–1919 годах носили беспрецедентный характер; духовенства и мирян пострадало здесь больше, чем в какой-либо другой губернии России в этот период. Н.П. Агафонов сообщает, что в Пермской епархии физически было уничтожено не менее 140 лиц духовного звания. По данным Пермского епархиального совета в период красного террора на территории Пермской губернии к маю 1919 года погибли 111 служителей Церкви. Только в декабре 1918 года мученическую кончину приняли более 20 служителей Церкви. В Каме в ночь на 17 декабря были утоплены три пермских протоиерея: Алексий Сабуров, Иоанн Пьянков и Николай Яхонтов. 17 декабря вместе с десятью прихожанами своей церкви был расстрелян диакон с. Сылвино-Троицкого Пермского уезда Василий Кашин. 23 декабря в Перми был расстрелян вместе с сыном, бывшим офицером, священник Преображенской церкви Чердыни Евграф Плетнёв. В ночь на 24 декабря мученическую кончину принял временно управляющий Пермской епархией епископ Соликамский Феофан (Ильменский), с ним вместе убиты три священника и пять мирян. 29 декабря Оханская ЧК расстреляла семь граждан города и священника собора Владимира Алексеева, который после казни был сброшен в Каму. 30 декабря были изрублены саблей протоиерей церкви села Култаева Пермского уезда Николай Бельтюков и священник той же церкви Александр Савелов [https://www.pravperm.ru/2022/10/03].
[18] Анатолий Николаевич Пепеля́ев (1891–1938) – русский военачальник, участник Первой Мировой и Гражданской войны, генерал-лейтенант. На фронт Первой Мировой пошёл поручиком 42-го Сибирского стрелкового полка, а революцию встретил уже подполковником. Наделённый богатым стратегическим мышлением, блестящий тактик, человек редкостного личного обаяния, за воинскую доблесть он был награждён шестью орденами, в том числе «Георгием» IV степени и Георгиевским оружием. Популярность его среди нижних чинов была огромной, до самого конца вокруг него было довольно много простых по происхождению людей, которые прозвали Пепеляева «Сибирский Суворов». Воевал на стороне белых на Восточном фронте, отличился занятием Перми 25 декабря 1918-го и знаменитым освободительным Якутским походом белогвардейцев от Томска до Читы в 1922–1923 годах. Один из самых молодых генералов в истории России. Родной брат председателя Совета министров Российского правительства Виктора Николаевича Пепеляева. После добровольной сдачи в плен в 1923 году провёл в местах заключения почти 15 лет, после чего был расстрелян.
[19] Очень распространённый топоним в Пермском крае. Возможно, речь идёт о деревне «Лысая Гора», основанной в 1834 году чердынцами (ныне в Чернушинском районе в составе Павловского сельского поселения в 11 км к востоку от города Чернушки).
Ещё одна «Лысая гора» – ландшафтный памятник природы, особо охраняемая природная территория – находится за селом Вторые Ключики в Ординском округе.
У реки Ирень также есть примечательная местность, именуемая «Лысая гора», причём на отвесном краю горы под ногами в густой траве ощутимо выделяется ров – остатки окопов Гражданской войны. Эта высота контролирует основную дорогу, проходящую по долине Ирени. Поставь здесь артбатарею – и будешь полностью контролировать подступы, а взять такую кручу лобовой атакой невозможно.
Также красивое скальное обнажение, называемое «Лысой горой», расположено у правого берега реки Мулянка. Высота скал 10–15 метров, длина около 40 метров. Вопреки названию, гора покрыта сосновым лесом. У подножия бьёт несколько ключевых родников. Ниже скал лежит осыпь, состоящая из песка и обломков песчаника.
[20] Лы́сьва – город краевого значения в Пермском крае, расположен в 86 км к востоку от Перми, название получил по одноимённой реке (от коми-пермяцкого: лыс – «хвойный», ва – «река», то есть «река, текущая по хвойному лесу»). Лысьвинский металлургический завод основан в 1785 году семьёй князя Бориса Григорьевича Шаховского. Завод специализировался на производстве чугуна и изделий из него. Одно из старейших предприятий Урала, сегодня завод – единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе.
[21] Классный вагон (устар.) – пассажирский вагон, в отличие от товарного. Вагоны на всех русских железных дорогах общего пользования, принадлежавших ведомству «Министерства путей сообщения», независимо от того, акционерные они или казённые, с 1879 года окрашивали, чтобы издали было видно, кто и как едет. I класс – синий; II класс – жёлтый, светло-коричневый или золотистый; III класс – тёмно-зелёный; IV класс – серый. И, плюс к тому, на борту писали, какой класс. В 1914 году в России было пассажирских вагонов: 1401 мягких I класса, 1642 мягких микст I и II классов, 3697 мягких II класса, 330 микст II и III классов, 10 611 жёстких III класса, 7174 жёстких IV класса, 509 для заключённых, 652 санитарных, 1298 служебных, 771 почтовых, 2190 багажных, 540 вспомогательных и 341 прочих. Законодательство 1892–1896 годов акционерные железные дороги обязывало приобретать подвижной состав, в том числе и пассажирские вагоны, только отечественные.
[22] Деревянная перегородка, отделяющая одну половину избы от другой.
[23] Старший из нижних чинов, воинское звание и должность унтер-офицерского состава кавалерии и артиллерии в армиях некоторых европейских государств, а также в Русской Армии. Офицеры этого ранга отвечают за строевую подготовку солдат, хозяйственное положение гарнизона, а также выполняют приказы от вышестоящих офицеров. В их обязанности входит поддержание порядка на вверенной им территории, а также боевая и военная подготовка вновь прибывающих казаков. В старину также они отвечали за состояние лошадей, конюшен, поставки фуража и их качество.
[24] Унтер-офицерское звание в казачьих войсках Русской гвардии и Армии. Претендовать на звание младшего урядника мог человек, прослуживший не менее 9 месяцев. «Младший урядник» соответствует в современной Российской Армии званию «младший сержант». Это звание может получить служащий, назначенный командиром взвода.
[25] Особенности механизма привода.
[26] Основным средством передвижения русских жителей Среднего Прииртышья в тот период времени был колёсный транспорт с запряжкой лошадей. Местные жители использовали телеги для перевозки грузов и людей в семейных потребностях или для заработка. Одним из распространенных видов телег являлась бричка – универсальный тип колёсного транспорта в деревне, с помощью которого транспортировали людей, а также груз. Бричка представляла собой деревянный короб прямоугольной формы, длиной около 2 м, поставленный на 2 пары колес. Ходок по строению ходки мало отличаются от брички, но используется только для перевозки людей. Короб у ходка меньшего размера (около 1,5 м), и он изготавливается из черёмухи, тальника или других хорошо гнущихся пород дерева. В деревне ходки часто превращались в элемент престижа. Их украшали для выезда в другие деревни или на праздник. Иногда хозяева покупали ходки ремесленного производства.
[27] Ро́звальни – низкие и широкие сани без сиденья, с расходящимися врозь от передка боками.
[28] Свободный от работы, остающийся без использования скот (народно-разговорное).
[29] Отдельная усадьба, промысловая хозяйственная постройка, а также небольшой посёлок за пределами основного селения. Так называли (чаще в Сибири) поселение и земельный участок, занятый кем-либо по праву первого владения, вдали от освоенных территорий. Также в уединённых и глухих участках, в лесной глуши, по берегам рек, строили заимки для охоты, рыбалки. Первые охотничье-рыболовные заимки появились на Руси ещё во времена Ивана Грозного. В Восточной Сибири каждый загородный дом (дача) назывался заимка.
[30] Симментальская порода крупного рогатого скота, выведенная в Швейцарии в долине реки Симма, одна из древнейших. Предки её были завезены из Скандинавии в V веке. К середине ХIХ века в результате подбора и отбора превратилась в высокопродуктивную молочно-мясную породу, широко распространённую в Европе.
[31] Голландская – одна из древнейших пород коров молочного направления, выведена в Нидерландах.
[32] Одно из старейших и крупнейших машиностроительных и металлургических предприятий Российской империи, СССР и современной России. Кировский завод (с 1868 до 1922 года – Путиловский завод) был основан в апреле 1801 года как чугунолитейное предприятие, выполнявшее заказы по производству артиллерийских боеприпасов. С 1812 года завод начал развивать машиностроительное направление, приступив к изготовлению паровых машин. Одновременно было освоено художественно-литейное производство, завод участвовал в создании архитектурных ансамблей и монументально-скульптурных памятников Петербурга и пригородов.
В 1868 году завод был приобретён известным российским инженером и предпринимателем Н.И. Путиловым, который за 12 лет превратил предприятие в многопрофильный машиностроительный комплекс. В кратчайшие сроки завод стал основным поставщиком рельсов для железных дорог России, освоил выплавку качественных сталей, производство боеприпасов, вагонов, пушек, орудийных башен для броненосцев, инструментов, крупногабаритных металлоконструкций, других видов промышленной продукции, многие из которых – по собственной технологии.
[33] Со́тник – военный чин в казачьих войсках дореволюционной России, соответствовавший чину поручика в регулярных войсках.
[34] Беке́ша – овчинный однобортный полушубок, обычно чёрного или бежевого цвета, с двумя карманами с листочками, отрезной в талии. Для удобства солдат в бекеше предусмотрена юбка ниже линии талии, со складками и разрезом сзади, что позволяет бегать и ездить на лошадях. За счёт своего материала и покроя бекеша помогает выдерживать очень сильные морозы и не сковывает движения при ходьбе. Использовалась в армии в качестве спецобмундирования, в том числе и в армии СССР.
[35] Борча́тка – овчинная шуба со сборками по талии, традиционная одежда Иркутской области.
[36] Венге́рка – короткая куртка из сукна с нашитыми на груди поперечными шнурами по образцу формы венгерских гусар.
[37] Небольшая папаха.
[38] Мерлу́шка – густой, с крупными завитками мех из шкуры ягнёнка.
[39] Чарга́ – чай с молоком, традиционный напиток монголов, татар, калмыков, бурятов.
[40] Тёплые войлочные бесшовные сапоги из овечьей (козьей, кроличьей, верблюжьей и др.) шерсти, сделанные (свалянные, скатанные) особым способом на специальной колодке, традиционная зимняя обувь народов Евразии, используемая для ходьбы по сухому снегу. «Катанки» – распространённое сибирское, казачье название валенок.
[41] Здесь: обеспечение питанием или продуктами, необходимыми для приготовления пищи.
[42] Продукты для приготовления горячей пищи (воен.).
[43] Железнодорожная станция в Приморском крае, расположенная у границы с Китаем и являющаяся железнодорожным пограничным перевалочным переходом. В прошлом Гродеково – станция исторической Китайско-Восточной железной дороги, первая крупная грузовая и пассажирская станция на Российской территории, на которую прибывал поезд, следовавший с запада через территорию Китая.
[44] Город, расположенный в Раздольно-Ханкайской низменности на расстоянии около 100 км от Владивостока в котловине между сопками на берегах трёх рек: Комаровка, Раковка и Суйфун (река Суйфун сейчас называется Раздольная). По результатам Айгуньского договора (1858) и Пекинского трактата (1860) между Российской империей и Маньчжурской империей Цин, Приамурье и Приморье (Южно-Уссурийский край) официально вошли в состав России. В 1866 году на юге Приморья было основано небольшое село, названное в честь святителя Николая, Угодника Божьего, Никольским. Городом село стало по Указу Николая II в 1898 году в память то том, как двадцатитрехлетний цесаревич Николай, совершая своё Восточное путешествие, остановился там, проехав на лошадях около ста вёрст от Владивостока. К названию Никольска добавили «Уссурийский», указывая, что город находится в Уссурийском крае. Поскольку населённый пункт посвящался и находился под покровительством святителя Николая Чудотворца, до 1930‑х годов здесь возвышался огромный православный Никольский собор. Закладка собора состоялась в 1894 году, когда на Царский престол взошёл Николай Александрович Романов, завершилось строительство в 1901‑м. Собор в пятьдесят один метр высотой, способный вместить две тысячи молящихся, словно указывал на имперское достоинство города Никольск-Уссурийского. Собор взорвали большевики, и на месте его сейчас стоит военный штаб, в котором есть небольшая домовая церковь.
При советской власти город был переименован: сначала в 1926 году – в Никольск-Уссурийск (для отличия его от Никольска в Вологодской области). Позже название «Никольск» и вовсе стёрли, убрали. С 1935 по 1957 год это был город «Ворошилов» (по фамилии советского военачальника Климента Ворошилова). После смерти Сталина и прихода к власти Хрущёва город был переименован в Уссурийск, сохранил это название и ныне. Сейчас это российский административный центр городского округа Приморского края, третий по населению после Владивостока и Находки.
[45] Село на левом берегу реки Раздольной, расположенное примерно в 20 км от её впадения в Амурский залив и вытянуто вдоль реки на 14 км, одно из старейших российских населённых пунктов на территории Приморского края. Ему положил начало военный пост, основанный в 1860 году и состоявший из Третьего линейного батальона, а затем к нему приселились крестьяне-выходцы из разных губерний Европейской России. По сообщению «Владивостокских епархиальных ведомостей» (№17 от 1 сентября 1908 г.) история села Раздольного начинается с 1866 года, когда здесь в сплошной тайге был образован для сопровождения почты (между Владивостоком и с. Никольским) военный пост из 15–20 оставленных матросов-инвалидов. Через год после основания поста тут побывал военный разведчик и путешественник Н.М. Пржевальский, оставивший потомкам важные свидетельства очевидца. В своей книге «Путешествие в Уссурийском крае. 1867–1869 гг.» он пишет: «В самой южной части степной полосы расположены две наши деревни – Никольская и Суйфунская (Раздольное)… Как Никольская, так и Суйфунская (Раздольное) основаны в 1866 г., одновременно с селением Астраханским и выходцами из тех же самых губерний, то есть Астраханской и Воронежской. Но здешним крестьянам с первого раза не повезло, и в мае 1868 г. обе деревни были сожжены партией китайских разбойников (хунхузов), ворвавшихся в наши пределы». В конце книги он указывает в примечании к тексту: «Хотя деревня Никольская и Суйфунское поселение ещё не успели как следует обстроиться после недавнего погрома от хунхузов, но благодаря превосходной местности, на которой они расположены, крестьяне уже достаточно поправились в своих материальных средствах и живут довольно хорошо». Позже гарнизон Раздольного был усилен, здесь разместились стрелковый батальон, преобразованный к приезду цесаревича Николая в 1891 году в Первый стрелковый Его Императорского величества полк, Восточносибирская рота искрового телеграфа, 1‑й, 2‑й, 3‑й летучие полки, 6‑я строительная войсковая комиссия. В селе Раздольное также квартировал Приморский драгунский полк – одно из самых известных регулярных кавалерийских соединений русской армии на Дальнем Востоке. Известный промышленник М.И. Янковский поставлял сюда лошадей, выращенных на собственном конном заводе. В период Первой Мировой войны в селе проживали военнопленные вражеских держав, в основном из Австро-Венгрии.
Современное Раздольное – посёлок в Надеждинском районе Приморского края. Вместе с сёлами Нежино и Тереховка, посёлками Оленевод, Алексеевка, Тимофеевка, Городечный, Горный, Тихий и некоторыми другими, включая железнодорожные станции (всего 13 населенных пунктов) образует Раздольненское сельское поселение. Через Раздольное проходит Транссибирская магистраль, на которой находится одноименная с посёлком железнодорожная станция. Расстояние по автодороге до Владивостока составляет 58 км, до Уссурийска – 34 км.
[46] Жители Уссурийского края (по названию реки Уссури, протекающей в Приморском и Хабаровском крае на Дальнем Востоке и в Китае).
[47] Массовое переселение русских и малороссийских (украинских) крестьян морем началось с 1883 года, когда были организованы их перевозки в Южно-Уссурийский край из европейской России морем – рейсами пароходов Добровольного флота из Одессы. Как известно, партии переселенцев после прибытия во Владивосток должны были следовать вглубь края. При этом не только заселялась долина реки Раздольной: вновь прибывающие ехали далее, в другие районы Приморья, используя сухопутный способ передвижения.
[48] Основана в 1883 году на правом берегу реки Абрамовка – Никольск-Уссурийский уезд, Григорьевская волость. Сегодня – село, входит в Новошахтинское сельское поселение в составе Михайловского района Владивостокского округа Дальневосточного края.
[49] Ра́доница (также Ра́дуница) – день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в традиции Православной Церкви (у восточных славян), празднуется на Фоминой неделе на девятый день после Пасхи.
[50] Первое воскресенье после Пасхи.
[51] Чарка, выпиваемая на прощанье, перед тем, как гости разойдутся по домам (буквально: когда засидевшихся гостей хозяева выпроваживают – прогоняют, «разгоняют» – со двора).
[52] Ручной ткацкий станок для изготовления тканей кустарным способом.
[53] Право на выделение доли и предоставление в полное владение части общего имущества.
[54] «Книга, называемая Домострой» – памятник древнерусской литературы, сборник наставлений. Появилась в XVI веке благодаря духовному наставнику Ивана Грозного протопопу Сильвестру, выходцу из богатых купцов Великого Новгорода. Сильвестр был, скорее, не автор книги, а её составитель и редактор. Считается, что в основу книги легли многие уже существующие источники как русского, так и европейского происхождения. «Домострой» по сути был энциклопедией русской жизни. Книга делилась на три части: Отношение к Церкви и царской власти; Внутрисемейные отношения; О ведении домашнего хозяйства.
[55] Сноха́ – жена сына.
[56] Бёрдо – известное с древних времён орудие труда для ручного ткачества – приспособление в виде частого гребня.
[57] Челно́к – рабочая деталь ткацкого станка, прокладывающая поперечную нить при выработке ткани.
[58] Чесуча́ – плотная ткань с матовым блеском и фактурной поверхностью. Разновидность шёлка, так называемый «дикий шёлк», который производится из волокон бабочки-павлиноглазки.
[59] Название коренных русских в Сибири и их потомков.
[60] Китайский Новый год – Чуньцзе (Праздник весны) – является для жителей Поднебесной самым важным праздником, китайцы его отмечают уже более двух тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Обычно эта дата выпадает на период между 12 января и 19 февраля.
[61] В Древнем Китае религиозные воззрения приобрели характер философских учений, которые взаимно дополняли друг друга. Основателем конфуцианства стал философ Кун Фу-Цзы («Учитель Кун»), живший в 551– 449 годах до н.э. и обожествлённый после смерти (его имя европейцы трансформировали в Конфу́ций). Философ разработал стройное учение, целью которого было создание идеального государства, управляемого мудрым царём, руководствующимся Разумом и Законом. Чтобы достичь этого идеала в жизни, нужно было всем без исключения жителям станы неукоснительно соблюдать «ли» (Установления, Ритуалы, Церемонии) и почитать Прошлое, подчиняя свою жизнь традиции. Основы философии Конфуция были изложены позже его учениками в трактате «Лунь юй» («Беседы и суждения»). Конфуцианство – западный термин, не имеющий эквивалента в китайском языке. Учение великого Конфуция до сих пор является образцом для поведения граждан Китайской Республики.
[62] Чифа́н – буквально: «еда, пища». Наиболее распространён на Дальнем Востоке России. Слово пришло из Китая, где обозначает глагол «кушать» (есть рис).
[63] Последний, пятнадцатый день первого лунного месяца по китайскому календарю – Юаньсяоцзе, или Праздник фонарей, который большинство китайцев любят больше, чем сам Новый Год: в этот день в небо по древней традиции поднимается множество фонариков, что создаёт незабываемое зрелище.
[64] Китайская водка, приготовляемая из проса (буда), с содержанием этилового спирта от 40% до 70%.
[65] Пласту́нские – т.е. пешие разведывательно-сторожевые казачьи подразделения, занимавшиеся разведкой, диверсионными и поисковыми мероприятиями. Традиция пеших разведчиков, авангардных войск и засад вместе с термином «пластуны» относится к ранней казацкой истории Запорожской Сечи. Название «пластун» выводят из малороссийского слова «пластува́ти» – «ползти». Предшественники войск специального назначения (спецназа).
[66] Николай Андреевич Остянко (1926–1986) – выпускник Варшавской православной семинарии, священник (1958), протоиерей. С 1962 года проживал и служил в Австралии в городах Мельбурн, Джилонг, Саут-Ярр.
[67] Опасный вид насекомых – крупные муравьи, вооружённые длинными и мощными искривлёнными челюстями-жвалами. Во время укуса они пускают в организм своей жертвы сильный яд понератоксин, вызывающий мучительную боль. По мнению некоторых исследователей, это вещество гораздо опаснее яда, содержащегося в жалах любых пчел или ос. Укус вызывает интенсивные и продолжительные болевые ощущения, которые не проходят несколько дней. Возможна сильная аллергическая реакция.
[68] Пу́лька (от фр. poule) – 1) в карточной игре (преферанс) то же, что и партия: «сыграть пульку» – значит «сыграть партию»; 2) в денежных играх также – ставка, общий вклад, который получает выигравший.
[69] Манифест от 20 июля (1 августа н.ст.) 1914 года объявлял подданным Российской империи о её вступлении в войну с Германией. Документ объяснял мотивы начавшейся войны: Россия заступилась за братский сербский народ и за это подверглась нападению врага.
[70] Ломово́й изво́з, предназначенный для транспортировки тяжёлых грузов, получил распространение в середине XIX века. Эта особая группа извозчиков была не только перевозчиками грузов, но также и грузчиками, она имела специальные значки.
[71] Пуд – единица измерения массы в дореволюционной России, равная 16,36 кг. Пуд был отменён советской властью в 1924 году. В Российском государстве колокола, которые достигали веса более тысячи пудов называли «тысячниками». «Тысячепудовый» здесь – образное выражение, имеются в виду самые большие, тяжёлые колокола. Такими были и так называемые набатные колокола, с помощью которых со средних веков оглашали жителей о каком-либо бедствии и собирали народ. Набат отличался особым характером звона, отличным от благовеста церковного.
[72] Город Ораниенбаум основан в 1710 году, расположен на южном берегу Финского залива в устье реки Караста. Название Ораниенбаум город сохранял до 1948 года, когда был переименован в город Ломоносов.
[73] Технологию шоссейных дорог в России утвердили особым сенатским приказом в 1786 году, повелев делать двухслойную конструкцию дорожной одежды. Нижний слой её составлял щебень размером с «малое куриное яйцо», на этот слой укладывали камни, которые требовалось «уколотить поплотнее ручными бабами и выровнять катками, железными и каменными». Такое дорожное покрытие как асфальт в Санкт-Петербурге использовали впервые в 1839 году.
[74] Офицерская стрелковая школа преобразована из Учебного пехотного батальона в 1882 году для «подготовки ротных командиров теоретически и практически к самостоятельному выполнению обязанностей, лежащих на ротном командире, и ознакомление их со стрелковым делом». Она размещалась в Ораниенбауме на Елизаветинской улице (в наст. время ул. Костылева). В Школу принимали капитанов пехоты не старше 45 лет, имевших ценз командования ротой не менее двух лет, готовившихся к занятию штаб-офицерских должностей (командиров батальонов). Срок обучения составлял 7 месяцев (1 февраля –1 сентября). Школа имела свою оружейную мастерскую, баллистический кабинет, музей оружия, фехтовально-гимнастический зал, тир для стрельбы на большую дальность и образцовый ружейный полигон.
С 1900 года при Школе выходило первое в России специализированное периодическое издание – «Вестник Офицерской стрелковой школы» (два раза в месяц с четырьмя ежегодными приложениями). С 1904 года при Офицерской стрелковой школе существовал пулемётный отдел, который во время Первой Мировой войны выполнял функцию армейского пулемётного центра и выпустил сотни пулемётных команд.
[75] Филатов Николай Михайлович (27.09.1862–24.02.1935). Награждён орденами св. Станислава (1,2,3 ст.), св. Анны (1,3 ст.), св. Владимира (1,2,3 ст.). С 1918 по 1922 гг. – начальник Стрелковой школы командного состава РККА, начальник оружейно-патронного отдела ГАУ. Позже председатель стрелкового комитета в РККА и в инспекции пехоты. Герой Труда (1928). Автор ряда трудов по теории и практике стрелкового дела. Умер в Москве. Похоронен на Даниловском кладбище.
[76] Во время Первой Мировой войны для восполнения больших потерь офицерского состава армии открыты краткосрочные военно-учебные заведения по подготовке офицеров военного времени – прапорщиков. К концу 1914 году уже насчитывалось 11 таких школ с 3–4‑месячным сроком обучения. Выпускники их не пользовались правами офицеров действительной службы (кадровых офицеров), не могли производиться в штаб-офицерские чины и по демобилизации армии подлежали увольнению в запас или ополчение. Комплектовались школы прапорщиков лицами с высшим и средним образованием, годными к военной службе, студентами и вообще любыми лицами, имевшими образование хотя бы в объеме уездного или высшего начального училища, а также отличившимися на фронте солдатами и унтер-офицерами. В школы могли поступать и гражданские чиновники призывного возраста.
Школы прапорщиков готовили в основном офицеров пехоты, но было также по одной школе прапорщиков инженерных и казачьих войск. В 1916 году для подготовки офицеров из воспитанников высших учебных заведений выделено 12 пехотных школ прапорщиков и одна школа прапорщиков инженерных войск на 500 человек каждая. Имелось в виду построить обучение исходя из высокого образовательного уровня юнкеров. Но после одного выпуска эти школы были переформированы в школы прапорщиков общего типа.
С 1884 года чин прапорщика был оставлен только для военного времени и присваивался только во время войны, а с её окончанием все прапорщики или подлежали увольнению в отставку, или им должен был быть присвоен чин подпоручика.
[77] Звание, которым удостаивались лучшие из юнкеров специальных и военных училищ за отличное исполнение служебных обязанностей при хорошей нравственности и успехах в науках. Промежуточное по своему правовому статусу между званиями унтер-офицеров и обер-офицеров. В Русской Армии так назывались юнкера, фактически выполнявшие обязанности офицеров. Звание было установлено в 1788 году для отличия лучших подпрапорщиков из дворян. По выслуге трёхлетнего срока, по удостоению командира-начальника, в порядке старшинства и на имеющиеся вакансии, портупей-юнкера производились в первый офицерский чин – прапорщика.
[78] Павловское военное пехотное училище существовало с 1794 года по 6 ноября 1917 года в Петербурге. В его основе последовательно: Гатчинский сиротский дом; Дом военного воспитания; Императорский военно-сиротский дом; с 1829 – Павловский кадетский корпус. Как Первое военное Павловское училище создано в августе 1863 года по указу императора Александра II из специальных классов Павловского кадетского корпуса, передавшего училищу своё знамя. Первоначально обучение было двухгодичным, а штат училища составлял триста юнкеров, с 1882 года – четыреста юнкеров. С началом Первой Мировой войны штат был увеличен до тысячи юнкеров, а курс обучения сокращён. В Училище преподавались тактика, военная история, артиллерия, фортификация, военная топография, законоведение, военная администрация, Закон Божий, русский, французский и немецкий языки, механика и химия.
[79] Открыто как Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище в 1869 году; в 1908–1910 гг. именовалось Санкт-Петербургским военным училищем. Имело одну роту в составе двухсот юнкеров, с 1901 года число обучавшихся было увеличено до четырёхсот. В 1910 году указом императора Николая II училищу присвоено название «Владимирское военное училище» в честь великого князя Владимира Александровича Романова. С началом Первой Мировой войны училище перешло на сокращённый срок обучения, и штат училища был увеличен до 885 юнкеров.
[80] Манёвр (от франц. manœuvre — действие, операция), в военном деле – организованное передвижение войск (сил) в ходе выполнения боевой задачи в целях занятия выгодного положения по отношению к противнику и создания необходимой группировки войск (сил) и средств, а также переноса или перенацеливания ударов и огня для наиболее эффективного поражения группировок и объектов противника. Видами манёвра являются: охват, обход, смена района (позиций). Выделяются манёвры оперативно-стратегический (на театрах военных действий) и тактический (на поле боя). В данном случае речь идёт о неверных действиях из-за незнания тактического манёвра во время боя в ходе выполнения боевой задачи.
[81] «Взятые от сохи новобранцы и не проходившие раньше службы в войсках ратники второго разряда попадали в запасные полки. Эти организационные соединения насчитывали по 20000–30000 человек при офицерском и унтер-офицерском составе, рассчитанном на обыкновенный полк в 4000 штыков. Роты этих запасных полков – по 1000 человек и более – приходилось делить на «литерные роты» в 250–350 человек. Литерной ротой командовал прапорщик, часто только что выпущенный, имевший помощниками двух-трёх унтер-офицеров и иногда ещё одного прапорщика, столь же неопытного, как он сам. Оружие имелось в лучшем случае у половины обучаемых, обычно же винтовка приходилась на звено…», – так описывает А.А. Керсновский в своей «Истории Русской Армии» запасные армейские части в пору Первой Мировой войны.
В современной армии также существуют литерные подразделения. В номере литерной части есть не только цифры, но и буквы («литеры»), которые присваиваются для удобства распознавания такой части, например, в/ч 50000 «А». Командир такой части не обладает правом издания приказов по личному составу. Литерная часть – просто подразделение другой части, которое не является полностью самостоятельным по большинству вопросов служебно-боевой деятельности.
[82] Нестроевой состав в Русской Армии в конце XIX-начале XX века – это или молодые солдаты, признанные годными к несению военной службы в нестроевых частях (не связанных с действиями войск в строю, в отличие от строевых частей и должностей), а также старослужащие, переведённые со строевой службы на нестроевую по состоянию здоровья. К нестроевому составу относились музыканты, мастеровые, писари, фельдшеры и другие, делились на рядовых и унтер-офицеров, которые имели разные сроки службы и нормы довольствия.
Перед Первой Мировой войной на девять строевых обер-офицеров приходился один нестроевой; среди штаб-офицеров соотношение составляло уже 1,5 к 1, а среди генералов – даже 0,7 к 1. Чем выше были чины, тем больше офицеров в этих чинах занимали нестроевые должности. В общей сложности в 1908 году нестроевые офицеры составляли около 19 тысяч человек против 25,5 тысяч строевых. Иными словами, почти половина офицерского корпуса не имела отношения к строевой службе. Помимо этого, многие строевые офицеры были заняты решением хозяйственных вопросов.
[83] «Святого Станислава» – орден Российской империи, существовал с 1831 до 1917 года. Первоначально был учреждён польским королем Станиславом-Августом Понятовским в 1765 году, который был тёзкой святого, давшего имя награде – краковского епископа Станислава, жившего в XI веке и убитого в костёле во время богослужения королём Болеславом, а позднее, в XIII веке, причисленного к святым и признанного покровителем Польши. Девиз ордена – «Praemiando incitat» («Награждая, поощряет»). День орденского праздника – 25 апреля. Став российской государственной наградой, орден «Святого Станислава» был частично видоизменён.
Это был самый младший по старшинству орден в иерархии российских государственных наград. Согласно изданному в 1839 году Николаем I новому Статуту ордена «Святого Станислава», награждён им мог быть «любой подданный Российской Империи и Царства Польского» как за военные (с мечами) и гражданские отличия, так и за частные заслуги, например, благотворительность. К началу XX века орден разделялся на три степени. В России существовала строгая последовательность награждения орденами, в которой различные степени ордена «Святого Станислава» занимали свои места. Низшей наградой в этой системе был орден «Святого Станислава 3‑й степени», которым могли награждаться чиновники низших классов, начиная с губернского секретаря (этот чин шел сразу после самого низшего – коллежского регистратора), и даже домашние учителя, прослужившие не менее 15 лет и имеющие классный чин. Интересный факт: в Ялте в Чеховском музее хранится орден «Станислава 3‑й степени», принадлежавший Антону Павловичу Чехову, которым выдающийся русский писатель и драматург был награждён «за отличное усердие и особые труды по должности попечителя Талежского сельского училища».
Третья степень ордена «Святого Станислава» – крест малого размера на подвеске (колодке) из узкой ленты на груди. Ленты ордена изготавливались из шёлка красного цвета с двойной белой каймой по краям. Крест (знак) ордена был золотым, покрытым с одной стороны красной эмалью. Остроконечные раздвоенные концы креста заканчивались золотыми шариками и были соединены золотыми же полукружиями. Между сторонами креста располагались двуглавые орлы, под короной. В центре – венок из зелёных листьев, а внутри него на белой эмали – красный вензель SS. Этот же вензель был на обороте.
[84] Императорский орден «Святой Анны», учреждённый в 1735 году как династическая награда герцогства Гольштейн-Готторпского, в 1797 году введён указом императора Павла I в наградную систему Российской империи для отличия духовных лиц, военных, гражданских и придворных чинов, а также иностранцев. Имел 4 степени; низшая, 4‑я степень предназначалась для награждения только за боевые заслуги (самый младший офицерский орден). Офицерам, награждаемым 4‑й степенью ордена за боевые отличия, вводилась дополнительно надпись: «За храбрость» на эфес холодного оружия и темляк из орденской ленты на эфес, а сам орден официально стал именовался «Орден Святой Анны 4‑й степени с надписью: «За храбрость». По орденскому Статуту, орден 4‑й степени представлял собой «красный финифтяный крест в золотом поле, заключённом в красном же финифтяном кругу; над крестом золотая корона. Знак сей прикрепляется к военной шпаге, сабле, полусабле, палашу, кортику (к последнему на верхушке рукоятки). К знакам ордена «Святой Анны», когда он жалуется за военные, против неприятеля, подвиги, присоединяются по два, накрест лежащих, меча: посредине креста и звезды». Награда эта обеспечивала личное дворянство и 50 или 40 рублей ежегодной пенсии. Лицам, награждённым 4‑й степенью за небоевые отличия, надписи не полагалась.
По старшинству орден стоял на ступень ниже ордена «Святого Владимира». Орденский праздник – день святой Анны Пророчицы (3 февраля ст.ст.), орденский храм – во имя свв. Симеона и Анны-пророчицы в Санкт-Петербурге (где с 1829 года заседала Кавалерская дума ордена «Святой Анны»). После Октябрьской революции орден прекратил своё существование как российская награда, однако продолжил существовать как династическая награда Дома Романовых в эмиграции.
[85] Императорский орден Святого равноапостольного князя Владимира (сокр. орден Святого Владимира) в четырёх степенях учреждён в 1782 году Екатериной II в честь князя Владимира Святого и вручался за особые заслуги перед Отечеством и за выслугу лет. Девиз ордена – «Польза, честь и слава». День празднования – 22 сентября. До 1917 года являлся наградой для широкого круга военных в чине от подполковника, а чиновникам среднего ранга вручался за гражданские заслуги. В 1789 году Екатерина II особым указом определила как дополнительное видимое отличие для знака ордена Св. Владимира IV степени, получаемого за военные подвиги, бант из орденской ленты. Первым кавалером ордена Св. Владимира IV степени с бантом стал капитан-лейтенант Д.Н. Сенявин, вторым – М.Б. Барклай-де-Толли.
С 1845 года награждённые только орденами Св. Владимира и Св. Георгия любых степеней получали права потомственного дворянства, в то время как для других орденов требовалось награждение высшей первой степенью. С 1855 года ордена, полученные за боевые подвиги, стали выдаваться со скрещёнными мечами. Особо ценился орден Св. Владимира IV степени с бантом и мечами как боевая офицерская награда, стоявшая только на ступень ниже ордена Св. Георгия IV степени.
[86] Военно-учебное заведение Русской Императорской Армии, созданное на базе преобразованного Александринского сиротского кадетского корпуса в 1863 году и существовавшее до 1917 года. Вместе со зданием из бывшего кадетского корпуса в училище были переданы церковь, библиотека, архив и всё материальное имущество. Приказом Военного министра от сентября 1863 года были сформулированы правила приёма в высшее Александровское военное училище – комплектование производилось, в основном, воспитанниками военных гимназий, с допуском на свободные вакансии молодёжи всех сословий с законченным средним образованием. В 1894 году было введено сильное ограничение на приём лиц не дворянского происхождения. Училище готовило командный состав (офицеров) пехоты. Училище располагалось в Москве. Состояло из одного батальона, разделённого на 4 роты. Общим руководством строевым обучением юнкеров занимался командир батальона (должность введена в марте 1864), который являлся помощником начальника училища.
[87] Тулья́ – это верхняя деталь фуражки. Высота тульи бывает разной в зависимости от модели фуражки и варьируется примерно в диапазоне от 4,5 см до 10 см. У ряда служб и ведомств на тульях часто вышиваются знаки отличия или устанавливается металлическая фурнитура.
[88] 242‑й пехотный Луковский полк был сформирован в 1914 году в Нижнем Новгороде из кадра, выделенного 38‑м пехотным Тобольским полком, имел четыре батальона. Находился в составе 61 пехотной дивизии согласно мобилизационному расписанию 1910 года, которая после начала Русско-японской войны была сформирована из 61‑й пехотной резервной бригады как соединение в составе Русской Императорской Армии.
В начале августа 1914 года 242 Луковский полк был отправлен в действующую армию. В тяжёлых боях 15–16 августа в районе Владимира-Волынского он потерял знамя и значительную часть документальных материалов штаба. Действуя всё время в составе 61 пехотной дивизии, полк вместе с ней разновременно входил в состав 17 Армейского корпуса 5‑й и 4‑й Армий, 25-го и 18-го Армейских корпусов 9‑й Армии, 10 Армейского корпуса 3‑й Армии Юго-Западного фронта, 38 Армейского корпуса 13‑й, 1‑й и 10‑й Армий Северо-Западного и Западного фронтов и 47 Армейского и 4 Сибирского армейского корпусов 6‑й Армии Румынского фронта.
В составе этих соединений полк участвовал в Галицийской битве и Варшавско-Ивангородской операции 1914 года, в Карпатской операции зимой 1914–1915 гг., в оборонительных боях при отходе из Галиции и Польши летом 1915 года, в наступлении у озера Нарочь в марте 1916 года на Западном фронте и, начиная с августа 1916 года, в боевых действиях в Румынии; здесь же полк находился в 1917 году.
Командующими полка в разное время были: с 16.08.1914 по 17.07.1915 – полковник Петухов Платон Валерианович; с 13.08.1915 по 07.02.1917 – полковник Крейтон Сергей Николаевич; с 31.03.1917 по 29.05.1917 – полковник Дерфельден Николай Григорьевич; с 01.06.1917 по 15.12.1917 – Марциновский Эварест Ипполитович, полковник армейской пехоты. Полк был расформирован в марте 1918 года.
[89] Это образное сравнение возникло в годы Первой Мировой войны, когда боевые действия стали носить преимущественно позиционный характер. Сплошные линии окопов, блиндажи, а перед ними многочисленные ряды колючей проволоки призвана была взламывать тяжёлая артиллерия. Именно её снаряды калибрами от 152 мм наши солдаты стали называть «чемоданами» или «сундуками».
Соотношение по артиллерии в годы Первой Мировой войны сложилось не в пользу Русской Армии, которая крупнокалиберных орудий имела в гораздо меньшем, чем у противника, количестве. Да и к имевшимся у нас орудиям крупных снарядов – этих самых «чемоданов» – на фронте постоянно не хватало. В период военного противостояния России Германия только «чемоданов» выпустила 116 миллионов, а Россия – снарядов ВСЕХ типов – лишь около 50 миллионов. Так что в то время русская артиллерия была почти бессильной против массированного огня германских тяжёлых пушек. Ни достойно отвечать немцам, ни вести эффективную контрбатарейную борьбу мы не могли. Крупнокалиберный «чемодан», выстреливаемый из тяжёлой гаубицы, прилетал сверху, и шансы спастись при попадании его были минимальны. Немецкие гаубицы вели огонь по навесной траектории, что позволяло обстреливать и уничтожать цели на обратных скатах высот, блиндажи, пулемётные гнёзда, и т.д. Русские же полевые пушки, стрелявшие по настильной траектории, мало возвышавшейся над линией прицела, этого делать не могли. Стреляя «через голову» собственной наступавшей пехоты, наши артиллеристы были вынуждены прекращать огонь за 200–400 метров до её сближения с первой линией неприятельских окопов, чтобы не поражать свои же атакующие цепи. В результате, эти 200–400 метров наша пехота оставалась без артподдержки и в упор расстреливалась неприятельскими пулемётами. Отсюда – и огромные потери нашей пехоты в боях.
[90] Верста́ – русская единица измерения расстояния, равная в метрической системе 1066,8 метра.
[91] Мортира – короткоствольное артиллерийское орудие, предназначавшееся для разрушения особо прочных сооружений. Название происходит от латинского «mortarium» – «ступа». Стреляет недалеко и редко. Но зато может разрушить, к примеру, стены крепости или бетонные доты.
[92] Гаубица – артиллерийское оружие, которое создано для стрельбы из укрытия по хорошо защищённому противнику. Именно в гаубице в полной мере реализован принцип навесной стрельбы на сравнительно небольших дистанциях. Ключевой особенностью гаубицы является возможность поражать цели в непосредственной зоне видимости по данным от разведки.
[93] Военное учебное заведение было основано Российским императором Александром II, открыто 1 октября 1865 года под названием «Киевское пехотное юнкерское училище», причём слыло на первых порах «второразрядным». Если у столичных (в Санкт-Петербурге и Москве) выпускников чувствовался налёт аристократичности и придворного лоска, то у провинциальных (Киевского, Одесского, Чугуевского, Виленского, Иркутского и других) было заметно влияние народных корней, так как значительная часть юнкеров происходила из мелкопоместных дворян, купцов, разночинцев, казаков, крестьян и простых солдат.
Воинская дисциплина стояла в училище на большой высоте, как и строевое образование. Из общих предметов проходили Закон Божий, два иностранных языка, химию, механику, аналитику и русскую литературу. Первые его выпускники получили боевое крещение в сражениях Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. В 1897 году училище переименовано из юнкерского в военное и стало называться «Киевское военное училище».
С началом Первой Мировой войны осенью 1914 года от двухгодичной системы обучения училище перешло к практике четырёхмесячных ускоренных выпусков и получило наименование «Первое Киевское военное училище». В 1915 году ему присвоено наименование «Первое Киевское Великого Князя Константина Константиновича военное училище»; на погонах появился алый вензель Константина Константиновича Романова в виде буквы «К». Штат был увеличен с 400 до 630 юнкеров. Строевой командный состав, кроме своей непосредственной работы, стал привлекаться к чтению лекций по тактике и топографии. В октябре 1917 года константиновцы вступили в бой с красными и понесли первые потери. В годы Гражданской войны часть выпускников выехала на Дон в зарождающуюся Добровольческую Белую Армию. За участие в боях с красными училищу были пожалованы серебряные трубы с лентами Ордена «Святого Николая Чудотворца». В 1923 году в эмиграции (Болгария) состоялся последний 69‑й выпуск училища.
В числе выпускников – русский военачальник, один из самых результативных генералов Русской Императорской Армии в период Первой Мировой войны генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин.
[94] Саже́нь, или маховая сажень – это расстояние между кончиками пальцев двух расставленных в разные стороны рук. Самая распространённая мера длины в бытовом народном хозяйстве на Руси. Конечно же, люди бывают разные, а потому и сажень у каждого человека получится своя. Эта старорусская мера длины, равная как «казённая сажень» 2,134 м, применялась до введения метрической системы мер. Здесь употребляется в переносном смысле: «не было ни сажени не обстрелянной» – в значении: «простреливалось везде».
[95] Шрапнель – это мелкие поражающие элементы, которые доставляются снарядом до необходимого места, где он и разрывается. Этот вид боеприпаса был изобретён Генри Шрэпнелом, офицером британской армии, и был принят на вооружение в 1803 году. Первоначально назывался картечной гранатой, позже получил имя изобретателя.
Шрапнельные снаряды широко использовались в Первой Мировой войне. Известен случай, произошедший в 1914 году, когда французские артиллеристы выпустили по немецкой колонне четыре шрапнельных снаряда из каждой из четырёх пушек. Шрапнель в буквальном смысле выкосила целый полк – было 700 человек убитыми, не считая коней. Сегодня шрапнель не имеет широкого использования в артиллерии, хотя на «шрапнельной» идее построены некоторые боеприпасы. В частности, ракета ЗРК С‑75 имеет поражающие элементы в виде четырехграммовых стальных шариков, коих насчитывается почти 30 тысяч.
[96] Горница – название парадной комнаты на втором этаже традиционного славянского дома (деревенского, сельского, пригородного или находящегося в городском поселении). Второе её название – го́рная, то есть верхняя, означало, что комната эта находилась наверху, не на нижнем этаже.
[97] Шевио́т – ткань, представляющая из себя плотное толстое полотно на натуральной основе. Долговечный износостойкий текстиль шевиот обладает повышенной прочностью и практичностью.
[98] Диагональ – плотная ткань с рельефными рубчиками на лицевой стороне. К кромке ткани рубчики расположены под углом 45° и внешне напоминают диагональ прямоугольника – отсюда и название.
[99] Шевро́ (от франц. chevreau – «козлёнок») – мягкая кожа хромового дубления, выделанная из шкур коз. Так первоначально назывались исключительно козловые, обработанные на манер лайки кожи; но позднее это название распространилось также и на кожи, приготовленные из бараньих, овечьих и телячьих шкур, идущие на обувь. Шевро отличается эластичностью и часто применяется для пошива галантерейных изделий, сумок, портмоне или модельной обуви. Шевровые сапоги – обувь для офицерского состава армии.
[100] Кордо́н (от фр. cordon – «шнур») – стационарный (постоянный) или временный пост лесной стражи или охраны заповедников, лесных угодий. Кордоном называют также жилые и хозяйственные постройки для должностных лиц (егерей, лесников) национальных парков, заповедников, заказников, охотничьих хозяйств.
[101] Тракт (от нем. Trakt – «большая дорога» от лат. tractus – «волочение» и от traho – «тащу») – устаревший термин для обозначения транспортной дороги, улучшенной грунтовой дороги, а также вообще большой наезженной дороги («большака»).
[102] Ве́кша – буквально: «белка». Так же называется и перемещаемый блок в закреплённой колодке, который, в иных снарядах, бегает как векша (т.е. как белка). Пример: Собака пущена по двору на векше. На векше подымаются тяжести при стройке.
[103] Квартирье́р (от нем. Quartierherr, Quartiermacher или Quartiermeister) – военнослужащий, высылаемый при передвижении войск вперёд по пути следования воинского подразделения для подготовки мест расположения и подыскания квартир в населённых пунктах для постоя войск.
[104] Александр Фёдорович Ке́ренский (1881–1970) – российский политический и государственный деятель, член партии социалистов-революционеров. Один из видных членов Временного правительства России, занимавший должность министра юстиции, военного и морского министра, а также возглавлявший его как министр-председатель с июля по ноябрь 1917 года.
[105] Деревянная перегородка, отделяющая одну половину избы от другой.
[106] Берёста (или берёсто – северн. диалект.) – верхний слой (наружная белая часть) коры берёзы – прочная, гибкая, мало поддающаяся гниению. На Руси издревле использовали берёсту как стойкий к сырости прокладочный материал. Потому примеряли также и в строительстве в качестве кровельного материала и изолятора от сырости: благодаря водонепроницаемости и антисептическим свойствам берёста предохраняла от гниения. Применялась она и для изготовления лодок, лошадиной упряжи, поплавков для рыбацких сетей, домашней утвари, народных музыкальных инструментов – пастушьих рожков и жалеек, художественных поделок и игрушек для детей, а также использовалась как основа для письма вместо бумаги (берестяные грамоты).
[107] Молодая замужняя женщина (диалект. и нар.-поэт.).
[108] Балага́н (от перс. بالاخانه, balaχanä – верхняя комната, балкон) – временное деревянное строение, обычно дощатое, используемое для различных нужд (торговли, жилья, склада, театральных подмостков).
Здесь (устар. и обл.): лёгкая постройка для быстрого приготовления пищи на коллектив, по типу полевой кухни; а также (перен.) – обед, перекус.
[109] Кошма́ – войлочный ковёр из овечьей или верблюжьей шерсти; большой кусок войлока. Вырабатываются и широко применяются в быту у народов, занимающихся скотоводством.
[110] То есть обособлен в бытовом и хозяйственном плане, получил свою долю общего имущества и стал жить самостоятельно в собственном доме, а не вместе с родителями.
[111] То есть ведёт хозяйство самостоятельно, отдельно.
[112] Небольшой домик, обычно деревянный, избушка. Это могло быть помещение для сторожа или лесника, но не только. Строились сторожки и для общих нужд – в тайге, на удалении дневного перехода друг от друга. Чтобы человек за день успевал дойти до следующей лесной избушки. В лесных сторожках постоянно никто не жил. Там только останавливались, чтобы отдохнуть и согреться. Сторожки строили всем миром: из близлежащих сёл собирались мужики – лесники, охотники, рыбаки, и возводили сруб. Располагали обычно на возвышенном месте неподалёку от источника воды – ручья, родника. В лесу, тайге дорогу к сторожке отмечали зарубками.
[113] Государственная винная лавка для продажи казённой водки, продажа которой в Российском государстве до 1917 года составляла монополию государства.
[114] Маленькая бутылка крепкого алкогольного напитка вместимостью 0,125 л. Меры объёма 1/100 л («мерзавчик» – слово и произошло, очевидно, от «мёрзнуть») и 1/200 л («жулик») появились, когда председателем Совета министров Российской империи был С.Ю. Витте (занимал должность в 1905–1906 гг.). Минимальную порцию водки можно было купить за 4 копейки, в результате нищие оставляли в кабаках последние гроши.
[115] Родня.
[116] Текстильный, специализирующийся на продаже тканей.
[117] Ко второй гильдии относились купцы с капиталом от одной тысячи рублей до десяти тысяч рублей.
[118] Утренний мороз до восхода солнца, обычно весной и осенью.
[119] Волостное правление – коллегиальный орган из выборных должностных лиц, управляющий волостью – административной единицей крестьянского самоуправления в Российской империи.
[120] Кладь с провизией в дорогу.
[121] Сделанный из джута – травянистого растения, выводимого, преимущественно, в Индии. Из натурального текстильного волокна, изготавливаемого из джута, производят, преимущественно, мешки и канаты.
[122] Валенки мягкие, их катают из деревенской шерсти и также называют «самовалки». Они намного мягче валенок, сделанных в фабричных условиях – жёстких, грубоватых.
[123] То есть с питанием, предоставляемым постояльцу хозяевами сдаваемого жилья.
[124] Двухколёсный конный экипаж с большими колесами, вариант двуколки. Первое упоминание о конных двуколках относится к 1791 году, и они были повсеместны к началу 1800‑х годов. Термин «американка», как и саму повозку данного типа, применяли поначалу на ипподроме. Так называли используемый при бегах и испытаниях рысаков двухколёсный гоночный экипаж с большими колёсами (диаметром около 1,5 м, в отличие от меньших, до 0,9 м колёс у иных типов двуколок). Название этой повозки «американка» появилось в России после того, как в 1889 году на Московский ипподром приехала группа американских наездников. Они привезли свою новую модель повозки с пневматическими шинами, которая вскоре вытеснила дрожки. Эту повозку и назвали «американкой».
[125] Верста́ – старорусская единица измерения расстояния, равная 1066,8 м.
[126] Опера П.И. Чайковского в 3 действиях, 7 картинах. Либретто М.И. Чайковского по мотивам одноимённой повести А.С. Пушкина. Написана во Флоренции весной 1890 года, первая постановка состоялась 19 декабря 1890 года в Мариинском театре в Петербурге в исполнении артистов Императорской труппы.
[127] Круглая мягкая шапочка; повседневный головной убор православного духовенства и монахов.
[128] Верхняя женская одежда в виде большой пелерины, без рукавов и застёжки.
[129] Опера в четырёх действиях с прологом Николая Андреевича Римского-Корсакова. Либретто Владимира Бельского по одноимённой сказке А.С. Пушкина.
[130] Начальный период революции 1917 года в России, когда во главе правительства стоял Александр Фёдорович Керенский – один из членов Временного Правительства России, занимавший должность министра юстиции, военного и морского министра, а также возглавлявший его как министр-председатель с июля по ноябрь 1917 года.
[131] Сборище проституток (словарь воровского жаргона).
[132] Город в северо-восточном Китае, место пребывания властей провинции Хэйлунцзян. Основан русскими поселенцами в 1898 году как станция на строившейся тогда КВЖД.
[133] Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД; до 1917 года – Маньчжурская дорога, с августа 1945 года – Китайская Чанчуньская железная дорога, с 1953 – Харбинская железная дорога) – железнодорожная магистраль, проходившая по территории Маньчжурии и соединявшая Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. Дорога была построена в 1897–1903 годах как южная ветка Транссибирской магистрали (или Великого Сибирского Пути), соединявшей европейскую часть России с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами. КВЖД принадлежала Российской Империи и обслуживалась её подданными. Строительство дороги было шагом по увеличению присутствия и влияния Российской Империи на Дальнем Востоке.
[134] Хайлар – город в северо-восточном районе Китая, расположенный на границе с Монголией и Россией.
[135] Казанский университет – один из старейших российских университетов (основан в 1804 году).
[136] Вятская Духовная семинария – среднее духовное учебное заведение Русской Православной Церкви; основана в 1758 году на базе славяно-латинской школы. По состоянию на 1900 год в семинарии было более 400 учащихся.
[137] Патентованные лечебные препараты.
[138] Официальное руководство для фармацевтов (провизоров), содержащее описание свойств, проверки подлинности и качества, условий хранения.
[139] Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм; в более широком смысле – наука о физиологически активных веществах вообще.
[140] Александр Александрович Алехин – русский и французский шахматист, выступавший за Российскую Империю, Советскую Россию и Францию; четвёртый чемпион мира по шахматам. Алехин вошёл в число сильнейших шахматистов мира перед Первой Мировой войной, заняв третье место на Петербургском турнире 1914 года, в 1920 году стал первым чемпионом РСФСР, а в 1921 году, покинув Россию, переехал на постоянное место жительства во Францию, гражданином которой стал в 1925 году. В 1927 году Алехин выиграл матч за звание чемпиона мира у считавшегося непобедимым Хосе Рауля Капабланки, ставшего в 1921 году чемпионом мира. Затем Алехин в течение нескольких лет доминировал в соревнованиях, выигрывая крупнейшие турниры своего времени с большим преимуществом над соперниками.
[141] Махгилис (Макс) Эйве – нидерландский шахматист и математик, пятый чемпион мира по шахматам (1935–1937), международный гроссмейстер (1950). Эйве стал чемпионом мира, победив в матче Алехина, но через два года проиграл ему в матче-реванше. Эйве оставался одним из сильнейших шахматистов мира до конца 1940‑х годов, а по окончании карьеры на высшем уровне занялся исследованиями в области информатики.
[142] Михаил Моисеевич Ботвинник – советский шахматист; шестой в истории шахмат и первый советский чемпион мира. Гроссмейстер СССР, международный гроссмейстер и арбитр по шахматной композиции; заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион СССР, абсолютный чемпион СССР. Чемпион Москвы. Шестикратный победитель Шахматных Олимпиад в составе команды СССР. «Патриарх» советской шахматной школы. Председатель Всесоюзной шахматной секции и Правления общества «СССР – Нидерланды». Заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Доктор технических наук, профессор.
[143] Эммануэль Ласкер – немецкий шахматист и математик, представитель «позиционной» школы в шахматах; второй чемпион мира по шахматам. Ласкер сохранял звание чемпиона мира 27 лет, что является рекордным достижением для шахмат.
[144] Река берёт своё начало в горах Большого Хингана и на протяжении 311 км протекает по территории Китая, где называется в верхнем своём течении Хайларом (Хайлархэ). Далее – пограничная река между Россией и Китаем. По выходе из Китая имеет широкую долину с обширной поймой; ближе к устью долина сужается. Современная транскрипция названия реки происходит от эвенкийского «Ергэне» — «извилистая река». У русских впервые название этой реки встречается на «Чертеже Сибири» 1667 года как «Аргуня», на «Чертеже» 1698 года – как река Аргуна. Сливаясь с рекой Шилкой, Аргунь образует реку Амур.
[145] Стеклянная аптечная ёмкость для хранения ингредиентов лекарств.
[146] Крестосло́вица – это одно из редко употребляемых названий популярно игры со словами, которую также называют кроссвордом. Слово «кроссворд» имеет английское происхождение (cross – «пересечение», word – «слово»). Термин «крестословица» не прижился в русском языке.
[147] Ариа́нство — одно из ранних течений христианства (IV–VI вв.), утверждавшее изначальную сотворённость (тварность) Бога-Сына, позднее – неединосущность Бога-Сына с Богом-Отцом (антитринитаризм). Согласно этому учению, Сын Божий – это не Бог, а Божие творение, не единосущное и не подобное Богу. Признанное ересью учение получило название по имени основоположника учения, александрийского священника Ария (др.-греч.), умершего в 336 году. Последователи учения не-единосущности Бога-Сына с Богом-Отцом получили название ариа́не.
[148] Осий (Оссий) Кордубский (ок. 256–359) был епископом Кордубы (ныне Кордова, Испания) и выдающимся противником арианской ереси, разделившей раннее христианство. Он был специальным посланником императора Константина Великого в Александрию по умиротворению арианской ереси, являлся председателем Первого Вселенского собора и целого ряда поместных соборов, в том числе Сардикского (Сердицкого) собора. Причислен как святитель к лику святых, в Православной Церкви память его – 9 сентября, в Католической – 27 августа.
[149] Маркелл Анкирский – византийский богослов, епископ Анкирский, участник Анкирского и Никейского соборов. Сторонник Афанасия Великого в арианском споре. Был своими противниками изгнан из собственной епархии в 336 году. Почти сорок лет после этого духовенство Анкиры сохраняло верность ему, своему прежнему епископу. Афанасий и епископы западной части Римской империи поддерживали в эти годы Маркелла, тогда как на востоке часть епископов считала его еретиком. Его немногочисленные последователи были известны как маркеллиане.
[150] Собор был созван по желанию императоров Константа (младший сын Константина Великого) и Констанция II (сына Константина Великого, приверженца ереси ариан), на границе Восточной и Западной Римских империй. Местом Собора избран был город западной части империи, но близкий к её востоку, как бы серединный. Может быть, потому он и назывался по-славянски Средец, по-римски – Serdica, ныне это София – столица Болгарии. На собор съехались 170 епископов: 94 западных и 76 восточных. Решения Собора посвящены вопросам церковного управления. Собором были приняты 20 правил, вошедших в Православной Церкви в общий свод церковного права. Правила были составлены на двух языках: латинском и греческом.
Фотин Сермийский, епископ. Утверждал, что Слово Божие не имеет личного бытия и не родилось от Отца прежде всех веков, а Христос – простой человек, одушевлённый только Словом Божиим. Фотин был осуждён не только православными епископами на соборах: Антиохийском (341), Медиоланских (346 и 348), но и арианами на Сирмийском соборе (351). Умер в ссылке в 375 году.
[152] Мила́нский (Медиоланский) церковный собор был созван в Медиолане (Милан) римским императором Констанцием II для разрешения спора между арианами и ортодоксальными христианами.
[153] В 341 г. в Антиохии состоялся собор по случаю освящения золотой базилики, состоявший из 97 отцов. С этого собора начинается новый период в истории арианства, борьба с Никейским символом переходит в область догматическую, делаются многочисленные попытки замены Никейского «Символа Веры» новым. Участниками Собора были предложены несколько вариантов (формул).
Четвёртая формула была составлена епископами, посланными от собора к императору Констанцию. Этот «символ», не имея догматических достоинств, внешне имел примирительный характер, поскольку больше всех других напоминал Никейский символ.
[154] Ученики Ария. Урсакий (Урзакий) Сингидунский (ум. после 371) – епископ Сингидуна (современный Белград, Сербия). С деятельностью Урсакия Сингидунского и Валента Мурсийского, епископа города Мурса (современный Сисак в Хорватии) связывается распространение арианства на западе Римской империи. Оба активно участвовали в арианском споре на стороне противников Первого Никейского Собора. Как правило, в источниках и церковно-исторических исследованиях Урсакий и Валент упоминаются вместе.
[155] Лукиан Антиохийский (240–312), богослов, один из первых редакторов Библии. На Антиохийском Соборе в 341 году приверженцы и ученики Лукиана – «лукианисты» – приняли четыре вероучительные формулы. Первая, третья и четвёртая были быстро забыты, но вторая формула, которую Антиохийский собор издал под названием «Символ Лукиана», долго сохраняла своё влияние. В «Символе Лукиана» Сын Божий называется таким же Богом, как и Отец, «неразличимым образом сущности Отца». Из этого выражения следует, что поскольку двух абсолютно Божественных Сущностей быть не может, то в конечном счёте их Сущности тождественны и, следовательно, Отец и Сын единосущны — притом не употребляется самое проблемное слово ὁμοούσιος, «единосущный».
[156] Флавий Клавдий Юлиан (Юлиа́н II), в христианской историографии Юлиа́н Отсту́пник (331–363) – римский император в 361–363 годах из династии Константина, сын Юлия Констанция – единокровного брата императора Константина Великого. Последний языческий император Рима, ритор, философ и поэт.
[157] Иларий Пиктавийский (315–367) – святой Православной и Католической Церкви, епископ и учитель Церкви, выдающийся западный теолог. За свою твёрдую позицию в борьбе с арианской ересью, отрицавшей Божественность Христа, получил прозвище «Афанасий Запада» (по сходству с позицией Афанасия Великого).
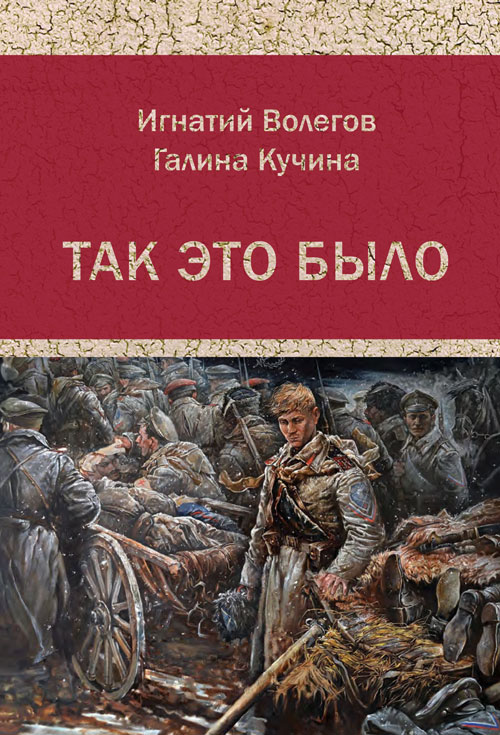
Комментировать