Оглавление
Посвящается светлой памяти дорогой моей спутницы жизни матушке Татьяне.
Глубоко благодарен Елизавете Григорьевне Фокскрофт (урожд. Кандыба), быв. главе русского отдела Южно-Африканского университета и в течении 16-ти лет моей ближайшей сотруднице в качестве секретаря православной миссии в Южной Африке, понесшей громадный труд составления моих рукописных мемуаров, лежавших много лет без возможности их восстановления из-за моей полуслепоты.
Архимандрит Алексей
Сан Диего
ноябрь 1980 г.
На старости я сызнова живу, Минувшее проходит предо мною — Давно ль оно неслось событий полно, Волнуяся как море-океан…
(«Борис Годунов», А. Пушкин).
Введение
Перед тем, как приступить к описанию моего отрочества, юности и дальнейшей жизни, считаю необходимым, дорогие читатели, познакомить вас с прошлым моей семьи. Это, надеюсь, даст вам некоторое представление о среде, в которой я вращался и из которой произошел.
Дед мой со стороны отца, Лев Людвигович-Львович Чернай, был уроженец Чехии и гордился тем, что род его вел начало от одного из тевтонских рыцарей.
Будучи очень одаренным и, одновременно, высоко образованным человеком, он сделался известным препо-давателем классических языков: греческого и латинского. Родным его языком был немецкий, но он также владел и французским. По этой причине он оказался в числе других педагогов, приглашенных продолжать и развивать их деятельность в России. В то время, в царствование государя Александра Второго, Великие Реформы нашли свое отражение и в сфере всеобщего обучения и образования значительно подняв их уровень.
Приехав в С. Петербург, мой дед сразу погрузился в изучение русского языка и вскоре мог свободно изъясняться на нем. Со временем он вполне овладел им и так полюбил Россию, что посвятил всю свою жизнь служению своей приемной стране. Он преподавал в нескольких учебных заведениях и был также попечителем гимназии Императорского Человеколюбивого Общества (на Крюковом канале), к которой питал особое расположение. Поэтому мой отец и поместил меня в эту гимназию в 1915 году, которую уже в 1917 году мне пришлось оставить.
Чтобы не терять связь с Европой, мой дед ездил за границу, во время летних каникул. Однажды, в одну из таких поездок, находясь в Саксонии, он познакомился с молодой девушкой, баронессой Марией фон Бергер, и влюбился в нее. Родители ее благосклонно приняли предложение деда и дали свое благословение. Отпраздновав свадьбу, дедушка увез свою жену, впоследствии мою бабушку, в С. Петербург. Вероятно, многое казалось ей странным в новой стране и, главным образом, язык; но понемногу она привыкла и «А-мама», как мы ее звали, научилась хорошо говорить по-русски, но с акцентом, которого не было у дедушки.
У дедушки и бабушки родилось трое сыновей: Николай — мой отец, Александр и Владимир. Все они получили отличное воспитание и высшее образование… Мой отец, еще смолоду, решил стать юристом. После окончания Училища Правоведения он поступил в С. Петербургский Университет, который окончил с дипломом Магистра и Доктора Права. Владимир избрал ту же профессию, а Александр стал инженером-путейцем и через некоторое время был назначен начальником Полесских, а затем, Самаро-Златоустской железных дорог. Задолго до революции в продолжение многих лет он был начальником Московско-Брестской-Александровской железной дороги и, по традиции, должен был сопровождать царские поезда, когда члены Августейшей семьи путешествовали по этой дороге.
Мой отец начал службу судебным следователем в провинции, но вскоре был назначен следователем по особо важным делам в Архангельск. В своем дневнике он вел запись всех событий, в котором было очень много интересного. Выдержки из этого дневника он иногда прочитывал нам. К сожалению, этот дневник пропал во время революции. Тем не менее мне запомнился один рассказ из бытности отца в Архангельске.
Зимой он обычно разъезжал по округу в санях на собаках и не раз подвергался опасностям. Однажды ночью, в глухом месте, в корчме, ямщик разбудил его и сказал, что слышал, как заговорщики собираются убить его до рассвета. Собаки были уже запряжены. Отец мигом оделся и был таков к разочарованию заговорщиков, которые хотели его прикончить и спустить концы в воду, как принято говорить…
Навещая, по мере возможности, своих родителей в С. Петербурге, отец познакомился на балу с девицей, Агнией Александровной, дочерью генерал-майора Кохомского и его супруги, Афанасии Алексеевны, урожденной Шульгиной. В перерыве между танцами разговор зашел о любимых композиторах. Музыку отец очень любил и оказалось, что молодая Агния недавно окончила консерваторию. Таким образом образовался общий интерес. Отец — поэт в душе, невзирая на свою совсем не поэтическую профессию, произвел сильное впечатление на ту, которая стала моей матерью. Он был принят и обласкан ее родителями. Бывая у них, он часами слушал игру на рояле талантливой пианистки и был покорен не только ее игрой, но и обаянием, исходившим из всего ее облика.
Предложение отца было принято. Невеста очень пон-равилась его родителям. Венчание было решено совершить в Лобане, небольшом городке между Новгородом и С. Петербургом, вблизи которого находилось имение ро-дителей невесты. Ко времени женитьбы отец получил новое назначение и первые годы их совместной жизни были проведены в разных частях России.
В 1899 году, когда у родителей было уже трое детей: мой старший брат Николай, сестры — Агния и Елизавета, появился на свет и я и был крещен Александром в честь деда, который был также моим крестным отцом.
В том же году произошло важное событие в нашей семье. По Высочайшему указу, отец был произведен в чин статского советника и назначен членом Окружного суда в Пскове — одной из древнейших колыбелей православия. Здесь безмятежно прошли первые пять лет моей жизни.
Судебная деятельность отца приобретала более широкие рамки. Он стал известен как человек, стяжавший к себе доверие и уважение своих коллег и начальства. Такие люди были особенно нужны на окраинах страны, где кроме ума и вершения правосудия, был нужен такт и умение обращаться с людьми разных вероисповеданий из разных слоев общества и разных политических взглядов.
В 1904 году за «отличную службу» отец получил ответственное назначение: сперва Членом Окружного Ковенского Суда и, в скорости, его Председателем. Одно-временно, по Высочайшему указу он становится Действительным Статским Советником, т. е. штатским генералом.
Семья, увеличенная рождением сестер Надежды и Софии, переехала в Ковно, где и провела все время вплоть до Первой Мировой войны. Прямодушный, безбоязненный, честный и высоко гуманный человек, мой отец заслужил не только глубокое уважение, но и любовь разных слоев населения Литовского края. Благодаря этому он был избран Председателем Членов Мировых Судей и Попечителем многих учебных заведений.
Высоко ценил и уважал моего отца также Петр Арка-дьевич Столыпин, впоследствии ставший Председателем Совета Министров и погибший от руки убийцы в августе 1911 года в Киеве. Он бывал у нас в имении и мои родители бывали у него. В то время мне было уже почти двенадцать лет, и я ясно помню, как удручен был мой отец, моя мать и все наши родные и знакомые этой страшной безвременной потерей нашей родины, так нуждавшейся в великих сердцах и верных сынах, каким был Столыпин.
Глава I. Отрочество
Семья наша, состоявшая из наших родителей, четырех сестер: Агнии, Елизаветы, Надежды, Софии; и трех братьев: Николая, меня и Льва, родившегося в 1905 году, была на редкость дружная и сплоченная. Все мы любили друг друга. Отношение одних детей к другим можно было выразить словами — все за одного и каждый за всех. Мать нашу мы любили нежной, безграничной любовью и слушались ее беспрекословно, не желая огорчить ее чем бы то ни было. Отца же мы не только любили и почитали, но и боялись, особенно, когда случалось неоднократно, кто-нибудь из братьев (главным образом я) совершали какую-нибудь провинность.
Никогда не забуду маленький инцидент, который навсегда оставил след в моей памяти. Я был тогда уже в пятом классе гимназии, и товарищи соблазняли меня покурить. В нашем доме никто не курил, и отец считал такое занятие вредным во всех смыслах.
Увы! Запретный плод всегда кажется особенно сладким. И вот, я расхрабрился и купил пачку папирос. До сих пор, помню этикетку на ней с изображением артиста Варламова и название марки — «Дядя Костя». Уже в гимназии я вдруг вспомнил, что оставил злосчастную пачку папирос под моей подушкой. Одна мысль об этом бросила меня в пот и жар. Какой стыд! Няня, которая обычно стелила наши постели, непременно обнаружит ее, а от нее может быть, узнает мама? А, что, если вдруг, узнает и папа? Что тогда? Ужас объял меня и все помрачилось в моей голове. Я сидел как на иголках и все время корил себя — зачем это понадобилось мне купить эти папиросы?.. Ведь я их даже не курил, а только попробовал одну в так называемой гимназической «курилке» и тут же бросил ее с отвращением… И что будет теперь? О, Боже!
Идя домой, чувствую, как все больше замирает сердце. Вот я уже на пороге… Звоню — открывает наша, обычно, такая приветливая и ласковая нянюшка. Поднимаю глаза, смотрю на нее, вижу ее озабоченный, скорбный взгляд, направленный мне прямо в душу; слышу ее слова: «ну, что же ты, Шурик? Как же так?» Стою смущенный, — неужели все раскрылось? А она продолжает: «Сама барыня то нашла твои папиросы и скрыть то я их не могла… Что же, ты, касатик мой, курить то уже начал втихомолку?».
Вошли. «Я, нянечка, только так, курить не курю, а всего лишь попробовал одну…» И сказать больше ничего не могу. Слезы подступают и брызжут из глаз.
Мамы не было дома. Это был приемный день у кого-то из судейских. Проходя мимо открытой двери, ведущей в кабинет отца, вижу, о ужас! — пачку папирос на его письменном столе… Невообразимый страх ожиданья. Вот вернулись родители. Приходит няня и говорит: «Барин зовет тебя, Шурик, в кабинет.
Иду, — ни жив, ни мертв, в кабинет. «Это твои папиросы?»: спрашивает отец, указывая на пачку. Я чуть не провалился, тут же, сквозь пол от стыда, а он глядит на меня и спокойно говорит: «Ну что ж, не хочешь ли еще закурить?» Тут слезы хлынули из моих глаз… «Папа, прости меня, прости меня» — было все, что я мог пролепетать. Только после, немного успокоившись, я смог рассказать отцу все, как было. Тогда папа, положив руку на мою повинную голову, этим жестом, как бы не отвергая меня, прочел мне нотацию, не сердясь, а ровным, даже ласковым голосом. И это пронзило меня гораздо глубже, чем, если бы он гневался. Долго мне было стыдно также и перед мамой, и я только тогда полностью успо-коился, когда поведал о происшедшем на исповеди нашему духовнику, отцу протоиерею, Александру Мальцеву и он отпустил мой грех.
Вся наша семья была очень религиозной и даже набожной. Несмотря на то, что отец был лютеранского вероисповедания, он любил православную церковь и наши обряды. Он, обычно, ходил с нами, когда мог, в наш величественный кафедральный собор, который стоял вблизи нашего дома. Из окон нашей детской, мы часто любовались его, блистающими на солнце, куполами. В двунадесятые праздники, над главным из них, зажигался крест из электрических лампочек и свет оттуда проникал в детскую. По малолетству меня еще не брали ко всенощной и я, лежа в кроватке, любил подолгу смотреть на этот сияющий крест.
В канун воскресенья почти все наши уходили ко все-нощной… Бархатно гудел большой колокол, постепенно переходя в малиновый трезвон. Я оставался с няней, которая ходила по всем комнатам, зажигая лампады перед киотами. В них хранились семейные образа моей матери, переходящие из поколения в поколение. Многие из них были в серебряных, позолоченных ризах. Когда лампада начинала теплиться, няня крестилась широким крестным знамением. Потом, она подходила ко мне и, садясь у моего изголовья, начинала с тех же неизменных слов: «Вот, Шуренька, я все огоньки Божьи в доме позажигала и горят они, теперь, все, как звездочки не на небе, а у нас на дому». Затем она рассказывала мне про святых угодников или про Матерь Божью и кончала какой-нибудь сказкой, давно мне знакомой. Голос ее звучал, как журчащий ручеек и под звуки его я сладко засыпал.
Бывало я просыпался, слыша вдали веселый, оживленный разговор в столовой. Там, я знал, уже шумел самовар, и все садились за стол… Потом я ждал момента, когда мама придет меня благословить. Она крестила меня, а затем целовала в лоб, произнося: «Господь с тобой, спи, Шурик!» И, тогда, я целовал ее руку. Мама входила в детскую такой мягкой поступью, что ее не было слышно, но я чувствовал ее присутствие и жалел после, что заснув крепким сном, не всегда просыпался.
Когда мне минуло семь лет, я тоже стал ходить со всеми ко всенощной. Какая-то была радость идти туда в первый раз и так же, впервые, к исповеди и причастию! Восьми лет я был уже прислужником в алтаре. Наш духовник, о. Александр (Мальцев), ввел меня в алтарь и одел меня в стихарек. Как я был горд и счастлив прислуживать, особенно, когда мои сестры и мама смотрели на меня, важно шествующего со свечой. Няня же, глядела на меня прямо с умилением…
В воскресные дни, по вечерам, вспоминаются мне: домашний театр, волшебный фонарь, шарады и, иногда, рассказы отца. Больше всего нравилось мне, забравшись в глубокое кресло, в нашей уютной гостиной, слушать игру моей матери на рояле. Если бы не раннее замужество и не дети, она могла бы стать концертной пианисткой. Помимо безукоризненной техники у нее был редкий дар передачи чувств и переживаний композитора в его творениях и тем затрагивать сокровенные струны в душе слушателей.
От моих родителей я унаследовал не только любовь к музыке, но и хороший слух и так же голос. К нам приходила учительница музыки, под руководством которой я начинал делать успехи. Часто, припоминая какую-нибудь вещь, игранную моей матерью, я подбирал кое-что из нее и играл по слуху. Няня была горда моим исполнением и, когда родителей не было дома, приглашала свою мать, нашу кухарку, брата — папиного курьера и еще кое кого, чтобы они послушали меня.
В 1911 году, мой отец купил имение «Романи», недалеко от Ковно, с которым связаны самые светлые воспоминания моего отрочества. За старым, большим домом с башнями и колоннами, был чудный парк с аллеями из вековых лип и других деревьев. Я любил уединяться в его отдаленные места и сидеть среди кустов сирени и жасмина, за что получил прозвище «молодого мечтателя» в нашей семье.
Лето в «Романи» было всегда радостным. Приезжали и уезжали друзья родителей и сослуживцы отца по Окружному Суду. У моего старшего брата и сестер также было много друзей и подруг. У Николая была замечательная память и большой сценический талант. Он был душой всех замыслов и домашних спектаклей. Агния, выдающаяся своей красотой, обладала дивным сопрано и неподражаемо пела русские народные песни и романсы. Лилия (Елизавета) хорошо рисовала и писала картины с натуры, предпочитая всему другому, цветы. Среди их друзей было также много одаренных и каждый старался угодить другим тем, чем мог.
Все веселились: ходили гурьбой собирать землянику, катались верхом, играли в горелки, крокет, теннис… Только моя младшая сестра Надя, с большими голубыми глазами и длинной русой косой, была часто задумчива и как бы жила своей внутренней, духовной жизнью.
Дни мелькали. Все время дом был полон гостей или мы ездили в гости к соседям. У всех нас был волчий аппетит от прогулок и купанья в реке. Со стола, на веранде, не сходил самовар. Свежий деревенский воздух, обилие здоровой пищи, своих фруктов, овощей, сливок, домашней птицы, всевозможных варений, рассолов и напитков являлось лучшей страховкой против разных заболеваний.
Вставали мы все рано, ложились поздно, чтобы насла-диться каждой минутой… Какие незабвенные были вечера! Когда, в послеобеденное время, жара начинала уступать место предвечерней прохладе, я шел в беседку на пригорке, расположенной в конце парка, из которой открывался прекрасный вид на, колыхающиеся волнами, поля ржи и пшеницы, пересеченные широкой дорогой, ведущей к пристани на реке Немане, которая называлась «Колотово». Я часто наблюдал ход и причал пароходов. Когда три раза раздавался свисток, — это означало, что к нам кто-то приехал. Тогда быстро запрягался экипаж и посылался вниз за приезжими гостями.
Больше всего я любил смотреть на закат солнца, по-сылающего свои прощальные золотисто-розовые, постепенно багровеющие, лучи, как бы утопающие в реке, воды которой темнели по мере исчезновения солнца.
Наступали сумерки, а за ними спускался тихий вечер. Вся природа как будто отдыхала. Белым покрывалом стелился над полями туман от реки. Тишина… Только издалека доносилось пение запоздавших, идущих с полей, косарей, да начинали свое перекликание дергачи и кузнечики. Веяло ароматом цветов, пряным запахом сена от свежескошенных полей и лугов. Ко всему этому примешивалось благоухание ночных фиалок, которых было великое множество в «Романи».
Вот, одна за другой, зажигаются, делаясь все ярче, звезды. Последней восходит на небосклоне луна и медленно, величаво плывет, заливая все серебристым, бледно-голубым светом, превращая усадьбу, деревья, поля и поверхность реки во что то сказочно-таинственное. И, тогда начинались трели соловьев…
При подходе к дому, из открытых настежь дверей гостиной, доносятся аккорды рояля. Все, собравшиеся на террасе, слушают, не шелохнувшись, мою мать, чудесная игра которой уносит куда-то в надземные края…
Как давно все это было! Как это трудно передать словами тем, кто не помнит или никогда не жил в русских имениях, того всестороннего очарования той жизни, так ярко и правдиво описанной, любящими свою родину, писателями земли русской.
Первая смерть в нашей семье
Страшный удар постиг всю нашу семью в Великую субботу, 13 апреля 1913 года.
Уже в начале Страстной, сестра моя, Надюша, должно быть плохо чувствовала себя, но пересилив свое недомогание, ходила на все службы в соборе и была в каком-то, особенно приподнятом, молитвенном, настроении. Так как она кашляла, была очень бледна и почти не прикасалась к еде, то мама вызвала нашего семейного доктора. Он спросил Надю — не болит ли что-нибудь у нее, но она, улыбнувшись ему, только мотнула головой. Доктор определил легкую простуду, прописал микстуру от кашля, велел беречься и уехал.
Ночью, в Великую пятницу, ей стало совсем плохо, поднялся жар и ее мучила жажда. Она металась по постели, впадала в забытье, стонала, но приходя в сознанье, не жаловалась ни на что. Срочно вызвали доктора. Он решил, что у нее воспаление легких: велел давать ей три раза в день аспирин и поставить банки.
К утру жар начал спадать. Мама и няня не отходили от Нади и делали ей примочки ледяной водой на лоб. Надя лежала с закрытыми глазами, не двигаясь и не говоря ничего; но вид у нее был, когда я вошел в комнату, как у очень тяжело больной.
Когда мама вышла на минутку, чтобы распорядиться по дому, Надя открыла глаза: «Няня Паша, помоги мне встать на колени, я хочу помолиться». Няня подняла ее и поддерживала на постели, чтобы она не упала. Надюша горячо молилась, крестясь, с трудом нагнулась, чтобы поцеловать иконку у своего изголовья, и откинулась обратно без сил. Няня бережно уложила и прикрыла ее и слезы капали из ее глаз.
«Отчего ты плачешь, нянечка? Не надо плакать; я ведь иду к Богу… Лучше сядь около меня и спой мне ту колыбельную песенку, что ты пела мне, когда я была маленькой». И няня тихо напевала сквозь слезы: «Спи мой ангелочек, спи касатик мой, вырастишь ты скоро, будешь ты лихой».
Надя слушала с закрытыми глазами. Когда же, няня, пропев то же самое несколько раз, остановилась, Надя вновь открыла глаза и устремив взор на икону Божьей Матери, висящей в киоте в углу комнаты, тихо, но внятно сказала — «одень меня во все белое и повяжи голову розовым платочком, когда я умру.
Я вышел из комнаты едва сдерживая слезы… Опять срочно был вызван доктор. В этот раз он очень внимательно осмотрел больную и поставил диагноз — перетонит. Было слишком поздно оперировать, оставалось только положиться на волю Божию. Послали и за нашим духовным отцом, который в Вербное воскресение причастил Надюшу и всех нас.
Батюшка пришел прямо из церкви в белой епитрахили. Вся семья собралась вокруг умирающей сестры. Благословив и поцеловав Надюшу в лоб, отец Александр стал читать отходную. Он начал с пасхального тропаря:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробе живот даровав! «Спасибо» — прошептала Надюша. Это были ее последние слова…
Тихо отошла Надюша, как бы уснула, но вечным сном до будущего воскресенья. На изможденном лице ее застыла полуулыбка и появилось выражение умиротворения, неведомого простым смертным. Мы все молились, стоя на коленях. Время как бы перестало существовать для нас. Вдруг раздался звон большого колокола, призывавшего к обедне. Было преддверие Пасхи.
В доме водворилась странная, незнакомая мне, доселе, тишина. Говорили шёпотом, ходили на цыпочках, что-то передвигали, вносили и уносили. Я как бы окаменел и стоя в своей комнате, у окна, смотрел на купол. Плакать не мог и все думал — где же теперь Надюшина душа? Боль потери сразила меня после, когда я увидел ее уже на смертном одре, в углу под образами, в зале с высокими подсвечниками, одетой как она желала. Позже, в тот день, батюшка служил панихиду и аромат ладана и белой сирени, которой был усыпан, обтянутый белым, стол с покоившимся на нем телом Надюши, стелился легкой дымкой по залу и струился ввысь…
После панихиды, когда никого, кроме равномерно читавшей псалтырь монахини, не было вблизи, я подошел к Надюше и долго смотрел на нее. В первый раз в жизни, соприкоснувшись со смертью близкого и дорогого человека, я почувствовал всю безвозвратность утраты, но не было никакого страха. Наоборот, наплакавшись вдоволь во время панихиды, щемящая боль выпустила меня из своих тисков. Вглядываясь в мягко освященное горящими свечами просветленное личико моей сестры, я был охвачен какой-то не земной радостью, как будто она, или вернее ее освобожденная душа безмолвно делилась со мной чем-то небесным.
На заутрене снова страшно не хватало нам нашей, любимой всеми, Надюши и не хотелось верить, что она никогда больше не будет с нами во плоти. Горе родителей было безутешно.
Ровно в полночь, вторя соборным колоколам, затрез-вонили и все другие городские колокола. Медленно и торжественно шествовал вокруг собора крестный ход. Было великое множество народа. От зажжённых свечей искрились пасхальные облачения и ризы духовенства, возглавляемого епископом Ковенским, нашим дорогим пастырем, Владыкой Елевферием. «Воскресение Твое Христе Спасе, ангелы поют на небесех и нас сподоби чистым сердцем Тебя славити» — дивно пел кафедральный хор. Слушая слова этой чудной молитвы, вдумываясь в смысл воскресенья, я старался благодарить Господа, что если Надюше было суждено покинуть нас так рано, то это произошло как раз перед воскресением самого Спасителя.
Еще другая мысль пришла мне в голову. Доктор объяснил свой, сперва ошибочный диагноз, тем, что Надюша не жаловалась на боль, а при перитоните обычно бывают сильные боли в полости живота. Быть может они были и у Надюши, но думая о мучениях Христа, она заглушала в себе эти страдания, как бы принося себя в жертву. Оттого она наверно и знала наперед, когда нас покинет. Теперь, думал я, ты счастлива, Надюша и ты, вместе с ангелами на небе, поешь и славишь Воскресшего Господа, принявшего тебя в Свои чертоги…
На второй день был вынос тела из дома в собор. Все было белое: облачение духовенства, катафалк, покрывала на лошадях. Открытый гроб несли вслед за катафалком. Не помню кто, кроме старшего брата и его лучшего друга, Гриши Богоявленского, сына нашего владыки, Елевферия, принял участие в этом. Пасхальное отпевание совершил сам владыка в сослужении с нашим духовником, о. Александром.
Как запомнились мне эти похороны! Пасхальный перезвон колоколов, пасхальные песнопения — «Воскресения день просветимся людие… Пасха Господня, Пасха… От земли к небеси Христос нас приведе — победную поюще».
И вновь скорбь утраты дорогой, незабвенной сестры, растворялась в ликующих молитвах о воскресении… Смерти нет — она побеждена воскресшим Христом, принявшего ее светлую душу туда, где нет «ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная…».
Светлая память о Надюше осталась жива во мне на всю жизнь. Привожу стихотворение, посвященное ей, мною:
Там, где свесясь плакучие ивы
С грустью тихой поникли ветвями
Притаилась могилка сестренки
Рано так разлученной с нами.
Крепок сон этой девочки милой
С темно-русою длинной косою,
С вечно кротким, задумчивым взглядом
С детски-чистой невинной душою.
Не развеет тот сон непробудный
Ни рыданья, ни вой непогоды,
Ни волшебная песнь соловьиная,
Ни кузнечиков над ней хороводы…
О проснись же!
Весна лучезарная,
Та, что ты так долго ждала,
Уж вернулась на землю усталую
И дары нам свои принесла.
О проснись! Посмотри —
Кто-то свежую ветку сирени
На твой холм возложил
Кто-то долго ходил
Бесконечно грустил…
Чьи-то слезы холодные, горькие
Покатились из впалых очей
И упали росою соленою
На холме, у могилки твоей.
Но не слышишь ты… Спишь ненаглядная!
Говорят, мы увидимся там,
Там, где нет уже больше страдания,
Где нет места горючим слезам…
Жизнь во время войны 1914–1917 гг.
В июле 1914 года вспыхнула Великая война. Германия объявила войну России.
Сразу же после объявления всеобщей мобилизации, началась эвакуация всех учреждений, вблизи от границы, вглубь страны. Все это произошло совершенно внезапно; помню, что рано утром прибыл в «Романи» специально отправленный из Ковно, экстренный курьер. Никто не подозревал, что пришел конец нашей мирной жизни. Отец уведомлял нас, что немедленно, сегодня же к вечеру, мы все должны возвращаться в Ковно. Он также сообщал нам, что все пассажирские пароходы реквизированы на военные нужды, но что комендант крепости, Григорьев, высылает за нами специальный пароход, который войдет в бухту, около нашей купальни. Все мы должны быть готовы к этому времени вместе с багажом.
Это известие буквально потрясло всех нас. Впопыхах, в суете, начались сборы. Как решить — что брать, что не брать? Как знать сколько времени придется отсутствовать? Ужасно не хотелось уезжать из нашей милой «Романи» в июль, в самый разгар лета.
Наконец сборы подошли к концу. В пять часов у подъезда дома уже стояли запряженные лошади, экипаж и телеги, на которые грузили вещи под руководством мамы и старшего брата.
Я успел еще сбегать к беседке, сел на скамейку. Был чудный, ясный, летний день; дул ветерок и не верилось, глядя на мирную картину, расстилавшуюся передо мной, что, как подсказывало мне чутье, я вижу все это в последний раз, прощаясь с «Романи» навсегда. Поникнув головой, направился я по одной из липовых аллей к купальне. Было мне очень грустно.
Все были уже в сборе и все было готово. Телеги, на-груженные чемоданами, сундуками и разным скарбом, медленно спускались, по довольно крутой дороге, к пристани. Издалека, приближаясь к нам, шел пароход «Венера». Скоро раздались три свистка и пароход причалил около нашей купальни. Мы усадили мать и сестер в экипаж, а младшая сестра, Соня, брат Николай, младший брат Левушка и я, сели в линейку. Когда мы подъехали, уже кончали по трапу грузить вещи.
Вокруг нас собралась маленькая толпа людей, пришедших проститься с нами. Простой народ, литовцы-крестьяне и прислуга, которая обслуживала нас в «Романи», в летнее время, привыкшие к нам за это время, трогательно прощалась с нами, желая нам всего наилучшего. Мать особенно щедро давала всем на чай, так это было не обычное расставание до следующего лета, а неизвестно на какой срок.
Пароход медленно поплыл против течения. Мы шли по середине широкого Немана, мимо то крутых, заросших хвойными и лиственными лесами, то отлогих берегов с полями золотистой пшеницы и ржи, готовых к покосу, и зелеными коврами лугов.
Через два часа мы прибыли в Ковно, где на пристани ждал нас отец, и отправились в наш дом, где также все было вверх дном и продолжались сборы, чтобы ехать дальше.
Весь Окружной Суд на следующий день должен был эвакуироваться в Москву. Всем нам было несказанно тяжело покидать родное Ковно, где протекало наше детство и с которым было связано столько светлых воспоминаний. Впереди нас ждала полная неизвестность.
В последующую минуту произошла перемена планов. Отец, как судья и председатель суда, а также мировых судей, оставался в Ковно, где должно было продолжаться судопроизводство непосредственно за фронтовой линией. Эвакуировались только семейства судейских и, на всякий случай, вывозились архивы.
В восемь часов вечера мы приехали на вокзал. Был подан состав экстренного поезда для судейских. Нам отвели несколько купе, где мы разместились, как могли. Мы ехали в Москву к дяде Саше (брату отца, начальнику Московско-Брестской-Александровской жел. дор.), которому папа послал телеграмму о нашем приезде.
Раздался третий звонок и паровоз, пыхтя, потянул за собой длинный поезд. Папа стоял на перроне и крестил нас всех, стоящих у открытых окон медленно удаляющегося поезда, который только выйдя из вокзала, начал набирать скорость.
Совсем стемнело, город был уже далеко позади и только светились, зелеными и красными огнями, путевые стрелки. Поезд мчался, переходя с пути на путь. Уныло моросил дождь и сердце тоже обливала грусть… Всего сутки назад мы жили в «Романи», ничего не предвидя и наслаждались каждым моментом. Все происшедшее за тот день казалось каким-то кошмаром — вот, вот проснешься и все будет, как прежде. А поезд, равнодушный ко всем переживаньям, тем временем, мчал нас вглубь России, в, когда-то престольную, Москву.
Перед станцией Орша было получено извещение от дяди, что на станции нас ожидает салон-вагон начальника дороги, высланный по приказанию дяди. Мы должны были перейти в него, и он должен был быть прицеплен к составу нашего поезда.
По прибытии в Оршу, нас встретил начальник станции и почтительно пригласил нас направиться с ним на запасный путь, где ждал нас салон-вагон. Начальником станции Орша было приготовлено все для переноски нашего багажа. Прекрасно обставленный вагон-салон дяди состоял из очень уютной спальни с ванной, приемной, столовой, кухни с газовой плитой и комнатки для слуги. В экстренных случаях диваны, вдоль стены приемной и столовой, раздвигались и служили удобными постелями.
Как только мы разместились в этом вагоне, маневровый паровоз потащил наш вагон, который и прицепили к поезду. Через несколько минут мы мчались на всех парах все отдаляясь от Ковно. Теперь мы ехали с большим комфортом и могли разместиться спать, почти как дома. Так проехали мы всю ночь и в полдень прибыли в Москву, где на вокзале встретили нас дядя Саша, жена его — тетя Женя и их дети: Женя, Муся, Коля, Ксения и Шура. Была радостная встреча после трех лет, когда летом 1911 года, дядя приезжал к нам, в «Романи», всей семьей.
Все мы отправились на трех автомобилях на Тверскую улицу и угол Пименовского переулка, где находилась огромная квартира дяди Саши, который жил в ней с семьей около восьми лет.
Приняты мы были, как нельзя более радушно и тепло. Двоюродные сестры и братья сразу взяли нас под свое крылышко и обещали показать нам все достопримечательности Москвы. Нас, общим числом, было четырнадцать человек, но для всех нашлось место и никакого стеснения не было.
Июль был на исходе. Стояла чудесная погода. Заботливая тетя Женя, братья и сестры начали осмотр Москвы с Кремля: Успенский, Благовещенские соборы и другие церкви, затем около Кремля — храмы Христа Спасителя и Василия Блаженного. Потом они возили нас в Новодевичий и Страстной монастыри, по музеям, особенно в Третьяковскую галерею, куда мы часто ходили, чтобы ближе ознакомиться с русским искусством живописи.
По субботам и воскресеньям мы заслушивались малиновым перезвоном всех «сорока сороков» московских колоколов под гул могучего колокола Ивана Великого. Этот звон московских колоколов — музыка неописуемой красоты. Вечера проходили в семейном кругу, в обмене впечатлениями и в чтении последних новостей. Ужинали за большим столом, на который мягко падал свет, висящей над ним лампы с зеленым абажуром.
Дядя Саша много отсутствовал, даже по вечерам и возвращался домой нервный и очень усталый. По всей стране шла мобилизация и он, как начальник одной из главных стратегических жел. дорог, был ответственен за перегружение путей поездами с эшелонами войск, направляемых к западным границам.
Но вот пришла телеграмма о прибытии в Москву Государя и его Августейшей семьи. В тот день дядя вернулся домой особенно озабоченный, так как надо было приготовить пути для царского поезда и его эскорта. В виду того, что этот приезд совпадал с продвижением войск, прибывающих с фронта и было много непредвиденных задержек, положение сильно осложнялось. Необходимо было выработать целый план беспрепятственного следования царского поезда, а это была не легкая задача, которую дядя, с помощью других «путейцев» решил к общему удовлетворению.
Приезд Государя в Москву в августе 1914 года
Весть о прибытии Государя, с быстротой молнии, раз-неслась по всей Москве, которая тут же стала преукрашаться. Всюду принялись расчищать улицы и скверы. Учреждения и дома были увешаны гирляндами с вензелями Государя. Всюду было праздничное настроение. Москва пестрела флагами и штандартами. На фоне всего этого, особенно выделялся освещенный, когда становилось темно, Кремль.
Москва с большой радостью ждала своего Государя и его царственную семью. Мы же, вся молодежь, были просто в восторге, когда дядя Саша вручил нам всем красивые карточки-пропуска для встречи Государя и его Августейшей семьи на перроне Александровского вокзала.
Это было в начале августа 1914 года, после того, как Государь взошел на балкон Зимнего Дворца и многотысячная толпа приветствовала его могущественным, несмолкаемым «ура», перешедшим в молитву, когда весь народ, опустившись на колени, запел: «Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое победы благоверному Государю нашему. Императору Николаю Александровичу, на супротивная даруя и Твое сохраняя, крестом Твоим, жительством…».
И вот, наступил, наконец, долгожданный, никогда не забываемый день. По долгу службы, дядя Саша выехал еще накануне, на встречу Государя, встретить царский поезд на своей дороге. При этом отцеплялся салон-вагон начальника Николаевской жел. дороги (во главе царского поезда) и прицеплялся вагон начальника Александровской жел. дороги, т. е. дяди. Вся эта процедура должна была занимать не более четверти часа. Как только поезд двигался в путь, начальник дороги должен был явиться и рапортовать Государю.
Итак, царский поезд приближался к Москве и ожидался там точно в 11.10 утра. С раннего утра войска Московского гарнизона проходили маршем по Тверской, и мы смотрели на них из окон дядиной гостиной, радуясь, что мы оказались в Москве в такой знаменательный день.
За пол часа до прибытия царского поезда, мы поехали на Александровский вокзал. От вокзала до самого Кремля, стояли шпалерами войска. Все и вся выглядело замечательно нарядно. Вокзал также был весь разукрашен. У входа стояло много военных и гражданских чинов в парадных формах, проверяя пропуска входящих.
Подъезжали власти. Прибыл градоначальник города Москвы, командующий войсками Московского округа. Блестели на солнце парадные формы военных и гражданских важных особ.
Мы прошли на перрон, где выстраивался почетный караул Военного Александровского училища. Все юнкера были, как на подбор, — прямо удальцы в своей красивой форме…
Но вот, все словно замерло, только вся Москва гудела звоном своих «сорока сороков»… Среди толпы пронеслось: «царский поезд подходит». И не одно мое сердце забилось сильней… Тихо и плавно приближался поезд. Раздалась команда почетному караулу: «Смирно! На караул!» и Александровцы замерли, как изваяния. Начальник станции, держа в руке особую палочку, взмахнул ею и поезд остановился. Из вагона поезда медленно опустился трап к широкому красному ковру дорожки… Прежде всего вышел и встал по обе стороны дорожки личный конвой Его Императорского Величества. Одновременно с этим, из своего вагона вышел дядя Саша и быстро прошел к месту выхода Государя, приложив руку к козырьку.
Среди всего этого блестящего окружения (некоторые официальные лица были в треуголках и шитым золотом мундирах), дядя Саша выделялся своей простой служебной формой, положенной при исполнении служебных обязанностей начальника дороги. На нем был белый китель, белая фуражка с темно-зеленым околышем и высокие сапоги. На левой стороне кителя был инженерный значек, а на левой — звезда св. Анны…
Вот, наконец, выходит Государь, а за ним, на руках выносят Наследника; за ними идет Государыня и Великие Княжны. Незабвенный потрясающий момент! Государь совсем близко от нас и окидывает взглядом всех присутствующих. Дядя первым рапортует Государю, который с чарующей улыбкой подает ему руку и благодарит «за отличный путь». У Государя серо-голубые, особенные по выражению, глаза. Их нельзя забыть и они остались в моей памяти на всю жизнь.
Государю представляются разные лица. Затем он проходит по фронту почетного караула, становится посреди юнкеров и приветствует их — Здорово Александровцы! «Здравия желаем Вашему Императорскому Величеству!» — в один могучий голос ответствуют Александровцы, раздается громогласное «ура» и оркестр исполняет «Боже Царя Храни»…
Несмолкаемое «ура» покатилось от вокзала, подхваченное стоявшими шпалерами войсками, и оно сливалось с перезвоном всех московских колоколов по всему пути следования царского кортежа, вдоль Тверской до часовни иконы Иверской Божьей Матери, где Государь и его семья прикладывались к святыне. Вся Москва ликовала и можно сказать словами Евангелиста, повествующего о входе Господнем в Иерусалим: «потрясися весь град».
В древнем Успенском соборе, на паперти, встречал Государя Первосвятитель Московский, Митрополит Макарий, с крестом и сонмом духовенства, епископов, среди которых был и епископ Серпуховский, Анастасий, бывшем тогда викарием Митрополита Московского (в изгнании — Первоиерарх Русской Православной Зарубежной Церкви).
Всю неделю пребывания Государя в Москве, народ запружал улицы, ожидая его проезда в то или иное место. При его приближении всегда звучало громкое «ура». Были случаи, когда масса народа останавливала движение кортежа, чтобы поближе взглянуть на своего царя-помазанника Божия. Кто мог предвидеть те страшные времена, которые настали всего лишь через три года!.. Война началась блестящими победами для России и русские армии вели наступление по всему фронту.
Весь август мы пробыли в Москве, но в самом конце его, получили телеграмму от отца возвращаться в Ковно. Как мы были рады! Быстрые сборы и вот мы снова в поезде и едем до Орши в вагоне дяди Саши. На следующий день мы прибыли в Ковно, а оттуда в Кейданы, где был отец и где теперь заседал его суд. Из Кейданов мы отправились в «Забелишки», имение друга отца и всей нашей семьи, Петра Александровича Виллера. Он был предводителем дворянства и Дворянское Собрание, как и Окружной Суд были переведены в Кейданы, так как Ковно было объявлено крепостью и никого из жителей туда не пускали.
Петр Александрович, его сестра Лидия Александровна (жена его давно скончалась) и дети: Петя, Лиля, Саша, Сережа и Лизочка были самыми близкими друзьями наших родителей и нас всех. Мы росли вместе и делились нашими впечатлениями, мнениями, а сестры — и своими «секретами». Петя был убит на войне в первом бою. Петр Александрович, его сестра Лидия, Саша и Сережа давно умерли, но оба были до конца добровольцами и воевали в Драгунском Новороссийском полку генерала Рененкампфа. С Лизочкой же я встретился совсем недавно. Она узнала обо мне случайно, по газете из описания моего юбилея. Она теперь вдова. Какая у нас была радостная встреча!..
Тогда, в 1914 году стояла чудная, золотая осень. Мы все приятно проводили время, поджидая отца и Петра Александровича, возвратившихся к вечеру с последними новостями с фронта. Все мы думали, что скоро вернемся домой в «Романи». Увы! Надежды наши не оправдались. На фронте начались неудачи. Пришло экстренное сообщение: «Армия генерала Самсонова окружена». Случилось это не по его вине, а по нерадению высшего начальства. Тем не менее, будучи ответственным за вверенные ему войска и находясь в безвыходном положении, он застрелился. Это известие было большим ударом для всех.
Пропало чувство беззаботности и уверенности в успехе. Ночью стала слышна отдаленная канонада. С утра, целый день громыхало вдали, как во время грозы. Так прошел весь день и громыхание становилось все сильнее и отчетливее. Уже слышались залпы орудий… Отец и Петр Александрович вернулись прежде времени очень встревоженные. Образовался немецкий прорыв и немцы уже подходили к Средникам (около 100 верст от Кейдан). Не было другого выбора как немедля выезжать, в тот же вечер, иначе могло быть поздно.
Через несколько часов, в страшных попыхах, уложив наши вещи, нам удалось попасть на последний поезд в Петроград (С. Петербург уже был переименован). Почти по всему северо-западному фронту шло отступление. Суд и судопроизводство пришлось эвакуировать в Петроград. Переезд туда был удобен для отца, так как все его родст-венники, кроме дяди Саши, жили там или вблизи от Петрограда.
По желанию отца я поступил в гимназию Императорского Человеколюбивого Общества и ходил в нее на Крюков канал, где она находилась. В это время мы все жили на Английской набережной у моих тети Сони и тети Ляли — двух незамужних сестер отца. Когда, через несколько месяцев, суд снова был эвакуирован в Лугу, я остался для продолжения учения и первое время жил у дяди Кости Елпатиевского (русского историка), жена которого, тетя Лиза была сестрой моего отца. Пробыв некоторое время у него, я вернулся жить к тетям.
Младшая моя сестра, Соня, очень резвая девочка, с которой я всегда дружил, была помещена в Смольный ин-ститут. По праздникам она приезжала к тетям, и мы весело проводили время вместе. Когда случались праздники подряд, то мы с Соней ездили домой в «Лугу». Отцу удалось найти очень подходящий дом с большим садом в «Луге», который он купил, так как было неизвестно сколько времени продлится война. Как мы предвкушали эти поездки туда специальным Лужским скорым поездом! Расстояние до «Луги» было 128 верст, а езды три часа.
Как радостны были эти встречи с родителями, братьями и сестрами и нашей дорогой, заботливой няней Пашей. Два, три отпуска пролетали как мгновение и снова надо было возвращаться в свои учебные заведения. Зато на Рождественские, Пасхальные и летние каникулы — какое нам было раздолье!
Луга — небольшой уездный город. В то время там была лишь одна главная улица с магазинами и частными домами. Над городом высился громадный Вознесенский собор, ставший впоследствии кафедральным. Настоятелем его был наш духовник, о. Анатолий Остроумов. Наша семья продолжала, как всегда ходить в церковь, а я прислуживал в соборе нашему духовнику и другим. Луга была известным курортным местом. Она очень живописно расположена: холмы, леса, речки, озера. Из нашего дома открывался чудный вид. В саду было обилие фруктовых деревьев, особенно яблонь, а также кустов сирени и жасмина, а за ними был сосновый лесок.
В летнее время семья и гости проводили много времени на обширной веранде. Там пили утренний чай, завтракали и обедали. По вечерам отец любил раскладывать пасьянсы и все мы слушали игру мамы на рояле. Часто бывали гости и дом всегда был открыт для всех. В нем была полная чаша…
Любимым занятием брата Коли и моим было ходить ловить рыбу летом. Самая лучшая ловля была на реке Луге и на Штолевском озере. Мы отправлялись чуть свет, брали с собой что-нибудь закусить, и сидели в лодке часами, не разговаривая, чтобы не спугнуть рыбу. Осенью мы охотились на щук и приносили домой изрядное количество.
Луга находилась на уровне шпиля Петропавловской крепости. Вокруг нее было много сосновых лесов. Вероятно, благодаря этому, там был целительный воздух и находилось несколько больниц для легочных больных. Особенно прекрасна становилась Луга зимой, под снегом. Дивный, живительный воздух манил из дому на двор и на природу. Сестра Лиля (Елизавета) и я любили кататься не только на коньках, но и на лыжах. Сколько удовольствия нам доставляли наши утренние прогулки по долам и холмам, по снежной глади, сверкающей на солнце. Мы были молоды, полны жизни, которая сулила нам все, впереди. Мы жили настоящим, не задумываясь о будущем.
Так протекала наша жизнь в Луге в 1915, 16 и 17-м годах и, до февраля — относительно спокойно, поскольку такое было возможно во время войны. У нас, как и у большинства тамошних семейств, были родные и друзья на фронте. Открывая газету, родители, первым делом, смотрели на списки пропавших без вести или погибших в бою. Мы слышали разговоры о недостатке орудий, винтовок, о тяжелых ненужных потерях и об ошибках высшего командования. Отец не критиковал никого, но часто сожалел, что Петра Аркадьевича Столыпина не было в живых. Он верил, как и многие другие, что будь он жив и еще у власти, многое было бы совсем иначе и после победоносной войны не было бы революции. Мы же, только еще подраставшие, жили своей, полной жизнью, наслаждаясь всем тем, что скоро должно было быть отнято у нас всех.
Так незаметно проходили те годы.
Крестные ходы
Одним из самых ярких и светлых воспоминаний, во время пребывания нашего в Луге, были крестные ходы, в начале мая, ко дню праздника Евангелиста Иоанна Богослова. Владыка Вениамин, епископ Гдовский (в конце 1917 года ставший Митрополитом Петроградским) совершил всенощную 6 мая и 7-го — раннюю литургию, в шесть часов утра, после которой выходил обычно от собора крестный ход в Иоанно-Богословский Череменецкий мужской монастырь. Расстояние до него было 22 версты и монастырь стоял на полуострове Череменецкого озера и был соединен с сушей только узким перешейком в одну версту длинной, обсаженного вековыми елями. Промеж их стволов открывался вид на озеро, столь большое, что вдали едва виднелись его берега. Воды озера были хрустально чисты и дивно отражали глубину синего неба. Какая это была неописуемая красота!
Когда кончался перешеек — подходили к монастырским вратам с куполом и образом св. Евангелиста Иоанна Богослова… Крестный ход был всегда многолюдным и возростал по мере продвижения, так как каждый сельский приход присоединялся к нему, вливаясь в него, так что, в конце пути он состоял из нескольких тысяч людей.
Мне выпало счастье быть прислужником и иподиаконом у Владыки Вениамина — подлинного и незабвенного святителя и состоять при нем все время на всех шести крестных ходах: из Луги в мае и из Плюсы в июле. Владыка ехал из Петрограда, сходил в Плюсе и оттуда 40 верст, совершал крестный ход пешком в Воскресенско-Покровский женский монастырь и Серафимо-Саровскую пустыньку. Праздник приходился на 28 июля.
Владыка, в особо прицепленном салон-вагоне, следовал поездом. На станции Плюса о. протоиерей Анатолий (которому я всегда прислуживал и читал на клиросе, когда бывал дома) и я, встречали Владыку и принимали от него благословение в вагоне. Я так признателен о. Анатолию за то, что он брал меня всегда с собою. (Вообще вся наша семья глубоко почитала его и любила). Он извещал меня заранее, чтобы я приготовился к поездке на встречу Владыке, который неизменно ласково благословлял нас. Какой он был благостный, смиренный и кроткий! Лицо его излучало радость. Благословляя меня, он всегда целовал в лоб и звал меня Сашей. Он регулярно приезжал в Лугу и все мы с нетерпением ждали его.
От Луги до Плюсы — небольшой прогон, не более часа по железной дороге. На станции Плюса находится маленькая деревянная церковь подворья Свято-Воскресенского монастыря и там ожидали прибытия Владыки монахини и множество крестьян, скопившихся из окрестных сел, со своими священниками, чтобы шествовать в крестном ходе, возглавляемым Владыкой Вениамином.
Еще в вагоне мы облачали Владыку в легкое летнее облачение из холста. По дороге в церковь, Владыка бла-гословлял крестный ход возгласом из всенощного: «Слава святой Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы, всегда, ныне и присно и во веки веков!» Могучее — Аминь, пропетое всем народом, неслось ему в ответ и крестный ход двигался, начиная с пения псалма: «Благослови душе моя Господа, благословен если Господи, Господи Боже мой, возвеличился еси зело».
Во время всего пути следования крестного хода совер-шалось всенощное бдение. Всю дорогу за Владыкой следовал экипаж, но он никогда не садился в него и был неутомим. Тысячи народа следовали за ним и чистосердечное пение всех молящихся оглашало поля и леса, словно природа, внимая им, молилась с ними, и земля соприкасалась с небесами.
Остался у меня в памяти один, никогда не забываемый момент. Крестный ход поднимался на холм, солнце было на закате. Вдали розовел горизонт и верхушки деревьев были еще освещены лучами исчезающего солнца. Вот Владыка благословляет народ и, вдруг, слышится: «Свете Тихий, Святые славы бессмертного Отца Небесного, Святого и Блаженного, Иесусе Христе, пришедшый на запад солнца. Видеша Свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа Господа».
Пели все, и люди с зажженными свечами в руках, а крестный ход простирался до самого горизонта, сливаясь в одно целое, в одну широкую пламенную реку… Одно песнопение сменялось другим. Вскоре «Хвалите Имя Господне, хвалите раби Господа» разносилось кругом и душа моя трепетала от охватившей ее благодатной радости…
Впереди всех шли крестоносцы. Они были подобно рулевому и избирались из толковых людей, которые хорошо знали дорогу. В описываемых мной, больших крестных ходах, растянувшихся на версты, связь поддерживалась при помощи одного или двух конных, уведомлявших духовенство о каких-либо, иногда непредвиденных, происшествиях в пути.
Вот уже рассветная заря, понемногу стало светлеть. Недалеко уже и до Воскресенско-Покровского монастыря. Сообщают, что еще осталось 8 верст. Широкая дорога проходит между полями ржи и пшеницы. Зелеными коврами, раскинулись нивы и среди них, местами, цветет гречиха. Воздух насыщен полевыми пряностями. Высоко над крестным ходом вьются жаворонки их трели сливаются с народным пением, благословляя Творца всего.
Наконец виднеется купол монастыря. С каждым шагом слышится все явственней трезвон колоколов. Вот уже видны, блестящие на солнце, хоругви и иконы, вышедшего навстречу нам, крестного хода из монастыря со чтимой, чудотворной иконой Честного Покрова Богоматери. Доносится и пение монашеского хора. Духовенство идет за хоругвями, а за ними игуменья, вслед которой монахини, попарно, числом около 150-ти.
Владыка благословляет молебен: «Днесь благоверные людие светло празднуем, осеяняееми Твоим, Богоматерь, пришествием и к Твоему Пречистому Образу взирающе, умильно глаголем: покрой нас честным Твоим Покровом…». Мощное, единодушное пение несется к небесам.
Крестные ходы встречаются, лицом к лицу, склоняются хоругви. Дивный, громадный образ — святыни монастыря — Покрова с Пречистым Ликом Царицы Небесной, сияющий на солнце своей золотой, украшенной драгоценными камнями ризе, и с ним невидимое, но ощущаемое присутствие самой, Богоматери, осеняющей нас своим благодатным Покровом, предстает пред молящимися.
Владыка опускается на колени, а за ним и многотысячные богомольцы; он прикладывается к образу, осеняя себя крестным знаменем. Лицо его благодатно светится. За ним, кланяясь низко, проходит перед образом многочисленное духовенство… «Пресвятая Богородица, спаси нас!..», поет весь народ. Под это могучее, воодушевляющее пение, крестный ход направляется в монастырь.
У врат монастыря, Владыка совершает молебную литию. По ее окончании, игуменья принимает от монахини хлеб-соль и преподносит их, с приветствием, на вышитом белом полотенце, Владыке. Благочестивый Владыка, взяв вырезанный кусочек хлеба с солью, вкушает. Затем, он благословляет всех встречавших его уже в величественном храме. Мы провожаем Владыку в приготовленные для него покои и разоблачаем его…
В трапезной накрыт, белоснежной скатертью, стол, уставленный всевозможными яствами. Тут и пироги с рыбой, которой богат монастырь, находившийся по близости к большому, принадлежащему ему, озеру; яйца, свой мед, молоко и, замечательно вкусный, черный ржаной и белый пшеничный хлеб. Кипит огромный самовар. Вокруг стола суетятся монахини, чтобы все было, как можно лучше для Владыки и сопровождавшего его духовенства.
Пока я разоблачал Владыку, он ласково спросил меня: «что, Саша, утомился? Надо и отдохнуть, а на чай приходи ко мне». До сих пор слышу его тихий голос…
Как прекрасен был, в те времена, тот монастырь со своей высокой колокольней, на которой были, выбивающие каждую четверть часа, большие часы. С колокольни открывался вид на тихое, окаймленное камышами, озеро, по глади которого, тут и там, виднелись рыбачьи лодки. У монастыря было несколько зданий с кельями, разнообразными службами и было заметно, что там обширное и образцовое хозяйство. Там, также находился большой фруктовый сад, огород; свои поля и луга, а за ними леса.
В тот день, перед храмом, был приготовлен помост, на котором монахини приготовили все для предстоящего, праздничного всенощного бдения. Этот деревяный помост был устлан коврами и на нем устроили архиерейскую кафедру, иконы и подсвечники. Все это было сделано, чтобы те, которых нельзя было вместить в храм, могли видеть и принять участие в богослужении и поэтому всенощное бдение совершалось под открытым небом.
Некуда было уложить на ночь всех паломников и, так как не хватало келий, то многие спали, где могли: в сараях, под каким-нибудь развесистым деревом, на сеновале или просто на густой траве.
Сестры работали не покладая рук. Ведь всех надо было покормить, после такого путешествия, еще до службы. Разносили в ведрах и больших кувшинах молоко, квас, хлеб и всякую всячину. Все были довольны и находились в приподнятом настроении, укрепленные молитвой и в ожидании выхода Владыки, глубоко чтимого и любимого всеми, кто знал его, особенно простым людом. Он был подлинно архипастырем и отцом одинаково для всех. Народ знал это и ценил, что Владыка всегда принимал живейшее участие во всех народных молениях и крестных ходах; не отказывал никому, кто обращался к нему с просьбой о помощи. Он олицетворял собой заповедь о любви к Богу и ближнему. И не даром он был избран народом же в митрополита Петроградского, во время революции и принял этот тягчайший крест, окончившийся мученической смертью.
Строгий к самому себе, он был очень милостив к другим. Если случалось кто-либо провинился и был присылаем к нему для наказания, Владыка, будучи чутким и даже прозорливым, никогда не ругал, а отечески наставлял человека, делая это так благостно, что и у закоренелых нарушителей закона, просыпалась, как бы давно очерствевшая совесть.
Тем не менее было одно исключение, когда кроткий и всепрощающий Владыка преображался в обличителя и бывал непоколебим. То было во всем касающемся вопросов веры и верности православной церкви, вскоре ставшей гонимой. Но в те, описываемые мною времена, даже такая возможность казалась неправдоподобной.
Итак, солнце вновь клонилось к закату, когда вышел Владыка и каждый, вблизи от него, старался получить благословение от него, по пути его шествия. Многие даже становились на колени, чтобы быть осененными, целовали край его мантии.
Владыка поднялся на помост с устроенным алтарем, наполнившимся сонмом духовенства, подходящего длинной вереницей под благословление, перед началом всенощной.
«Восстаните! Высокопреосвященный Владыко, бла-гослови», громогласно провозгласил протодиакон Исакиевского собора, Косогорский, всегда сопровождавший Владыку в крестных ходах. Он выделялся, среди всех, своим ростом, весьма импозантной фигурой, и главное, — своим невероятно могучим голосом. Благодаря красоте своего баса и служения, Косогорский стал такой же знаменитостью в Петербурге, как протодиакон Розов в Успенском соборе в Московском Кремле.
Духовенство запело в ответ: «Прийдите поклонимся Цареви нашему Богу» и вслед за этим последовало всенародное пение псалма: «Благослови душе моя Господа, благословен еси Господи… Господи, Боже мой, возвеличился еси зело», неслось с духовным горением ввысь и верилось, что достигало небес, так как Царствие Божие было, в тот вечер, уже на земле, в наших душах.
«Святым Духом всякая душа живится, и чистою возвышается, светлеется Троическим Единством-Священнотайне…».
Я стоял близко от Владыки. Он весь, как бы растворился в пламенной молитве. Вспомнилось мне последнее служение Владыки в Свято-Покровском монастыре. В то время уже разгорелся пожар революции. Владыка Вениамин отказался идти на компромисс в делах веры с советскими властями и знал, что ожидало его…
«Господи, покрой нас Кровом Крилу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи! Помилуй нас и мир Твой и спаси души наша, яко благ и человеколюбец», молился святитель и слезы медленно просачивались из его скорбящих глаз. Я стоял тогда рядом с ним, держа клобук Владыки и, смотря на него, сам не мог удержаться от слез…
Еще только раз привелось мне, в ноябре того же 1918 года, прислуживать Первосвятителю в Александро-Невской Лавре в день храмового праздника, ноября 23. То была последняя его торжественная служба с двенадцатью архиереями в переполненном молящимися соборе.
Вскоре после того, Владыка, по учинению над ним советского суда, был заточен в тюрьму и, в 1920 г., расстрелян за открытое исповедание своей веры. Он был первым мучеником из духовных лиц в Петрограде и, к чести русских, надо добавить, что даже наши революционные солдаты, все до одного, отказались выполнить приговор — расстрела. Так он был любим. Он был расстрелян китайцами.
Глава II. Начало революции и Белая армия
В январе 1917 года, когда мы с Соней вернулись, после Рождественских каникул, из Луги в Петроград, все, по крайней мере, наружно, казалось спокойно. В этом году я должен был сдавать выпускные экзамены и подготовка к ним занимала почти все мое свободное время.
В одном из своих писем, мама сообщала мне, что друг моего отца, Петр Александрович Миллер будет в Петрограде, такого-то числа, в феврале, по делам и, как всегда остановится в гостинице «Бельвью» и что, если я приду туда в назначенное время, он передаст мне посылку «на подкрепление сил».
Итак, я направлялся, после школы, к Невскому проспекту, когда заметил большое стечение жандармерии на площади у Казанского собора. Жандармы были на конях, в полном вооружении и у них был очень воинственный вид. Они были наготове, чтобы двинуться вперед.
Такое необычное зрелище поразило меня, но я был еще больше поражен, когда идя по Невскому, по направлению к Николаевскому вокзалу, увидал, как бы, черную тучу с реющими над ней красными флагами, приближающуюся, тоже по Невскому, к Зимнему Дворцу. То была огромная толпа людей, запруживающих улицу, двигавшаяся как лава, от которой исходил зловещий гул…
Тем временем, жандармы выстроились тесными рядами по Невскому, преграждая путь наступавшим и сдерживали своих лошадей. Видя, что прохожие убегают, кто куда может, я растерялся и, слыша выстрелы, побежал окольным путем в гостиницу, где нашел очень озабоченного и расстроенного Петра Александровича. Ему, видно было не до меня… Перестрелка росла, и позднее мы узнали, что эта демонстрация стоила многим жизни. В то утро на всех пекарнях появились вывески: «хлеба нет», но так как его было сколько угодно, за день до того, многие не придали этому значения.
Следующим шоком для меня и всех учащихся, было известие, что выпускные экзамены будут не в конце мая, как всегда, а в феврале. Пришлось засесть за учебники и зубрить, как никогда. Слава Богу, экзамены прошли благополучно и я получил аттестат зрелости…
Первые дни, после отречения Государя от престола, в Луге, куда я вернулся на летние каникулы из Петрограда, было более менее спокойно. Власть перешла в руки Временного Правительства. Отец был очень огорчен переворотом, но уважал некоторых членов нового правительства; он считал их теоретиками без практического опыта и боялся, что такие люди не смогут справиться с колоссальной задачей управления всей Россией. Он терпеть не мог Керенского, которого считал выскочкой, демагогом, щеголявшего своим квасным патриотизмом только для продвижения своей карьеры, любой ценой. Тем не менее судопроизводство продолжалось, по крайней мере, в начале, как в мирное время.
Кажется, в конце февраля, родители получили тревожные вести от тети Жени из Москвы. Она писала, что дядя Саша, при сопровождении царского поезда, во время отречения Государя, арестован и находится под домашним арестом из-за его отказа принести присягу Временному Правительству. Затем, ввиду этого ему было предложено подать в отставку, что он и сделал немедленно, не доверяя новому правительству и что он очень удручен всем происходящим. Через некоторое время арест был снят, но не долгое время пробыл он на свободе — только до падения Временного Правительства в октябре 1917 года.
Как только большевики захватили власть, дядя был арестован чекистами и послан на принудительные работы, кажется в Донском монастыре. В то время ему было около 70-ти лет и возить тяжелые тачки, нагруженные кирпичом, было не легко, ни в каком смысле. Он проработал так больше года. В 1919 году, когда Деникиным был взят Орел, в Москве царил террор. Очень многие из «политических» арестантов были расстреляны. В их числе оказался и дядя Саша. Тетя Женя долго не знала жив ли он или нет, и когда узнала, наконец, — то только голый факт смерти, без дат и без подробностей.
В 1918 году, вскоре после захвата власти большевиками, в Петрограде, как и в Москве наступил голод и террор: аресты, обыски, расстрелы. Жили в неведении того, что случится на следующий день, или даже через час и почти все, кроме комиссаров и красноармейцев, жили в страхе, что могут быть схвачены в любой момент — обыкновенно ночью..
Керенский, с его визгливым голосом и истерическим выкрикиванием избитых фраз, был забыт и новый кумир, — Ленин с ассистентом Троцким, заняли его место. На мою долю выпало услышать голоса всех трех, в разное время, на Невском. Керенский разрушил дисциплину в армии своими указами, особенно пагубным был приказ № 1. Ленин же и Троцкий завели такую дисциплину по всей стране, что погубили сотни тысяч невинных людей.
В квартире моего дяди, Константина Васильевича Елпатиевского, был произведен обыск. Была реквизирована вся его великолепная коллекция книг с особенно ценными книгами на исторические темы. Неизвестно что с ней стало, а его уводили на допрос по несколько раз, всегда по ночам. Дядя Костя с семьей перебрался на свою дачу в Павловске, чтобы выбраться из Петроградского «омута». Повсюду свирепствовал голод. Люди пухли от него и падали замертво, где попало… Испытав ужас революции и предчувствуя неизбежность новых пыток, дядя Костя бросился под поезд и погиб на седьмом десятке лет.
В том же 1918 году, был арестован мой отец, в Луге, после обыска. Чекистов к нам привел его же бывший писарь из судебной канцелярии, ставший комиссаром во время большевистского переворота. Во время обыска он усердствовал больше всех, переворачивая все вверх дном. Папу увели в его генеральской шинели с зелеными отворотами и обитыми черной материей пуговицами с эмблемой «Закон» и такими же петлицами. Мне никогда не забыть его скорбного лица с выражением почти детской растерянности, когда его, председателя Суда с таким человечным правосудием, вершавшего судьбы других, выводили, грубо подталкивая в спину. Мы же стояли беспомощные, в слезах, поддерживая едва стоявшую на ногах, почти бесчувственную маму.
Отец не был расстрелян, как это было бы, почти наверное в Петрограде, потому что в начале большевистского режима террор не успел еще распространиться на провинциальные города, как Луга. Не хватало палачей. В наступившем хаосе суд перестал существовать. Кто мог, бежал, другие, как папа, сидели в тюрьме. Обращение с заключенными, хотя и суровое, без поблажек, было все же мягче, чем в больших центрах и нам было разрешено передавать посылки с папиросами и кое какой едой, хотя сами мы жили в обрез. Все мы, особенно мама, которая страшно исхудала, тревожились за папу, чтобы не перевели его в Петроград или в один из лагерей.
Страшным и нежданным ударом было известие об убийстве Государя и всей его Августейшей семьи. Просто не верилось, что такое гнусное преступление против Помазанника Божия, могло произойти в России, в те времена еще — самой религиозной стране в мире…
Вспомнилось мне также, как я ходил в Зимний Дворец, по средам, во время войны, — день, когда великие княжны, Ольга и Татьяна, принимали корпию и вязанные вещи для раненых их госпиталя в Царском Селе, где обе они и Государыня, работали, как сестры. Вижу их светлые лица, как будто они передо мною. Великие княжны были такие разные по наружности, но обе жизнерадостные, особенно Ольга. Было что-то такое сердечное в ее приветливой улыбке, когда она, взяв принесенное, благодарила и выдавала расписку о получении. Что поражало, оставляя неизгладимый след в памяти, при встрече с великими княжнами, была их непринужденность и чарующая простота в обращении со всеми — от мала до велика.
И вспомнился мне въезд Государя в Москву, всего четыре года тому назад, в начале войны, восторженное поклонение, окружавшее его и его семью; глубокое почитание и любовь русского народа, когда он, во время своих поездок, соприкасался с простыми русскими людьми…
Большевики захватили власть, но когда крестьянам не отдали обещанную им землю, а рабочим заводы и производство в их владенье, первоначальный революционный пыл стал пропадать и большевикам, путем террора, пришлось добиваться повиновения, на которое не было доброй воли.
Но не все склонили голову, как послушное стадо. Во многих местах, как в Кронштадте, вспыхнули восстания, которые были подавлены с беспощадной жестокостью. Гонения были направлены не только против бывших членов правительства, аристократии, «недорезанных буржуев», но и против тех, «кто не с нами».
Одними из первых, пали жертвами те самые либералы, которые подготовляли революцию и потом ужаснулись детищу, которое произвели на свет.
«Керенщина» развратила и развалила армию. Миллионы верных сынов своей родины были убиты или искалечены во время войны. Но и среди оставшихся военных, не только офицеров, но и солдат, было много верных своей присяге и готовых ценою своей жизни свергнуть ненавистную власть.
Таким образом, в разных частях России стали форми-роваться, сперва как подземные ручейки, просачивающиеся наружу и сливаясь, образуя реки, «Белые» отряды, которые впоследствии становились частями Белой армии.
Одна из этих армий, под командой генерала Юденича, освободила от красных большую территорию и, в 1919 году, внезапно захватила Лугу… Белых встречали с трехцветными флагами. Радости, даже ликованию жителей, не было конца. Казалось, что черные тучи гнетущего страха, исчезли навсегда.
Первым делом были освобождены все «политические» заключенные в тюрьмах. Трудно передать радость изможденного папы и нашу, быть снова вместе. Мама просто светилась и все мы пошли в собор, чтобы отслужить благодарственный молебен об освобождении папы и из-бавлении от безбожной власти.
Вначале Белое движение было успешным и много-обещающим. На северо-западе, в новообразованных в 1918 году, республиках: Эстонии, Латвии и Литве, а также в Финляндии, власти и население сочувствовали белым и эстонская армия сражалась против красных. Поэтому эстонское правительство поощряло формирование у себя Белой армии.
На юге в центре страны продвигался генерал Деникин, в Сибири укрепился адмирал Колчак… Заняв Лугу ген. Юденич устроил свой штаб в нашем просторном доме и сразу выпустил воззвание вступать в его армию на защиту родины. Молодежь отнеслась с большим подъемом к его призыву и многие записывались добровольцами, считая это своим священным долгом.
Я тоже горел желанием доказать на деле, а не на словах, мои чувства и был зачислен в артиллерию 5-го (особого) Георгиевского полка. Мне сразу выдали английскую форму с нашитым, на левом рукаве, трехцветным треугольником и белым крестом под ним (как символом Белого движения). Я также получил фуражку с русской кокардой и мне дали выбрать себе коня. Лошадка попалась молодая, еще не выезженная и сперва часто показывала свой норов. В дальнейшем она выправилась и стала спокойной и послушной в походах.
Как я был счастлив выполнить свой долг перед родиной! С каким нетерпением я ждал первого боя с красными! Когда я приехал домой в полном вооружении, отец благословил меня, мамочка же и сестрицы, всплакнули, но были горды, что я стал добровольцем.
Поскольку наш дом был самым подходящим по размерам и избран для штаба полка, то его командир, полковник Абузин, разрешил мне держать свою лошадь при себе, а мне оставаться в отчем доме до выступления в поход. По утрам я выезжал в полк, стоявший в казармах, где нас, молодых добровольцев, обучали стрелять в цель из пистолета и винтовки. У меня был свой наган. Вначале мы учились стрелять по мишеням пешими, а после на лошадях, на ходу. После нескольких маневров, я получил похвалу от нашего взводного.
По вечерам офицеры, вместе с командиром, ужинали у нас. Командир был очень веселый и любил шутить. Однажды, за столом, мигнув моему отцу, он обратился ко мне: «ну, ваше благородие, а как стрельба? Не подстрелили еще ухо лошади?..».
Через несколько дней предстояло выступить в поход. Мама, не раз, подходя, обнимала и крестила меня. Няня Паша только вздыхала, а сестры окружали меня особой заботой. В общем, я стал центром внимания в нашей семье.
Накануне отъезда я должен был, уже с вечера, отправиться в свой полк, так как выступление было назначено до рассвета. После ужина началось прощание со всеми. Дома, все крестили меня, со слезами на глазах. Только в этот момент у меня екнуло сердце, и я понял, что ведь и впрямь, я может больше не увижу никого из них, никогда.
Няня Паша стояла поодаль, утирая слезы концом своего белого передника. «Ну, пора, барыня!» — обратилась няня к маме — «да присядьте все, хоть на минутку!». Все сели, молча на несколько секунд… Вышли провожать… На дворе поджидала моя оседланная лошадка. Вскочил я на нее, отворили ворота, и я выехал, — покинув навсегда родной дом, где было столько тепла, радости и беззаботной жизни. Все, все, что только могло быть дано нам, детям, было сделано для нас, нашими дорогими родителями. А теперь… теперь …что ждет меня? Так думал я, удаляясь от всего, что было мне мило.
Стоял теплый, ясный сентябрь. Я ехал полушагом через темный лес. За лесом начинался полигон, а за ним и стоянка нашего полка и артиллерии.
Разнуздав коня, я отдал его дежурному солдату. Было уже после одиннадцати часов. Скоро и полночь, а в четыре часа надо собираться в поход. Было темно, все спали, а я лежал на койке и перед мной проходили картины из прошлого. Дом, со всеми родными, был еще так близок, но казался уже таким далеким и не было возврата, чтобы еще, хоть раз, обнять тех, которые были для меня дороже всего…
Так говорил во мне голос сердца, а разум отвечал — «не раскисать теперь! Ведь я уже воин, надо думать не о себе, а о спасении родины!». Мне так и не удалось заснуть под храп и свист, сладко спавших однополчан. Только перед самым рассветом, когда заходящая луна заглянула в окно нашей казармы и скоро скрылась, я немного задремал.
Все мы вскочили, услыхав дежурного, громко играющего «сбор». На дворе уже выстраивался в ряды и по колоннам Георгиевский полк в боевом порядке… Вот и наша артиллерия. Все выстраиваются, каждый держа под уздцы своего коня, ожидая команды — «по коням!».
Все в порядке. Вестовой держит лошадь командира полка, а второй — лошадь командира батареи.
Раздается команда взводных: «Смирно! Равнение на право!». Неторопливо подходят командир полка и командир батареи, проходят по фронту и поздравляют с походом. Полку подается команда: «Стройся!». Командиры быстро садятся на своих коней. Командир батареи командует батарее — «по коням!». Тотчас же загремели лафеты и заскрипели колеса орудий. Артиллерия двинулась вперед, а за ней, по команде командира полка — «шагом марш!», замаршировал Георгиевский полк, затянув полковую песню: «Взвейтесь соколы орлами…».
В душе моей было смятенье. К радости сознанья, что я исполняю свой долг, примешивалась грусть разлуки с близкими. Мы ехали по дороге так знакомой мне: я знал каждую тропинку, луга, реку с ее извилистыми, поросшими плакучими ивами и камышами, берегами. Вот мы проехали, загромыхав, по мосту и уже едем по ту сторону реки. Я смотрел на все вокруг в последний раз, прощаясь со всем и рой воспоминаний, еще такого недавнего прошлого, вытесняя все другое, терзал меня.
Вдруг раздался звук удара соборного колокола. Я снял фуражку и перекрестился. Посмотрел на часы. Было ровно шесть. Звонили к ранней обедне. Как дорог был мне Лужский собор с его добрым, сердечным настоятелем, отцом Анатолием Остроумовым, которому я так любил прислуживать. Наш семейный духовник и любимый батюшка, также благословил меня на подвиг стать добровольцем… Теперь этот колокол собора, как бы провожал меня.
Первый бой под Гатчиной
Туманное утро. Мы уже на подступах к Гатчине, но даже в бинокль еще трудно рассмотреть город. Посланы разведчики. Ждем, прислушиваемся — не началась ли еще ружейная или пулеметная стрельба? Но пока все тихо кругом.
Наша батарея занимает позицию. На пригорке стоят наши четыре орудия. Все приготовляются к бою. Видим, как Георгиевский полк рассыпается в цепь и, то залегая, то вставая продвигается к подступам города и с ним Колованский полк.
Вот послышались отдельные выстрелы, один за другим, все учащаясь и, наконец, по всему фронту открылась интенсивная стрельба. Вскоре затрещали и пулеметы. Нашей батарее подана команда — «Приготовиться», а затем — «прицел… Наводка такая то — Огонь!».
И тут заговорили наши орудия — застилая веером снарядов, окопавшихся красных! Ружейная и пулеметная стрельба, со стороны противника, стала понемногу стихать. Наши же полки с громким «ура», ринулись на окопы противника при поддержке нашей артиллерии, поражающей его беглым огнем.
Взрывы снарядов, трескотня пулеметов, несмолкаемое ура — все смешалось в одно… Красные были обращены в бегство. Бросив свои позиции на подступах к Гатчине, преследуя противника, наши части ворвались в город и после недолгих боев на улицах города, Гатчина была занята и в ней развивались наши, национальные, русские флаги.
Мирное население с восторгом встречало, вступавшие полки Белой армии.
Пулково
Заняв Гатчину, мы начали продвигаться к Пулковским высотам. После незначительного сопротивления, красные оставили Пулково, эту чрезвычайно важную позицию, уже на подступах к Петрограду, который должен был быть взят по приказу главнокомандующего, генерала Юденича, 22 октября, в день иконы Божией Матери-Казанской.
С каким душевным трепетом мы все ожидали этот день! И так близок был Петроград — ведь наша артиллерия стояла на Пулковской горе! В бинокль была хорошо видна столица. Войска были раскинуты широким фронтом на подступах к Петрограду. Кроме нас здесь были: Конно-Егерский полк и также эстонские части, которые держали левый фронт, после того, как они соединились с нашими. Все выглядело совсем радужно и мы строили планы о том, что будет, когда мы освободим Петроград.
Вдруг, 20 октября, 1919 года, вышел приказ Верховного Правителя, адмирала Колчака о «Единой, неделимой России». Было велено расклеивать этот приказ повсюду.
21-го октября был ясный осенний день. Генерал Юденич делал смотр войскам. Сам большой патриот, он взывал к нашему чувству любви и долга к родине. Настроение в армии было и так приподнятое. Все было готово для наступления на Петроград, на рассвете 22 октября.
В ночь с 21-го на 22-ое, из штаба было получено доне-сение о том, что левый фланг армии прорван, так как эстонские части обнажили его и что высадившиеся матросы, у Красной Горки, ударили по флангу и ведут наступление. Никаких английских крейсеров, чтобы помочь нам с моря, вблизи не оказалось.
Дурные вести, облетевшие всех, готовившихся к побе-доносному концу, нанесли страшный удар нашей армии. Сразу рухнули все надежды, как только был получен приказ к быстрому отступлению на Ямбург. Иначе наша армия могла быть отрезанной.
Еще до рассвета потянулись колонны нашей отступающей армии. Зловещая канонада и стрельба доносились слева…
Отступление и наступление
Трудно было оправиться от такого удара. Было бесконечно тяжело. Пропал боевой дух. Слева наши сражались, чтобы задержать наступление красных. Сзади, за отступающей армией, тянулось, покидая свои места, население: кто на лошадях, кто с котомками, пешком. Все смешалось в одну, медленно двигавшуюся массу.
Отступали на Волосово-Ямбург. В Волосове присоеди-нились к нашим частям беженцы из Луги. Среди них оказались мои родители, сестры — Агния, уже сестра милосердия, Лиля, Соня, старший брат Коля и самый младший, Левушка.
Наступали осенние сумерки. Стал моросить дождь. Скоро совсем стемнело. Громыхали колеса орудий и повозок обоза. То и дело темное небо освещалось вспышками и слышалась отдаленная канонада. Позади виднелись зарева от пожаров, — там горели наши склады с амуницией и провиантом, оставленные в Гатчине, а так же составы товарных поездов.
Все ехали или шли молча. И у всех были, наверно, те же тяжкие думы — что-то ждет впереди? На то не было ответа, и мы шли просто в неизвестность, к границам Эстонской независимой республики, на днях еще воевавшей с красными. Сердце билось тревожно. Мой конь шел опустив голову, как бы понимая это положение. Временами я погружался в дремоту и снилось мне светлое, невозвратимое прошлое. Я просыпался и вновь меня подавляла окружающая реальность.
На рассвете добрались до Ямбурга, но здесь нас ожидало еще одно неожиданное препятствие: Ямбургский мост через реку Нарву находился под обстрелом красных и вступить на него, значило быть мишенью. Целью красных явно было — навести панику в наших отступающих частях и среди беженцев.
Действительно, среди беженцев поднялась сильная па-ника, ибо мост был единственным путем переправы, а другого моста не было. Необходимо было прекратить панику, среди них, а также и среди солдат. Инициативу в этом не легком задании, взял на себя командир 5-го Георгиевского полка, полковник Абузин, всегда хладнокровный, решительный, бесстрашный. Бывало, во время сильной перестрелки, он ходил по окопам и шутил с солдатами, укрепляя их дух своим примером. Поэтому солдаты его любили, величая его — «наш лихой командир».
Под его руководством, переправа через мост прошла благополучно. Перебегало по несколько человек, пока наши стреляли в красных. Таким образом, успешно прошла артиллерия и другие военные части.
В Ямбурге расположились на несколько дней. Как армии, так и беженцам раздавались провианты в английских и американских консервах.
На короткое время я снова был вместе с моими, со всей моей семьей, в домике, отведенном для полковой канцелярии. Положение было совсем неопределенное. Ямбург сделался центром скопления войск и беженцев. Все надеялись попасть в независимую Эстонскую республику, чтобы там укрыться от красных, которые наступали, численно превышая наши силы. Не было никаких новых приказов от Верховного Правителя с одной стороны, а с другой — разрешения от эстонских властей переходить через границу.
Но, вот, после нескольких дней тревожного ожидания, был получен приказ из штаба: всем частям, отступавшим в Ямбург, погружаться в эшелоны. Погрузка состоялась в полночь и длинный эшелон отошел от станции в полной темноте. Только уже в пути, мы узнали, что высадка в Кривых Луках. Тут и остановился наш состав; был отдан приказ: всем быть в боевой готовности. Поспешно выгружались: Георгиевский, Колованский и Конно-Егерский.
Оказалось, что был план: обойти красных и ударить им в тыл. Все двигались молча, тарахтела только наша батарея. На рассвете вошли в село в Гловском направлении. В эти сутки, красных нигде не встретили.
В том же селе были получены сведения, что в следующей деревне — большое скопление красных. Только впоследствии мы узнали, что находимся в окружении.
Было решено, в штабе, наступать и, во что бы то ни стало, прорвать кольцо, захватив это стратегически расположенное село. Начались атаки, одна за другой, отбиваемые красными. Линия обороны на подступах к селу Никольскому, была укреплена несколькими рядами красных окопов.
За все предыдущие сражения не было стольких потерь, среди юных героев наших полков. Бой за село Никольское продолжался около суток. Наша Георгиевская батарея непрерывно устилала беглым огнем укрепления красных, при поддержке которой наши части прорывали одну линию за другой, занимая окопы противника.
Весь бой происходил, как на ладони. В замаскированном месте, на холме, поросшем кустарником и леском, находился наблюдательный пост, откуда командовал батареей командир, к которому я был послан телефонистом и должен был передавать команду командира на батарею. Этот бой остался в моей памяти. Нас тоже осыпали снарядами красные. Было много недолетов и перелетов, но были и попадания в цель. И как много наших пало в этой битве!..
Наконец, наступил вечер — темный, сырой. Затихла стрельба с обеих сторон. Было что-то жуткое в ночной тишине. Наши части заняли все линии перед селом и санитары подбирали раненых и убирали тела убитых.
На наблюдательный пункт прибыл командир полка и совещался с командиром батареи, который предполагал, что у противника происходит перегруппировка, чтобы ударить на нас неожиданно, возможно с тыла. Решено было возобновить атаку на умолкнувшие позиции красных, а батарею передвинуть на более выгодную позицию и открыть огонь, при атаке на село. С левого фланга, Колованского полка, были подвезены две гаубицы. И вот, затрещали наши пулеметы, послышалось громкое ура, когда началась атака из последнего окопа, занятого нашими солдатами. Наши бежали цепью и были уже около села, застигнув красных врасплох. Те, действительно, собирались сделать перегруппировку.
Наши снаряды метко настигали бегущих красных, покидавших село Никольское. Прорыв был завершен. Было взято много пленных — голодных красноармейцев. Уже пробило полночь, когда мы вошли в село Никольское. По приказу командира с пленными обращались по-братски. Их велено было накормить из походных кухонь. С какой жадностью они ели, хватая английские и американские консервы и белые буханки хлеба!..
Тогда я, в первый раз, видел расстрел трех коммунистов-партийцев, которых выдали сами пленные. У них были с собой даже партийные билеты. Все они были молодые, с виду спокойные. Их поставили к стенке амбара. Я не мог смотреть, как смотрели другие, только услышал три залпа из винтовок и потом увидел их, лежащими навзничь.
Большая часовня у церкви была полна убитыми в этом бою. Тела лежали одно на другом до самого потолка. Отпевал батюшка всех сразу. То был духовник Конно-Егерского полка. В Никольском мы простояли около четырех дней. Необходимо было сделать передышку. В походном лазарете было много раненых, но, слава Богу, не было очень тяжелых, только перевязки.
В селе резвизировались повозки и заменялись некоторые лошади для транспорта раненых.
Итак, после отдыха, мы снова в походе по направлению к эстонской границе. По дороге встречали красных, не в большом числе, и выбивали их из деревень, пробивая себе путь.
Жаркие бои шли под Нарвой. Красные сосредоточили там крупные силы, чтобы захватить Эстонию. Только тогда эстонцы поняли, что оставив фронт у Красной Горки и оголив левый фланг армии ген. Юденича, наступавшего на Петроград, они были причиной разгрома этой армии, сражавшейся в разных местах из последних сил. Поэтому армия должна была отступать к границе свободной Эстонии, по пятам которой, наступала Красная армия, перебросившая свои главные силы на этот фронт.
Следующий бой с красными при Устье Нарвы, проходил при таком численном превосходстве красных, что после больших потерь мы оказались прижатыми к Эстонской границе и принуждены были ее перейти. Командующий Эстонской армией приказал разоружить оставшиеся части Юденича, которые отказались сдать оружие и из-за этого началась перестрелка с эстонскими пограничными частями.
Уведомленный о происшедшем, генерал Юденич послал петицию эстонскому главнокомандующему с протестом. Это остановило разоружение, но все наши части были брошены, в первую голову, на Нарвский фронт. Там, на самых подступах к Нарве, сражаясь с красными, они проявили высокую доблесть и боеспособность, чем оказали сильную поддержку эстонским войскам. Много наших полегло, снова, в этой отчаянной битве за Нарву, которая часто переходила в рукопашную схватку.
Большинство эстонских войск стояло в резерве, и вся тяжесть боев пала на наши полки. Нарва была спасена. Благодаря этой победе, эстонцам удалось заключить выгодный для них мир, — а остатки наших частей были разоружены и отправлены, этапным порядком, на лесные работы, разработку торфа и т. п.
И вот, мы в казармах; на нарах — солома. Нам дают похлебку. Среди нас свирепствует тиф!.. Сколько лишений и унижений пришлось пережить в то время, нам всем! К разоруженным воинам прибавлялись беженцы. Все перемешалось…
Эстонцы, вместо благодарности, возненавидели нас, так помогавшим им, и дали нам кличку — «курат партизан» (черт партизан).
Двойная потеря
Трудно передать словами душевное состояние боль-шинства из нас, переживших этот поход, закончившийся так бесславно, после стольких надежд на победу и готовность, каждый момент отдать свою жизнь за родину, ради освобождения ее от красного ига.
Была поздняя осень, уже вторая половина ноября, а мы, все шли днем и часто ночью по грязным, непролазным дорогам, так как снег еще не выпадал и шли дожди.
Сестра моя, Агния, была при нас, как сестра милосердия, так как многие заболевали тифом. Мыться было, при тех условиях, невозможно и нас заедали вши. Недалеко от фермы, где нашли временный приют у доброго эстонца, мои родители и остальные члены нашей семьи; в недалеком расстоянии от станции Кабала, тиф поразил и мою сестру. Она, вдруг, не могла больше двигаться и у нее поднялся сильный жар. Что делать? Где ее уложить? Не боясь заразы, она самоотверженно смотрела за другими, стараясь подбодрить тех, кто падал духом… И вот, заразилась и свалилась сама!
Стояла промозглая, холодная ночь. Я бросался туда-сюда, чтобы найти ей ночлег. Сарай, где были другие тифозные, был переполнен. Добрый стрелочник, к которому я побежал за советом, сжалился и мы перенесли больную к нему в будку. Она горела в жару и была без памяти.
Никакой связи с родителями не было. Добраться до них, чтобы сообщить им, вместо того, чтобы идти с другими «пленными» на лесные работы, было немыслимо. На следующее утро нас отправили, как обычно, работать в лесу, но близко от Кабалы и, на мое счастье, еще ближе к ферме, где, как рассказала мне Лиля, находилась моя семья.
По окончании работ я пошел искать своих и, с большим трудом отыскал старую хату, где они приютились. Первое, что я увидел, открыв незапертую дверь, была моя мама на коленях молящаяся перед нашей семейной иконой, Казанской Божьей Матери, всюду, всегда сопровождавшую мою мать. Папа стоял у маленького оконца, вглядываясь в темноту. Он был в своей, уже изрядно потертой, генеральской шинели. Остальные сидели на лавке у стола. В избе было холодно несмотря на то, что там находилось пять человек. Видно не было дров, чтобы затопить жалкую печурку.
Радость встречи была затемнена тревогой о Гунечке (Агнии) и беспокойством обо мне, так как я едва стоял на больных распухших ногах и вид у меня был, наверно, не-завидный. Поделившись со мной своей скудной пищей, мама уложила меня спать на полу. Она собиралась на следующий день к Гунечке.
Ночью стало морозить и пошел снег. Утром все было покрыто белой пеленой и снег, залепивший оконца хаты, продолжал падать с посеревшего неба. Брат затопил печурку. Выдавали только одну охапку дров в день. Надо было экономить. Мама готовила манную кашу для Гуни. У папы был совсем непривычный для него, растерянный вид.
Вдруг распахнулась дверь и на пороге появилась, вся опушенная снегом, Лилия. Глаза ее были красные от слез. Закрыв дверь, она стояла, не произнося ни слова…
«Что же ты молчишь? Ну, что же — папа подошел к Лиле и, взяв ее за плечи и потряся их, проговорил потрясающим голосом — ну, говори скорей, что сейчас с Гунечкой?». (Я не сказал родным, как плохо было сестре, а только чем она заболела, чтобы их не испугать).
Мама стояла не шелохнувшись и только смотрела на вторую сумку с монограммой Гуни, которую держала Лиля. «Гунечка умерла… Она выбежала ночью вся в жару; я гналась за ней, пока она не упала на снег и принесла ее на руках в будку, а как положила на койку, то увидела, что она уже скончалась. Она там и лежит. Я только закутала ее в одеяло». Тут, Лиля, отвернувшись к двери, разрыдалась.
Не смею описывать, что переживали дорогие родители, которые даже не могли предаться своему горю наедине… Надо было сразу принимать решение — как и где хоронить. Ведь нельзя было оставлять тело Гунечки у стрелочника… Кругом поля и леса. Никто не мог собраться с мыслями. Все плакали. В это время зашел хозяин, фермер, чтобы спросить — не надо ли чего? Брат Коля сказал ему, что случилось. Добрый эстонец пошел нам навстречу и тут же, в своем амбаре, сколотил из своих досок, что-то на подобие гроба. Он дал нам свою телегу и лошадь, и мы поехали: он, Коля и я, чтобы взять и предать земле останки Гунечки — в поле.
Все молчали, только хозяин подгонял лошадку.
Стрелочник уже ждал нашего приезда и ласково принял нас; он прослезился, когда мы вынули Гунечку из одеяла и стали заворачивать в чистую, привезенную от мамы, простыню. Смерть не исказила еще нашу красавицу сестру. Ее расплетенные, темно-каштановые косы, обрамляли ее прекрасное, как из белого мрамора лицо. Она лежала с немного закинутой головой; глаза с длинными, черными ресницами, были закрыты и весь ее хрупкий облик выражал, как бы какое-то скорбное недоумение. Мы стали на колени помолиться.
Когда мы выносили тело, стрелочник сказал, перекрестясь — «А хорошая, должно быть, была барышня! За другими смотрела, себя не жалела. Вот Бог и прибрал ее, чтоб душеньке ее в раю жилось, а не на грешной нашей земле…».
Уложили Гунечку в гроб, заколотили его и двинулись снова в путь, подыскивая подходящее место, чтобы вырыть яму. Много помог добрый эстонец. Земля еще не глубоко промерзла, только первые слои, потом шла рыхлая земля. Не глубока, как полагается была могила. Опустили гроб. Коленопреклонно спели, как могли, будучи в слезах, — «Со святыми упокой…» и «Вечную память» и засыпали гроб землей. Так и осталась еще одна безымянная могилка в чистом поле и на холмике, над ней, мы воткнули, наскоро сколоченный, деревянный крест.
Как было тяжело и грустно расставаться с дорогой сестрой, да еще без обряда отпеванья просто зарыть в землю. Ведь Гунечка была уже невеста, любила всей своей девственной душой и была любима…
Мы ехали обратно. Просветлевшее, когда мы ехали к стрелочнику, небо, снова заволоклось тучами. «К ночи опять будет снегопад, да какой!» — сказал в раздумье наш возница. Мы молчали и вспомнился мне любимый романс Гунечки, который она часто и дивно пела, вкладывая в него всю душу: «Заботы нежные лобзания…, который кончался словами — на век разделит друг от друга, покрыв нас снежной пеленой».
Как мы не искали после — никогда не удалось нам найти место упокоения нашей дорогой Гунечки.
В конце декабря, родители и вся семья выехали из деревни, около Кабалы, переехав в Евие, где находился в то время комитет по устройству беженцев, Назимова. Туда, на работу был первым приглашен мой брат, Коля. Меня же отпустили с работ из-за больных ног и я остался с родными.
Мы уезжали со станции Кабала, вечером. Кругом лежал глубокий снег; был сильный мороз и снег искрился под ярким лунным светом. Проезжая мимо поля, где мы похоронили Гунечку, мама крестилась и благословляла белую даль… Мы были недолго в Евье. Представился Богом данный, благоприятный случай. Однажды в Беженском комитете, отец встретился со старшим из братьев Елисеевых, у которых был, известный на всю Россию, гастрономический магазин на Невском проспекте, куда, в дореволюционное время, приезжая в Петроград, отец всегда заходил и как-то близко познакомился с братьями, особенно со старшим, который постоянно бывал в магазине и питал особую симпатию к моему отцу. Кроме того, встречались они также у дяди Кости Елпатиевского, которого оба Елисеева почитали и любили, присылая ему, в день его именин, разные сласти и прочее.
Когда я жил в Петрограде и ходил в гимназию, папа присылал мне карманные деньги, иногда по несколько рублей сразу. И я ходил к Елисеевым полакомиться их шоколадом и ароматной пастилой, которыми меня угощали бесплатно милые Елисеевы, хотя я всегда старался заплатить.
Встретив папу очень сердечно, и узнав о всем пережитом нами, а также о дяде Косте, трагически погибшем, и о его семье, Елисеев пригласил всех нас перебраться в его имение, недалеко от курортного городка Тойло, на берегу моря и поселиться в их доме, где, как он выразился, «хватит места с излишком для всех».
Родители с благодарностью приняли это, совсем неожиданное предложение.
Новые надежды и разочарование
После всех скитаний и самых примитивных бытовых условий, дом Елисеевых показался нам просто дворцом. Он стоял над крутым обрывом, над самым морем. С его огромной террасы, во всю длинну фасада, открывался вид на море со всеми оттенками его причудливых вод.. Терраса была уставлена мраморными вазами со множеством разных цветов, а вековой парк с всевозможными породами растений и деревьев, поражал своей обширностью и красотой.
В доме, казалось, было бесконечное количество комнат, обставленных не только комфортабельно, по последней заграничной моде, но даже роскошно. К сему надо добавить еще отлично подобранную библиотеку, где можно было найти самый разнообразный выбор книг. В глубине парка стояла церковь с золотыми куполами и с художественной мозаикой внутри. Каждое воскресенье, когда было возможно, в этой церкви совершалось богослужение протоиереем Пятсом, братом президента Эстонской республики.
Все вокруг нас было к нашим услугам и мы чувствовали себя, прямо как в сказке. Ничем не нарушаемая тишина, кроме плеска моря, так как наши милые хозяева отсутствовали, предоставив все нам. Все это и свобода от повседневных забот по хозяйству, было как благотворный бальзам, наложенный на незаживающие раны.
Увы! Этот рай не был долговечным. Однажды, управ-ляющий имением пришел, чтобы сообщить нам, что нам надо уезжать, т. к. он уезжает сам, что имение Елисеевых отобрано Эстонским правительством; земля будет разделена между крестьянами, а усадьба с парком предназначена для летней резиденции президента.
Известие было весьма неприятным, ведь мы только начали оживать. Через несколько дней, мы получили письмо от Елисеева с подтверждением, что он больше не хозяин и что имение перешло во владение эстонского правительства.
Не оставалось ничего другого, как срочно искать новое местожительство. Вскоре мы переехали в Тойло и сняли там небольшую дачу, вблизи от моря. Хорошо, что дома сдавались с мебелью — хотя одной заботой и расходом меньше!
В Тойло проживало немало беженцев, кроме обычных летних дачников. Находился там, тогда, поэт Есенин, всегда ходивший в оригинальных костюмах с яркими галстуками. Он был человек настроения, и когда в хорошем — был весел и простодушно остроумен. Он подружился с моими сестрами, часто заходил к нам и любил беседовать с моим отцом.
Есенин был интересным собеседником и привлекательным человеком из-за его благодушия. Одно время он увлекался моей сестрой Соней, красивой, изящной и грациозной. У нее были очень выразительные карие глаза и Есенин как-то написал ей стишок в ее альбом. Не помню его весь, но начинался он так:
Ваши темные очи,
Как ночь глубоки,
И как яркие звезды
Блистают они!
Немало приятных вечеров провели мы, особенно молодежь, в Тойло. Собирались у нас или у знакомых в интимном кругу, где Есенин часто читал нам свои произ-ведения. Петя Арсеньев, пианист-виртуоз, брат жены Коли-Олички, доставлял нам много наслаждения своей игрой. Днем ходили на прогулки, все вместе, купались и проводили дни, почти как в мирное время, хотя в гораздо более скромном масштабе.
Мое пребывание в Тойло, оказалось коротким. В Польше формировалась армия, именовавшаяся — «3-я Армия генерала Врангеля». Рассылались воззвания вступить добровольцами в эту армию. Она должна была идти на соединение с войсками ген. Врангеля, ведшим тогда наступление на Перекоп, пользуясь тем, что Польша еще воевала с Советами и Красная армия, как раз, подходила к Варшаве.
Я тотчас записался и, попрощавшись с родными, от-правился в Ревель. Оттуда наши добровольческие части отплыли на пароходе «Саратов», в Данциг. Из Данцига нас направили к месту формирования армии в Проскуров. Как только формирование было закончено, мы влились в боевые части, медленно продвигаясь к Житомиру.
Армия ген. Врангеля теснила красных с Перекопского перешейка, а наша Третья, шла на соединение с ней. Шли кровопролитные бои между поляками и красными под Варшавой с неравными силами — в пользу красных. И вот, по предложению Советов, Польское правительство заключило с ними мир. Одним из условий этого мира, гарантирующего полную независимость Польши, было интернирование Белой армии, оперирующей на территории Польши. Это условие было принято и, в результате, все наши части были разоружены, отправлены в Познанскую область и посажены под арест на форту Стефана Батория.
В плену
То был конец всем нашим чаяниям… А Советы, по заключению мира, перебросили свои главные силы против армии Врангеля. Под натиском, во много раз превосходящих сил противника, армия генерала Врангеля была принуждена отступать, защищая, до последнего, каждую пядь родной земли.
Потери с обоих сторон, особенно у белых, были ужасные. Врангель, как можно дольше, героически удерживал фронт, чтобы дать возможность жителям — беженцам и своим резервам эвакуироваться из Крыма.
Эвакуация всех остатков Белой армии была хорошо организована. Первым приютом для изгнанников, заграницей, был Константинополь…
Получивший воспитание в России и очень симпатизи-рующий русским, сербский король Александр широко открыл двери своей страны русским беженцам и многие из военных отбыли в Югославию в том числе и генерал Врангель. Другие страны последовали примеру сербского короля: Болгария, Франция, Германия.
Мы, в Польше, томились 9 месяцев в казематах форта Стефана Батория. Незавидна была наша жизнь — остатков нашей армии! Мрачные, сырые казематные форта наводили тоску. На нарах — матрацы набитые соломой, а то и просто охапка соломы. Водопроводы не действовали. Воду привозили и наливали в бочки. Мы черпали ее ковшами, чтобы обливаться, но мытье без мыла не годилось. Еда наша, по сравнению с советскими тюрьмами, была довольно роскошной, но по сравнению с нормальной пищей — чрезвычайно скудна. Наш, так называемый, кофе, по утрам, был ничто иное, как подкрашенный цикорий, чуть подслащенный сахаром. Нам выдавали один фунт черного и пол-фунта белого хлеба в день, четверть фунта маргарина и четверть фунта повидла. Иногда давали кашу овсяную или перловую.
Обед давали из походных кухонь, — суп на поверхности которого плавали кусочки сала или крупинки перловой крупы. К ужину давали перловую, гороховую или чечевичную кашу со шкварками. По воскресеньям подавали молочный кисель — один крахмал со свернувшимся молоком, комками, и всегда подгорелый.
Так, день за днем, сидело нас, около трех тысяч ин-тернированных. О дальнейшей нашей участи никто ничего не знал. Раз в месяц нам выдавался билетик с польской печатью — разрешение выхода из форта на один день в город, который находился в нескольких километрах от форта.
Все ждали этот желанный день — вырваться из казематов и получить, хотя бы, иллюзию свободы. Случалось, что польские крестьяне, к которым заходили, чтобы попросить немного молока, бывало даже накормят и еще дадут хлеба, копченого сала и даже доморощенного табака; еще угощали крепким домашним пивом, жалея нас, находившихся в заточении.
В городе, делать нам особенно было нечего — бредешь себе, смотришь по сторонам на обильные витрины со съестным и кондитерские — недоступные для нас при нашем безденежье…
Расчет по армии, за службу, не приходил, да и откуда ему было появиться, и кто бы стал его выдавать? Все мы были в очень подавленном состоянии духа, давила неизвестность впереди. Чтобы развеяться от однообразности жизни и черных дум, начали печатать литографным способом, свою лагерную газету, раз в неделю. Писали чьи-нибудь интересные воспоминания из походной жизни, фельетоны, стихи, хронику. Со временем образовался свой хор, имевший большой успех. Иногда, мы даже давали концерты, на которые, по воскресеньям, приезжали польские офицеры с женами.
На таком концерте я встретил генерала Богдановича, дальнейшего нашего родственника, теперь начальника не-строевых частей польской армии в Хелмне. Эта встреча с ним и его женой была очень теплой и сердечной, и они были очень удивлены увидеть меня в полу-плену в Польше. Среди нас, интернированных, ходили тревожные слухи, что Польское правительство, якобы подписало договор с Советами о нашей выдаче. Проверить нигде ничего было нельзя. Были и противоположные слухи, что всех нас выпустят на волю, и каждый сможет поехать, кто куда захочет.
Время тянулось медленно, месяц за месяцем, без всяких перемен. Из-за плохого питания, невозможности как следует помыться, появились вши, а с ними — эпидемия тифа.
Страшно было мне подумать, что, быть может, придется и мне окончить здесь, свою жизнь, когда стали умирать один за другим, а потом, целыми десятками наши соратники, которых, без всяких обрядов и гробов, закапывали тут же, за стенами форта.
Казалось теперь, что счастливцами были те, которые пали в боях, на поле сражения с верой, что жертвуют своей жизнью за освобождение родины. Но какой же был смысл так бесславно умирать, томясь в казематах, зная, что никому здесь не нужен!? Так думал я, частенько, но вера в промысел Божий и надежда выбраться живым, давали мне силы бороться и не впадать в апатию, которая, во многих случаях, являлась преддверием заболевания.
Одной ночью, когда вынесли тифозного, спавшего рядом со мной, какой-то внутренний голос сказал мне: «одно спасенье бежать отсюда — бежать, пока не поздно!». Ну, а что, если поймают — думалось мне — посадят в карцер на неделю только на воду и четверть фунта хлеба в день?.. Конечно, в этом был большой риск…
Я начал горячо молиться, прося у Господа помощи, указать мне путь. С молитвою пришла решимость и созрел план побега. Только бы дождаться мне месячного пропуска, но пошли слухи, что из-за эпидемии тифа, пропусков не выдают!
Но вот, случилось неожиданное! По распоряжению начальника лагеря интернированных, все тифозные были изолированы в отдельных казематах, оборудованных, как лазарет, за пол километра от нас. Была сделана дезинфекция. Нас, здоровых, раздели до гола и все белье, одежду и шинели пропускали через паровые машины, убивающие вшей. Затем нам выдали по паре нового солдатского белья. Приближался срок выдачи пропусков… Утешительное известие! Пропуски еще выдаются… Ночь… Я не сплю и сижу на своих нарах, зашивая пуговицы шинели отрезками от ее подола, чтобы придать себе не военный вид. Вместо фуражки удалось достать кепку. Сердце тревожно бьется. Пропуск на завтрашнее утро… Считаю свои гроши — только десять польских марок, т. е. около одного доллара. Это — все!
Войдя в город, надо идти на вокзал. Надо взять билет… Сколько нужно до Хелмно? Все равно — докуда хватит, лишь бы поскорее умчаться подальше отсюда; не хватит, — тогда надо рассчитывать на свои ноги, да на милость Божию… Итак, все было готово…
Серое утро… Пошел к коменданту лагеря, тот посмотрел на меня — взгляд не очень приятный, смотрит, как будто с подозрением. «Вы что? за пропуском? и снова взглянул. Стал просматривать списки интернированных, ища мой номер и дату моего последнего выхода, а я, стою и думаю — «что, если он подозревает меня и не отпустит?».
Долго он искал, наконец, нашел. Посмотрел на часы. Было семь часов утра. Взял книжку пропусков, поставил печать, подписал и сказал: «не забудьте, что пропуск до шести. В семь — проверка. За опоздание понесете наказание. Читали инструкцию начальника лагеря?». Читал, отвечаю и при этом, вытянувшись и прищелкнув каблуками, отдал честь и вышел.
Дежурный, отворив калитку у железных ворот, проверил пропуск и выпустив меня, тут же быстро закрыл за мной калитку на железный болт.
Побег
Солнце уже поднялось высоко. Вдыхаю всей грудью свежесть утренней прохлады, после серых, заплеснелых стен наших полутемных казематов. Итак, я на свободе!.. Иду по полям: зеленеет трава, колосятся хлеба. Воздух — чистый, прозрачный. Смотрю на небо и молюсь, призывая помощь Божию. «Да будет воля Твоя!».
Вот и город, иду быстро, не останавливаясь у витрин, к вокзалу. Подхожу, смотрю на расписание поездов, ищу станцию Хелмно. Почему именно Хелмно? Я поставил ставку на этот город, потому что генерал Богданович — моя единственная надежда… Билет куплен до Хелмно. Езды поездом туда два часа. С минуты на минуту должен прибыть поезд. На станции купил газету «Речь Посполита», польскую официальную газету. Сижу на перроне, на скамейке. Проходят люди. Некоторые странно на меня посматривают — наверно потому, что вид у меня не обычный: худой, как скелет, бледный, кепка на голове, польская шинелишка с пуговицами, покрытыми материей. На ногах, вместо обмоток, непрезентабельные, не по размеру, брюки коричневого цвета. Чувствую в них не по себе, их случайно удалось достать у одного крестьянина; они сильно поношенные, но в них хоть не военный вид.
Вдруг раздается пронзительный паровозный свисток, подходит поезд. Сердце так забилось, думаю — сейчас выскочит. Подымаюсь в первый попавшийся вагон третьего класса. Входя в поезд, вижу прошмыгнувших по перрону, нескольких польских жандармов в фуражках с оранжевыми околышами. Это еще больше взволновало меня. Поезд стоит здесь три минуты и какими длинными они показались мне!
Сел я у окна. Вижу напротив меня сидят двое военных. Один, младший, по-видимому, офицер, а другой — подхорунжий. Поезд тронулся… Замелькали полустанки. Я развернул свою, многолистовую газету и закрылся ею от чужих взглядов. Поезд был быстрый и мчался, громыхая по рельсам, а сердце екает в груди.
Вот одна остановка, другая: люди входят и выходят. А я сижу, как затравленный заяц и только шепчу про себя: «Боже мой, Боже мой! Помоги мне!». В купе, тем временем, вошло еще несколько человек — никто на меня не смотрит, а тут, вдруг открывается дверь и раздается громкий голос: «Панове, билеты!». Опускаю свою газету, вынимаю билет. Кондуктор смотрит в упор на меня, прощелкивает билет и говорит: «Хелмно».
Полегчало мне, да не на долго: на ходу поезда контроль — гражданская полиция! Вошли двое: Слышу — «выказы особисти проше панове!» (пожалуйста, покажите документы). Сижу ни жив, ни мертв. Вижу, у сидящих военных ничего не спросили… Прошли и мимо меня. Значит, я, все же, схожу за военного. Еще миновали несколько станций с остановками. Думаю, слава Богу, пронесло. Осталось всего две станции до Хелмно, а последняя перед ним, как говорят, большая и поезд стоит там целых десять минут.
Уже на перроне этой станции замелькали желтые околыши — военная полиция, жандармы. Проверка доку-ментов у военных. Входят в вагон. Военные в купе, вынимают документы. Подходит жандарм ко мне: «Документы, проше». У меня помутилось в глазах. Ведь у меня никаких документов нет. Вынимаю небольшую бумажку с печатью — пропуск из лагеря на один день. «Откуда вы? Вы интернированный военный? Каким образом вы в поезде? Я должен арестовать вас и на следующей станции направить к коменданту. А сейчас следуйте за мною». И вот я иду, понуря голову, и около меня — один спереди, один сзади. Попался! Что теперь?
Привели меня в купе для полиции. Сижу себе, приго-рюнившись и думаю — все кончено!.. Теперь арест, а затем, из комендатуры — прямо в лагерь, по этапу, а там ждет еще не знаю, какое наказание. Бороться, уже прямо нет сил. Ну, что же, видно не судьба мне быть на воле. Да будет воля Твоя, Господи!
Приехали, вот и комендатура, — небольшое помещение на вокзале. Жандарм докладывает дежурному подхорунжему, довольно строго посмотревшим на меня. Тот идет к коменданту. Не прошло и нескольких минут, как вышел сам комендант, — уже пожилой человек с проседью, в чине полковника. Лицо его выражало добродушие. Мне стало чуть-чуть спокойнее на душе. Голос у полковника, ровный, успокаивающий. Чувствую доверие к нему и хочется сказать всю правду. А он смотрит на мою бумажку и спрашивает меня: «Как вы попали на поезд? Вы — беглец, вас надо отправить обратно. Куда вы ехали?».
Господин полковник! — говорю я — я признаю свою вину в нарушении закона об интернированных, но я решился на риск — добраться до моего родственника в Хелмно. «Кто он такой?» — Генерал Богданович, начальник нестроевых частей в Хелмно. Я надеялся, что он поможет мне — как мне быть дальше.
Комендант ничего не ответил мне, а взял телефонную трубку, держит мой пропуск в руке и звонит в Хелмно, вызывая генерала…
А вдруг генерал отречется от меня, не признает, да еще обличит меня во лжи? Не свожу глаз с лица полковника и вижу, что он озаряется улыбкой: «Так точно, пане генерале! Добже!». Положил трубку и дает распоряжение жандарму посадить меня обратно в вагон до Хелмно, а там я свободен… Свершилось чудо!
Жандарм отвел меня на поезд. К счастью он стоял на этой станции не меньше четверти часа. Поезд тронулся, а я все крестился, благодаря Бога за Его милость.
Вот и Хелмно, наконец! Выхожу из вагона, как и другие пассажиры. Никаких жандармов вблизи. На вокзальном буфете меня поразило обилие всяких яств. Смотрю с грустью, как подкрепляются другие; сам я, усталый, измученный, голодный спрашиваю стакан воды — единственное, что дается даром. Утолил хоть жажду. Вышел, спросил прохожего — где военные казармы? Добрый человек указал мне дорогу и я побрел по довольно широким улицам города Хелмно, спросил еще кое кого и, пройдя почти весь город, увидал высокие казармы из красного кирпича, окруженные высокой стеной. Подхожу, — у ворот будка с дежурным солдатом, спрашивает пропуск. Объясняю ему, он звонит начальнику караула. Жду… Входит молодой офицер, достаточно было упомянуть фамилию — генерал Богданович, как молодой офицер любезно указал мне дом, в отдалении на фоне сада с развесистыми деревьями и круглой беседкой. Усыпанная гравием дорожка, вела к калитке.
Войдя через калитку в сад, приближаясь к дому, я увидел на балконе Мусю, дочь Владислава Казимировича Богдановича. Она дружила с моими сестрами. Увидев меня, она бросилась мне на встречу и ласково обняла меня, несмотря на мой ужасный вид. Мы не видались со времени нашего пребывания в Луге. «Саша, Саша! Мы ждем тебя и уже забеспокоились. Слава Богу, что ты добрался. Папа все нам рассказал, как ты попался в руки жандарма и хорошо еще, что ты догадался сказать правду коменданту. Мы знаем его давно. Он очень славный».
— А я, Муся побаивался, — а что, если вдруг, Владислав Казимирович отречется от меня?
«Что ты, Саша! Идем скорее, мама ждет и очень все это переживает. Она хочет все знать о тебе и о всех твоих. Где они, и что с ними?». Милая Капитолина Викторовна встретила меня, как мать, обняла, поцеловала. «Боже мой, Боже мой! Бедный Саша, сколько тебе пришлось перенести… Снимай всю эту одежду, мы найдем тебе во что одеться. Да ты, прежде всего, наверно хочешь помыться? Сейчас все приготовим в ванной. Владислав будет рад увидеть тебя. Он сейчас в канцелярии, но скоро вернется».
Мне прямо не верилось, что я принят в доме, как свой, родной. Сколько участия и тепла нашел я, так нежданно, у моих дальних родственников. Не верилось также, что я смогу взять настоящую ванну, умыться как следует, скинуть свои лохмотья и вновь походить на человека…
Муся все хлопотала, приготовляла чистое белье и все, что могло понадобиться. Никогда не забуду момента, когда я окунулся в ванну с горячей водой. Это было просто блаженство! Я долго тер себя щеткой, соскабливая накопившуюся грязь и пот. Когда я вышел из ванной, одетый во все свежее, хотя и очень просторное, я почувствовал себя обновленным. Все вокруг меня: уютный и просторный дом, мягкая мебель, бой старинных часов, отношение ко мне хозяев, — все казалось мне каким-то прекрасным сном.
Мы сидели на удобном диване в столовой, пока накры-вали на стол и Капитолина Викторовна уставляла его всякой вкусной едой. Свежая скатерть, салфетки, тарелки, вилки, ножи, чашки, блюдечки, все это было, как будто, совсем чем-то новым — так я отвык от нормальной жизни за время пребывания в заключении!
Когда приехал Владислав Казимирович, он тоже обнял меня, как сына и мы, тотчас, сели за стол. Помню, какими восхитительными показались мне борщ с пирожками, котлеты с гарниром, пирожные на сладкое. Я боялся притронуться к тонким бокалам для вина. Странно — подходя к дому, я был страшно голоден, а теперь, когда все было предо мной, в первую минуту, я с трудом мог проглотить поданное. Понемногу я освоился и почувствовал прилив сил, выпивши вино. После кофе, меня начали расспрашивать о всем происшедшем в нашей семье. Слушая о смерти Гунечки, Капитолина Викторовна и Муся утирали слезы, а генерал, с грустным участием, опускал голову.
Потом меня уложили отдохнуть, и я заснул, как убитый. После ужина мы все сидели в кабинете и вспоминали нашу жизнь в Луге, во время войны, — такую еще мирную и светлую до февраля 1917 года. Вспоминали и гражданскую войну, начавшуюся наступлением белых армий и кончившуюся отступлением, эвакуацией остатков армий и крахом всех надежд на скорое освобождение России…
Пробыв три дня, обласканный милыми Богдановичами, укрепленный во всех смыслах, я решил, что мне пора пуститься в дальний путь. Заручившись удостоверением, что я родился в Вильно (от генерала Богдановича) и взяв котомку с продуктами и папиросами, я попрощался и отправился пешком, отказавшись от денежной помощи, по направлению к Вильно, до которого было 400 верст от Хелмно.
Сперва я шел бодро, делая первые дни по 15-ти кило-метров, недели две, затем по десяти и постепенно все больше сдавал. Котомка, вначале, была очень тяжела, а по мере того, как продукты уменьшались, ее было легче нести. Но это не было утешением, так как таяли и мои силенки.
По вечерам, когда темнело, просил разрешения у какого-нибудь крестьянина, в селе или на хуторе, переспать в сарае или на сеновале и я все шел, да шел и, хоть понемножку, приближался к Вильно…
Вскоре полученное белье и одежду от Богдановичей, пришлось менять на хлеб, даже рубаху и я шел в шинелишке, а под ней была старая безрукавка. Чем дальше, тем тяжелей было идти, т. к. я совсем изнемогал от недоедания.
Как-то шел я — вижу дорога сворачивает и часть ее упирается в стену с высокими воротами, читаю надпись — имение «Чепча», а за ним парк. Остановился я в раздумье. Не пойти ли мне попросить какой-нибудь работы? Только вид-то у меня стал совсем жалкий, а идти дальше — может и не дойду… Свалюсь, где-нибудь и конец! А тут, вдруг, устроюсь на время, подкормлюсь.
Вступил я через открытые ворота, иду широкой аллеей, тянущейся на пол версты. За ней, вижу — по обоим сторонам два сфинкса на постаментах и за ними открывается вид на громадный дом, вернее замок с гербом, по середине фасада над главным входом; перед ним обширная лужайка с газоном и цветами, а в центре ее — большая статуя женщины из мрамора, тоже на постаменте.
Не смел я подойти к круглому, широкому, барскому подъезду. Куда мне! Еще погонят! Вижу, от замка, ведут в сторону, обсаженные цветами, дороги. Постоял, подумал и взял правую. Привела она меня к амбарам, а за ними домики, очевидно для слуг и рабочих, а дальше, большой дом, как потом оказалось, управляющего имением.
Прежде всего, бросились на меня собаки и большие, и маленькие, с оглушительным лаем. В особенности, скалили зубы и ворчали на меня псы волчьей породы. Я остановился, как вкопанный, зная, что еще движение вперед, и они могут напасть и разорвать меня на куски. Тут они принялись обнюхивать меня, все еще скаля зубы.
На лай собак, из большого дома вышел человек, солидного сложенья с бакенбардами, трубкой во рту, с пером на шляпе и во френче. Он приструнил собак и смерил меня взглядом — «С конде пшинесло тебе?» Упитанное розовое лицо его с длинным носом, но не сердитыми, а скорее добрыми глазами, выражало довольно добродушное высокомерие. Когда я объяснил ему, что ищу работу, он пригласил меня внутрь и зачислил меня работником. Затем он провел меня в барак для временно-наемных рабочих. Снова нары, солома и соломой набитые подушки из мешковой материи. Он дал мне краюху хлеба и кринку синего, снятого молока, которое я выпил залпом и жадно съел домашний, вкусный хлеб.
Первый день работы: с шести утра нас погнали рыть канавы для осушки полей. Копать было не легко, так как силы мои были вымотаны, земля была тяжелая, глинистая; по мере того, как ее копали, она наполнялась водой. Старший надзиратель был бесчеловечен. Он ходил в высоких сапогах с нагайкой. Он был маленького роста с выхоленным лицом, на котором едва виднелись, заплывшие жиром, глазки; он помахивал своей нагайкой, как бы поощряя нас. Не забуду, когда я сворачивал себе папироску из махорки, как он стегнул меня по руке и я долго еще чувствовал и физическую боль, и боль унижения…
Так продолжалось день за днем. Нас кормили только мерзлой картошкой со снятым молоком. Сдавали последние силы. На руках лопались водяные мозоли, а на ногах делались язвы от стояния в воде.
Зная, что долго так не продержусь, я решил пойти на риск, то есть отправиться к самой хозяйке, в замок, и добиться свидания с ней. Это было легче придумать, чем выполнить. Начал я с ходатайства через молодую горничную. Эта веселая, миловидная и добрая девушка очень сочувственно отнеслась к моей просьбе — быть представленным ее барыне-графине. «Я дам тебе знать — когда». Прошло несколько дней, и я уже терял надежду. Я стал отставать от других рабочих и надзиратель полу-поляк, полу-немец, Фриц, не раз подходил, кричал на меня, ругался и называл «швайн» (свинья), указывая на других, здоровых, коренастых рабочих-познанцев.
И вот, вижу бежит ко мне Маринка (так ее звали), легко перепрыгивая через канавы. Подбегает, и запыхавшись немного, говорит: «Я прибежала, чтобы сказать тебе, что пани ждет тебя вечером, около шести. Я все ей рассказала о тебе. Приходи раньше, я буду ждать тебя на кухне». — Спасибо от всего сердца, Марина, — сказал я ей, когда она уже бежала обратно. Ее подлинная радость, что ей удалось устроить то, что она обещала мне, дало мне уверенность в себе, которая уже покинула меня.
Фриц же вылупил на меня глаза и недоумевал — как такое могло случиться…
В назначенный час я был уже на кухне. Марина подала мне кружку черного кофе и блинчики — «выпей и подкрепись немножко». И вот, я вхожу в барские покои. Марина идет впереди по мягким коврам. Останавливаемся. Она стучит в дверь и входит с докладом. Затем выходит и делает мне знак войти. В богато убранной комнате, сидит в кресле старая графиня с лорнетом и осматривает меня, с ног до головы.
Отвесив ей почтительный поклон, на вопрос — кто я и откуда? я протянул ей удостоверение личности (так пригодившееся мне после выдачи его генералом Богда-новичем). Говорю ей, что я уроженец Вильно, что я в затруднительном положении и что копка каналов мне не под силу из-за слабого здоровья. Графиня внимательно меня выслушала и, увидав, что мой польский язык не на должной высоте, спросила: «А что вы можете делать?» — Я люблю цветы и огород — ответил я. Она помолчала, подумала, позвонила горничную, которой велела позвать садовника.
Через некоторое время вошел мужчина высокого роста с загорелым лицом, в высоких сапогах и рабочем костюме. Вид у него был внушительный и симпатичный. Он низко поклонился своей пани и стоял вытянувшись. Звали его Феликсом. Графиня, указывая на меня, сказала, что дает ему меня, как помощника для работы в саду, оранжереях и на огороде. Она также велела дать мне комнату и пропитание и, обратясь ко мне, добавила, что будет платить мне 40 марок в месяц. Это было гораздо больше того, что я получал на более тяжелой работе. Я, даже не ожидал таких условий.
Поблагодарив графиню, я последовал за садовником, который повел меня в предназначенную мне комнату. Подниматься нужно было по узенькой деревянной лестнице, как на чердак. Это и был чердак с одним оконцем. Там был стол, два стула, и что особенно привлекало мое внимание — кровать с периной и настоящей подушкой и, после нар, это показалось мне великой роскошью. Был там и умывальник с большим кувшином воды и ведром… Комната моя походила на голубятню со своими покатыми стенами и низким потолком. Я не мог бы себя чувствовать лучше во дворце, чем на перине, покрытой другой периной, да еще на пуховой подушке — после нар и колючей соломы!
Надо было вставать в пять часов утра и работать с шести, по посадке и пересадке разных растений в оранжереях и в саду. Перед работой, мы пили «кава» — кофе и хлеб с повидлом, а иногда и с маслом. Хлеб был очень хороший и давали вдоволь. Так началась новая моя жизнь и я благодарил Бога за такую перемену к лучшему. Силы стали возвращаться, работа была не тяжелая. Главное же, что садовник относился ко мне хорошо, даже по-дружески.
Трудно было мне с одеждой и бельем, но мне и тут посчастливилось. Из американского Красного Креста, мне удалось получить две пижамы и пару белья. Одну пижаму я одевал только по воскресеньям, так как на мне не было ничего другого, кроме рваной гимнастерки и старой шинелишки.
В имении была своя католическая церковь, не большая, но построенная для графини. Органистом в ней был начальник (воевода) польского областного управления, который подружился со мной из-за моего голоса, понравившегося ему (тогда еще мягкого баритона, как он называл, «сличный» — прекрасный. Он стал приглашать меня к себе и уговаривать петь в костеле. На свой фисгармонии он заставил меня, раз, спеть по-польски «Отче Наш», под орган. Он угощал меня сигаретами, польской водкой и наливками. Воевода хотел, чтобы я спел в день большого католического праздника, «Божья Тела»…
Вот настал и праздник. Впервые я пел соло «Отче Наш», под орган. Мое пение очень удивило «пани» и священника, которые поблагодарили меня и очевидно были тронуты моим исполнением, которое оказалось своего рода, событием. Больше всех был доволен органист. В награду он угостил меня хорошим завтраком. Он был очень музыкален, любил пение и надеялся, что я останусь в имении, так как был очень расположен ко мне.
Наступил конец второго месяца моего пребывания в имении. Надо было двигаться и собираться в поход, чтобы добраться до Вильны, до холодов. Лежа в постели, на моей голубятне, я строил планы. Но как же без документов? Тут мне пришла мысль воспользоваться добрым отношением ко мне воеводы — он начальник, у него власть — значит он, может, если захочет, помочь мне и выдать нужное удостоверение.
И вот, в одно воскресенье, я снова пел в костеле. После службы воевода пригласил меня к себе, и я решил заговорить с ним, на такую важную для меня, тему. С чего бы начать? Но вышло, само собой: «Ну, Александр, может споем?» — Нет, говорю — нет у меня сегодня настроения. «Отчего» — спрашивает он? — Да вот, у меня на душе забота. «Какая?» — Меня беспокоит, что я не имею никаких документов, кроме удостоверения личности. Я — уроженец Вильно, а теперь, такое время (1920 год), что необходимо иметь, хотя бы что-то, вроде паспорта, без чего невозможно никуда двинуться.
«Не беспокойтесь. Я постараюсь устроить вам это, то есть, польский паспорт, завтра» сказал, глядя на меня с сочувствием, воевода. Я ушам своим не верил и был еще больше поражен, когда, на следующий день он вызвал меня в свое учреждение. Там, он дал мне анкету, которую я заполнил, к которой он приложил свое удостоверение. Затем он послал меня в местную полицию, где меня сфотографировали и выдали мне паспорт со всеми полагающимися печатями. Таким образом, как по мановению волшебной палочки, я сделался польским подданным! Это, подлинно была милость Божия… Как много значило иметь документы в порядке и не чувствовать себя каким-то парией!
Мне очень хотелось уехать как можно скорее. Но бежать, сразу, да еще без всяких объяснений, не позволяла совесть из-за доброты ко мне воеводы, который привязался ко мне, как к родному сыну. Да и другие, как садовник и Марина, тоже старались помочь в чем могли. Кроме всего, и денег было недостаточно… Лежа в постели, я раздумывал — как поступить и все не мог найти удовлетворительного решения, но все же решил уходить.
Как закончился месяц, я получил свои 40 марок и стал готовиться к исходу. Я приспособил себе мешок на спину, куда и уложил свои пожитки, полученные мною из Красного Креста, а также маленькую библию и образок Спасителя, с которым никогда не расставался. В тот же вечер, я написал письмо воеводе, благодаря его от всей души за его доброту ко мне и просил его не разыскивать меня, как последний знак его расположения ко мне.
Вышел я на рассвете и решил идти, как можно больше пешком и только воспользоваться железной дорогой, когда не смогу идти по недостатку сил. Настроение у меня было оптимистическое. Месяц хорошего питания значительно подкрепили меня и, кроме того, я был теперь законным польским гражданином и мне не надо было бояться встречи с властями. Я верил в воеводу и не ошибся. Погони за мной не было.
Так шел я каждый день, от зари до зари, с привалами, чтобы напиться немного воды у какого-нибудь ручья, или речки и закусить краюхой хлеба. Пришлось менять деньги на еду. Ночевал я, где попало. Износились подметки непрочных сапог и через протертые подметки песок и камешки стали натирать ноги. Ходить стало не только трудно, но и больно. Но и тут мне повезло. Удалось, в городке, который я проходил, обменять одну из моих двух пижам на старые, но крепкие с виду ботинки, у одного сапожника, да еще получить пол буханки хлеба, в придачу.
Проходил я от 20-ти до 25-ти километров в день. Бывало, добрые крестьяне не только разрешали спать в сарае или на сеновале, но и накормят, как было тогда, когда я шел из Хелмно. Но снова стали сдавать мои силы и больше 15-ти километров в день, я пройти уже не мог. Шел я семнадцать дней. Вид у меня стал опять, весьма потрепанный. Ботинки натирали ноги и на них сделались волдыри. Так, с трудом, добрался я до станции Лида. Отсюда, думал, доеду до станции Вилейка, а оттуда только 40 километров до Вильны. На билет хватит. Как-нибудь доберусь.
Сидя на вокзале, в ожиданье поезда, я смотрел с завистью на людей едящих вкусно пахнувшие яства. Все, чем я располагал, было — железнодорожный билет и одна марка — достаточно только на две бутылки лимонада самого дешевого сорта.
Подходит, наконец, поезд. Влезаю в вагон третьего класса. Публика разношерстная — под стать мне, по виду. Окна закрыты, душно; накурено махоркой. Ноги ноют, горят, тело ломит и слипаются глаза, а еще пять часов езды… Мысли путаются и я засыпаю… Вижу во сне, что я, как будто, все еще иду и изнемогаю. Вдруг толчок будит меня. Это маневровый паровоз отцепляет и прицепляет вагоны. Входят новые пассажиры. Вагон набит людьми. Три часа ночи. Стоим на станции. Выхожу, чтобы напиться воды, после чего голод еще сильнее. Дразнит запах еды и в вагоне. Еще два-три часа в поезде, а там снова идти пешком. Пропал сон — одна надежда, что какой-нибудь добрый самаритянин-хуторянин накормит меня хоть хлебцем с молоком.
Как только доехали до Вилейки, сразу пустился в путь, по шоссе на Вильну. Чувствую себя немножко бодрее. Как-никак удалось хоть несколько часов отдохнуть… Раннее утро, поют петухи, дымятся печи над крышами хуторов. Сворачиваю на проселочную дорогу, ведущую к жилью. Авось, кто-нибудь сжалится!
Подхожу к хутору — вижу еще молодую женщину у колодца, черпающую воду. Остановился. «День добрый пане!» говорит она, рассматривая меня и спрашивает: «С конде пан?». Тут я рассказал ей все, примостясь на сложенных кирпичах. Увидав мой измученный вид, сама хозяйка догадалась в чем дело. «Проше почекать трошко» и ушла в хату. Вскоре она вернулась с большой кринкой молока и хлебом с салом. С какой благодарностью и наслаждением я ел чудный белый хлеб и соленое сало, запивая все молоком!
Поблагодарив ее, уложил избыток в котомку и под-крепленный, снова двинулся в путь. Солнце уже стояло высоко. Пахло сеном из растворенных дверей амбара, другого хутора, который я проходил. Я остановился, посмотреть, как петух, заботливо разгребая землю, звал своих курочек, когда находил червячка. Пока я наблюдал за ними, вышла снова молодая хозяйка с добрым, красивым лицом и ласковыми глазами. Она предложила мне зайти отдохнуть в хату, но я предпочел прикорнуть на сене, где и углубился в мирный сон под кудахтанье кур и мычание коров. Проснулся далеко за полдень. К тому времени, явился и сам хозяин с работы и предложил мне поужинать с ними и переночевать и только с утра пускаться в путь, с новыми силами. Ужин был горячий: польские щи с ароматным хлебом и тушеная баранина с печеной картошкой. Хозяйка возилась у печи, подавая все в глиняных мисках.
После такого сытного обеда, меня стало клонить ко сну. Поблагодарив хозяев, я отправился на сеновал и лег. Слышу поспешные шаги. Это оказалась хозяйка с большим вязаным одеялом. Она постелила его, говоря, что мне так лучше будет спать и тут же сама растянулась на нем — на момент. Затем она вскочила, подошла ко мне совсем близко, положила руки мне на плечи, погладила мою голову; несколько секунд всматривалась в мои глаза, прошептала — «какой пан сличный», поцеловала меня и пустилась бежать в свою хату…
Когда я проснулся, только всходило солнце. У недалекого пруда квакали лягушки и доносились крики дергача. Над полем, легкой дымкой, стелился туман. Стоя на коленях, я молился, благодаря Бога за то, что послал мне на пути таких добрых людей… Пришел хозяин позвать меня на «утренник». Хозяйка была занята у печи, вынимая горячие блинцы с топленым маслом, молоко и ячменный кофе. Хозяин уже запрягал лошадь, чтобы ехать пахать. Я тоже стал собираться в путь. Попрощался, поблагодарил особо хозяйку, которая опять дала мне хлеб, сало и завернула блинцов. Я обнял ее, поцеловал и тут же вышел из хаты к хозяину, который возился у плуга, поблагодарил и его. Он пожелал мне «найсчастливого пути» и уехал, а я двинулся по направлению шоссе. Долго еще хозяйка махала мне красным платочком, пока я не скрылся на повороте.
Шел я бодро и все думал о ласковой хозяйке, в которой я угадал, как бы нежное расположение ко мне и заметил грусть в ее глазах, когда я уходил. Мне тоже, признаться, стало жаль, что никогда больше не увижу ее.
За двое суток прошел я около 50-ти километров, но нигде не встретил таких крестьян, как на том хуторе. Заходил я попросить воды или разрешения переспать на сеновале. Пускали со снисхождением и даже хлеба надо было просить, как милостыню.
Последняя часть пути оказалась самой тяжелой. Мучил голод, распухли ноги, двигался с трудом. В 20-ти километрах от Вильны, забрел в белорусскую деревню православных. Там напоили, накормили меня и заменили дырявые ботинки, старыми туфлями не моего размера. Привязав их тесемками, как подметки к ногам, поплелся дальше. Увидав меня, уже близко к Вильне, некоторые мужики подвозили меня, когда это было им по дороге. Спасибо им и за то.
Неожиданное спасение
Солнце уже зашло, когда я вступил в Вильну. Будучи знаком с этим городом еще в отрочестве, я направился прямо к Остробрамским Воротам. Знал, что там находится всеми чтимый, Образ Божьей Матери, именуемый «Остробрамским» и я хотел, первым делом помолиться Ей.
Вид у меня был хуже, чем у нищего. Шинель оборванная, грязная, голые пальцы на ногах. Некоторые смотрели на меня с отвращением и сторонились меня. Несмотря на все это, у меня было радостное чувство, что я достиг своей цели и что моление у иконы Остробрамской Божьей Матери укажет мне мой путь в дальнейшем.
Приближаясь к Остробрамским Воротам, я увидел, еще издали, что улица запружена народом. Над Остробрамскими Воротами находится часовня, увенчанная куполом с золотым крестом. Внутри часовни — престол с горящими, в шесть рядов, громадными свечами, по обе стороны, а посредине — величественный Образ Божьей Матери со скрещенными руками, с двумя коронами, в золотой, богато украшенной драгоценными камнями ризе. Поражает дивный Лик Богородицы — Он, озаренный светом свечей и лучами прожекторов, ясно виден через высокие окна.
В часовне, как раз совершалось богослужение и пел весь народ, участвуя в особом молении после работы. Пробравшись сквозь коленопреклонную толпу, откуда я мог видеть, хоть издали, Лик Пречистой Богородицы, я пал на колени и стал горячо молиться Ей, как никогда в жизни. Я плакал и просил у Нее помощи — мне, беспомощному… «Укажи мне путь, Матерь Божья! Умилосердись надо мной! Ты одна надежда и пристань бездомных, радость и утешение скорбящим!». Припав ниц к мостовой я разрыдался… И что же! Чувствую, что кто-то касается моего плеча и спрашивает — «Что у вас за беда? Кто вы?».
Народ начинает расходиться. Служба кончена. Окна часовни закрываются, но и через стекло виднеется Ее лучезарный Лик.
Незнакомец оказался человеком почтенных лет, добрым и чутким поляком. Он сердечно расспрашивал меня, военный ли я, как очутился здесь? И я вытащил и показал ему мой, уже потертый, паспорт. Он был удивлен и воскликнул: «Пан польский гражданин, а пана родина — Вильно! Пан православный есть? В Вильно есть комитет для беженцев, тылко юж пуздно. Тылко ютро пан може сналязать комитет, который поможе пану. А вот здесь Духов Монастырь и там вас примут на ночь. На днях приехал Епископ Елевферий, он там теперь…» При этом, незнакомец указал мне на ворота монастыря, к которому вел меня и, пожелавши всего доброго, скрылся у ворот.
Уже стемнело… Дернув за рукоятку звонка, я услышал резкий звук, но никто не подходил. Жду… Решил постучать. Стучу раз, другой. Наконец, слышу шаги. Вижу, открывается маленькое окошко в воротах, высовывается лицо монаха. Спрашивает меня — «Чего тебе надобно?». Прошу его впустить меня в монастырь на ночлег, а он отвечает: — «Много теперь всяких бродяг, вроде тебя, шляется. Не впущу». И закрыл окошко.
Постоял я у ворот некоторое время, огорошенный таким ответом от монаха. Меня охватило уже не волнение, а просто отчаяние. Куда деться? В кармане — ни гроша. Наружность моя вызывает подозрение. Поэтому-то меня боятся принять, даже в монастыре! Владыка наш здесь, а я не могу даже известить его о себе. Вспоминаю слова в Евангелии, сказанные Господом: «Странника прими, голодных накорми», а монах и не впустил. Как далеки заветы Христа!
Сел я на скамейку, у ворот и совсем пригорюнился. И вот, слышу шаги за воротами. Кто-то поворачивает ключ в железной калитке, открывает ее и выходит господин. При свете фонаря, с которым провожает его монах, вижу человека не молодого, в сером костюме с приветливым и благородным лицом. Завидев меня, господин спросил — откуда я и чего жду. Взволнованный, дрожащим голосом я поведал ему все вкратце и упомянул о Владыке Елевферии, друга нашей семьи, который знает меня с детства.
Господин оказался секретарем Владыки. Он не обратил внимания на мои отрепья, но внимательно посмотрел мне в лицо и, тут же, велел привратнику впустить меня в монастырь, попрощался со мной и ушел. Какое счастье было для меня вступить в ограду обители! Липовая аллея вела к величавому собору св. Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Я прошел в притвор, встал на колени и стал благодарить Господа, Его Матерь и всех угодников.
Кончилась всенощная, был канун св. мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии. Это, подумал я, — хорошее предзнаменование. Потом я сел на скамейку, близко от храма. Проходят мимо меня монахи и иеромонахи и один из них, по имени Макарий (он запомнился мне из-за своей доброты, приветливо спросил меня — кто я и откуда, присев рядом со мною. Я пояснил ему, что надеюсь увидеть Владыку, который хорошо знал всю нашу семью, еще до войны, и любил нас. Рассказал я ему и про родителей, и про походы в Белой армии и сидении в форту Стефана Батория и про скитания, приведшие меня сюда…
Монах слушал меня с интересом и явным сочувствием. На мой вопрос — как мне повидать Владыку? Он посоветовал мне не обращаться ни к кому, а самому пойти через черный ход архиепископского дома и указал, где он. Я последовал его совету.
Поднявшись по лестнице, я постучал в дверь. Отворяет послушник, раздувающий самовар. Увидев меня, пятится назад и крестится — так испугался. Потом отошел и говорит — «Кого тебе надо? Откуда тебя принесло?».
Отвечаю — хочу повидать Владыку. «Владыку? Да ты с ума спятил — в такой поздний час? Уходи!» — закричал он, топая ногами. «Чтоб я доложил о тебе, еще что! Убирайся, пока можешь!». При этом он хватает метлу и уже замахнулся ей на меня.
В эту минуту открывается дверь и на пороге появляется Владыка: «Что это ты, тут, так раскричался, Георгий?» спрашивает он тихим голосом. «Да вот, Владыка святый, человек какой-то здесь, нищий, что ли, пришел. Гоню его, а он не уходит, да еще вас спрашивает».
Увидев меня, Владыка подошел ко мне. Я поклонился ему до земли. При виде светлого ласкового лица Владыки, услышав его голос, слезы замутили мне глаза.
«Кто вы и откуда?» — спросил он. «Саша Черный?? — Саша?» — Да, Владыка. Вам трудно меня сейчас узнать. «Господи!» — перекрестился Владыка и благословил меня. Я поцеловал руку с трепетом. «Пойдем ко мне».
Вошли в огромный зал архиепископского дома. Мне бросился в глаза блестящий паркетный пол и портреты в золоченных рамах Виленских святителей: Митрополита Семашко и других. Мне было стыдно в моих лохмотьях и дырявых туфлях… «Подожди меня здесь, на минутку» — сказал Владыка, ласково обняв меня и удалился в свои покои.
Я сидел в зале и разглядывал портреты, среди которых выделялся портрет святейшего Патриарха Тихона, бывшего до войны 1914 года, Архиепископом Литовским и Виленским, которого мы знали, когда жили в Ковно. Он назначил своим преемником своего любимого викария, епископа Ковенского, Владыку Елевферия.
Целый рой воспоминаний наполнил мою душу. Вспом-нилось Ковно, наша мирная жизнь до войны, светлый Владыка Елевферий, часто посещавший наш дом, приезды Архиепископа Литовского и Виленского Тихона, встречи, прислуживание в соборе в 1910, 11, 12, 13 и 14-ом годах. Много воды утекло с тех пор, как прибыл к нам, в Ковно, Владыка. Был он молод тогда, а теперь уже с проседью, но он остался тем же: чутким, добрым, ласковым с той же отеческой простотой в обращении.
«Ну, Саша!» — входя в зал, обратился ко мне Владыка (он нес корзинку): «Прежде всего, возьми это добро. Тебя надо подкормить!» В корзинке были: крутые яйца, масло, хлеб и пара кусков жареной и вареной рыбы. «Завтра ты все расскажешь мне, а сейчас пойдем вниз, к наместнику Савватию, чтобы он дал тебе келью на ночь, напоил тебя чаем и выдал бы тебе чистое белье. Завтра, после обедни, придешь пить чай ко мне. Я позвоню Грише, сегодня. Ты помнишь моего сына, Гришу?» — Как же его не помнить! Он ведь был лучший друг брата Коли, Владыка. «Так вот, — он, теперь, директор русской гимназии здесь».
Уже пробило 10 часов на монастырской башне, когда мы спустились к наместнику Савватию. В коридоре было темно. Братия, очевидно, уже ушла на покой. Владыка зажег свет и постучал в дверь кельи о. Савватия. Никакого ответа — полное молчание. Владыка опять постучал и, о ужас! Из-за двери раздался громкий голос: «Кого несет нелегкая?» — Отец Савватий, откройте! — Тут наместник засуетился, отворил дверь и, увидав Владыку, поклонился до пола и прошептал — «Простите Владыка святый!». — Так монахам отвечать не полагается. А, теперь, надо устроить келию этому молодому человеку, напоить его чаем, наполнить ванну горячей водой. «Слушаюсь, Владыко». Повернувшись обратился ко мне. — А ты, Саша отдыхай, а завтра обо всем будем говорить. Владыко благословил меня и поднялся к себе.
Мне постелили постель, приготовили ванну, дали чистую рубашку, полотенце, мыло и поставили для меня самовар. Как приятно было окунуться в горячую воду, помыться как следует, а после пить чай и закусывать всем, что принес мне Владыка!..
После всех переживаний того дня, я долго не мог заснуть и чувствовал сильную слабость. Наконец, я заснул и как-бы провалился. Когда я проснулся, то сперва не мог сообразить — где я, не сон ли все вокруг меня? И тут зазвонил колокол к обедне… В углу келии, перед иконами, теплилась лампада. Да, все это наяву. Я в монастыре и вспомнил вчерашний вечер и Владыку, благодаря которому я здесь. Неужели все мои дни странствований уже позади? Ведь еще только вчера я был голодным, оборванным, измученным и впал в отчаяние!..
Я вскочил с постели, встал на колени перед образами и начал молиться всем моим существом: «Боже мой! Спаситель мой! Благодарю Тебя за Твое милосердие ко мне, приведшего меня в эту святую обитель».
Когда я кончил молиться и поднялся с колен, я заметил на стуле, около моей койки, серый костюм, нижнее белье, рубашку с галстуком, бритву и ботинки с носками. Это, как оказалось, принес, рано утром, для меня сын Владыки, Григорий Димитрович, директор гимназии. Он учился вместе с моим старшим братом в Варшавском Университете, и они были очень дружны. Он любил бывать и гостить у нас в Ковно и ухаживал за моими сестрами.
Владыка принял монашество, когда скончалась его жена и его единственный сын, малолетний Гриша, жил при нем при всех его постах. У Гриши была маленькая, хорошо известная нам всем, слабость: он был большой «сладкоежка» и наверху, в своей комнате Архиерейского дома, держал обильный запас всяких конфет и сластей. Как давно, казалось, это было — словно в другом столетии. Это воспоминание о Грише воскресило в моей памяти маленький инцидент.
Каюсь, я тоже был привержен ко всему сладкому и Гриша, зная это, приглашал меня заглянуть к нему, когда мне вздумается по дороге домой из графа Платовской гимназии, где я тогда учился. Так вот, в предвкушении полакомиться, в тот памятный день, я позвонил, как обычно, у подъезда. Дверь открыл не келейник, хорошо знакомый мне, а слуга-монах. На мой вопрос — дома ли Григорий Дмитриевич, он ответил. — «Они у себя в комнате» и больше ничего не сказал.
Наверх вела широкая лестница, устланная красным ковром, и чтобы попасть к Грише, надо было пройти через Архиерейский зал для официальных приемов. Двери туда были приоткрыты. Я поспешно вошел, не смотря по сторонам, и только дойдя до середины, увидел, к своему ужасу, Владыку, сидевшего в кресле, а с ним, на диване Ковенского губернатора, Грязнова; коменданта крепости, Григорьева и, самое страшное для меня — на другом кресле, директора моей гимназии, Бермана, которого мы, гимназисты, боялись как огня, за его крутой нрав.
Я просто остолбенел и обалдел. Что делать — бежать вперед или назад? А они все молчат и смотрят на меня. Спас меня Владыка, подозвав, он благословил меня и даже поцеловал в лоб. Тут я пришел в себя, шаркнул ногами перед визитерами, низко поклонился Владыке и поскорее шмыгнул к Грише. Он сидел у себя и читал. Когда я рассказал ему о происшедшем, он просто расхохотался и пробовал обкормить меня сластями, чтобы утешить. Но не тут-то было… Я знал, что этот номер не пройдет мне даром.
На следующий же день, когда я вошел в гимназию, душа моя была в пятках. Меня ожидал приказ явиться к директору. Он был очень строг и злопамятен. Если попадался ему на улице гимназист в шинели на распашку, или не со всеми наглухо застегнутыми пуговицами, — его сажали в «кондуит», т. е. оставляли без обеда, в одиночестве, исполнять какое-нибудь неприятное задание. В таком случае, в ведомости за четверть года, где проставлялись наши отметки, средний балл из повседневных, так называемых «дневников», за поведение, ставился «4». Это был уже скандал, так как считалось, что каждый должен иметь за поведение «5» (отлично). В те времена, поведение играло первостепенную роль во всех учебных заведениях. Так, например, если по всем другим предметам отметки были хорошие, или отличные, но в четверть годичной ведомости за поведение было «4», то раз в четверти, балл сбавлялся.
Я сделал это отступление, чтобы дать понятие о правилах, кажущимися невероятными для современной молодежи.
Так вот, я вступил в кабинет директора и у меня, как говорится, в ожидании грозной расправы, тряслись все поджилки. Директор сделал мне строжайший выговор за то, что я «опозорил гимназию своим недостойным поведением» и что я заслуживаю самого строгого наказания, но благодаря заступничеству за меня Владыки, Архиепископа Елевферия, и его просьбы — быть милостивым ко мне и в виду того, что я не знал, что у Владыки прием, — в этот единственный «экстренный» раз, он только оставляет меня без обеда! Я вылетел от него, как на крыльях!
Глава III. Жизнь в Вильне
Пока я лежал, погруженный в воспоминанья, раздался стук в дверь. Не успел я ответить, как на пороге показался Владыка. Я вскочил и стал извиняться, что нахожусь еще в постели, а он ласково промолвил: «Ну, вижу, Саша, что ты хорошо выспался. Уже кончилась ранняя обедня, я как раз из церкви. Как будешь готов, приходи ко мне пить чай».
Когда я вошел в столовую Владыки, на столе приветливо пел самовар. «Ты выглядишь совсем молодцом, сегодня, прямо не узнать тебя» — сказал, оглядывая меня Владыка, когда я подошел к нему под благословение и он уже сидел за столом. Действительно, чистый, выбритый, прилично одетый, я сам чувствовал себя другим человеком.
Первое, что Владыка спросил меня было — знаю ли я что-нибудь о своих родителях и семье? Я отвечал, что нет и что от этой неизвестности постоянная тревога на душе. «Насчет этого я могу тебя успокоить — я в регулярной переписке с ними. Все живы и, насколько мне известно, в данный момент, здоровы. Твои папа и мама живут в Нарве, находящейся, как ты знаешь, в Эстонии и они, по крайней мере не у большевиков. Отец твой работает юрист-консультантом на Кексгольмской фабрике. Коля стал известным артистом под псевдонимом «Кручинин» и пользуется большим успехом. У него всегда была изумительная память и дар играть на сцене. Лиля рабо-тает. Она невеста регента нашего хора в Нарве. Соня вышла замуж и уехала во Францию, а Левушка учится, живет дома и помогает маме».
Какая тяжесть свалилась с меня и как отлегло от сердца от этих добрых вестей!
«Слава Богу, что все, более-менее, благополучно с твоими благочестивыми родителями, а теперь — расскажи мне, все по порядку, о себе…».
Долго длился мой рассказ о всем пережитом. Только раз, когда я описывал смерть Гуни, он перекрестился и закрыл глаза, как бы представляя ее пред собой. Он был очень расположен к ней и любил слушать ее пение. Когда я окончил свое повествование, он пристально посмотрел на меня, казалось — в самую мою душу и вдруг спросил — «что же ты собираешься делать, теперь, чему посвятить свою жизнь?».
— Да вот, я не знаю, не решил еще, дорогой Владыка. Вот попал к вам, сюда, прямо, как чудом! Надеюсь на вас, что дадите мне добрый совет, а работы я не боюсь — готов взяться за какую угодно.
— А не думал ли ты отдать себя на служение Богу и людям?
— То есть как — стать священником?
— Отчего же нет? Сейчас, когда идут гонения на веру, в них, то есть в подлинных пастырях, — самая большая нужда.
— Но я из мирской семьи и, по правде говоря, у меня нет призванья. Я никогда не думал о священстве и, ко всему, считаю себя недостойным.
— Что из мирской семьи, в этом я не вижу никакого препятствия, особенно зная и почитая твоих родителей. Насчет же призвания, никто тебя не торопит и не неволит. Ты молод. Времени много. Надо иметь благородную цель в жизни. Белой армии больше нет. Ты сделал, что мог, когда был воином… Ты спрашиваешь мой совет — запишись в св. Духовскую семинарию, поступай на богословские курсы. Когда окончишь, через три года, сам узнаешь будет ли у тебя призвание, а насчет недостоинства — не нам судить о самих себе!
Разговор этот, такой знаменательный для меня, остался, почти слово в слово, в моей памяти, и я последовал совету Владыки.
Так началась новая жизнь для меня… Через несколько дней Владыка назначил меня, исполняющим обязанности старшего иподиакона, при монастыре, подчиненного непосредственно ему. Я поступил в Виленскую Духовную семинарию и начал ходить на богословские курсы. Они начинались в половину четвертого и продолжались до восьми, девяти вечера. Первое время, отвыкнув от умственной работы, и привычки сосредоточивать внимание на учении, мне было трудновато, но я вскоре втянулся и жизнь в общежитии не смущала меня.
Преподавание в семинарии было на высоком уровне, по всем предметам. Особенно строг с нами был профессор Догматического богословия, протоиерей Дечковский. Он требовал, чтобы мы знали все тексты из Священного писания и нам всем приходилось заучивать наизусть все Евангелия, чтобы давать удовлетворительные ответы, особенно на экзамене. Профессором Основного богословия был Михаил Кушнев. Он любил свой предмет и сумел сделать его таким интересным, что интерес и его любовь, передались нам. Не помню имен и фамилий всех наших преподавателей. Из них упомяну профессоров:
Претечинского (Священная история); Богдановича (Священное писание); Недельского (Литургика и Педагогика); Ключинского (Нравственное богословие); Бенони (Церковное, Гласовое пение; священника проф. Дичковского (Догматическое Церковное пение).
Игумен Макарий преподавал Уставное Церковное пение и это был самый трудный предмет: порядок богослужений по праздникам, выпадавших в св. четыредесятницу или в Пасхальный период и т. п. Гамелетику преподавал профессор Зверев. Он казался суровым внешне, но был очень мягким и добрым. Он был известным проповедником. Мы все должны были писать проповеди на разные темы и посылать их ему.
Студенты последнего курса должны были говорить проповедь по воскресным дням, в церквях Вильны, а слу-чалось, и в Кафедральном Соборе при Архиерейском слу-жении. Такое задание было особенно страшно на первых порах. С одной стороны, слушает Архиерей, а с другой — Недельский и, ко всему, храм полон народа. Было от чего испугаться!
Мне пришлось, не раз, испытать это на самом себе… Облачался в стихарь, руки дрожали, горло пересыхало… А Владыка брал крест с престола и осенял меня им; затем надо было выходить на амвон перед всеми молящимися. Хорошо еще, что полагалось говорить перед аналоем. Туда можно было положить, написанную уже проповедь — развитие какой-нибудь евангельской темы и поглядывать на нее, чтобы все не вылетело из головы. Вначале меня бросало в жар и холод, когда же кончал, то как бы тяжелый камень сваливался с моих плеч… Входил в алтарь, и, снова — под благословение Владыки; а он, такой благостный — всегда, благословляя, говорил: «Спаси Господи!».
Со временем привык, набрался смелости и, понемногу, проповеди стали исходить от души, с духовным подъемом, чего и добивался наш профессор, который хвалил и радовался, когда проповедь удавалась. Критику проповеди, профессор Зверев обыкновенно высказывал на следующем уроке, разбирая некоторые пункты, как переходы, обороты речи и т. п. Так протекало мое богословское образование в Виленской Духовной Семинарии.
Чтобы содержать себя, я работал ночным сторожем. Занимался, когда мог, ночью, на фабрике, где служил; спал утром, а пополудни ходил на курсы в семинарию. По праздникам и воскресеньям, я всегда прислуживал Владыке и часто оставался с ним и после. Летом же, во время каникул, Владыка, неизменно, брал меня с собой в объезд своей епархии, в которой было около трехсот приходов.
Обычно объезд начинался после Троицы — в самое экзаменационное время.
В конце первого года учения, ректор семинарии, уве-домленный о желании Владыки, иметь меня при себе, во время объездов, сделал для меня исключение, и я мог сдавать экзамены, отдельно, перед отъездом. Таким образом, я избегал всей формальной стороны экзаменов с их официальной атмосферой, нагонявшей страх на студентов (надо было сдавать экзамены перед экзаменационной комиссией, на которой присутствовал ректор и все профессора. Приходилось вытаскивать билеты с вопросами и отвечать во всеуслышание всего начальства).
Мои же экзамены носили скорее частный характер, проходили по-домашнему с глазу на глаз с каждым экза-менатором и сходили для меня благополучно, так как можно было отвечать не так волнуясь…
Я очень любил поездки с Владыкой, а он любил мое чтение в церкви. На объездах приходов он, почти всегда, давал мне читать паримии за всенощной и Апостола за литургией. Владыка придавал большое значение произношению. Каждое слово должно быть ясно и отчетливо сказано, без спешки, чтобы каждый мог понять произносимое, а не только слышать сплошной водопад слов.
Когда сам чтец молитвенно переживает читаемое его настроение передается и молящимся. Перед тем, как выйти из алтаря для чтения, я всегда брал благословение у Владыки, считая большой честью его доверие ко мне… Так мирно, в трудах, проходило время до 1923 года, но все прервалось к концу моего последнего года в семинарии, совершенно неожиданным образом.
Причиной нарушения цикла нормальной жизни явилось притязание польских католических властей на православную церковь. Они настойчиво стремились в своих интересах, отделить Православную Церковь от Московской Патриархии, возглавляемой святейшим Патриархом Тихоном; предлагали Архиепископу Елевферию отделиться от Московской Патриархии и возглавить Православную Церковь в Польше, объявив Автокефалию в этой стране. Поэтому с такой помпой власти встречали и сопровождали Владыку при его объезде епархии.
Владыка, Архиепископ Елевферий воспротивился этому, будучи верным своему Патриарху. С ним, отказались от предложения Польского правительства следующие епископы: Пантелеймон, епископ Новогрудский; Сергий, епископ Бельский; Владимир, епископ Гродненский. Все четверо иерархов были арестованы и сосланы в заточение в католический монастырь.
Один только Варшавский митрополит Георгий (Ярошевский) вошел в соглашение с польскими властями. Он созвал Собор в Почаеве, принуждая противящихся епископов подписать Конкордат с Польским правительством. Усилия его убедить епископов не привели ни к чему и, в результате их отказа, они были заточены в разные монастыри.
Арест Владыки Елевферия
Сперва мы ничего не знали. Был канун Покрова Пре-святой Богородицы. Я направился в алтарь, чтобы приготовить облачение до прихода Владыки. Вошел Савватий и довольно грубо сказал: «Владыка служить не будет, можете уходить!».
— А мне он сказал быть здесь в это время — говорю я — как же так? Он болен?
— «Велено не тревожить».
Странно, подумал я. Не похоже на Владыку, у которого я был 2 часа назад. Он бы дал мне знать. Стою в нерешительности. Начали всенощную… Вдруг, вижу, входит в алтарь Владыка, не такой, как я его знаю — благостный и милостивый, а гневный и грозный.
— Вы попираете каноны, как вы смеете действовать самовольно!? — обращается он к наместнику монастыря.
— А я понял, что вы уехали — отвечает смущенный о. Савватий.
Владыка, не обращая на него внимания, делает мне знак подавать облачение к литии. Все растерялись… Священник, начавший вечерню, извиняется, объясняя, что ему сказали будто «Ваше Высокопреосвященство в отсутствии и служить не будет». Владыка совершил праздничную всенощную, и мы сопроводили его в покои.
Когда я пришел в собор на следующее утро, мне сообщили, что Владыку увезли ночью неизвестно куда. Все, верные ему страшно встревожились. Единственное, что мы узнали, что преданный Владыке ректор семинарии и член Сейма, Богданович, отказался оставить Владыку и поехал с ним. Как неприкосновенному лицу, по его положению, ему не могли воспретить ехать тем же курьерским поездом, чтобы узнать куда везут Владыку. В. Богданович сопровождал Владыку до Кракова.
Узнав это, помещица, Юлия Васильевна Пуртуладзе, очень преданная Владыке и состоятельная, сразу предложила мне ехать в тот же вечер в Варшаву, чтобы уведомить Митр. Георгия о происшедшем или узнать от него — что происходит и что надо делать, чтобы освободить Владыку.
Курьерский поезд мчал нас в Варшаву. В первый раз, за много лет, я ехал в купе I класса. Это напомнило мне, как мы ездили когда-то, принимая такой комфорт как должное… А передо мной стоял образ Владыки, такой грустный, каким я его еще не видел никогда.
В Варшаве мы прямо отправились к Митрополиту. Юлия Васильевна была слишком взволнована, чтобы вести переговоры и поручила их мне. Нас принял секретарь. Он покосился на мою студенческую фуражку и спросил, что мы желаем. Я объяснил ему, что мы приехали из Вильно и что польские чиновники, велев полиции оцепить архиерейский дом, увезли Владыку насильно, намекнули — что в Варшаву. Достоверно же мы все ничего не знаем и очень встревожены.
— Ни я, как секретарь, ни Владыка Митрополит, ничего не знаем об этом. Я доложу, когда он встанет, но не в такой ранний час. Ведь еще только семь часов!
Действительно, в нашей тревоге, мы забыли о времени. Я извинился.
— «Ничего» — сказал секретарь. — «Я постараюсь устроить вам аудиенцию сегодня. Позвоните позже, только предупреждаю вас, что вряд ли Владыка Митрополит сможет помочь, если дело уже в руках высших властей и полиции.
Такой ответ был равносилен отказу. Мы провели весь день в тщетных усилиях отыскать кого-нибудь, кто смог бы помочь отыскать Владыку. В Варшаве жил член польского Сената очень почитавший Владыку. Мы были и у него. Он обратился к шефу полиции без всякого результата. Зато мы добились того, что весть об аресте и вывозе Владыки, появилась в Варшавских вечерних газетах.
Очень опечаленные вернулись мы вечером на вокзал, чтобы ехать обратным поездом в Вильну. Мы сидели при-горюнившись, посматривая на часы, как вдруг, к нашему обоюдному удивлению, увидели ректора семинарии, Бог-дановича. Он сообщил нам, что Владыка заточен в Камендульский католический монастырь, в Карпатских горах и что туда надо ехать из Кракова в местечко Беляны и оттуда подниматься в горы на извозчике. Ему не удалось проводить Владыку, но он издали проследил, куда его повезли. Юлия Васильевна, не жалея расходов, решила, что нам надо немедля отправляться в этот монастырь.
Прибыв рано утром в Краков, мы наняли извозчика и поехали в Беляны, а оттуда в монастырь — на самой вершине горы. Узкая дорога шла зигзагами, круто подымаясь. Другого пути не было и бежать отсюда, чтобы никто не знал, было просто невозможно.
Вот мы и около высоких стен монастыря и стоим у железных ворот. Я дергаю звонок. В окошке появляется голова монаха-привратника, который спрашивает, что нам угодно. Я объясняю, что мы хотим посетить монастырь. Он отвечает, что женщинам вход воспрещен, но впускает меня и водит, показывая древние часовни, костел, усыпальницы и т. д. У меня одно лишь на уме — как мне добраться до Владыки. Ведь я никогда не найду место его заточения в этом лабиринте келий и коридоров. Вот мы уже обратно у ворот.
Привратник вынимает ключ, чтобы выпустить меня. Тут я не утерпел — делюсь с ним тем, что у меня на душе и о настоящей цели нашего приезда. Монах так испугался, что поскорее выпроводил меня, но обещал, что сразу доложит приору Вишневскому, настоятелю и вызовет его, если сможет. В скором времени появился сам настоятель.
Объяснив ему все, как было, Юлия Васильевна дала ему приготовленный заранее конверт с довольно крупной суммой на нужды монастыря, что было принято с благодарностью. Настоятель повел меня по длиннейшим проходам с низкими арками — где все в прошлом и как бы застыло время. Наконец, он постучал в дверь одной из келий. Открыл Владыка и был не только поражен, но потрясен, увидя меня. Настоятель остался у двери.
— Саша! Откуда ты? Каким образом? Ведь я здесь под строгим надзором! Как ты узнал о том, где я нахожусь?
Я разъяснил Владыке все и что Юлия Васильевна ждет получить благословение. Настоятель разрешил Владыке исполнить ее желание, что было большой радостью для нас. Владыка же был так тронут нашим приездом, что прощаясь, я заметил, как на глазах его появились слезы.
Еще несколько раз я ездил, уже один, к Владыке… Какая это была большая радость для меня и настоятель, видно не плохой человек, разрешал нам эти свидания и без дальнейших взносов на монастырь!
Спустя некоторое время был убит, Архимандритом Смарагдом, Митрополит Георгий — виновник всей смуты и заточения в разные монастыри, семи епископов, отказавшихся от Автокефалии. Тогда Польское правительство решило выслать «непокорных» архиереев из пределов Польши — кто куда хочет. Наш Владыка поехал в Берлин. Узнав об этом. Литовское правительство пригласило его возглавлять русскую православную церковь в столице Литвы, в Ковно, так как Литва и раньше была частью его епархии и титул его был — Архиепископ Литовский и Виленский.
Я не знал о новом назначении Владыки, а вернувшись в Вильну, уже после первого посещения Владыки, узнал, что почти все профессора в семинарии были смещены и новые преподаватели были назначены Митрополитом Георгием. Меня, как приверженца Владыки, сразу же исключили из семинарии и грозили высылкой или арестом. Узнав об этом, Владыка просил власти дать мне разрешение быть при мне келейником. Он даже предупредил меня об этом и сказал, что пришлет мне телеграмму, когда выехать к нему. Но в этой просьбе ему было отказано.
Власти стали преследовать меня, особенно после моего последнего запретного посещения, о котором узнали. Гонения на всех, оставшихся верными своей церкви, в тот период, окончившимся сенсационным известием об убийстве Митрополита Георгия, усугублялись. В то время, я как раз возвращался от Владыки, через Варшаву и никто не говорил ни о чем другом.
Мое исключение из семинарии в последнем году занятий и незадолго до выпускных экзаменов, могло повредить мне, но благостный Владыка устроил так, что я смог держать их впоследствии в Ковно, куда переехало большинство из опальных профессоров.
Одним из моих экзаменаторов был сам Владыка и, так как я усердно готовился, то с Божьей помощью, благополучно выдержал тогда, по всем предметам и получил нужный диплом…
Но я забегаю вперед…
Побег в Литву и жизнь в Ковно
Когда я вернулся в Вильну (после последней встречи с Владыкой), хозяйка дома сообщила мне, что полиция, дважды, являлась за мной. Жребий был брошен. Я решил немедленно бежать в Литву… Доехав до границы нейтральной зоны, шириной в восемь верст, я убедил проводника, занимавшегося мелкой спекуляцией и имевшего связи с пограничной стражей, провести меня под разными фамилиями, через польский и литовский пограничные посты.
Тем временем, после убийства Митрополита Георгия, польские власти поспешно выслали Владыку, Архиепископа Елевферия, заграницу — в Берлин. Литовское же правительство, узнав об этом, пригласило Владыку, через своего посла, в другую часть его епархии и временную столицу Литвы — Ковно. Владыка принял приглашение и был с большим почетом, торжественно встречен на вокзале литовскими властями. Был даже выстроен, в его честь, почетный военный караул с оркестром, игравшим литовский национальный гимн.
Пока все это происходило, я испытывал большие труд-ности, попав на первую литовскую станцию без документов; мой польский паспорт был, уже давно, украден в Вильне, да он бы и не помог мне в Литве без разрешения въезда. Выручил меня добрый священник, о. Александр Недзвецкий. Мне указали, где он жил, и я направился к нему. Он тепло меня принял и приютил. Я рассказал ему все, и он выдал мне удостоверение личности на литовском языке, с которым я сел в поезд и через два с половиной часа прибыл в Ковно.
Помню, сразу же по приезде, я направился в собор. Какова же была моя радость, когда я увидел, что богослужение совершал Владыка Елевферий! В первый момент я не мог поверить своим глазам… Вхожу в алтарь во время «Трисвятого»: Владыка стоит на горнем месте у престола. Иподиаконы снимают большой омофор перед апостолом. Подхожу под благословение. Владыка, увидав меня, благословил, приветствовал и поцеловал. Никогда не забуду его радостную, благостную улыбку!..
— Саша! ты здесь! Каким образом?.. Читай «апостола». Дайте ему скорее стихарь — заторопил иподиаконов Владыка и благословил меня в стихарь. Облачаюсь… Уже кончается «Трисвятое», диакон подает мне «апостола» с заложенной лентой страницей того воскресенья. Беру благословение у Владыки и выхожу на середину собора.
Общее внимание обращено на меня… Все произошло так скоропостижно и неожиданно. Только что, несколько часов назад, был в поезде, волновался — как все будет, куда деться, и вот — встреча с дорогим Владыкой!
Читаю апостола с необычайным духовным подъемом. В тексте, как раз, — о плодах духа: «Братие, плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера… друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов».
После литургии Владыка сказал мне: «Обратил ли ты внимание на слова в апостоле? Сегодня они были обращены, как бы, к тебе». После обычного чая, Владыка провел весь день со мной. Он снова принял меня с подлинной отцовской любовью, расспрашивая с интересом о моем переезде границы и обо всем случившемся, после последней нашей встречи в католическом монастыре. Радость Владыки и попечение обо мне, глубоко тронули меня. Он сказал, что на первое время возьмет меня к себе.
Помещение Владыки состояло из большой гостиной, спальни и передней. В настоятельском доме, который на-стоятель собора, о. Евстафий Калицкий, разделял с Владыкой, он оставил себе две маленькие комнаты, а столовая стала общей трапезной. Меня уложили в гостиной…
Так началась моя жизнь в Ковно, увы! — с неприятностей с литовскими властями, которые не хотели выдавать мне право на жительство и грозили выслать обратно в Польшу, за нелегальный переход границы. Мне было дано 48 часов для выезда. Я страшно взволновался. Одна мысль, что меня вышлют в Польшу, откуда я бежал и где меня ждала тюрьма, приводила меня в ужас.
И вот, уже не впервые, спас меня Владыка. Он сам поехал к министру внутренних дел, объяснив мое положение и мне был выдан вид на жительство на три месяца. Позже его продлили на шесть месяцев, потом на год, с ежегодным продолжением и, в конце концов, выдали документ на постоянное жительство.
Как велик мой долг перед, столь много сделавшим для меня, дорогим, незабвенным Владыкой Елевферием! Он был, подлинно путеводительной звездой на моем пути! Зная, что мне не удалось сдать мои выпускные экзамены в семинарии, из-за исключения, он позаботился о том, чтобы я сдал их в Ковно, что и было сделано в 1924 году. Экзаменовали меня — сам Владыка и другие профессора (еще из Виленской семинарии), а также и о. протоиерей, Евстафий Калицкий. По благополучном исходе испытания, я был назначен старшим иподиаконом Владыки при соборе.
Не желая злоупотреблять гостеприимством Владыки, я стал искать работу, чтобы иметь заработок, на который смог бы жить самостоятельно и не быть ему обузой.
Мне удалось найти работу не на жаловании, а на про-центах, в одной рекламной конторе. Приходилось с утра до вечера ходить по разным предприятиям, убеждая хозяев поместить рекламу в газете, через нашу контору. Мой бенефис составлял 15 процентов с каждой рекламы. Так как, далеко не все «попадались на удочку» и, кроме того, рекламы были недорогие из-за компетиции, то моего заработка не хватало на жительство с пропитанием. От усиленного хождения сносились мои подметки. Как представитель фирмы я должен был иметь презентабельный вид, а если бы я летом, ради экономии, вздумал бы ходить босиком, то наверняка, не получил бы никакого заказа и меня бы просто выставили…
Чтобы быть удачливым в таком занятии, необходимо развить не только терпение, имея дело с неподдающимися увещеваниям клиентами, но и назойливость — гонят в шею, когда входишь в дверь — полезай в окно! Для такого способа мне не хватало нахальства и я был очень доволен, когда изредка, мне удавалось получить рекламу на пол страницы. Так проработал я, почти год.
Следующая моя служба была на шведской спичечной фабрике. Директором по финансовой части был тогда Николай Иванович Зельтин. Поступил я на эту фабрику простым рабочим — выгружал бочки с цементом и вкатывал их, по проложенным доскам, в ряды, которые становились все выше и выполнять работу становилось все трудней. Обручи бочек резали руки. Нужны были терпение и выдержка, которые не являлись по повелению!
Однажды приехал, как обычно, Зельтин, да еще стал подгонять меня; а у меня глаза на лоб лезли, так я был утомлен. Он должно быть заметил мое состояние и меня, в скорости, перевели во внутрь строящейся фабрики — помогать по проводке электричества. Работа моя состояла в пробивании дыр в стенах по разметке техников. Такая работа была гораздо легче и продолжалась довольно долго.
Как-то раз я работал, как обычно, передвигаясь с высокой лестницей с одного места на другое, пробивая дыры в бетоне. Я стоял очень высоко от пола, под самым потолком. Вдруг, замечаю главного инженера, шведа Тидерштрема, а он ходит под моей лестницей то взад, то вперед. Думаю — я наверно сделал какую-нибудь ошибку и вот — он хочет сделать мне замечание. Слышу, кричит мне, холодным таким тоном: «Слезайте с лестницы…». Ну, нет сомнения — будет нагоняй!
Поспешно слезаю и предстаю перед начальством. Швед смотрит на меня молча и вдруг обращается ко мне на ломаном русском языке: «Александр Николаевич Чернай, вы умейте писалъ?». Отвечаю — да, конечно, я окончил среднее образование в России.
— Очень прекрасно. Вы сумеете писать табеля поденных рабочих и всяких других? Вести надо ежедневно и по списку работающих и тоже быть у телефона здесь, в барак канцелярия?
— Думаю, могу справиться, — отвечаю.
— Пойдем, я укажу вам; инженер вынул из портфеля целую пачку печатных табелей и список всех рабочих, указав как заполнять перед началом и в конце работ и что эти табеля нужно представлять каждые две недели для выплаты рабочим.
Мне принесли рубашку и галстук. Я одел ее, завязал галстук и тут же почувствовал, что я уже настоящий слу-жащий, а не чернорабочий! Я приступил к новой работе с радостью и с благодарностью к Богу и особенно старался, чтобы все шло гладко, как ожидалось от меня. Теперь я был не под командой десятника, а постоянным служащим в строительной конторе. На первых порах мне как-то странно было обращаться с рабочими, с которыми я раньше был на равной ноге, а теперь должен был надзирать за ними, проверять и принимать работы по разным отраслям. Относился я к ним достойным образом и по-братски. Рабочие привыкли ко мне и полюбили, так как я понимал их, будучи еще недавно в таком же положении, как и они.
Представленный мною первый табель работ понравился Тедерштрему, когда он приехал для выплаты рабочим. Он сказал, что очень доволен, что не было ошибок и похлопал меня по плечу.
Через некоторое время я заметил, что он стал что-то часто приезжать на фабрику с одной очаровательной красавицей. Мне показалось, что у них роман. Дама оказалась женой директора по финансовому отделу, Н.И. Зельтина. В другой раз, приехавши снова с ней, Тедерштрем порезал себе руку и у меня, в бюро, дама с большой нежностью, делала ему перевязку. Когда они уезжали, он сказал мне: — если будет звонить Зельтин, прошу вас не говорить, что я был сегодня здесь. Это показалось мне странным. И тогда я понял, что не ошибся, когда мне показалось, что они не равнодушны друг к другу. На мое счастье Зельтин не позвонил и этим избавил меня от неприятного разговора и, главное, от обмана.
Прошло несколько недель и все заметили, что Тедерштрем не появляется совсем. Зато чаще приезжал Зельтин, нервный и чем-то взволнованный. Вскоре пошел слух — швед бежал с женой Зельтина в Швецию. Этот слух оказался действительностью. Этим происшествием закончилась и моя карьера на той фабрике. На место Тидерштрема был назначен другой инженер…
На какой бы работе я не находился, я продолжал, как можно чаще, видеть Владыку. Я продолжал ходить в собор на всенощную по субботам и на литургию по воскресеньям и быть его иподиаконом, как и в Вильне.
Уставая на работе и читая душеспасительные книги по вечерам мне не оставалось много времени для светской жизни, хотя, кроме посещений Владыки, я ходил иногда к старым знакомым, у которых познакомился с одной очень милой девушкой, Зиночкой Астраптовой. Она не была красивой, но в ней было что-то очень привлекательное, чудные добрые глаза и чуткое нежное сердце. Мы стали встречаться, когда могли, и гуляли вместе, любуясь природой. Надо сознаться, что хотя я вырос с сестрами, я был очень застенчив с их подругами и, вообще с девушками, и даже побаивался их.
Зиночка была первая девица, за которой я, если можно так выразиться, стал ухаживать, — приглашать ее куда-нибудь и приносить цветы.
Мы стали регулярно встречаться весной, а в начале лета, один друг моего отца в еще довоенное время, помещик де Фарио де Кастро, пригласил Владыку на все лето в свое имение «Райданы». Он жил в старинном замке с высокими башнями, которому было несколько сот лет.
В парке, недалеко от замка, была церковь в честь св. Константина, императора Византийского и его матери св. Елены, так, что Владыка мог служить в ней, когда хотел. Де Фарио де Кастро принадлежали несколько пароходов на Немане. Самым красивым была «Светлана», на которой плавали только его семья и его друзья; другие же были предназначены для платных пассажиров.
Владыка получил приглашение в самый разгар моего ухаживания за Зиночкой. После обедни он сказал мне — Саша, я еду к Иосифу Карловичу де Кастро в его имение на лето и ты поедешь со мной. Иосиф Карлович хочет, чтобы ты погостил у них в имении и отдохнул.
Что я мог ответить Владыке? Я только сказал — Спасибо, как хорошо! Но чуткий Владыка заметил, что это известие было принято без особого энтузиазма.
— А что? Ты разве не хочешь?
— Нет, Владыка, я очень рад — не хватило храбрости сказать правду.
— Ну, так вот, скоро и поедем. За нами будет послана «Светлана». Так что ты собирайся.
Оставалось всего несколько дней до отъезда. Лежа в постели, я все никак не мог заснуть… Как же будет? Расстаться с Зиночкой на целых три месяца?..
Оставшиеся три вечера я водил ее в кинематограф, гуляли с ней на горе Петровка, подолгу сидели на траве, смотря на закат солнца. Вокруг нас росло много ромашек. Я сидел поодаль, а Зиночка вдруг протягивает руки ко мне и говорит — Саша, почему вы сидите так далеко?! Садитесь поближе. Я сел рядом с ней. Сильно билось сердце и душа трепетала. Так хотелось тронуть ее хрупкие плечики… Но я не решался. Все думал об этикете. Такой я был тогда щепетильный педант!
Весь я рвался к ней, но сдерживался. Читал ей мои стихи, вздыхал… А она, сорвала ромашку и стала отрывать беленькие лепесточки — «любит не любит»; бросила ромашку, оторвав последний лепесток, и задумалась. В ее больших, темно-голубых глазах отражался луч заходящего солнца.
— Что, Зиночка, почему вы вдруг стали такой грустной?
— Ах, так — это ромашка…
— А что она вам сказала: «нет, она не знает любви?». — Я люблю вас! — Я обнял ее крепко и поцеловал в щечку. Ее смущенный вид придал ей особенную прелесть и трепет пробежал по всему моему существу. Но я не посмел отдаться порыву чувств и помог ей встать.
Мы шли молча, но душа с душой. Молчание прервала Зиночка — так вы уплываете, завтра, с Владыкой — и не дожидаясь ответа — что ж, счастливого вам пути!
— Да, Зиночка, я еду, но вы будете со мной везде — сказал я.
Вот и калитка ее садика, перед домом. Уже сумерки. Прощались… Я держал ее руки в своих, и мы смотрели друг на друга, не отрывая глаз.
— Прощай Саша… Быстрые ее шаги. Вот захлопнулась дверь дома. Я постоял еще немного и побрел к себе.
Утром, в восемь часов, надо было быть уже у Владыки. Спешу… У подъезда стоит экипаж, запряженный парой вороных. На каблучке кучер. Вошел в покои Владыки; он уже готов. — Ну вот, и Саша! Благословил меня. Я взял его чемодан. Сели в экипаж и поехали к пароходной пристани, где уже стояла, украшенная, от мачты до мачты, разноцветными флажками, «Светлана». Встретили нас на пристани, сам Иосиф Карлович де Кастро.
Вот пароход начал медленно отчаливать, затем развил ход, рассекая воду. Я стоял на палубе и смотрел на бежавшие волны как будто в них отражалось милое, грустное личико Зиночки… Владыка сидел в верхней застекленной каюте и был погружен в разговор с Иосифом Карловичем. Вдруг, он окликнул меня. — Что ты там задумался, Саша? Иди сюда пить чай! Я присел к столу и Владыка стал рассказывать о моем бегстве из Польши и о том, как я навещал его, когда он был в заточении около Кракова.
Здесь я хочу сделать маленькое отступление и рассказать о Владыке, моем Архипастыре и не только как о духовном отце, но после вынужденной разлуки с моим отцом, заменившего мне отца:
Архиепископ, и впоследствии, последний Митрополит Литовский и Виленский, Елевферий, в миру — Димитрий Богоявленский, сын псаломщика Курской Епархии, родился в 1862 году. По его собственным словам, мать его, Евфимия, была образцом благочестия и воспитала сына в простой и крепкой мере и строгости домашней и церковной дисциплины. Она привила ему привычку воздержания во всем и это помогло ему выковать ту нравственную силу, которая поддерживала его при всех испытаниях, выпавших на его долю. Владыка всегда вспоминал мать с глубокой сыновней любовью.
По окончании духовной семинарии, Димитрий Бого-явленский был около десяти лет сельским священником. Овдовев в 1898 году, он поступил в Петербургскую Духовную Академию, по окончании которой, был два года пре-подавателем гомилетики в Духовной Академии, три года инспектором и два года ректором, когда был возведен в сан Архимандрита, а в 1910 году — в сан Епископа Ковенского — Викария Литовско-Виленской Епархии. Служение его протекало сначала у Архиепископа Литовского и Виленского, Агафангела, а после, до начала войны 1914 года, — у Тихона, впоследствии Всероссийского Патриарха. Всего Владыка провел там 30 лет своего пастырского служения.
После избрания Архиепископа Тихона, Патриархом, епископ Елевферий был избран правящим Архиереем и принимал участие в работах Поместного Собора 1918 года. В 1928 году Владыка был возведен в сан Митрополита Литовского и Виленского в автономной Литовской и Виленской Епархии.
Владыка Елевферий пользовался редким авторитетом в Ковне. Он заслужил любовь и уважение своей паствы — строгостью к самому себе и, вместе с тем, снисходительностью, отзывчивостью, доступностью и простотой в обращении со всеми. В отношении к католическим властям, он держался принципа — «Кесарево — кесарю и Божье — Богови». Владыка никогда не отказывал никому в помощи и, поскольку мне известно, всегда жертвовал собою, ради других…
Но вот, — уже виднеется замок с башнями — «Рауданы». Пароход подает три гудка. Как когда-то у нас, в нашем имении — это сигнал, что приезжают гости. Услыхав его, в усадьбе запрягают лошадей и экипаж спешит на пристань. Замок, стоящий на холме, невдалеке от Немана, занимал доминирующее положение над рекой и, по преданию, был построен еще во времена крестоносцев.
Причаливаем. Сходим с парохода и размещаемся в двух, ожидающих нас экипажах. Владыка с Иосифом Карловичем садятся в первый, я с чемоданами — во второй. Высоко над нами вьются жаворонки; воздух насыщен запахом цветущей гречихи. Дорога начинает подниматься зигзагами к замку. Вот мы въезжаем в широкую аллею, по сторонам — вековые деревья, которая ведет вдоль огромной, кругообразной площадки с газоном, с кустами роз по краям, к главному подъезду.
На его ступеньках встречает нас вся семья де Кастро: его жена, Ольга Борисовна, престарелая мать жены (чопорная старушка), вдова генеральша, урожденная Кардашевская; сестра жены, Елена Борисовна и дети.
Владыка был особенно радостен и светел. Ему отвели покои рядом с прекрасной домовой церковью, в правой башне над которой был купол с крестом. Моя комната находилась внизу этой же башни. Из окон был вид на поля и на Неман.
Как прекрасен был этот замок, особенно в лунный вечер, со своими высокими башнями с бойницами и величественным фасадом. Глядя на него было легко представить себе рыцарей, которые когда-то жили здесь, и как бы чудился таинственный отдаленный топот лошадиных копыт и слышался звон оружия, возвращающихся с похода крестоносцев.
Я полюбил сидеть по вечерам на скамейке, в конце аллеи над рекой, откуда открывался чудный вид на Неман. Вдали, по берегам, виднелись огни маяков, указывающие путь пароходам. Вокруг тишина — только шелест листьев, посеребренных луной, тополей. Они шепчут мне о былом — о всех бывавших в этом парке, со всеми своими надеждами, радостями и скорбями, уходящих, как и мы уйдем, в неизвестность…
Возвращался я поздно. Уже погасли огни в окнах, кроме одного окна у, наверно молящегося за нас всех, Владыки. А над ним и над куполом башни, светился символ спасения и старинная эмблема верных рыцарей Христовых, и раньше и теперь — крест.
Владыка молился далеко за полночь, а рано утром, по восходе солнца, ходил гулять в парк и садился где-нибудь, в укромном месте, чтобы читать Евангелие и жития святых. Ходил Владыка в старом подряснике с черной скуфейкой на голове. При встрече, когда подходили под благословение, то чувствовалась благость, исходящая от него. Какие бы не были напасти и огорчения — в присутствии Владыки они теряли свое жало — на душе становилось легко и радостно.
Пока Владыка читал, писал письма или молился, я тоже, не все время проводил в мечтаниях и не тратил его зря. Каждый день Иосиф Карлович давал мне какое-нибудь задание: наблюдать за посевами, сенокосом или чем-нибудь другим. Утром, после завтрака, мне подводилась лошадь, на которой я объезжал владения де Кастро, а по вечерам докладывал ему о результатах данных мне поручений.
Иосиф Карлович любил моего отца и всю семью и часто бывал у нас в Ковно до I Мировой войны. Когда он приезжал в Петроград, по делам, то заезжал и в Лугу. Он часто вспоминал отца и сожалел, что моя семья была отрезана от нас и мы могли обмениваться только письмами.
Мне было приятно, когда устраивалась поездка в Ковно, по поручению Иосифа Карловича, а иногда и Владыки, которому я должен был привозить епархиальные дела, после заседания Епархиального Совета. В таких случаях я проводил два-три дня в Ковно. Были радостные и неожиданные для Зиночки встречи, когда я появлялся, к концу ее служебного дня, в Ковенском городском управлении, где она работала и провожал ее домой.
Мы проводили вечера в ее любимых местах, гуляя по Петровке. Я рассказывал ей о своей жизни в «Рауданах» и, во время этой беседы, она вдруг спросила:
— А вспоминаете ли вы, там Саша обо мне?
— Как вы можете задавать такой вопрос? А мои письма — разве они ничего не говорят вам? Ведь вы написали мне только два письма о том, что Саша Писарев часто бывает у вас, по вечерам, что вы приятно провели с ним день на пикнике, что это был хороший и веселый день и жалели, только, что меня не было с вами. Только и всего!
— Не у всех дар писать письма! Вы поэт, а я нет. — Не в том дело, Зина. Видите — когда мы все бываем на прогулках — вы всегда оказываете предпочтение Саше Писареву…
— Это вам только кажется. Он просто веселый шутник и развлекает нас. С ним весело. Он славный, вот и все! — Да. Я это сам знаю.
— Ах, какой вы смешной! Ведь вы познакомили меня с ним, ведь он ваш друг.
— Что ж из того, что он мой друг. Он часто злит меня своими шутками и прибауточками!
— Ха, ха! — засмеялась Зина.
— Почему вы смеетесь?
— Потому что он знает…
— Что знает?
— Ну, говорите, Саша, что он знает.
— Я не хочу говорить — вы сами знаете.
— Что я знаю?
— Что вы мне дороги, что я вас люблю… А помните — в день Ангела одного из наших друзей, вы танцевали почти весь вечер с Писаревым, а со мной только вальс. Когда же он подходил к вам — шли с ним без отказа, а мне отвечали на приглашение: «Я устала, немного погодя».. А как подойдет Сашка, вы снова танцуете с ним! А помните еще, у «крюшона», вы пили с ним на брудершафт!
— Да ведь это все были только шутки, как вы не понимаете! — ответила Зина и добавила. — Вы же тоже должны чувствовать мое к вам отношение!
Мы сидели на стволе упавшего дуба. Во время разговора я пересел поодаль от нее. Она протянула мне руку и сказала. — Сядьте рядом, поближе ко мне. Я не думала, что вы такой ревнивый. Это не хорошо и совсем напрасно. Она прильнула ко мне, и я в первый раз обнял ее тоненькую талию и поцеловал, когда она была в моих объятиях. Не долго продолжалось это блаженство. Зиночка оттолкнула меня и вскочила — пора домой, Саша. Мама будет беспокоиться, ожидая меня к ужину. Пойдемте поскорей! Некоторое время мы шли молча. Нарушив молчание, я спросил ее — Зиночка, вам нравится, когда я вас ревную?
— Совсем нет — ответила она, убегая от меня в дом… Тем не менее, она продолжала доставлять мне поводы к ревности и когда появились, как мне показалось, неоспоримые доказательства перемены в ее чувствах ко мне, я перестал писать ей и навещать ее. Она поняла и прислала мне обратно мою фотографию, по ее просьбе, ей подаренную. На обратной стороне снимка я написал Пушкинские стихи:
«Я вас любил, любовь моя, быть может, еще угасла не совсем —
Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу тревожить вас ничем».
Фактически все произошло из-за раздутого пустяка, благодаря моей глупой ревности, но Зиночка была слишком горда, чтобы давать объяснения. Я же отошел — не углубляясь и был одно время очень одинок… Когда я проходил мимо Зининого дома, у меня щемило сердце и я думал о возможном счастье, которое было так близко, но тогда обошло меня… Мы встречались на людях, но уже образовалась какая-то пропасть между нами. Она была учтива, даже мила со мной и только…
Была другая девушка, которая тоже пела, как и Зина в архиерейском соборном хоре. Звали ее Таня и она не раз, когда я иподиакоствовал, останавливала на мне приветливый и сочувственный взгляд своих больших, голубых глаз. Я стал ходить на спевки, чтобы увидеть эту девушку, которая, как бы озарила мою душу, когда я искал ласки и тепла, не имея никого.
Правда, во время моего одиночества, у меня было, если можно так сказать, одно увлечение. Я познакомился с одной барышней по имени Галя. Она была очень бойкой и приметив меня, стала открыто благоволить ко мне. Она была единственная дочь состоятельных родителей, которые стали часто приглашать меня в гости и говорили, что «полюбили меня». Я думаю, что они искали жениха и остановили свой выбор на мне.
Галя стала писать мне страстные любовные письма, прося приходить почаще. Я приходил, но не из чувства любви, а скорее от скуки. Как-то раз, после ужина, Галя пригласила меня в свою комнату — под предлогом показать мне свои альбомы и, оставшись наедине с ней — я чуть не познал, что такое не платоническая любовь… У Гали не было чуткости понять мое душевное состояние. Она, видимо считала, что физическая близость разжигает страсть и заменяет любовь.
Я же был воспитан в строгих традициях и верил, что все «приличные» девицы были девственницами, соблюдая свою невинность до таинства брака. Прямой подход опытной Гали был таким шоком для моих возвышенных чувств, что не оправдав ее надежд, я ретировался или вернее бежал с неравного поединка. Не знаю, что она рассказала своим родителям, но они перестали приглашать меня. К великому моему облегчению, Галя с семьей, в скором времени, выехали за границу, и я нигде, никогда, больше не встречал ее.
Таня являлась полной противоположностью Гали. Она была очень скромная, хотя на редкость хороша собой, грациозна в движениях и в ее взгляде выражалась какая-то особенная душевная чуткость, как бы она понимала многое без слов.
Итак, я стал регулярно, по вторникам и пятницам, приходить на спевки. Регент был доволен приобрести лишний мужской голос и просил меня петь в партии басов-баритонов, несмотря на то, что я не пел за богослужениями. Я тоже был рад принимать участие в спевках. Только иногда, когда не служил Владыка, я пел в этом хоре и регенту нравился мой голос.
С этих спевок и началось мое знакомство с Таней. Я стал всегда провожать ее домой на «Зеленую Гору». Потом, когда она стала приглашать зайти, был представлен ее семье и стал частым гостем… У них был чудный, образцовый фруктовый сад, спускавшийся к реке Вилии, впадавшей в Неман. Мы любили сидеть на скамейке над рекой и любоваться природой. Как прекрасен был этот сад весной, когда яблони были в цвету и лучи заходящего солнца отражались розоватым светом на их белоснежных лепестках!
Таня, как и я, любила природу и музыку. Мы часто сидели в саду, разговаривая обо всем и у нас, на многое, были одинаковые взгляды. Иногда Таня приносила свою гитару и, перебирая струны, напевала под аккорды, песни или романсы своим чистым нежным голосом. Я чувствовал полную гармонию с ней. Мы стали встречаться все чаще и весь ее облик все больше привлекал меня к ней. Настало время, когда ежедневные встречи сделались необходимостью для нас обоих. Мы поняли, что просто не могли уже жить друг без друга.
В феврале 1924 года я попросил ее руки. Это было поздно вечером. Мы вернулись из театра, где слушали оперу «Риголетто». Мы сидели в гостиной и были одни — все уже легли спать. Я помню, как она подошла к спинке моего кресла и ласково положила свои ручки мне на плечи. Я вскочил, поднял ее на руки, стал целовать и тут же сделал ей предложение… Ее нежное личико залилось румянцем. Она склонила головку и долго молчала, а потом призналась, что давно уже любит меня.
С того вечера Таня стала моей дорогой невестой. На другой же день мы объявили ее маме об этом (отца уже не было на свете). Эта весть явилась для нее неожиданностью. «Подождите еще — говорила она — вы еще молоды, да и Таня. Ей всего, совсем недавно, минул 21 год». На что я ответил — Марья Авакумовна, я так люблю вашу дочь, что долго ждать не могу. Тогда она благословила нас. Боже мой! Как мы были счастливы!..
На следующий день мы отправились покупать обру-чальные кольца.
Я никогда ничего не скрывал от Владыки и делился с ним всем, что происходило со мной. Он знал и Зину, и Таню, как певчих его хора. У Тани было сопрано и Владыка любил ее голос и благоволил к ней особенно, когда узнал, что она так много значит для меня.
Первым делом, сделав предложение, я пошел к Владыке, чтобы поделиться своей радостью. Владыка сказал, что ждал моей женитьбы, чтобы посвятить меня; он одобрил мой выбор, поздравил меня и даже сам назначил день свадьбы — а именно Духов день, сказав — как это хорошо венчаться в день Сошествия Св. Духа…
Дни мелькали один за другим, чем скорее, тем лучше — так мы были счастливы, готовясь к нашей свадьбе! Ремонтировали нашу будущую квартиру. Денег у нас было мало. Таня устроилась кассиршей в одном большом гастрономическом магазине, а я, после долгих поисков, снова служил в рекламной компании, «Комиссия» и ходил по целым дням, уговаривая людей. Идешь с портфелем с образчиками; приходишь, спрашиваешь хозяина или управляющего — иногда их нет — или, видя по портфелю, что не покупатель, а ходатай, говорят неправду, чтобы отделаться или велят прийти в другой раз. Бывало целую неделю проходишь безуспешно, даже четверть страницы не наберешь. Но случалось и иначе — не раз получал рекламы на целую страницу. За нее платили 70 латов и 25 процентов полагалось мне. Как весело было идти в контору, принося заказы. Были месяцы, особенно летом, перед торговыми выставками, когда я зарабатывал прилично.
Со дня, как я стал женихом, у нас все стало общим. По вечерам мы строили планы на будущее и составляли список — кого пригласить на свадьбу. Танюша была всегда светлой и приветливой со всеми. Мне доставляло большое удовольствие ходить с ней по магазинам за покупками. Однажды я купил ей золотое колечко и сережки с бирюзой. Она была так довольна, и они были ей так к лицу! У Тани были шатеновые волосы, голубые глаза с темными ресницами и бровями, чуть вздернутый носик, нежная кожа и очаровательная улыбка. Роста она была небольшого, хорошо сложена и грациозна, как молодая березка.
Она любила красивые вещи и я помогал ей выбирать платья. Она верила в мой вкус и считала меня авторитетом не только в духовных делах. Я же, полагался на нее в хозяйственной и других сферах. У нее было много здравого смысла; она была стойкой в своих мнениях и не боялась высказывать их, когда надо, хотя была скромна.
Женитьба и совместная жизнь
Вот прошла Пасха и приближался день Св. Троицы и день Св. Духа (2-го мая 1924 года). Танечка причастилась со мной на Троицу. После богослужения, как обычно, был завтрак у ее сестер, после которого мы расстались, уже до венчания, которое должно было состояться в четыре часа на следующий день.
Как я был взволнован, когда вступил в собор в тот, такой знаменательный для нас, день! Когда я вошел, архиерейский хор пропел мне псалом «Блажен Муже бояйся Господа». Собор был залит светом и украшен белой махровой сиренью, вокруг аналоя и царских врат. Храм был полон народа. Кроме родных Тани и наших общих друзей и знакомых, собрались почти все прихожане собора, так как все знали о свадьбе и знали Таню, как одну из лучших певчих, а меня — как старшего иподиакона Владыки.
Я стоял, не смея взглянуть ни на кого. Время тянулось страшно медленно. Смотрю на часы — уже время, а невесты все нет… Что случилось? Опоздали уже на семь минут; они кажутся вечностью! Жду, не дождусь — увидеть мою Танюшу в подвенечном уборе…
Но вот, наконец, слышу — подъезжают автомобили. Не оборачиваюсь, но знаю, что это Она шествует с посаженным отцом, который должен передать ее мне, при входе. Как горд, наверно, маленький племянник Танюши, Витя, в своей белой косоворотке с васильковой вышивкой, которую он мне показывал на днях. Ведь он, с иконой на вышитом полотенце, возглавляет шествие!
За невестой (представляю себе, как она прекрасна в подвенечном наряде с фатой и венчиком!) шествуют четыре шаферицы в светло-голубых платьях, под руку с четырьмя шаферами — все, как и я, в смокингах, (которые были взяты напрокат, чтобы все было «с шиком» для такого события). Стою, ни жив, ни мертв. Вдруг, хор грянул: «Гряди, гряди голубица… «Посаженный отец Танюши передает мне мою невесту. Она улыбнулась мне и кажется спокойной и мой страх и волнение исчезают… Следуем за мальчиком с иконой. В этот момент отворяются царские двери и выходит духовенство: мой духовник, митрофорный протоиерей — о. Евстафий Калисский (настоятель собора); протоиерей Василий Недвецкий и о. Михаил (Павлович) с протодиаконом о. Гавриилом.
Перед началом венчания о. Евстафий шепнул мне, что Владыка ожидает нас, у себя в покоях, чтобы благословить. Мы направились в дом, рядом с собором. Благостный Владыка встретил нас, как всегда; ласково и сердечно приветствовал нас. Мы встали на колени и Владыка возложил на меня и Танюшу руки, истово благословил нас и дал нам по серебряной иконке: мне Спасителя, а Танюше Божьей Матери и поцеловал нас.
Мы вернулись в собор в благодатном состоянии духа. Таинство брак было для нас подлинным таинством. Каждый возглас являлся как бы ступенью восхождения в полную гармонию просветленных души и тела. Когда нам одели кольца и мы пошли вокруг аналоя, мне казалось чудом, великой милостью Божьей, что Он даровал мне такую спутницу на всю жизнь и что мы, теперь соединены, как бы самим Господом, навсегда.
Владыка, пока нас венчали, прошел в алтарь и молился там. Дивно, в нашу честь, пел хор. Венчание закончилось «Многолетием»; оно было особенно величественным. Как только венчание кончилось, вышел из алтаря, облаченный в мантию, наш дорогой Владыка и сказал нам трогательное поучение о вступлении в новую жизнь супружества и о союзе любви. Потом он поздравил нас, а за ним, длинной вереницей, стали подходить присутствовавшие. Тихая радость наполняла нас обоих и хотелось поделиться ей, со всеми. Поэтому мы не чувствовали усталости и, как мне сказали позже, «прямо светились».
После венчания был прием у матери и сестер Танюши. Погода была, как нельзя лучше и гостей было очень много, поэтому, свадебное торжество устроили в саду, близ дома. Стояло несколько, покрытыми белыми скатертями длинных столов, украшенных цветами. На них было множество всевозможных яств и напитков. Нас посадили за главный стол, посредине которого красовался высокий свадебный торт. Его полагалось начать нам, когда пришло время подавать сладкое.
Было много речей, поздравлений; выпивали за наше здоровье, кричали «горько» и мы целовались на радость всем.
Среди многочисленных гостей была и Зина. Когда она подошла с поднятым бокалом и чокнулась с нами, я заметил, что тень грусти пробежала по ее лицу, которую она тут же скрыла веселой улыбкой.
Мой посаженный отец, рассказывал нам, как он пропустил пароход и мчался за ним на своих лошадях, обгоняя его, до следующей пристани. Саша Писарев, мой друг, подтрунивал надо мной и шутил от всей души. Ему нравилась Таня раньше, но теперь он ухаживал за Зиной и подливал ей вина, чтобы развеселить.
Стало смеркаться… Зажгли гирлянды разноцветных электрических лампочек, что придало саду особенно празд-ничный вид. Все были уже немножко навеселе и все чаще кричали «горько» и затем «сладко»». Свадебный пир удался на славу, но я ждал конца и заметил, что Танюша ждала того же. «Я уже устала, Шурик», шепнула она мне. Нам хотелось быть наедине, подальше от такого шумного веселья и быть в нашей маленькой квартирке, где было так тихо и уютно. Мы мало пили и еще меньше ели. Нам было, — как-то не до того…
Наконец нам удалось удалиться. И вот, — мы в нашем собственном уголке. Я помог Танюше снять фату, она поправила свои волосы, и мы бросились друг другу в объятия, ликующие, что мы теперь муж и жена, одни и вместе навсегда!..
В нашей столовой было много цветов и груда подарков со множеством писем и карточек. Мой посаженный отец подарил нам серебряный кофейный сервиз, который мы раскрыли первым, и Танюша решила тут же, его обновить, и перелила в него кофе, который был уже приготовлен и стоял на плите в обыкновенном кофейнике. Мы сели за стол и стали обмениваться впечатлениями за истекший день… А я, все любовался Танюшей и думал: неужели все это наяву, а не сон… Я глядел на нее не отрывая глаз, чтобы она вдруг не исчезла, а она подошла ко мне, обвила мою шею своими ручками и, прижавшись ко мне, шепнула на ухо: «Я так счастлива, что ты мой, а я твоя, навсегда!». Я бережно поднял ее и понес в спальню…
Проснулся я рано. В саду заливались птички; всходило солнце и лучи его скользили по нашей постели. Танюши не было около меня, но в спальню струился аромат свежего кофе и слышалось звяканье посуды. «Какая чудная, заботливая женушка у меня и хочет сделать мне сюрприз» — подумал я. Я вскочил, побежал в столовую, обнял Танюшу — такую стройную и желанную, в ее новом, фиолетового цвета, шелковом халатике, — какая красавица, моя жена, нет такой другой! — воскликнул я и расцеловал Танюшу, которая стыдливо, но нежно улыбнулась, а я побежал взять ванну. Через несколько минут я вернулся тоже в моем новом халате — подарке от одной из Таниных сестер; помню — что он был синего цвета с голубыми отворотами.
До того, как сесть пить кофе с Танюшей, я пошел в спальню, встал на колени, перед нашими образами в углу, с благословенными иконами от Владыки и нашими венчальными свечами, и молился, благодаря Господа за всю Его милость ко мне. Все пережитые испытания казались, в то утро, как бы приготовлением — чтобы глубже и полнее оценить счастье, выпавшее на мою долю с подлинно, теперь, моей, новобрачной женой, Танюшей…
Через день, мы отправились на пароходе в Юрбург, где заняли номер в хорошей гостинице, на берегу Немана, чтобы провести наш, не месяц, а «медовые» десять дней, наедине, вдали от всякой мирской суеты.
Какие незабвенные, блаженные это были дни! Погода была идеальная. По утрам, мы бегали по гладкому, почти белому песку, купались в семейной купальне, открытой сверху так, что было видно синее небо. На Немане обычно купались в купальнях, так как эта река с очень быстрым течением и случается, что она относит купающегося от берега и закручивает в водоворотах, из которых не всегда удается выплыть. Не дай Бог рисковать моим сокровищем — Танюшей.
Юрбург — живописный городок. Берега Немана тут отлогие, поросшие сосновыми лесами. Воздух живительный, красота вокруг нас и, самое главное, что мы были вместе, молоды, полны надежд и счастливы так, как я никогда не думал, можно было быть в земной еще жизни.
На обратном пути в Ковно, мы останавливались на несколько дней у Иосифа Карловича де Кастро и затем у моего посаженного отца, А.А. Вакселя, где нам было очень весело. У него было несколько отличных верховых лошадей и я с большим удовольствием ездил верхом, пока Танюша беседовала с дамами или гуляла в парке.
Обедали и ужинали на веранде. Софья Александровна, сестра моего посаженного отца, хорошо играла на рояле. Она упросила нас с Танюшей спеть ее любимый романс «Вернись». Наши голоса так хорошо гармонировали, когда мы пели вместе: «О! Если б ты ко мне вернулась снова». Запомнилось мне тоже, как дивно Танюша спела под аккомпанемент «Колокольчик» — слушаю ее, как будто она передо мной, как была в тот вечер. У нее было очень чистое, мягкое сопрано и в церковном хоре в Великом посту она пела, обычно, первое сопрано в: «Да исправится молитва моя» и «Архангельский глас» на Благовещенье.
Помню также, как позже, на наших приходских вечерах и концертах она пела «Жаворонок» Глинки («Между небом и землей жаворонок вьется, он с подруженькой своей, их песня звонко, звонко раздается…»).
Возвращаясь домой пароход «Меркурис» останавливался на разных пристанях. Среди них было и Колотово с маленькими домиками и дачками, разбросанными среди полей и лесов. Над ними, на горке, виднелась полуразрушенная усадьба «Романи», с которой у меня было связано столько отрадных воспоминаний. Парк был весь вырублен. Во время войны здесь была военная база. После революции, когда Литва стала независимой, большие имения были урезаны и помещикам оставлялось только сто десятин, кроме как в особых случаях, когда имение считалось образцовым; тогда там устраивали агрономные школы и оставляли помещикам до 500 десятин, но не более.
У друга моего отца, бывшего предводителя дворянства, Петра Александровича Миллера, в его имении Завалишки, было 2.000 десятин. Ему оставили 120. Остальные земли отдали крестьянам. У тех, кто выехал из страны и не вернулся, по каким бы то ни было причинам, в данный срок, их недвижимое имущество было реквизировано и после переходило в собственность государства. Так случилось с моими родителями, которые не имели возможности вернуться вовремя в Литву.
Я не видел моих родных уже почти пять лет. Они прислали мне мое благословение на брак с Таней, но письма не могли заменить встреч, а они не могли выехать изНарвы — я же не мог получить разрешения на въезд в Эстонию.
Глядя издали, когда мы отплывали на, некогда столь дорогие мне, места, я не мог смириться с мыслью, что семейное гнездо разорено, что все сгинуло, что нет в живых Гунечки и стольких родных и друзей, которые вносили много жизни и света в наше, когда-то беззаботное существование…
Я закрыл глаза, отгоняя удаляющуюся картину омра-чившую мое настроение. Танюша почувствовала мою грусть, подошла ко мне, положила ручку на мое плечо и сперва не могла понять причину моей печали. Я поведал ей о том, что было на душе и это еще больше сблизило нас.
Когда мы причалили в Ковно, мимолетная грусть по-кинула меня. Мы легко достали такси и, уже сидя в нем, Таня взяла мою руку в свою и, погладив ее сказала: «Все что было — давно позади, а наша жизнь с тобой вся еще впереди…». Было приятно вернуться домой, где все показалось еще уютней, чем прежде.
Так началась наша новая жизнь… Мы работали. Таня оказалась чудной хозяйкой. Она любила вышивать в свободное время. Она делала все быстро, легко. Бывали, конечно, как во всех семьях, мелкие огорчения по службе и т. п., но мы во всем, всегда поддерживали друг друга — тучи исчезли с горизонта и жизнь наша протекала в мире и единении.
Так прошел почти год. Весной, в 1925 году, когда Танюша была в положении и мы ожидали нового члена семейства в октябре, Владыка сказал мне, чтобы я готовился с ним в объезд епархии, после Троицы. Как в Вильно, так и в Ковно, кроме года моей женитьбы, я всегда сопровождал Владыку, как его иподиакон. Он привык полагаться во всем на меня во время этих поездок, и был привязан ко мне. Я же почитал и любил его всей душой.
Так как в Литовской епархии было гораздо меньше приходов, чем в Польше и там теперь служил Автокефальный епископ, то объезд должен был продолжаться только три недели. Танюша оставалась с матерью. Было очень жаль расставаться, но я не мог отказать Владыке.
Мы выехали и все шло хорошо; и вот, в Таурогоне, после торжественной службы, литургии, за обедом — совершенно неожиданно для меня — Владыка объявил, указывая на меня: «Это скоро, наш будущий священник!». Меня же охватило смущение, волнение и страх…
Позже, вечером, перед ужином, Владыка позвал меня к себе, ласковый и добрый как всегда: «Садись, Саша». Я сел у стола. Жду — что же скажет мне Владыка?
— Ты очень хорошо читал вчера Паримии… Вот что, Саша, пора тебя посвящать. Я не знал, что ответить, замялся, а потом говорю. — Так скоро. Владыка» Я еще не готов к священству… боюсь.
— Вот и хорошо, что боишься…
— Это слишком большая ответственность перед Богом и людьми — поэтому боюсь, не зная себя достаточно. Кроме всего я, ведь, как вы, Владыка, знаете, из светской семьи.
— Знаю и люблю твоих родителей, а ты призван с малых лет. Вот, сперва диаконом послужишь, а потом и иереем.
— Ваша воля, Владыка святый. Одна моя просьба — только диаконом.
— Ну хорошо, а там увидим.
Вернулись мы с объездов в конце июня. Я рассказал Танюше о Владыкином плане для меня и, прежде всего спросил ее — хочет ли она стать матушкой? На это она мне ответила: — это твое решение. Ты для меня всегда одинаков — в каком бы ты звании не был… Но воля Владыки очень много значит для меня.
Так прошли июль и август. Наступило 20-е сентября — день Ангела о. Евстафия — моего духовника. В этот день Владыка всегда сам служил литургию, особенно тор-жественную, после которой была многолюдная трапеза в русской гимназии, рядом с собором.
За неделю до того я получил указ из Епархиального Совета, который гласил: «По указанию и распоряжению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Елевферия, Архиепископа Литовского и Виленского, 20-го сентября, в день священномученика Евстафия, явиться на хиротонию во диакона, с прикомандированием к Воскре-сенскому собору».
Таким образом, все было решено и свершилась моя хиротония по желанию Владыки, тогда, через возложение святительских рук моего благостного отца и архипастыря…
Началось мое священнослужение. Я любил служить и Владыка любил мое служение, так как знал, что я полностью отдаюсь ему, а не говорю по трафарету. Из-за моего голоса, меня стали приглашать и в другие приходы и, с благословения Владыки, я ездил на их храмовые праздники, когда у них не было диакона… Мы ездили с Танюшей, уже моей матушкой, когда ехать было не далеко, так как скоро подходил срок ее разрешения от бремени и я не хотел, чтобы она утомлялась.
2-го октября появился на свет наш первенец — Георгий. Выглядел младенец здоровеньким, и Танюша и я были счастливы, что у нас свой ребеночек. Роды были легкие и никто не придал значения, когда у маленького были на несколько секунд конвульсии, что акушерка встряхнула его за ножки, головкой вниз. Тут же конвульсии прекратились и опытная акушерка сказала, что в этом нет ничего серьезного и это часто бывает. Доктор тоже не беспокоился…
Вскормленный на материнском молоке, окруженный заботой, Юрик развивался быстро и забавлял всех. Когда ему было уже несколько месяцев, мы стали замечать, что он не реагирует на шум и, вообще, на звуки.
Наш доктор посоветовал нам повезти маленького к известному профессору-специалисту в Кенисберг. Юрику было уже около года… Диагноз был, что наш сын глухонемой — не от рождения, а от повреждения, сразу после родов. Никакой надежды на выздоровление быть не могло. Оставалось только смириться.
Не стану описывать, как трудно, особенно в начале, нам было примириться с таким бесповоротным приговором и сколько слез Танюша пролила… Когда Юрику минуло шесть лет, мы отдали его в школу для глухонемых, в Риге, где он быстро освоился среди таких же, как он сам, и вырос без комплексов, которые, по мнению докторов, появились бы у него, если бы, не видя других глухонемых, почувствовал бы себя изолированным и обездоленным. Отсутствие голоса и слуха было возмещено другими дарами: талантом к живописи, выдающейся памятью и бодрым, жизнерадостным характером…
Возвращаюсь к 1925 году. В канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, вовремя всенощной, пока я стоял в алтаре, ко мне подошел о. Василий, ключарь собора, вынул из кармана длинный конверт и поздравил меня, а с чем — я не мог понять. Это оказался указ о моей хиротонии во священноиерея 6/19 декабря, в день святителя Николая.
Я никак не ожидал такого известия, так скоро и очень взволновался. В конце всенощной, как обычно, все духо-венство подходило под благословение по старшинству, последним подошел я и, поклонясь, принял благословение. Владыка, почуя мое смущение, ласково сказал: «Ну вот, отец Александр, — готовься в день святителя Николая, к благодати священства» и поцеловал меня в лоб.
Замечательно было то, что указ был вручен мне в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, как бы знаменующий для меня, мое введение во священство. Так сказал мне мой духовник о. Евстафий.
Танюша была довольна. Ей хотелось уехать на приход — в небольшой город Утяны, куда я был назначен в указе и жить особливо, так как все ее сестры жили в своих домах на большом участке, разделенном на четыре части. Наш дом, куда мы переехали, из квартиры, был больше других, но разделен пополам с сестрой Надеждой. Это стало особенно неудобным после рождения Юрика.
Тем временем шли приготовления к хиротонии. Мы с Танюшей ходили по магазинам, и она выбирала материи для ряс и подрясников — теплых, для зимы. Все спешно шилось у портного духовных одежд.
Я был очень рад, что моя хиротония выпадала в день св. Николая — день нашего родового праздника, который всегда торжественно отмечался с самого моего детства в нашем доме, где служился молебен с акафистом, перед семейным образом Спасителя…
Глава IV. Моя хиротония
В канун праздника святителя Николая 6/19 декабря, за всенощной и за обедней на следующий день, собор был переполнен молящимися. Всенощную и литургию совершал Высокопреосвященнейший Елевферий, Архиепископ (в последствии Митрополит Литовский и Виленский), при сослужении всего соборного духовенства (архидиакона Гавриила, диакона Леонида и диакона Александра).
Тогда я служил последнюю всенощную и литургию до Херувимской песни, когда посвящаемый во иерея диакон, остается один внизу соллеи — после окончания пения — «Яко да Царя всех — подымем». В этот момент выходят два иподиакона и доводят посвящаемого до Царских врат. Архидиакон возвещает из алтаря — «Повели Высокопреосвященнейший Владыка» — диаконам, ведущим посвящаемого и взывающим: «Повелите!».
Посвящаемого тогда вводят в Царские врата с поклоном — сидящему по левую сторону св. Престола, Архиерею. Он целует палицу и руку Владыки. Приемлют его после, старшие из протоиереев и при пении: Святые мученицы — добре страдавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу спастися душам нашим»…
После этого водят посвящаемого троекратно вокруг Престола. Он целует четыре угла Престола. По обводе вокруг Престола, Архиерей поднимается с кресла, а посвящаемый становится на колени. Владыка покрывает голову его омофором, возлагает на него руки и священники — также. Тогда Владыка великогласно возглашает молитву: «Божественная Благодать! — Немоствующия воисполняй… пророчествуем благоговейнешего диакона Александра во пресвитера, помолимся бо о нем, да снидет на него Благодать Всесвятого Духа». Хор же поет, особым напевом, с протяжными аккордами «Кирие элейсон», а Владыка читает в этот момент молитву о ниспослании Святого Духа.
Всеобъемлющее чувство, снизошедшей на меня и в меня Благодати, охватило, пронзило и опалило меня, как священным огнем… Он укрепил мои силы и обновил мой дух…
После Владыка вручил мне «Агнца», до начала Евха-ристического Канона, со словами: «Прими сей залог до скончания жизни…» Руки мои дрожали, принимая св. Агнец…
В конце литургии я прочел за амвоном, первую мою священническую молитву. По окончании литургии, по положенному чину, было наставление Владыки в алтаре, у св. Престола. Сколько благодати и любви было в его облике и в словах о подлинном служении Богу и ближнему, которые запомнились мне, навсегда…
Когда Владыка кончил, он передал мне крест для цело-вания и сказал: «Поздравьте нового батюшку, отца Александра, с благодатию священства и примите от него первое благословение. Люди подходили ко кресту, целовали его и руку Владыки, а после ко мне, стоявшему рядом с ним. Каждый ласково приветствовал меня и принимал благословение. Подошла и моя матушка-Таня и с особенно светлой радостью приняла благословение. Перед этим, Владыка поздравил и поцеловал ее в лобик.
Мой духовник, о. протоиерей Евстафий Калисский, настоятель собора и его матушка, устроили праздничную трапезу с участием духовных лиц, в честь меня, на которую были так же приглашены некоторые из моих будущих прихожан: бывший Ревельский губернатор, П.В. Веревкин со своей супругой, проживающие в своем имении «Благодать», в четырех верстах от города Утяны, куда я был назначен к церкви во имя Преподобного Сергия Радонежского, основанной отцом П.В. Веревкина в бытность его комендантом Петропавловской крепости в 1911 году.
После моего посвящения, я служил ежедневно в соборе вечерни и литургии, как полагается и под наблюдением самого Владыки. Он приходил на каждую литургию и молился в алтаре.
Некоторых новопосвященных священников держали долго при соборе, пока они не научатся служить и только после, они получают Указ — отправляться к месту назначения, но я прослужил только пять литургий и Владыка нашел это достаточным. После последней, он похвалил меня за то, что я служил «без запинки». И теперь я должен готовиться к отбытию на место служения в город Утяны.
Первый приход Утяны
На следующий день я получил Указ о разрешении отправиться, с удостоверением на литовском языке, что «Священник Александр Чернай является настоятелем св. Сергиевской церкви, Утянского уезда и приписных прихо-дов…».
29 декабря (по н. ст.) был я, с Танюшей и маленьким Юриком, готов к отъезду на автобусе, очень примитивными в те отдаленные времена, которые курсировали между Ковно и Утянами. Утром, того дня, мы поехали проститься к Владыке, получить его благословение в путь. Владыка ласково благословил нас, дал некоторые полезные указания и наделил нас просфорами, сказав: «Каждый день вкушайте по кусочку в помощь».
Он прибавил, что будет молиться за меня, чтобы Господь помог мне в трудном начинании священнослужения, что храмы, к которым я назначен, как и многие другие, — находятся в запущении. — «Господь да укрепит и вразумит Сам — и обращаясь к Тане, сказал — А вы, матушка, будьте хорошей помощницей. Господь наделил вас хорошим голосом, это — дар; будете петь на клиросе, зная службы Божии — в помощь батюшке». На этом мы и простились.
В три часа дня, нас провожали Танечкина мать и сестры. Помню — шел снег и усиливался. Путь до Утян, в нормальное время, длится три-четыре часа, если погода хорошая и нет снежных заносов. Усиливающийся снег предвещал возможность заносов, так как Николаевское шоссе, до Ковно-Двинск, очень извилистое и там, на крутых поворотах, при сильном снегопаде, образуются сугробы.
Автобус был маленький. На крыше были припасены деревянные лопаты для раскопки и специальные цепи на колеса. Я очень беспокоился за Танюшу и маленького Юрика, который был тепло закутан, как и Танюша. Хорошо еще, что сестра Надя уговорила Таню одеть поверх обуви, валенки, которые принесла…
Вот наш автобус тронулся, и мы покатили. Снег валил, запорашивая окна, хотя мороза большого не было. Мы останавливались во многих местечках; при каждом из них был небольшой ресторан, где можно было получить необходимое. Из-за снега наш автобус шел медленно, пыхтел, тарахтел и временами скользил на поворотах, с трудом двигаясь вперед. В 15-ти верстах от Утян — пять часов пути, были самые утомительные. Бедная Танюша с Юриком на коленях, который капризничал и плакал, была изнемождена.
Наконец въезжаем в Утяны. Мелькают тусклые, засне-женные фонари. Никто нас не ждал и ничего не было при-готовлено в нашем будущем, не отопленном жилье. Пришлось остановиться в гостинице. Было уже очень поздно, но нас накормили и напоили. Танюша с маленьким Юриком, уснувшим после теплого молока и свеже-перепеленутого, пошла спать, убеждая меня сделать тоже. Но у меня не было сонливости, наоборот, — я был в каком-то приподнятом настроении и, во что бы то ни стало, хотел найти и осмотреть, мою, теперь, церковь.
Хозяин гостиницы отсоветовал мне, но видя мою настойчивость, объяснил мне, как идти. Я вышел. Снег пе-рестал, но морозило сильней. В далеких пространствах, на бескрайнем небе, мерцали звезды. Бледная луна то появлялась, то скрывалась среди набегавших облаков…
Я подошел, вернее добрался по нерасчищенному снегу, до церкви, если можно назвать церковью, здание, перед которым я стоял. Это был остов, без окон и дверей. Внутри не было ни иконостаса, ни икон. Все было расхищено. При свете фонаря я видел омерзительную грязь, а где не было снега — замершие груды нечистот — доказательство, что этот бывший храм служил отхожим местом для безбожников.
Я был просто в ужасе. Никогда, даже на поле брани, среди тяжело раненых товарищей и мертвецов, я не испытывал такого падения духа…
Вернувшись в наш номер, я лег в постель, но ворочался и не мог заснуть. Проснулась Танюша: «Что с тобой, Шурик? Ты болен?» — спросила она. Я не мог сдержаться и, все еще дрожа от шока, рассказал ей обо всем, что я видел. Она смотрела на меня и молчала долгое время. Я ждал сочувствия, утешения, а она вдруг спросила меня, как мне показалось, почти равнодушным тоном: «Что же ты собираешься предпринять насчет всего этого?».
— Как что! — ехать обратно в Ковно, объяснить Владыке. Он, наверно, даже не представляет себе всего омерзения и безвыходности положения здесь. Он найдет нам что-нибудь более подходящее. — Молчание…
— Ответь мне на один вопрос — зачем ты стал свя-щенником?
Я никак не ожидал такого вопроса от моей Танюши. Я прямо опешил.
— Как зачем? — чтобы, как сказал Владыка, «подлинно служить Богу и людям».
— Если так, — то как же, при первом крупном пре-пятствии, ты малодушничаешь?
— Я думал о тебе, об Юрике.
— Ты забыл Владыкин завет и мне — быть тебе верной помощницей во всем. Выходя замуж за тебя, я знала, что должна и могу разделить твою судьбу, — какая бы она не была. Мы, теперь, одно с тобой. Я не боюсь борьбы и принимаю вызов!..
Я с трудом верил своим ушам и смотрел с восхищением на, до сих пор, неведомую мне Таню. Так вот, ты какая у меня! Ты герой! Раз так — принимаем все испытания. С нами Бог! Он поможет нам все преодолеть.
Я встал на колени и благодарил Господа за все. Никогда еще Танюша не была мне так близка и так дорога…
Мы встали обновленные. Было солнечное, морозное утро. Слышался стук лопат, разгребающих снег. В дверь постучал хозяин, приветливо поздоровался и принес нам горячий чай. Затем, он осведомился, что мы желаем к утреннему завтраку и предпочитаем ли мы идти в общую столовую или быть у себя. Мы решили завтракать со всеми. Проснулся и Юрик. Он хорошо выспался, покушал и снова заснул.
После вкусного завтрака стали приходить прихожане с извинением, что из-за метели, они не могли дождаться нашего автобуса и не думали, что мы выедем в такую погоду. Пришла жена доктора-хирурга в городской больнице, Анна Николаевна Норвилло, которая позаботилась о нашем приюте в гостинице; она сердечно приветствовала нас и пригласила на обед к ним в дом. Мы познакомились там, с ее мужем, тоже очень симпатичным. Прием был очень радушный.
Анна Николаевна сказала нам, что у нее уже назрел план действия и что, не имея еще распоряжений от меня, она уже взяла на себя инициативу нанять людей для приведения, насколько возможно в такой короткий, срок церкви в порядок, чтобы можно было бы совершить первую службу на Рождество. Она сообщила нам также, что доски на настилку пола уже пожертвованы местным лесопильным заводом; рамы на окна и двери будут застекленены, но не успеют сделать это во время. Главная забота — наслать пол, вымыть и покрасить стены, которые, когда я с матушкой пошел осматривать церковь, при дневном свете, оказались исписаны неприличными надписями.
Отношение Анны Николаевны к церковным делам подбодрило нас, так как говорится, что один в поле не воин и даже два! Появились и другие прихожане, готовые всем помочь… Все сразу взялись за работу и дело закипело. Удивительно, как много можно сделать и какой легкой кажется самая неприятная работа, когда делаешь все с любовью и имеешь определенную цель!
Пока мы все трудились с помощью нанятых «профес-сионалов» для того, чтобы закончить все необходимое в сочельник, а оставалось меньше недели; приехали Петр Владимирович Веревкин с женой Софией Александровной, сыном Петей и замужней дочерью Настей. Первым делом они убедили нас погостить у них и перевезли нас, в тот же день, в свое имение — четыре версты от церкви. У них был просторный дом и жили они в нижнем этаже. Нам было предоставлено три красиво обставленные комнаты, над ними.
Из наших окон открывался вид на сад. Деревья стояли запушенные снегом, который искрился на солнце. Воздух был живительный и, выходя из натопленных комнат на мороз, на несколько секунд захватывало дыхание.
Мы скоро почувствовали себя как у родных, так мы были окружены вниманием и лаской. По вечерам собирались у камина и много говорили о прошлом. Наши новые друзья расспрашивали меня о папе и маме и их судьбе. Петр Владимирович вспоминал папу с большой теплотой и рассказал мне некоторые факты, касающиеся отца и его бывшей деятельности, которые мне было очень отрадно слышать…
Приближался сочельник. Пол был настлан, стены вымыты, выбелены, не осталось следа поруганья, но церковь была пуста и мне пришла мысль смастерить иконостас и украсить церковь елками. Тут же нашлись прихожане, которые взялись осуществить мое желание. К службе, в сочельник, их трудами был сооружен иконостас с аркой, вроде Царских врат; посередине, направо и налево от нее — две арки поменьше, заменявшие северные и южные двери. Во все три эти елочные арки были вплетены маленькие электрические лампочки.
Вместо престола был стол, покрытый длинной белой скатертью. Веревкин привез несколько образов и его примеру последовали и другие прихожане. Посредине церкви поставили высокий столик, покрыв его вышитым полотенцем, и на него поставили икону Рождества Христова. Вместо подсвечников люди принесли миски, наполнили их песком и поставили на деревянные тумбы. Свечи я привез из Ковно.
Итак, началась Рождественская всенощная — первое мое служение, в первом моем приходе!.. Церковь озарялась множеством свечей. Как звезды сверкали маленькие лампочки. Через не застекленные окна вливался морозный воздух и виднелось, усеянное звездами, небо. Была тихая ночь. Природа мирно отдыхала под своим белым покровом, лишь только хрустел снег под ногами стекавшихся прихожан.
Все в этой церкви было так просто, даже убого, но в этой простоте была особая торжественность. Люди стосковавшиеся без церкви, молились, истово крестясь, и лица были светлые, праздничные. «Рождество Твое Христе Боже наш, воссия мирови и Свет разума…» — впервые, за много лет, церковь огласилась славословием родившемуся Господу. Неожиданно оказалось, что было несколько хороших голосов, знающих службу, и конечно, пела и моя матушка.
Это первая Рождественская всенощная осталась в памяти у меня и у моих прихожан, потрудившихся ради Господа, чтобы преобразить оскверненный храм в подобие убогого вертепа, освященного появлением в нем на свет Господа нашего Иисуса Христа.
«Христос рождается — Славите!».
Все подходят к иконе праздника, осеняют себя широким крестом, становятся на колени, затем прикладываются к образу и получают елеепомазание. У некоторых слезы на глазах и у всех — просветленные лица. Присутствующие — все больше хуторяне — громко и радостно приветствуют, подходя под благословение: «Батюшка! — Радость великая!».
Всенощная заканчивается пением: «Дева днесь Пресуществленного рождает и земля Вертеп неприступному приносит» — громогласно подхватываемое молящимися… Какая душевная и духовная радость объединила нас всех, покидающих церковь!..
Размещаемся с семьей Веревкиных в широкие сани, запряженные парой борзых коней и спешим домой, где ждет нас традиционный ужин. В столовой накрыт большой стол. В обоих концах его — высокие канделябры с горящими свечами, а посередине стоит ваза с тепличными цветами. В углу — большой киот с образом Спасителя и зеленой мерцающей лампадкой. Стол уставлен постными яствами: пирожками с капустой, с грибами, с рисом и луком или морковью; большое блюдо с кутьей, маковое молоко, компот из сухих фруктов и клюквенный кисель.
Одев епитрахиль и прославив Рождество Христово, пением тропаря «Рождество Твое Христе Боже наш», под-хваченное всеми, и благословив трапезу, сажусь со всеми за стол. Такой же стол, с теми же яствами, на кухне у служилых людей, среди них есть старые, верные слуги.
После обильного ужина сидели у камина и Петр Вла-димирович, беседуя со мной, проектировал полное восста-новление и оборудование церкви. Я слушал с тихой радостью, думая, уже без малейшей боязни, о предстоящей не легкой, но творческой работе. Танюша, рядом со мной, нежно погладила мою руку…
Литургия тоже прошла с большим духовным подъемом у всех молящихся. Теперь ничто не казалось непреодолимым. На душе у меня была полная уверенность в милости и помощи Божией и энергия росла во мне с каждым днем.
Начались посещения с Петром Владимировичем других, вверенных мне приходов, также разоренных и поруганных. Среди них был большой приписной сельский приход в местечке Ушполь. Там был огромный каменный храм в честь святителя Николая, находившийся в 15-ти верстах от Утян, ставшего центром моей деятельности. Оттуда посещались другие два прихода: в Оникште с храмом Св. Александра Невского, где было довольно много прихожан — все русских и город Ново-Александровск, на холме над большим озером, с златоглавою церковью, во имя Преображения Господня, в 30-ти верстах от Утян.
Помимо забот и работы по восстановлению церквей и налаживания, распавшейся приходской жизни, передо мной стояла ответственная задача — морально и материально поддержать и помочь пострадавшим и полуразоренным войной, хуторянам — русским крестьянам. Они нуждались в защите от католиков-униатов, которые старались, всякими способами, обратить их в католичество. Униаты «покупали души», суля им вознаграждение и помощь, если они признают папу и присоединятся к униатству. Не все устояли против этого искушения, но подавляющее большинство осталось верным православию.
Для многих я был первым православным пастырем, с начала революции. Как памятен им был первый удар колокола в их, еще полуразрушенном храме! Как стекались люди со всех концов, — кто пешком, кто на тощих лошадках, верхом или запряженных в телегу — все спешили в свою церковь. И как они радовались, снова слушая слово Божие и с какой верой они воспринимали его! Если хора не было — все пели или подпевали. А как много значила для исстрадавшихся душ первая проповедь в конце обедни. Какие глубокие вздохи доносились до меня и как внимали слову пастыря — и я чувствовал, что оно западало в глубину их сердец. Когда я кончал проповедь, по церкви, как волной, проносилось: «Спасибо, батюшка, спасибо!». Подходя ко кресту, почти каждый из мужиков, говорил: «Спасибо, отец, или батюшка — вот утешил ты нас своим словом».
В первые мои посещения, крестьяне не расходились после службы, а ожидали моего выхода, чтобы поведать о своих бедах, нуждах и притеснениях католиками, прося моего совета и помощи. Я с радостью ездил по хуторам, чтобы войти в общение со всеми членами семьи и получить более полную картину житья-бытья моих пасомых. У многих были полу-развалившиеся хаты и большое количество детей, которые окружали меня, наверно надеясь на какой-нибудь гостинец и я стал брать с собой леденцы, что доставляло большое удовольствие детям, особенно малышам.
Я знал, что мои поездки по приходам вызывали злобу ко мне, среди католиков-фанатиков, а их было очень много. Трудные были времена! Было желание — помочь всем и невозможность сделать и частицы того, что хотел.
Готовность помочь людям поглощала меня. Во всех моих стараниях поддерживала меня моя матушка, Таня. С каким интересом она выслушивала мои рассказы о жизни крестьян и как мы старались ходатайствовать о защите русских хуторян в те первые годы независимой Литовской Республики, где, к сожалению, власти были на стороне католиков, многие из которых занимали важные посты в правительстве и даже были министрами.
Чтобы отделаться от русских хуторян, начались высылки в Бразилию, с которой Литовское правительство подписало договор о приеме русских «землевладельцев». Начались насильственные вывозы наших крестьян, — а на их места стали поселять литовцев.
Сколько было скорби и плача, когда подъезжал литовец, со своим скарбом и двумя полицейскими, которые выгоняли наших мужиков, а те отказывались покидать свои хаты. Бывала борьба, но она, всегда оканчивалась победой литовцев.
У меня, лично, тоже было большое горе. Внезапно, от разрыва сердца, в Нарве, скончался мой отец. Это случилось 3 января, 1925 года, перед Рождеством Христовым, по старому стилю. Мама уходила в церковь, к службе, а папа еще лежал в постели, так как было еще рано. Прощаясь, папочка сказал маме — «Я приду в церковь, чуть позже — тебя встретить…». Мама ушла. Через некоторое время пришла сестра Лиля и сказала — «Доброе утро, папочка!» и поцеловала папу — это был день рождения Лиличкиной дочери, младшей Верочки, которую папа очень любил.
«Который час» — спросил он Лилю и получив ответ — девятый, он вдруг повернулся на бок и заснул вечным сном. Какое это было у всех неутешное горе… Придя из церкви, мамочка бросилась с рыданием к постели, ушедшему от нас в лучший мир дорогого незабвенного папочки, который не успел передать Лиле, для Верочки, приготовленный им пакетик, в котором оказался подарок — новые красные туфельки ко дню ее рождения, которые так ей понравились у одной ее подруги.
Папочка знал о дне рождения и еще накануне, чтобы сделать Верочке удовольствие, подумать только! Сам пошел и купил!.. Он так изменился под конец жизни, стал таким задумчивым, тихим, мягким. А в прошлом — как мы боялись, когда папа вызывал нас в свой кабинет…
Мама была слишком удручена, чтобы писать мне сразу, но я получил письмо от сестры Лили. Она писала, между прочим и про эти туфельки. «Папочка был в очень хорошем настроении в тот, — последний его вечер. Он принес какой-то пакет, который таинственно спрятал под подушку, потом пожелал нам спокойной ночи и лег спать…».
Вот что мне стало известно об похоронах отца: Это были похороны, которые особенно отличались не только многолюдными проводами, так как отец стяжал глубокое уважение среди многих, не только русских, но и эстонцев, будучи, последнее время юрист-консулом Кремгольских парусиновых фабрик в Нарве и там его очень почитали.
Глубоко уважал и любил его и всю нашу семью Преосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский (в бе-женстве от красных в Эстонию, ставший Архиепископом Нарвским). Владыка прибыл к нам в первый день смерти и совершил первую панихиду у смертного одра папы. Вынос и проводы на кладбище совершал настоятель Нарвского собора с диаконом при полном составе хора Архангельского с благословения Владыки — такого доброго Архипастыря!
В похоронной процессии шел и лютеранский пастор, настоятель своего собора. Похороны были многолюдны и торжественны; каждый знавший отца хотел отдать ему свой последний долг — почитания, уважения, преданности и любви…
Сознание, что я никогда больше не увижу папу, что кроме как молитвой, ничем не могу помочь маме, — очень угнетала меня, но и тут Танюша пришла мне на помощь: «Я верю, что Владыка сможет устроить, чтобы твоя мама переехала жить с нами. Тогда она сможет ходить на все службы с нами и это, хоть немного, утешит ее».
Когда у самого печаль на душе, то делаешься отзывчивее к испытаниям у других. Мы с Танюшей принимали всех и ездили ко всем, кто звал нас.
Большую помощь в вопросе о притеснении русских хуторян и их вывоза оказал П.В. Веревкин. В бытность свою, в царское время, Ковенским губернатором, он был очень уважаем литовцами, как самый гуманный губернатор, и президент Литовской Республики, Сметона, относился к нему с большим почтением. Я попросил Петра Владимировича ходатайствовать перед правительством об удалении или смягчении несправедливых мер по отношению к русским жителям. Он согласился, но попросил меня собирать подписи на петицию для укрепления нашей позиции и все, к кому я обращался, давали свои подписи.
Когда все подписи были собраны, Петр Владимирович отправился к президенту, который любезно и почтительно его принял и отправил петицию в кабинет министров, а оттуда — в Сейм. Закон был отменен… С какой радостью я спешил оповестить всех моих прихожан о случившемся, — о том, что пришел конец их вечному страху и они могут начинать налаживать свою жизнь…
Вследствие этого, русские хуторяне стали подтягивать свои хозяйства и нормальная жизнь дала им возможность встать на ноги, покупать сельскохозяйственные машины по льготным ценам и уровень их жизни сильно повысился к тридцатым годам; большинство их стало жить, если не зажиточно, то и не в бедноте. Такая перемена к лучшему очень благотворно отразилась и на благополучии церкви и вообще приходов. Церкви стали ремонтироваться трудами своих прихожан, и церковная жизнь наладилась. Крестьяне и немногие оставшиеся помещики, охотно и усердно помогали своему священнику, сделав самообложение натурой и деньгами и, чем могли, жертвовали на церковь.
Утянский св. Сергиевский храм был полностью вос-становлен в течение года, благодаря одному радостному событию: Петр Владимирович получил извещение из Ревеля, что эвакуированные ящики с церковной утварью, найдены и отправлены в Утяны. В скорости прибыли шесть заколоченных ящиков. В одном из них было три колокола, литые из серебра с бронзой; один был пятипудовый, с мягким, густым звоном и два маленьких к нему, составляли полную гармонию. Звучный, прекрасный звон и трезвон, доносившийся от них, были слышны издалека. Был совершен чин их освящения и поднятия на звонницу над притвором.
Когда ударил колокол, призывая молящихся, в первый раз, на молитву — у многих, как они говорили мне, навернулись слезы от радости — так тронул их сердца благовест, после такого долгого молчания.
В церкви шла работа по распаковке остальных ящиков. С каким благоговейным чувством вынимали святые иконы, многие в серебряных ризах разных размеров, большое напрестольное Евангелие в серебряном окладе, напрестольный крест и напрестольные облачения — священнические; пелены, кадило, семисвечник и многое другое, необходимое для богослужений.
И вот, наш храм принял совсем благолепный вид. Был оборудован иконостас с замечательной резьбой и иконописью, который оказался сложенным в костеле в местечке Малят, о чем сообщил мне старый католический настоятель. К Рождеству 1926 года, наш храм стал нашей гордостью и служба в нем совершалась, как некогда в мирное время, и не верилось, что только год назад — это был не храм, а кошмар.
Службы совершались ежедневно. На клиросе пела и читала моя матушка, а по субботам, воскресениям и празд-никам собирался небольшой, но хороший хор — регентом которого была Анна Николаевна Норвилло. У нее был приятный альто; в летнее время помогали сестры Веревкины, хорошо известные уже тогда — «С русской песней вокруг света…».
В день праздника св. Сергия Радонежского, в 1927 году, состоялось торжество полного освящения храма нашим дорогим Владыкой Елевферием. До начала первой службы, мною было совершено малое освящение воды. Владыке сослужил мой духовник, о. Евстафий Калисский, а также недавно прибывший из России и назначенный на должность моего Поневежского благочинного, о. Герасим Шорец, при протодиаконе Ковенского собора о. Гаврииле Кобец.
Как полагается, надобно было все приготовить к этому великому таинству Освящения храма, за день до прибытия Владыки. Первым делом нужно было сварить «воскомаст». В него входили разные душистые вещества: росный ладан (ароматный) смешивался с розовым маслом, часть серы и настоящего пчелиного воска. Все это надо было варить без кипения около часа, непрестанно мешая деревянной копаточкой, пока все это не обратится в густую, как патока, массу. Во время освящения престола, в особом сосуде, с рукояткой, стоит эта масса на совсем слабом огне, чтобы быть жидкой, когда архиерей заливает ею углубления от четырех кованных гвоздей на четырех углах, налагаемой на столбы, престольной четырехугольной доски. Воскомаст остывает и делается подобно цементу.
На крестовине престола водружается большой деревянный крест, посредине которого должно быть выдолблено довольно глубокое четырехугольное отверстие с крышечкой, соразмерной ему. В это отверстие архиереем вкладываются св. мощи и заливаются этим же благоухающим воскоматом. На кресте значится дата освящения престола и так же имя с саном архиерея и настоятеля. В дореволюционное время указывалось: при благочестивом царствовании такого-то императора, а в таких государствах, как Литва и подобным — имя президента.
Хотя я, до священства, видел много раз освящение храмов и участвовал в них, будучи исполняющим должность иподиакона, я не был ответственен ни за что и только замечал, как всегда волновался настоятель. Теперь же я понял — как сложно выполнить все в точности. Ко всему надо было еще позаботиться о размещении и кормлении, прибывающих с Владыкой духовных лиц, а также части архиерейского хора.
Хозяйственная сторона приема была в руках моей матушки, которая любила принимать хлебосольно и делала это очень удачно, но в малом размере. Большой прием должен был быть у Веревкиных и один малый у нас.
После освящения Утянского св. Сергиевского храма, следовало освящение наших двух других церквей: св. Ни-колаевской и св. князя Александра Невского. Там тоже надо было наблюдать за всем, хотя на месте находились надежные и церковные люди.
4/17-го мы с матушкой, с трепетом ждали наших име-нитых гостей. Это был его первый официальный приезд и, ввиду его отношения ко мне во всю мою жизнь, я так хотел и молился, чтобы все сошло хорошо. Гости ожидались с часу на час и должны были прибыть на нескольких автомобилях из Ковно. Неожиданно, регент и певчие приехали первые с утренним автобусом, чему я был очень рад. Регент был наш старый друг и, проверив все, он нашел, что все в порядке; он сообщил, что Владыка будет здесь около трех часов дня.
К этому времени мы все собрались на горке, около церкви, откуда, как на ладони, тянулось вдаль, по направ-лению к Ковно, Николаевское шоссе.
Вот уже виднеются приближающиеся точки, которые растут… Это — они! Звонко раздался в чистом воздухе, удар нашего большого колокола, а за ним и других — призывая всех к встрече своего Архипастыря. Сердце мое билось так, как будто готово выскочить из груди, в сей раз, от охватившей меня радости… Крестный ход с хоругвями и иконами спустился по ступенькам храма и, установив размещение, выстроился как подобает. Впереди всех стоял наш маститый староста, Петр Владимирович Веревкин, с вышитым полотенцем на плечах и хлебом солью на серебряном блюде (на солонке из серебра была выгравирована дата освящения). Несколько полицейских, в парадной форме и белых перчатках и с саблями, заняли свои места для почетного караула.
Вот и машина Владыки с флажком подкатывает к нашей церкви, за ней — другие. Два полицейских с почтительными поклонами, открывают дверцы автомобиля. Выходит Владыка — в клобуке, с сияющим на солнце бриллиантовым крестом со своей, всегдашней, светлой улыбкой. Караул отдает честь, вытянувшись в струнку. Первым поет входное — «Достойно есть», наш хор. Одновременно иподиаконы накидывают мантию на Владыку и он благословляет меня и целует.
Бравой походкой, поддерживая саблю, подходит на-чальник уезда, Матиунус Валевич, и держа руку под козырек, приветствует Владыку на русском языке. После него подносит хлеб и соль Петр Владимирович с кратким приветствием. После, поднося крест и святую воду, должен был приветствовать дорогого гостя я, — но при первом слове: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш Архипастырь и отец…» — что-то подступило к горлу и на глаза навернулись слезы. Сделав над собой, после заметной паузы, огромное усилие, я продолжал мое слово и выразил, как мог, глубину и полноту моей радости, впервые встречая моего Архипастыря в первом моем храме.
Пока я говорил, Владыка смотрел на меня ласково, с отцовской теплотой. Когда я кончил, Владыка принял крест, приложившись к нему, и осенив всех на три стороны, окропил присутствующих.
Под пение хора шествие двинулось в храм. Войдя в него, Владыка окинул взглядом всю, убранную цветами, церковь, приложился к иконостасу и осенил всех под громогласное «Тон Деспоти» и «Испола». Затем он обратился с простым и сердечным словом ко мне и прихожанам, выражая свою радость за восстановленный и украшенный храм и благодарил за теплую встречу. Он не забыл упомянуть и начальника уезда за его присутствие и почетный караул.
Чин освящения храма продолжался около трех часов, с крестным ходом со святыми мощами вокруг церкви и Божественной литургией, которая закончилась «Многолетием» — настоятелю, старосте и потрудившимися для восстановления храма. Все слова возгласов и чудного пения проникали в сердца молящихся. Казалось все отошли от своих мирских попечений и слились духом в молитве с нашим Архипастырем, вознося хвалу Господу за Его величие милости нам.
Незабвенное духовное торжество закончилось празд-ничной трапезой в имении «Благодать», у П.В. Веревкина, на которой присутствовали все трудившиеся прихожане, местные власти и другие гости. Там же Владыке были приготовлены покои на время его пребывания.
Вечером была всенощная — дивно пели два хора: часть архиерейского с, влившимся в него, нашим. Мощно звучал прекрасный, бархатный бас диакона, отца Гавриила. Лучи заходящего солнца скользили на парчовых облачениях духовенства, аналое и по позолоченной резьбе иконостаса… «Свете Тихий Святыя Славы Твоея» — неслось стройное пение — «Господь воцарился в лепоту облечеся»…
Тихая торжественность в храме, освещенным лампадами и великим количеством свечей, перед ликом, полным кротости и смирения, — преподобного Сергия Радонежского, нашего небесного покровителя и отца, печальника земли Русской. В алтаре истово молится Владыка; лицо его особенно светится, когда он погружен в молитву и, как бы возносится над земной суетой.
Вот и «Полиелей» — «Хвалите Имя Господне»… Из алтаря выходит наш святитель, облаченный во все голубое; он окружен духовенством. На лицах молящихся — благодатная радость…
Освящение других двух храмов, прошло также благо-говейно и благолепно. Пребывание Владыки в наших краях, оживили веру у тепло-хладных и вдохновило благодатью всех верующих. Оно также сильно подняло престиж русской православной церкви. Для меня же с матушкой — быть снова с ним и во время таких знаменательных событий — было таким счастьем, что память о нем живет до сих пор в сокровенной частице моей души.
Кроме нашего старосты, П.В. Веревкина, с семейством, в нашем Утянском приходе (из приблизительно 200 душ) жил также, в своем имении «Гайжуны», другой русский помещик, — генерал-майор, Константин Александрович Чижиков, которому, в то время, было уже 80 лет. Был он крепкого сложения, высокого роста, с сохранившейся военной выправкой и длинной, седой бородой. Жена его, лет на двадцать пять моложе своего мужа, была очень покладистой, энергичной женщиной с приветливым и приятным выражением лица.
Имение «Гайжуны», находящееся в 15-ти верстах от Утян, было расположено в глуши, среди лесов, со старой усадьбой, окруженной аллеями, убегающими в лесные поляны. Среди этих лесов было три больших озера, что еще больше увеличивало красоту природы. Было одно место, где земля заканчивалась мысом, прозванным «мысом Доброй Надежды». На пригорке, у опушки леса, возвышалась небольшая церковка с синим куполом, окруженная венком стройных сосен. Церковочка эта была построена самим генералом до Первой великой войны, но еще не была освящена. Подъем к ней был по широким многочисленным ступеням. Она стояла с забитыми досками окнами.
Когда я приехал в «Гайжуны», в первый раз, мы с генералом открыли ее, сняли доски с окон и дверей. Окна оказались целыми. Первое, что бросилось нам в глаза, когда мы вошли, был белый иконостас, на котором переливались лучи солнца. В церковочке было много икон художественного письма. В алтаре — престол с семисвечником и прекрасный образ запрестольный — св. Троицы. Храм был проникнут ароматом кипариса, из которого он был построен.
Генерал, увидав, что все осталось неприкосновенным и в целости, радовался, как ребенок в тот первый раз, и также тогда, когда я освящал и святой водой окроплял эту, как бы сказочную, церковочку. Совсем одна, вдали от всего, она напоминала скит былых времен. Тишина, вокруг нее, была изумительной — только слышалось, особенно весной, пение птиц, зов кукушек и потрескивание коры на некоторых деревьях. Вдали — зеркальная поверхность озер, обрамленных лесами и, кроме усадьбы, — ни одного жилья на много верст вокруг.
У Чижиковых был приемный сын, Коля. Родители его умерли, когда ему минуло четыре года. С тех пор, он подрастал у своих приемных родителей в этом уединенном имении, но впоследствии был выписан своей тетей, в Париж.
После того, как я привез Владыку познакомиться с Чижиковыми, ему так понравились «Гайжуны» и маленькая церковка, что когда генерал предложил ему приезжать и гостить, когда угодно, он приезжал туда каждое лето на отдых н ему устроили там отдельные покои. Владыка находил именье таким подходящим для скита, что добрый Константин Александрович отписал ему 40 десятин леса, на берегу озера, чтобы осуществить его желание, но обстоятельства помешали осуществлению этого.
Среди прихожан Утянского прихода, была семья адвоката Чулкова. Он был исключительно добрый человек с широкой русской душой и очень гостеприимный. Лицо у него было благородное, чисто русское, украшенное волнистыми волосами и маленькой бородкой. У него были живые глаза, смех звонкий и был он весельчак. Одна слабость, надо признаться, была за ним, тоже можно сказать, исконная, русская — он любил выпить, но не в уединении, как некоторые сумрачные пьяницы, а открыто, при гостях.
У него был полный стол с разными закусками и раз-нообразными напитками — «пей чего душа желает» и отговариваться было до того трудно, что его потчевание напоминало «Демьянову уху». Он не был набожным, но проявлял свою веру в делах: помогал ближнему чем мог и вел, зачастую очень успешно, судебные дела для неимущих, без всякого вознаграждения.
Был у нас еще учитель, Павел Петрович Марков, убе-ленный сединой, хотя ему было всего 60 лет. Он исполнял должность псаломщика, был жизнерадостен и мой большой приятель по рыбалке. В свободное время мы часто ездили с ним рыбачить — то на озерах, то на речках. Был холостяк и, вдруг, женился на хорошенькой барышне двадцати лет, — Наденьке. Полюбил он ее — просто души не чаял. Трудно было поверить тем, кто не знал их, что эта пара — муж и жена. Все принимали Наденьку за его дочь. Наденька, с темными выразительными глазами и красивым овалом лица, была не только мила, но и обаятельна.
В скорости у них родилась девочка. Моя матушка принимала близкое участие и была крестной матерью девочки, которую назвали «Любовь». Наденька часто приходила к нам, вернее к матушке, за всякими советами; делилась всем с Танюшей и подружилась с ней, так как по летам они были почти ровесницы. Обе пели на клиросе, гуляли вместе и катали своих деток. Тогда Юрику был уже год с лишним, а ее девочке — всего несколько месяцев.
Близкими к нам была семья Петра Владимировича и Софии Александровны Веревкиных. Она состояла из трех дочерей: Марии, Анастасии, Наталии и двух сыновей, Петра и Александра. Они часто бывали у нас, а мы — у них. Дочери не отличались красотой, но были очень милые — все высокого роста с породистыми лицами; хороши были Мария и Анастасия только на сцене, в своих боярских костюмах, когда они выступали, после первой русской эмиграции с «Русской песней вокруг света».
Сыновья были тоже высокого роста и видные. Александра (Алика, как мы его звали) венчал я. Он женился на швейцарке на пять лет старше себя, что очень огорчило его родителей, и скоро уехал с ней в Швейцарию, где у нее было имение. В 1929 году женился и Петя на очаровательной девушке, дочери помещика. Увы! Брак не был счастливым из-за пристрастия Петра к картам, затянувшим его в омут с картежными шулерами. Находясь во власти этой вредной страсти, он не останавливался ни перед чем — даже поставил на карту отцовскую мельницу и проиграл ее. Тяжело было все это его родителям и бедной его жене, Олечке с их маленькой дочерью.
Петя пропадал по неделям. Репутация его совершенно испортилась, и никто не хотел принимать его играть в карты. Здоровье его пошатнулось от такой жизни. У него оказалась скоротечная чахотка и он скончался. Я отпевал его и похоронили его в имении. Олечка же уехала к родным, далеко от нас и пропала из виду…
Семья Веревкиных была нам особенно близка, так как первые месяцы, до весны, мы жили у них, по приезде в Утяны. Только, когда был отремонтирован для нас дом — мы переселились в него.
Не менее близкой, даже как-бы родной, стала для нас семья доктора Норвиллы и его жены, Анны Николаевны. Она через короткое время, была крестной матерью, родившейся у нас дочки, Леночки. Ничто не предвещало такой быстрый исход. То был первый день Пасхи 1928 года. Я объезжал городских прихожан с крестом. Когда я вернулся домой, то застал гостей, которых принимала мать Танюши, гостившая у нас в то время.
— А где же матушка — спросил я, удивленный тем, что ее нет дома.
— Поздравляю тебя с дочкой! — последовал ответ матери Танюши.
— Как, где, когда?
— В больнице, часика полтора тому назад, — в подарок тебе на Пасху!
Я помчался к моей матушке…
Доктор Норвилло, до революции, жил в России и работал врачом в Туркестанском округе, а родители его жили в Литве. Они были тамошние помещики и умерли в Литве в 1913 году, и он вернулся в Литву еще задолго до ее независимости. Там он встретился со своей будущей женой; она окончила Николаевский институт и они поженились в Москве.
Когда мы познакомились с ними, у них была уже взрослая дочь, Зинаида Чеславна. Она, лет шесть перед тем, приехала из Вены, где окончила фотографический факультет и стала выдающимся фотографом. Живая, интересная, веселая — она была очень предана нам, как и ее дорогие родители. Их обширный дом был центром объединения всех знакомых в Утянах. Бывало: попадешь к ним в дом — и не отпустят до вечера и еще убедят остаться «на огонек» с другими знакомыми. Особенно любили их: начальник уезда, уездный врач, д-р Свилас (крестный отец Леночки) и его милейшая жена — зубной врач, к которой мы все ходили лечить наши зубы.
Собирались мы вместе, часто и невзначай, а как сядем за стол — так «пир горой»! А если собирались без нас, то присылали прислугу с запиской: «У нас собрались; весело, а вас с матушкой не хватает!». Так мы, когда могли присоединялись к ним. Хорошая была жизнь! Сколько душевного привета и удовольствия было в этом хлебосольном, с широким русским размахом, доме. Анна Николаевна хорошо играла на рояле и пела, но любила голос Танюши и гордилась им. Мы с Танюшей пели дуэты под ее аккомпанемент, а в конце ужина, за кофе, мне вручали гитару и — просто нельзя было отказаться от пения, и приходилось петь русские песни и романсы до позднего часа.
В Утянах не было дома, куда бы нас с матушкой не приглашали, среди русских: у кого пельмени, у кого рождение, именины, не говоря уже о Рождественских святках и Пасхе. Всюду было тепло, радушно и никогда не было скучно. Летом, любимым нашим занятием с д-ром Вячеславом Юлиановичем была рыбалка.
В день св. Александра Невского и в Татьянин день устраивался большой прием, у нас. Все друзья и все власть имущие в Утянах, собирались у нас, к ужину. Уже за несколько дней вперед начинала хлопотать моя матушка. Так ясно вспоминается, как она красиво сервировала раздвижной стол с всевозможными закусками, пирогами и разными рыбными и мясными блюдами. На столе горели десять свечей в пятисвечевых канделябрах. Их мягкий свет придавал столько уюта! У Танюши был свой кулинарный секрет — «торт-ежик», который неизменно подавался к кофе и нравился всем нашим визитерам.
Танюша была всегда прекрасна, весела и умела всех занять. В день моего Ангела, в голове стола, по традиции, с начала нашего брака, стояло кресло обвитое цветами, которое всегда украшала моя жена, специально для меня.
Татьянин день праздновался еще пышнее, т. к. съезжались гости и не только утянские, но и более дальние прихожане и друзья из своих имений. Знакомый лесничий обычно присылал нам козу к этому дню, с приготовлением которой было немало хлопот. Наши семейные торжества всегда начинались молебном. Служил о. Герасим Шорец, — тогда еще молодой благочинный. Он не пропускал этот день, приезжал накануне и служил всенощную в канун и в день св. мученицы Татьяны — литургию.
Танюша исповедовалась и причащалась в этот день у него.
Вечером был торжественный ужин и веселые тосты! Следовала любимая в Литве, «чарочка», которую Танюша подносила всем гостям… Все это восстает перед моими глазами, как будто это было на-днях, а не более полвека назад…
Еще торжественнее праздновали Пасху! Страстная седмица — долгие службы в церкви, а дома, на кухне — приготовления к Светлому празднику — как только Танюша возвращалась из церкви. Она сама готовила все: красила яйца, коптила окорок, пекла бабы, куличи, мазурки и растирала творог с желтками, сахаром, сливками и толченым миндалем для пасхи. Стол был накрыт особой пасхальной скатертью с Танюшиными вышивками, которая употреблялась только раз в году, после заутрени и обедни для разговен.
На первый и второй день Пасхи было много визитеров, а я обходил дома с крестом и пасхальной литией…
Все мои воспоминания об Утянах — такие светлые! Каждое лето приезжала к нам гостить сестра моя Лиля с дочерью Верой и Ниной и Танюшины сестры, так что дом наполнялся гостями.
На наше храмовое торжество, преподобного Сергия Радонежского, всегда приезжал Владыка, который проводил летнее время в «Гайжунах». К храмовому празднику он вызывал часть хора из Ковно с регентом (мужем моей сестры, Лили) и также архидиакона Гавриила.
На Петра и Павла мы устраивали катанье на лодках на большом Утянском озере. В один из приездов к нам с ночевкой, Владыки, случилось неприятное происшествие, которое могло бы плохо кончиться. Зная, что Владыка, который очень мало ел, предпочитает рыбу многим другим блюдам, Танюша всегда старалась достать для него особенно вкусную речную рыбу. Она приготовляла ее с каким-то, ею изобретенным соусом, и она нравилась Владыке. И вот, во время оживленной застольной беседы, Владыка поперхнулся и рыбная кость застряла у него в горле. Он сильно побледнел, не мог дышать или говорить и только указал рукой на рыбу и на свое горло. Мы поняли, я вскочил и бросился к нему, зная, что нельзя было терять ни одной минуты, стал хлопать его все сильнее по спине, молясь про себя о его здравии. Слава Богу — кость выскочила, не повредив Владыку, который, освободясь от нее, уже шутил и успокаивал перепугавшуюся и очень смущенную мою матушку. Я тоже струсил не на шутку и боялся, что желая спасти его, я быть может, был слишком энергичен. Владыка же, наоборот, поблагодарил меня, что я спас ему жизнь.
Сам Владыка не рыбачил, но поощрял рыбную ловлю, которая была главным заработком многих апостолов. Я же очень увлекался рыбной ловлею. Летом, мы вставали при восходе солнца и Танюша и я, когда могли, спешили к озеру, где у меня была своя лодка. Таня сидела на берегу, вышивая что-нибудь, а я сидел в лодке, закинув удочку, невдалеке и мы переговаривались в полголоса, не двигаясь, чтобы не вспугнуть рыбу. Иногда я возвращался с пустыми руками, а бывало, что мне везло и я гордо нес добычу домой.
Дом у нас был очень уютный — в шесть комнат, с большой кухней и удобной ванной, но бани у нас не было. Зато, в полутора верстах была русская деревня, куда наши прихожане, крестьяне, приглашали нас попариться в их банях. Они присылали за нами сани зимой, обычно в пятницу. Матушка брала детей с собой, и они мылись отдельно, а я любил, попарившись как следует, выскочить на воздух (благо баня была отгорожена) и покататься в снегу. Никакие лекарства и массажи не могут сравниться с замечательным приливом сил после такого упражнения! Да и что, в других странах, может сравниться с целебными свойствами настоящей русской бани! Модные теперь «сауны» — это подобие, но все же не то. А наш русский березовый веник чего стоит!
Летом я объезжал моих прихожан на велосипеде, а если они жили далеко, то в бричке и всегда, у всех, встречал радушный прием. Русские крестьяне, в большинстве, музыкальный народ. У многих были прекрасные голоса и они очень ценили пение матушки в церкви, да и мое. Сами они пели и играли на гармошках, а некоторые — на баянах или балалайках.
С тех пор, как Владыка стал проводить часть лета в своем «скиту» в «Гаужунах», у Чижиковых, мы гораздо чаще видели его и это была для нас большая радость… Генерал нашел даже какого-то инока — финна, услуживать Владыке, но тот был с большими странностями и, когда он стал «ухаживать» за весьма почтенной, в два раза старше себя, генеральшей, то по ее же просьбе, пришлось удалить его, а он, в отмщение, — пригнул стволы двух берез, поперек дороги, в имении, надеясь, что кто-нибудь пострадает, но его поймали на этом недостойном занятии и даже добрый Владыка не мог найти смягчающих обстоятельств, но объяснил его поведение тем, что тот был не в своем уме.
К Владыке приезжали иногда очень интересные люди: богословы из Парижа, профессор Карташев и другие из Духовной академии и наслаждались природой вместе с ним.
Мы же, с нашими гостями, устраивали прогулки на лодках на большом Утянском озере, рыбачили… В день св. Петра и Павла были именины Петра Владимировича Веревкина и Владыка возвращался в «Гайжуны» после праздничного торжества у нас — он приезжал в канун храмового праздника, ночуя у нас и совершал литургию в самый день праздника, кончавшегося многолюдной трапезой на веранде усадьбы «Благодать». Так было и в день св. Петра и Павла.
Так текли дни за днями… В 1929 году приехал мой брат Коля с женой Олечкой, сыном Игорем и дочерью Арочкой. Их всех выписал из Эстонии Владыка. То была очень радостная встреча. Оля была очаровательная, добрая, умная, чуткая, с высшим образованием. Она учительствовала в русской гимназии. С их переездом наша надежда на разрешение маме выехать из Нарвы и переселиться к нам, в Литву, окрылилась.
Мой брат, Коля, как я уже упомянул, окончил Варшавский университет, который был эвакуирован, во время войны, в Ростов-на-Дону. Он блестяще сдал экзамены на юридическом факультете, но его всегда интересовал театр и еще, когда мы переезжали в Лугу, он организовал любительскую театральную труппу, которая пользовалась большим успехом в Луге, Пскове, Гатчине и Нарве. Помню его постановки: «Царь Федор Иоанович», «Смерть Иоанна Грозного», «Без вины виноватые» и многие другие.
Он всегда играл главные роли, которые запоминал, прочитав их лишь несколько раз. Его игра: голос, мимика, манера держать себя на сцене, дар преображаться в действующее лицо и оживлять его для зрителя — все эти качества сделали его любимцем публики. Гастроли его труппы пользовались таким успехом, что было трудно доставать билеты и театр был всегда переполнен. «Кручинин» — как он называл себя, был известен настолько, что профессиональные актеры и актрисы, как например, Дольская, играли в его любительской труппе. Особенно хочу отметить его феноменальную память — в Нарве он читал в театре из Алексея Толстого наизусть.
В 1916 году он был призван на военную службу, в артиллерию и организовал Культурный Отдел и труппу «Дивизионный Театр» и литературные вечера, на которых он мелодекламировал под аккомпанемент струнного дивизионного оркестра, так что он стал известен и в военных кругах, скрашивая тяжелую жизнь защитников родины и отвлекая их внимание от всяких бед.
При Временном правительстве он продолжал свою артистическую деятельность. Когда же власть захватили большевики, они удержали его, как профессионала, и он получал обильные пайки: сахар, муку, сало, масло и хлеб в большом количестве, что давало ему возможность в значительной мере поддерживать нашу семью.
Это продолжалось недолго. Когда пришел генерал Юденич, он освободил город и заключенных, но потом принужден был отступить; Коля был с моими родителями и с другими убегавшими беженцами и, в конце концов, попал в Нарву, где Оля, его жена, устроилась директором гимназии… Теперь, он сообщил нам, что желает стать священником. Владыка знал о его желании до его приезда и, в скором, посвятил его. Помню, — была статья в Нарвской газете с заголовком: «С эстрады к священничеству».
Коля долго готовился к посвящению. В 1931 году, мой брат был назначен Владыкой настоятелем в Утяны, а я переведен в Векшни, Шавельского уезда, — в большой приход, около 3.000 душ. Я прослужил в Утянах восемь лет, пустил там глубокие корни и подружился с некоторыми людьми на всю жизнь. Перевод был большим передвижением для меня, но очень жаль было расставаться с прихожанами, которых я уже всех близко знал и среди которых, мы с матушкой многих полюбили.
Моя матушка вкладывала душу в жизнь прихода. Она навещала больных, объединяла ссорившихся, украшала церковь, не только своими вышивками и цветами, но также своим прекрасным пением и чтением. У нее был дар обходиться с каждым. Она умела найти, что-то общее с каждым человеком, так как внушала всем полное доверие. Одна заходила к ней за рецептом какого-нибудь блюда, за лекарством, иногда за вырезкой платья; другая делилась своими заботами о детях, недоразумениями в семейной жизни, горестями и всем она давала добрый совет и оказывала, в чем могла, помощь и всем этим заслужила уважение и любовь прихожан всех слоев общества.
Мне удалось произвести маленькую, но важную для неимущих реформу в бытность мою в Утянах, которую я ввел также в Векшнях, а мой брат пошел по моим стопам. Дело в том, что в большинстве приходов, в притворах, висела обязательная расценка за требы и тарелка для сборов, во время исповеди, куда надо было положить деньги и только после этого, подходить к священнику. За порядком наблюдал староста, который вносил в раскрытую книгу списки самообложения — кто деньгами, кто натурой и проверял недоимки идущих к исповеди, заставляя людей платить вперед. Я прекратил все это.
Старшим священникам не понравилось мое новшество и я был в немилости у моих соседей-духовных лиц и подвергался критике и осуждению на епархиальных съездах… Тоже самое случилось с моим братом Колей, но еще острее, так как его талант и красноречие в проповедях, создавших ему большую популярность, вызвало много зависти среди духовных и не духовных лиц, что порой, приводило к столкновениям с ними.
Наш благостный Владыка неизменно поощрял всякие альтруистические начинания и также Колины духовные беседы, которые привлекали много верующих — даже инославных. Служил он хорошо и проникновенно, так как и раньше был очень религиозен. Все страстные Евангелия он знал наизусть, слово в слово. Все давалось ему без малейших усилий — даже слишком легко… Вникая в значение Божественной литургии, он дошел до того, что вынес решение: священник берет на себя грех, если не вся церковь причащается, когда выносятся св. Дары и священник призывает — «Со страхом Божиим и верою приступите». По его мнению, надо было служить литургию только когда все присутствующие подготовлены и причащаются.
Он стал вводить это в своем приходе, разъясняя в про-поведях великое значение литургии. Вначале он добился своего, но впоследствии это не привилось и вызвало много резких осуждений.
Возвращаюсь к 1931 году… Нам с матушкой устроили грандиозные проводы в Утянах. Помимо официальных проводов, каждый заходил с каким-нибудь подарком на память и желал всего лучшего на новом месте, прося нас не забывать свой первый приход… Мы покидали Утяны уже с тремя детьми: Юриком — семи лет, Леночкой — пяти и Сандиком (Александром) родившимся в 1930 году.
Второй приход — Векшни
Мы прибыли в Векшни перед Рождеством и встретили нас там, не только сердечно, но и торжественно. Наш поезд пришел в четыре часа утра. Утомленные длинным путем, особенно матушка с маленькими детьми, мы были очень растроганы, увидав, сходя с поезда, весь небольшой вокзал запруженный моими новыми прихожанами. Все было предусмотрено. Наш багаж был быстро погружен на экипажи, ожидающие у вокзала. Первый экипаж, для нас, был запряжен тройкой быстрых лошадей. Сани были вместительные и лошадки, с бубенцами, живо помчали нас до приходского дома, рядом с церковью.
У входа в дом, нас встретил, принявший благословение, староста, Михаил Шкербо, с хлебом, солью и теплым приветствием. Псаломщик, регент хора и весь хор собрались на крыльце, несмотря на ранний час. Помню, в ту ночь выпал глубокий снег и было еще совсем темно. При входе в дом, поразил нас большой стол с белой скатертью, заставленный всевозможными яствами и сухой провизией. Все, до самой мелочи, было припасено к началу нашего пребывания: чай, кофе, сахар, какао, молоко, буханки хлеба, масло, сыр, мука, сливки, сметана, не говоря уже о том, что стояло на столе для скорейшего потребления, в виде домашнего окорока, яиц и многого другого.
Ярко горела лампада у образа преподобного Сергия Радонежского… Милые женщины и девушки хлопотали вокруг нас. Помню с какой заботой и любовью приняли спящего Сандика и помогли уложить его в кроватку в спальне, а других детей поместили в детской. Такой прием глубоко тронул нас с Танюшей.
Я отправился сразу в обширный, каменный храм, куда провел меня староста. При храме была отдельная колокольня. Прежде всего, я приложился к св. Престолу и, особенно чтимой в приходе, иконе Козельшанской Божией Матери… На следующее утро я увидел синие купола с золотым крестом и погост — скорее парк с липовыми аллеями, тогда занесенными снегом, и чудный вид на реку Виндаву, внизу, и леса, застилавшие горизонт. Как мне было радостно, что все было прекрасней, чем я смел ожидать!
Приход был большой — 100 верст в округе, кругом русские деревни. В городке Векшнях — русские служащие, школы, гимназия против церкви, большие села: «Попеляны», «Саварины» и «Окляны», отстоящие в 10-15 верстах.
Все меня интересовало, и я собирался объехать весь приход и был полон планов насчет культурно-просветительной деятельности, имея теперь больше опыта и чувствуя почву под ногами.
В 16-ти верстах от нас находилось большое имение «Медемрод», принадлежащее графу Зубову, скончавшемуся за год до моего приезда. Осталась его вдова, графиня Вера Павловна и ее сестра, Елизавета Павловна Ушакова. Еще за долго до революции, Вера Павловна вышла замуж за Владимира Николаевича Зубова, владельца имения, величиной с городок, и образцового во всех смыслах. У них было 3.000 десятин, но Литовское правительство оставило только 500. Очень вместительный, красивый дом с прекрасной мебелью, устроенный с большим вкусом, стоял в парке. За ним были разные службы. Коровники, конюшни, свинятники и все амбары были каменные. Всюду царил порядок. Животные регулярно осматривались ветеринаром и уход за ними был отличный, как в кормежке, так и в гигиене. Поэтому, молочные продукты, которые продавались, были первоклассные и при-носили хороший доход.
Вера Павловна выписала свою сестру, у которой было отнято имение, после переворота в России, и сестры, с тех пор, жили вместе. Обе были очень религиозны и благочестивы. С первой нашей встречи, когда мы отправились к ним с визитом, мы с матушкой почувствовали к ним большую симпатию, что, как мы потом узнали, было обоюдно. Они сердечно приняли нас и обещали во всем поддерживать церковь и выполнили свое обещание сторицей. Они стали часто приезжать к нам и особенно полюбили Танюшу. Часто они забирали ее с детьми, чтобы провести несколько дней с ними и отдохнуть, так как у них было много прислуги, а у нас дома — только одна. Танюша любила работать и очень много делала в доме сама, чтобы все было свежо и уютно. Кроме того, с помощью прислуги и приходящих иногда помощниц, она заготовляла много продуктов на зиму: кислую капусту бочками, грибы, огурцы соленые и свежепросольные, маринованные; коптила окорока, делала колбасы, варила всевозможные сорта варений и домашние наливки. Вера Павловна с сестрой еще многому научили ее, и они проводили время вместе, занимаясь вышивкой или чем-нибудь другим — весело и не по-пустому.
Вере Павловне было уже 67 лет, но она вскакивала на лихую лошадь, как молодая наездница, по утрам, и объезжала свои владения, давая дельные указания насчет сеяния, покоса и прочего. В ней сочетались: быстрота мышления с незаурядной энергией и необычайной добротой. Она была готова помочь кому-либо в нужде. В имении для рабочих и их семейств была своя больница и школа, где всем детям выдавались горячие обеды, даром. Когда рождались дети — их обслуживал свой доктор и акушерка. Санитарные условия были безукоризненные…
На Рождество готовилась громадная елка для детей рабочих и сама Вера Павловна принимала горячее участие: покупала и раздавала всем подарки — одежду, обувь, а также игрушки и сладости. На Пасху же, всем давались красные яички с гостинцем и перед усадьбой ставились столы со всяким угощением. Все делалось ею и ее сестрой — от сердца. Она была худощава, высокого роста и очень подвижна, а Елизавета Павловна была более плавна в движении, степенна, но обе обладали приветливой манерой и чуткой душой.
Какие интересные вечера мы проводили с ними, когда гостили у них, обсуждая все мои начинания в приходе, как например, устройство русского просветительного кружка для молодежи и прочее. Мы делились с ними всеми нашими планами и получали ценные советы и неизменную поддержку…
Векшни расположены в живописной холмистой мест-ности. Кругом тянулись леса, хвойные и лиственные, меж которых протекает Виндава, на берегу которой, расположен сам городок. Дом наш был против церкви, совсем близко. Св. Сергиевский храм, опоясанный липами, возвышался над Векшнями и довольно крутой спуск вел к реке, через большой погост-парк, где мы любили гулять с матушкой или, сидя под тенистым деревом, любоваться природой, а весенними вечерами, слушать трели соловьев.
Сразу же по приезде, у меня началась кипучая пастырская работа и самое первое — ремонт храма: его заново покрасили, позолотили кресты, провели электрическое освещение, обнесли весь погост новой, на цементных столбах, оградой. Я стал собирать деньги на все эти нужды. Люди щедро отзывались. Наш русский просветительный кружок молодежи развивался быстро и с большим успехом. Из его участников организовали струнный оркестр и с его помощью — библиотеку-читальню. Устраивались еженедельные, регулярные спевки, которые сильно подняли уровень церковного пения, чему помог даровитый регент. Хор молодежи состоял из 20-ти прекрасных голосов.
В общем, церковная жизнь забила ключом. Была составлена, при нашем кружке, любительская труппа; ставились разные пьесы наших классиков; устраивались духовные и светские концерты с балалаечным оркестром. Концерты, устраиваемые молодежью, были костюмированными в русском национальном стиле. Все участвовали, помогая чем могли: молодежь, родители и конечно, мы с матушкой. Приходилось быть режиссерами, гримерами, советниками и по мере сил — вдохновителями наших юных артистов. Будучи воспитаны в старых традициях, вежливости и почтения к старшим, мы хорошо сходились с людьми гораздо старше нас. Будучи жизнерадостными и даже веселыми, мы не подчеркивали, что я являюсь духовным лицом — настоятелем.
Без тени фамильярности, мы дружили с молодежью, доверяя ответственные решения им или их выборным, чем никто не злоупотреблял, ибо каждый считал себя частицей творческого целого и в приходе царило чувство сплоченности, единения и оптимизма…
В выборе книг нам помогали все сведущие — главным образом В.П. Зубова и ее сестра, которые жертвовали значительные средства на расширение библиотеки и читальни, выписывая журналы и газеты, чтобы молодежь имела представление о культурных, экономических и политических событиях в мире, не говоря уже о разнообразной духовной литературе и житии святых, особенно наших русских.
К В.П. Зубовой приезжал иногда из Эстонии, ее трою-родный брат, профессор Корсаков. Он принимал деятельное участие в нашем кружке и делал интересные доклады на разные темы, как например, «Музыка слов и слова музыки». Наш школьный зал вмещал 500 человек, но на наших вечерах не оставалось пустых мест.
Впоследствии я вошел в контакт с известным Рижским музыкальным обществом — «Общество Баян». Председателем его был Владимир Николаевич Княжевский, известный в то время виолончелист, образовавший трио, пользовавшееся очень большим успехом: виолончель, рояль и прекрасное меццо-сопрано Михайлова. Они приезжали к нам и давали чудесные концерты в пользу нашего кружка и наших церковных нужд.
Приход рос и крепчал — мы были, как одна много-численная семья. Почти каждый день, особенно в базарные дни, приезжали крестьянки, чтобы поделиться своими житейскими заботами со своей матушкой, всех принимавшей, дающей советы, доказывая участье помощью в том, или другом. За все это полюбили ее в нашем втором приходе, как и в первом. Мужики же приезжали и советовались во всем со мной. Мы никогда не беспокоились о хлебе насущном. В любой момент мы знали, что все нужное будет у нас и так и было. Каждое воскресенье и праздничный день — церковь была полна. Приход расширялся и появилась необходимость иметь второго священника, в помощники мне. Был назначен о. Виктор Курилович, а через некоторое время и еще другой.
Моя матушка помогала и новым матушкам, в чем могла, но в главном — бедным крестьянкам. Я часто заставал ее за швейной машиной. Она строчила рубашки-распашонки, чепчики и прочее для новорожденных, платья для бедных детей и на все находила время, так что была самым популярным человеком у всех — от мала до велика.
Не забывал нас и наш дорогой Владыка. Перед нашим храмовым праздником, молодежь чистила храм, украшала венками и гирляндами, устраивала арку из цветов для встречи Владыки. Помимо частных посещений, по пути куда-нибудь, он всегда приезжал ко дню св. Сергия Радонежского 5/18 июля.
Бывало, смотрел я, как дружно работали наши девушки и молодые люди — с каким рвением они приготовляли все в церкви к приезду Архипастыря и с какой радостью принимали участие в крестных ходах девушки; летом они были в русских сарафанах, а молодые люди в косоворотках с вышивкой. Не мог я нарадоваться на моих добрых прихожан, особенно на нашу смену, о которой мы думали, как о богобоязненной и светлой молодежи.
После торжественного служения в церкви, в храмовой праздник, Владыка принимал участие в общей трапезе, а потом уходил отдохнуть «на часок». После чашки чая он уезжал в имение, иногда к Нарышкиной, помещице нашего уезда, или к В.П. Зубовой. Вечером, после храмового праздника, в нашем селе «Ферме», в трех верстах от церкви, устраивалось «гуляние», на которое нас с матушкой и детьми всегда приглашали посмотреть на веселящуюся молодежь и народные танцы в селах.
В селе — все по-праздничному. Многие дома украшены зеленью, всюду слышны звонкие, веселые голоса, где-то заливается гармонь… В селе 36 домов, которые тянутся по обе стороны прямой улицы с палисадниками и огородами. По краям огородов, как стражники, горделиво стоят, с ярко-оранжево-желтыми лепестками и как черный бархат сердцевиной, высокие подсолнухи. В палисадниках — мальвы и настурции разных оттенков и кусты с пышными, благоухающими пионами. Вокруг села колосится и переливается волнами золотистая пшеница, как бы соприкасаясь на горизонте с лазурью неба…
А вот и зеленая, просторная лужайка, окруженная венком молодых, кудрявых березок. Начинают собираться в большой круг, зрители. Там несколько скамеек для гостей и два стула для матушки и меня. Пестреют сарафаны девушек. Балалаечный оркестр весь в сборе — белеют косоворотки и только два баяниста в красных рубахах. Староста почтительно ведет нас и усаживает на места (обычно мы приводим других гостей с собой, гостящих в эту пору у нас из Ковно). Начинается программа. С какой осанкой и природной грацией двигаются эти деревенские девушки, исполняя наши народные танцы!
Играет балалаечный оркестр, который также акком-панирует и нашему хору; пение нашего хора вмещает целую гамму чувств — от лихого, бурного веселья, до щемящей сердце, грусти.
Незаметно сменяясь, один другим, проходили годы нашей жизни в Векшне. Главным событием, в начале нашего пребывания там, был переезд моей мамы из Эстонии в Ковно с моим братом Левушкой, который вскоре женился там, а мама, после этого, совсем поселилась у нас. Все это было устроено нашим дорогим и таким заботливым Владыкой. Сперва он перевел Лилю, которая вышла замуж за Ивана Федоровича, регента Соборного Архиерейского хора в Нарве, Эстонии, и они переехали в Ковно с двумя детьми и здесь, в Ковно он был назначен регентом Архиерейского хора.
Затем Владыка выписал из Утян моего брата Николая с женой Олечкой и детьми Арочкой и Гогой. Владыка хотел приблизить брата к собору, как даровитого проповедника и назначил его, вблизи от Ковно, на большой приход — Александровскую Слободу. Мой брат часто читал лекции и доклады на религиозные темы в Ковенском соборе; его лекции и доклады любили и зал был всегда переполнен. Только моя сестра Соня оставалась во Франции.
В 1937 году скончалась Танюшина мама, Мария Авакумовна, на 80-м году жизни; это было тяжелой утратой для нас и особенно для Танюши. Моя же мама, зная как нам всем хотелось иметь ее вблизи, хотя ей и было тяжко расставаться с могилой папы, решилась покинуть Нарву. Годы лишений, пережитые горести и часто непосильная для ее хрупкого здоровья, работа наложили свой суровый отпечаток на ее внешность. В первый момент она показалась мне маленькой, сильно постаревшей и какойто беззащитной… Слезы медленно скатывались по ее щекам, а я обнял ее бережно и нежно и сам не мог удержаться от слез. Танюша стояла поодаль, утирая слезы…
Скромная, чуткая, любящая и любимая мамочка, скоро стала незаменимым членом нашей семьи. Будучи глубоко религиозной и церковницей, она не пропускала служб. То, что Коля и я приняли священство — было великим утешением для нее. Я же был бесконечно рад ее присутствию и возможности уберечь ее от всяких забот и огорчений.
Танюша, с первого же дня, приняла маму в свое сердце и, когда в скорости, скончалась ее мать, моя мама, насколько было возможно, заменила ей ее. Мама помогала ей во всем, как могла, главное — с детьми, которые быстро привязались к своей «новой» бабушке». Мы все жили душа в душу. Казалось, что ничто не могло нарушить нашу светлую жизнь. Но, однажды, — это было в 1938 году, мне позвонили по телефону из Ковно: Внезапно, во цвете лет, скончалась обожаемая жена Коли, Олечка. Это случилось 11-го июля и то был день Ангела матушки Ольги. После литургии, за которой она причащалась, Олечка устраивала чай и угощение всем крестьянским детям и школьникам; в этот день, каждый год, днем и вечером, был прием гостей на дому… Нарезая крендель, она упала около стола и тут же скончалась от разрыва сердца. Брат, обезумевший, схватил свой велосипед и помчался за доктором, так как его телефон был занят. Доктор осмотрел Олечку и констатировал смерть.
Бедный Коля, как он страдал! Олечка была для него всем: женой, сестрой, верной помощницей и вдохновительницей. У Коли, при всех его качествах, был слабый характер и тенденция впадать в крайности, увлекаясь чем-либо и она сдерживала его своим благотворным влиянием и, в трудную минуту, давала мудрые советы. Без нее он бы — просто потерялся…
Провожая останки Олечки на кладбище, плакали все прихожане — так полюбили ее в Утянах. И шли крестьянки, громко причитая — «На кого, ты нас, наша матушка, оставила!».
Смерть Олечки была тяжелым ударом для нас всех. Дети Коли, Арочка и Гога были уже почти взрослые и кончали гимназию. Коля был страшно одинок… На некотором расстоянии от Утян жил знакомый священник, о. Симеон Соколов. У него была единственная дочь, Зоя Семеновна — милая добрая барышня, которая бывала у Олечки, подружилась с ней и, после ее кончины, принимала горячее участие в детях и их отце. Она, как-то понемногу, вошла в жизнь брата, стала хозяйничать и всячески старалась заменить покойную…
Так шли дни за днями и месяц за месяцем. Коля же стал терять энергию и свое духовное горение. Церковная жизнь, пастырский долг и ответственность — потеряли для него прежнее значение… Не прошло и года, после смерти Олечки, как Коля подал заявление Владыке, что снимает с себя сан. Одновременно, он выпустил брошюру «Почему я снял сан». Владыка был так потрясен этим известием, что, как сказал мне о. Евстафий, он плакал.
Со временем Коля женился на Зое, но не принес ей счастья. Он стал пить запоем. Зоя не могла оказать на него влияния и не могла ничего сделать. Через несколько лет она скончалась от рака, а брат Коля, или вернее — его жалкий остов, дотянул до глубокой старости, находясь на иждивении у сердобольной дочери и умер всего несколько лет назад.
Было у нас и радостное событие в тот 1938 год. В день Успения Божией Матери, родился у нас сын, которого нарекли в честь св. преподобного Сергия Радонежского — Сергеем. Сережа был чудный ребенок — спокойный, всегда улыбающийся. Он быстро рос и развивался; в семь месяцев он уже твердо стоял на ножках, а в годик — стал самостоятельно ходить. Он был большой для нас радостью. Леночке тогда было 11, Юрику 13, а Сандику 8 лет. Малыш Сережа — покладистый и смешной, всех забавлял.
«Слет» русских Прибалтийских хоров
В июне 1939 года состоялся слет всех русских При-балтийских хоров в Печерском монастыре, в Эстонии. Он был организован Рижским певческим обществом «Баян». За шесть месяцев до съезда, всем хорам была разослана программа с партитурами церковных песнопений и также русских народных песен.
Каждый хор должен был изучить их и подготовиться к выступлению, если того желал. Намерение устроителей было, чтобы после репетиций, все хоры слились в один объединенный хор в 1.500 человек. Все хористки должны были выступать в русских сарафанах, а хористы — в русских вышитых рубахах.
Певческие торжества в Печорах длились 4 дня. Вы-ступление хоров происходило на паперти Печерского Успенского собора.
Наш Векшнянский церковный хор из 27-ми человек, под моим руководством, отправился поездом, через Ригу в Печерский монастырь. Поездка хоров в назначенный день, в скором поезде Митава—Рига—Нарва, была отлично организована. Из нашей части Литвы были резервированы два вагона второго класса. Наш хор занял места в Мажейках в начале пути. В Митаве присоединились три хора из других литовских церквей. Мы познакомились с хористами и начались оживленные беседы, а потом и пение из репертуара.
Время до Риги пробежало незаметно, всего три часа. На Рижском вокзале уже ждали нас поезда хоров Рижских церквей под водительством председателя общества «Баян», Владимира Князевского и прот. о. Михаила Гривского — хора Рижского Кафедрального собора и несколько других Рижских церквей. Тут, конечно, был хор О-ва «Баян» и несколько хоров церквей Московского Форштата. Все разместились в вагонах, которые были почти все заняты.
Было приятно поговорить с Володей Княжевским и другими хористами из его хора, а также с о. Михаилом, которого я давно знал.
Поезд мчал нас в Нарву, откуда предстояло, нам всем, еще путешествие в Печерский монастырь. Выехали мы из дому рано утром, а в Печоры прибыли только вечером. Там тоже все было прекрасно организовано и нас всех ждал удобный ночлег и обильное угощение в монастырской трапезной: вкуснейший домашний хлеб, квас, свежая озерная рыба, замечательная уха, сыры, сливочное масло, молоко — всего вдоволь на всех.
В Печерском монастыре старинный, замечательный по своей красоте собор и другие церкви былых времен. Вокруг — вековые деревья и длинные, прямые аллеи. Там была необыкновенная тишина; только то тут, то там, перекликались древние часы на колокольнях… И снова тишина. Воздух чистый-пречистый. С полей доносился аромат цветущей гречихи, полевых цветов и свежескошенного сена. Я пошел погулять ночью, когда все спали, а вечером, когда мы приехали, повсюду слышались голоса молодежи.
Не все прибыли — ожидались еще хоры из Ревеля, Нарвы и Пюхтинского монастыря.
Первые два дня прошли в спевках хоров в отдельности и в общности. На второй день была генеральная репетиция, а на третий — долгожданный концерт. Все волновались, так как хотели, чтобы все сошло, как можно лучше.
И вот настал тот незабвенный день! Утро было на редкость прекрасное — безоблачное небо, свежий, ласкающий ветерок… Реют над ступенями храма, флаги, эстонский, латвийский, литовский, финский и русский — трехцветный. Бесконечными кажутся ряды мест для публики перед огромной папертью Успенского Печерского собора, на которой выстраиваются все хоры, образуя один грандиозный хор. Между хорами и зрителями, устроен помост для регентов хора, которым дирижировали на концерте такие знаменитости, как церковный композитор, Архангельский и регенты: Кедров, Афонский и другие… Публика все прибывает, быстро заполняя места. Первые ряды предназначены для почетных гостей: духовных лиц, президента Эстонской республики, Пятса и других власть имущих визитеров.
Все готово. Прибыли: Евсевий, Архиепископ Нарвский, Александр, Митрополит Ревельский и всея Эстонии с их окружением.
Могучее «Испола», подхваченное тысячами голосов пронеслось над всеми присутствующими, и сразу замерло в воздухе. Снова водворилась тишина… С минуты на минуту ждут прибытия президента Пятса. Вот, наконец, и он, окруженный многочисленной свитой. При его появлении грянул Эстонский национальный гимн, а за ним — наш русский «Коль Славен».
Краткая пауза. На помост поднимается президент и произносит приветственную речь Слету русских хоров в Прибалтике. По окончании ее — громовые аплодисменты хоров и всей публики. Президент возвращается на свое место.
Вот, наконец, и начало концерта. Перед нами стройные ряды неподвижных, затаивших дыхание, певчих. Все замерло… На помост неторопливо всходит Архангельский, приветствуемый рукоплесканиями. Вот он взмахнул палочкой — миг молчания, а за ним полилось дивное песнопение (его же композиции) «Блажен муж». Красота напева и его исполнения — величественность, тонкость и мощность, сходящая до пианиссимо и возрастающая до фортиссимо — сковали внимание и затронули самые недра душ зачарованных слушателей и вознесли их к Богу…
Никто не шевелился, пока продолжались все, воистину божественные молитвы и песнопения нашей православной русской церкви.
Когда же, во второй половине, началось исполнение народных песен, то каждая была принята с восторгом. Рукоплесканиям, казалось, не будет конца. Я никогда не видел ничего подобного — такого энтузиазма среди зрителей. Думается мне, что слет русских хоров в Прибалтике, накануне войны, в Печоре, остался навсегда в памяти всех, кто имел счастье быть там, в июне того, чреватого последствиями, 1939 года.
Глава V. Вторая Мировая война и советская оккупация
В начале II мировой войны, СССР возвратил Литве ее древнюю столицу Вильну и, вскоре после этого, Литовское правительство пригласило Владыку Елевферия (митрополита с 1938 г.) обратно на свою кафедру, после 17-летнего отсутствия. Встреча его, на которую я поехал, была триумфальной. Собралось все духовенство из Вильны и многих других городов. Многие изменили ему приняв автокефалию, среди них были близкие и дорогие ему люди. Другие же, сделали это просто, чтобы избежать притеснений, но оставались верными в душе, и он знал об этом.
После встречи на вокзале, где присутствовали высшие власти и почетный караул, Владыку повезли в Духов монастырь, где он жил раньше. За ним устремились туда, все — у кого не чиста была совесть, чтобы испросить себе прощение и не быть в опале, а также все, кто мог из оставшихся верными. Вид у Владыки был совершенно изможденный и я только смог приветствовать его и выпить с ним чашку чая, вспоминая былое, так как главный зал монастыря был полон людей, ожидавших с ним свидеться.
Недолго пришлось Владыке занимать свой исконный и столь ответственный пост… В конце декабря 1940 года, мне позвонил Гриша, сын Владыки, чтобы сообщить о кончине своего отца, от простуды, в Вильне.
Я схватил свой велосипед и помчался на вокзал, чтобы не опоздать на скорый поезд. Только успел оставить свой велосипед у начальника станции и вскочить на уже двигающийся поезд. Когда я прибыл (после пересадки и ожидания в Ковно) в Вильну, и с вокзала, в храм, то попал уже на отпевание, которое совершал Архиепископ Сергий с сонмом духовенства, в переполненном соборе.
Владыка был погребен в Архиерейской усыпальнице в Духовом монастыре… После погребения, Гриша пригласил меня зайти к нему, так как:
— Папа просил меня передать тебе что-то, после своей смерти. Когда я открыл сверток — у меня сжалось сердце. Владыка, заменивший мне отца, оставлял мне три вещи: свой иноческий пояс из оленьей кожи, который он носил со дня пострига, свой белый митрополичий клобук и бриллиантовый крест на нем! Какие другие дары мог он оставить мне на память, как доказательство своей привязанности ко мне!…
Кончина Владыки была одной из двух самых тяжких потерь во всей моей жизни. За одно лишь я несказанно благодарен Господу — Он избавил Владыку от переживания страшных событий, после оккупации Литвы Советами, событий — погубивших несметное число невинных людей.
С оккупацией Литвы кончилась наша мирная жизнь. Советы считали попов «дармоедами», запретили всем носить священническую одежду, очень косо смотрели на службы в церкви и прекратили все платежи духовным лицам. Горько и тягостно было мне одевать светскую одежду и наниматься на работу чинить шоссе. Еще хорошо, что десятником, а не грузчиком тачек. Тем не менее, я продолжал ежедневные службы в церкви.
Когда стали притеснять священников, повелевая им снять сан — мой помощник, о. Виктор, не устоял, сделал это и, как в награду, был произведен в комиссары. Его поступок очень сильно огорчил нас и наших верных прихожан.
Работая на починке дорог, я никогда не знал, — что будет со мной самим? Каждую ночь, в разных местах города, появлялись энкаведисты, делали обыски и арестовывали «неблагонадежных», в особенности весной 1941 г.
Советские воинские части, занимавшие Векшни, не были враждебны и среди них даже было много офицеров и солдат, скорее расположенных к нам. Командир полка, полковник, приходил к нам, тайно, со своей женой, на вечерний чай, проводя время с нами в дружеской беседе и сам был «тайно верующим». Прежде чем как уходить, он посылал моих детей посмотреть — не было ли вблизи патруля и тогда, быстро уходил.
Были случаи, что проходящий мимо нас патруль, забегал к нам на кухню и, увидав образ в столовой с горящей лампадой, сам крестился. Звали его Григорий и он стал частенько заходить к нам и беседовал с моей матушкой.
Однажды он пришел и, не видя матушки, спросил: где она?
— Качает в спальне ребенка — ответил я (это был маленький Сережа). — А можно пройти туда? — спросил он? — Пройди, ответил я и пошел за ним. А он, как вошел — так и остолбенел: матушка, качая, напевала песенку, а в углу, перед большим киотом теплилась лампада. Григорий постоял и вдруг, поспешно вышел из спальни в столовую и разрыдался вслух, закрыв лицо руками.
— Что с тобой Григорий? — спрашиваю я его.
— Ах, отец, все в душе перевернулось. Вспомнил я мать свою. Она также, как и твоя матушка, качала меньших из нас детей и так же молилась перед иконами. А что теперь! Все вырвано, все растоптано! Вот, отец, смотри — лезет за пазуху, а слезы текут по его щекам, выворачивает рубаху и показывает зашитый у него крестик.
Григорий вытер слезы, взял винтовку, послал Сандрика посмотреть за воротами — нет ли кого и сказав — Прости отец, что заплакал, а полегчало — и пошел шагать, патрулировать…
Вот стали НКВД стучаться и к нам ночью. Заставляя быстро одеться, вели меня на допросы, несмотря на то, что я работал на шоссе. Продерживали до раннего утра с допросами и издевательствами, требовали, чтобы я снял сан перед народом, устрашая, что пропадут четверо детей и жена.
Приведу начало таких допросов, которые повторялись почти слово в слово, каждую ночь, иногда на час, а иногда и до утра. Привожу только суть:
«Каждый советский гражданин, любящий свою родину, должен следовать заветам товарища Ленина — «религия опиум для народа» — если вы любите родину, вы должны это доказать!».
— Чем? — спрашиваю я.
— Тем, что вы, так называемый служитель культа, обманываете народ… Таких, у нас называют дармоедами, трутнями, таких сметают, как не нужные элементы! А, если хотите быть передовым гражданином — должны отречься от этого опиума, открыто перед всеми! Тогда вы получите доверие советской власти и сможете иметь ответственную работу, как комиссар.
— В Сталинской конституции — отвечаю я, сказано: «свобода совести». — Какую я мог бы иметь ответственную работу, по совести, если б я поступил против моей совести?
— Чем же?
— А тем, что я отрекся бы перед народом от Бога, — народу, которому я проповедовал о Боге. В таком случае, я был бы преступником перед своей паствой и Богом. Я думаю, что такому человеку нельзя было бы доверять. Я не изменю своей вере. Она не мешает мне честно работать сейчас, десятником.
— Вы прикрываетесь этой работой. Служители культа — попы — не имеют права ни на какую работу в Советском Союзе.
— Как же понимать свободу совести в конституции и равенство для всех?
— Конституция дана трудящемуся народу, а кто ее нарушает — враг народа, как вы.
— Я не считаю себя врагом народа, потому что я, по совести верю в Бога, а не наоборот.
Следователь хохочет при этом. — Ха-ха-ха! А где же ваш бог? Покажите ка нам его!
— Он в моей душе. Вы не можете Его познать. Он — в добре, в добрых делах, в любви к ближнему. Только чистые сердцем могут видеть Бога… Вы можете делать со мной, что хотите, но против своей совести я не пойду.
Снова громкий хохот… Главный допросчик с злорадством впивается в меня глазами, с папироской в зубах. Медленным, раздельным тоном он протягивает. — Можете идти. Узнаете скоро… Кто ваш бог и как он вам поможет.
Вот в каком роде был каждый допрос. Когда я выходил из накуренной комнаты, снаружи уже всходила заря. Голова кружилась от бессонной ночи. Спешил домой, где также не спала, в тревоге, моя Танюша. Скорее бы ее обнять, успокоить, — а тут надо уже выходить на работу… Господи, укрепи меня!
Дети еще спали; подходил к кроватке сладко спавшего Сережи, проглатывал что-нибудь, наскоро и, обняв Танюшу, спешил на работу.
Работа была ответственная — надо сосредоточиться, а ноет голова и мысли врасплох. За малейшее упущение с меня взыщется гораздо больше, чем с кого либо, да еще припишут саботаж!
В каждую пятницу — прием сдельных и аккордных работ: выемки земли, доставки гравия, в лесу штабелей, головок камня для мощения. Их вырабатывали из огромных камней в лесу. Сперва их взрывали динамитом, раскалывали на части и эти части дробились на головки для мощения улиц и дорог. Их складывали в штабели 1-2 кубических метра, которые принимались мною от каждой артели рабочих, большей частью крестьян — специалистов по этой работе. Все вымерялось, подсчитывалось, выводилось в табеле аккордных и сделанных работ.
Обыкновенно приходилось приготовлять и табель для выплаты, просиживать до поздней ночи (если не забирали на допрос), подсчитывать, не один, а несколько раз, чтобы не дай Бог, не сделать какой-нибудь ошибки, не обидеть кого-либо из рабочих.
По утрам, в субботу, надо было ехать с табелем в «Исполком» и получить нужную сумму по табелю, для выплаты, которая начиналась с полдня, так как по субботам мы работали до полудня.
Должен подчеркнуть, что рабочие артели относились ко мне дружелюбно, кроме приезжавшего иногда комиссара. Он протягивал руку всем рабочим, здороваясь с ними — мне же не подавал руки, о чем я не жалел, но он всегда старался меня чем-нибудь уязвить и найти какое-нибудь мелочное упущение, вроде того, что тачка стоит не на месте.
Случилось у нас одно происшествие, вовремя выплаты рабочим, которое мне не забыть никогда… Как обычно, поехал я на велосипеде в Мажейки, в Исполком с табелем, приготовленным для выплаты, предъявив табель, который обычно проверялся заведующим финансовым отделом. Тот вернул мне табель с поставленной печатью и соответствующей суммой денег в пачках по 100, 200 и 500 рублей. Не помню точно, сколько было пачек с мелочью по 1 рублю и по 5 и 10 рублей.
Начал я выплату и пригласил помощника, офицера в отставке И.И. Нугайтиса. Он был высокого роста и зычным голосом вызывал рабочих. Выплата шла на дворе нашего церковного дома, так как мы работали вблизи. Он вызывал рабочих по табелю, а я выдавал им деньги. Все шло по порядку, в начале; под конец — смотрю — в портфеле из пачек денег осталось только две по 100 рублей. Вынимаю их, кладу на стол, толкаю в бок Ивана Ивановича, говорю ему: «Кажется денег не хватает», а он мне — «Не может быть, вам так кажется, ибо новые пачки» и продолжает вызывать. Я перелистываю табель и о ужас! — еще целый лист на 1.000 рублей, которых не хватает… От волнения кровь прилила к голове и на лбу, чувствую выступил холодный пот. Говорю Ивану Ивановичу. — Надо приостановить выплату! «Как?» — говорит, а сам побледнел.
— Вот видите — показываю ему. Он встал и громким своим голосом объявляет: «Товарищи, вышло недоразумение. Мы должны приостановить выплату — не хватает денег». Загудели тут рабочие… Разошлись недовольные, а у меня, так прямо волосы на голове, кажется, дыбом встали!
Начинаю я соображать. Как же это могло случиться? Неужели потерял эту пачку, едучи на велосипеде?.. Докажи-ка теперь! Исполком припишет похищение, саботаж, Бог знает, что еще! — Неминуемый арест… Прихожу домой, рассказываю матушке. Она в слезах… Сажусь проверять табель — все мутится в голове.
Были добрые друзья, как начальник полиции, еще не смещенный Советами и многие другие. Он еще работал, как прежде. Взял он табель с собой, приняв участие, чтобы проверить, видя мое состояние.
Было уже после полночи и мы сидели в ожидании, что явятся из коммунистической партии меня арестовать. Начальника же полиции нет как нет, как нет никого и из НКВД, где тоже, наверно, уже знают… Пробило три уже, утром — служба, воскресенье, а мы сидим, как затравленные.
— Скоро пора служить! — говорю Танюше, а она мне:
— Как ты будешь служить в таком состоянии?
— А может и не придется — арестуют до того.
— Зачем ты взял эту работу? — сквозь слезы говорит Танюша.
— Как зачем? — ведь надо было на что-то жить! Церковь обеднела, все отобрано. По их понятию, я враг народа — так с меня взыщется сторицей — и продолжаю — ведь вот, о. Виктор снял сан, может этим и спас семью. Спокоен теперь, стал комиссаром, а мы с тобой — обреченные. И что будет, если меня не станет?.. Ты, детки?
Тут Танюша встала, подошла ко мне, обняла и сказала. — А я, верю, что Господь не оставит… Вдруг раздался сильный стук. Я перекрестился и мурашки пробежали по всему телу. Выхожу в переднюю и спрашиваю. — Кто? — Свои, отвечает бодрый голос. Открываю — передо мной начальник полиции. Боюсь его спросить, но вижу его улыбку. Поспешно впускаю его и провожу в столовую.
— Ну что? — вопрошаю его.
— Все вы потеряли голову — говорит, — вот, батюшка, ваш табель, проверенный мной и еще, для верности, проверял наш бухгалтер. Совершенно ясно — это ошибка Исполкома — пропущен лист или подсчет. Вот вам и ваша пачка в 1.000 рублей! Я бросился к нему и обнял милого нашего начальника полиции.
Теперь, не теряя времени, надо ехать в Исполком — предъявить табель и дополнить недочет…
Просидев с нами еще немного, так как было уже 5 часов утра, начальник ушел довольный и ласково простился с нами.
Подготовив свой велосипед к дороге, приняв работу и проверив рабочих, я заявил им, что еду получить недостающие деньги и что те, кто не получили должное им — получат после работы…
Ехал я радостный, словно оправданный. Дорога — 15 верст лесом, птички щебетали. На опушках виднелись зеленые лужайки, поросшие ореховыми кустами. Дорога вилась то вверх, то вниз. Надо было сильно налегать на педали. Катил, вдыхая свежий утренний воздух, полный надежды, вспоминая Танюшины слова.
Вот и Мажейки. Подъезжаю к Исполкому. Вхожу бодро, с полной уверенностью в своей правоте и предъявляю табель с недочетом. Комиссар-бухгалтер недружелюбно взглянул на меня. Говорю — ошибка… недоимка. Он опять взглянул на меня и удалился, сказав — иду проверить. Сижу и жду, как на иголках… Но вот, он появляется — снова молча и, вижу, перелистывая страницы, держит в руках деньги. Затем он выдает их мне и берет с меня расписку. Ни слова больше не проронил… Прощайте, спасибо — говорю и покатил обратно в Векшни.
Моя рабочая артель радостно встретила меня и в их обращении со мной, чувствовалась искренность. Они не были еще пропитаны советской пропагандой.
По окончании работ, рабочим не получившим свои деньги, вовремя, было уплачено и все разошлись с бла-годарностью и удовлетворением.
Так однообразно проходили дни за днем, но сердце часто сжималось при мысли — что же дальше? Единственным утешением было служение в церкви, но и его, порой, сводило на нет все уменьшающееся число молящихся, особенно молодежи, которую распропагандировали Советы, призывая их войти в ряды комсомольцев и комсомолок. Очень печально было видеть такую быструю перемену в тех, кто еще совсем недавно поддерживал свою церковь.
Опустела наша библиотека-читальня, которую создавал я, с помощью других, годами. Ее реквизировали советские власти для своих надобностей. Не было больше спевок, ни репетиций нашего струнного оркестра. Все, все переменилось и усилия многих лет пропали — как не бывали. С болью смотрел я на молодежь, но сказать ничего не смел. Бывшие помощники, и казалось друзья, отстранились, стали чуждыми, но, правда, не все. С невероятной быстротой менялись люди и все подлинное, что образовывало мировоззрение, давало смысл и цель в жизни — по заветам Христовым — исчезало или пряталось в недо-сягаемую глубину…
Даже я сам, с обстриженными волосами, в куртке и штанах, заправленных в высокие сапоги, шагал с записной книжкой и меркой, — был сам на себя не похож. Некоторые из моих бывших прихожан с прицепленными красными ленточками, приветствовали меня словами: «Ну что, батюшка, работать надо — прошло то время!». Такие приветствия резали меня, как ножом… Ни на что нельзя было отвечать, а то донос и, тут же — расправа!
Дома, приходя усталый, тоже никогда не знал — пройдет ли ночь спокойно — или потащат к допросу. Спал, как заяц — прислушиваясь к каждому шороху, а как услышишь звук мотора на улице — так поневоле вздрагиваешь; если же проедет мимо — с одной стороны камень отваливает от сердца, а с другой — стыдно становится, ведь другого ожидает беда!..
В мае 1941 года, новые тревоги и бессонные ночи. Начались вывозы «неблагонадежных» в Сибирь. Их забирали в полночь или позже, чтобы не слишком привлекать внимание других жителей. Так приехали к нашему соседу, доктору с его семьей… Слышим говор, прерываемый плачем и стонами — значит грузят всю семью… Сидели и мы на узлах, в ожидании нашего череда…
Сестра Веры Павловны Зубовой скончалась перед войной. Осиротевшая Вера Павловна продолжала вести все, что оставалось от хозяйства. Она была одной из первых, попавших в списки на выселение, и очутилась в тесно набитом людьми, товарном вагоне, где не было места ни сесть, ни лечь и так — без еды и воды вывозили «неблагонадежных». в неизвестном направлении, тысячами. Много лет спустя, я узнал от одной, вернувшейся из лагеря в Сибири и переписывавшейся с друзьями за границей, что Вера Павловна приняла яд в самом начале пути.
Не мне винить ее. Мир светлой ее душе!
Каждый день составлялись новые эшелоны и по ночам происходили вывозы. Донеслись до нас сведения, что очередь за нами. Куда бежать?.. Ждали и молились. И вот, вдруг тревога в советских учреждениях и спешная погрузка Исполкома. Ничего не понять. В воскресенье служу. Днем, вижу, что все работники совучреждений уезжают. Думаю — что же неладно? И вдруг, узнаю, что война! Гитлер объявил войну Советскому Союзу — только что услышали это известие по радио. Немцы уже перешли границы СССР.
Осеняю себя крестом. Неужели пришло освобождение от советского ига? В нашем городке больше нет никакой, никакой власти… Местное население организует самозащиту из складов оружия, оставленного советскими властями. Раздаются винтовки и патроны всем могущим носить оружие и пользоваться им. Организуется комитет самоохраны из молодых людей. Из бывших военных Литовской армии составляются своя охрана-полиция; назначаются дневные и ночные дежурства — патрулирование по городу. У каждого патруля белая повязка на левой руке.
На душе стало немного спокойнее — хоть какая-то власть и охрана всем жителям. Комитетом возвращаются все радио-приемники, реквизированные советскими властями, все бросавшими в панике. У здания полиции, теперь «Комитет самоохраны», толпится народ и туда впускают по несколько человек, опознающих свои аппараты. Все спешат получить их, чтобы слушать — что происходит в столице, Ковно и так же на фронте боевых действий.
Проходя по улицам, слышишь, чуть ли не из каждого дома, последние новости, через растворенные настежь окна. Все мы слушали сведения, которые руководили решениями нашего «Комитета». Все были в возбужденном состоянии, многие радовались, но не было никакой уверенности ни в чем. Жили со дня на день в надежде, что, чтобы не случилось — хуже, чем при Советах быть не могло. Вскоре узнали по радио, что в Каунасе образовано Литовское правительство и вся столица разукрашена национальными флагами и во всех радиоприемниках звучал литовский национальный гимн. У нас, на площади, состоялась церемония поднятия литовского флага под пение собравшихся литовцев. У многих были слезы на глазах.
Все это очень подняло дух в городе, появились всюду флаги и настроение большинства стало почти торжествующим. Все поздравляли друг друга с освобождением от ненавистной власти. Мы тоже радовались с моей матушкой, но в душе у меня было предчувствие новых бед…
Тем не менее, можно было лечь спать спокойно, не прислушиваясь к бою часов и шуму моторов. Тревожило меня здоровье Танюши, она плохо выглядела слишком много пережив, когда меня уводили на допросы, но бодрилась и на мои вопросы отвечала только, что немного переутомилась.
На колокольне нашей и также католической церкви, были установлены наблюдательные пункты с дежурствами, так как оттуда было лучше всего видно вдаль и передать всем в случае появления каких-либо войск. Все было тихо несколько дней, — но вот настало утро, когда только начинало рассветать, когда мы услышали ружейную стрельбу. Нельзя было понять, кто стрелял и откуда, как будто у берега Венты (Виндавы). Я направился туда, вижу — бегут патрули, машут руками. Я остановил их, спрашиваю о причине, они отвечают, что отряд — часть разбитой советской армии, был замечен на другом берегу реки и встречен выстрелами наших патрулей.
Отряд поднял белый флаг и сдался. В нем было 40 человек. Солдаты были голодны, измучены, и потому, сдались. Их поместили в бараках, построенных литовскими рабочими при оккупации. Комитет быстро сделал сбор продуктов и солдат накормили… Через несколько дней их разместили по хуторам, как работников. Им посчастливилось не попасть в плен к немцам и не числиться в списках.
Прошло еще два, три дня… Было тихое утро. Ни одного облачка на небе. Все предвещало чудный день. Против нашего дома возвышался большой трехэтажный дом настоятеля католического костела, каноника Новицкого, с которым я встретился в то утро и на скамейке, перед его домом, мирно беседовал о происходящем. Каноник Новицкий был осанистый, красивый старик с приветливым лицом, величавой походкой; высоко образованный, умный и очень интересный и занимательный собеседник. Он совсем не был шовинистом, как большинство ксендзов, и у нас с ним были дружеские отношения за десять с лишним истекших лет.
Танюши с детьми не было в Векшнях в тот день. Я отправил их к знакомым в их усадьбу на всякий, непред-виденный случай, зная, что им будет лучше в деревне, чем в городе, пока не выяснится положение.
В полдень, наш дозор на колокольнях, заметил под-нявшуюся на шоссе пыль, а затем — приближающиеся военные грузовики с воинскими частями. Раздались крики: Немцы! Немцы!». Но, увы, — въезжала в Векшни вооруженная часть войска НКВД. Спрыгнув с грузовиков, они стали срывать флаги, хватать людей и ставить их «к стенке», расстреливая кого попало. Так сразу убили сторожа гимназии, и вместо литовского флага повесили красный над входом в гимназию… Ворвавшись в дом каноника Новицкого, схватили его и, подгоняя штыками, повели к кладбищу, где зверски расправились с ним, заколов его штыками и бросили в канаву. Было много других жертв. И на все это потребовалось не более двух часов.
Бог спас меня. Совсем случайно, я решил после беседы с каноником, пойти в наше село за свежим хлебом — три версты от города. Не подозревая ничего, я возвращался, нагруженный буханками. Вдруг, вижу, бежит какая-то женщина навстречу мне. Смотрю — это наша соседка и машет руками. А она, добежав до меня и задыхаясь, рассказывает, что случилось: «Нашего закололи, вас ищут; все в доме перевернули, искали в амбарах и допытывались у меня… А я, зная, что вы пошли на ферму, побежала вас предупредить… Прячьтесь, батюшка — где угодно, только не возвращайтесь» и разрыдалась…
— Спасибо, спасибо тебе! — было все, что я мог сказать — так велик был шок. Бедный мученик! подумал я, содрогаясь от мысли, что та же участь, чудом миновала меня.
Куда идти? К матушке с детьми — опасно; в город — безумно. И я брел по тропинкам, среди полей, удаляясь от Векшней и добрел до озера, обросшего высокими камышами. Все было безмолвно здесь, кроме всплесков воды да криков диких уток. Мирно заходило солнце и трудно было поверить, что близко произошли, и быть может, еще происходят такие ужасы…
Пробираясь среди камышей, я нашел подходящее, укрытое место, устроил себе постель в самой гуще и вытянулся, глядя на темнеющее небо — слушая кваканье лягушек, треск кузнечиков и ускоренное биение своего сердца. Так я провел ночь, благодаря Бога за избавление.
Утром, я все-же, решил пойти к Танюше. Дул ветерок. Вокруг, отходя от озера, — ни души, только поля да леса и вспомнилось мне из «Иоанна Дамаскина» — «Благословляю вас леса, долины, нивы, горы, воды — благословляю я свободу и голубые небеса…». Все было, кроме свободы. Так шел я долго, задавая себе вопрос: отчего так прекрасен мир Божий и зачем такие жестокие есть, в этом мире, люди? Ответа я не нашел и положился во всем на волю Божию.
Завидев издали усадьбу, вышел на дорогу и направился прямо к дому, ускоряя шаги, чтобы поскорее узнать — в целости ли все?
И вот, вижу, — бегут навстречу мне детки мои, кричат: «Папа, папа!», а за ними Танюша; видно все поджидали меня. Но на лице Танюши тревога. Спрашивает — как все было? Рассказываю ей, а она плачет: «Мы — говорит — должны сразу уезжать отсюда, так как здесь коммунисты могут предать тебя и нас, — тем, кто учинили террор в Векшнях».
Пока мы разговаривали, подошла к нам хозяйка дома, чтобы сказать, что позвонили из Векшней и сообщили, что части НКВД уехали в тот же день и больше не возвращались. Она советовала нам остаться у нее и приглашала от всего доброго сердца, но мы не хотели ничем рисковать, чтобы наше присутствие ей не повредило. В тот же день, усадив мою матушку и детей в тележку, повез их обратно домой, в Векшни.
Невдалеке от нашего дома нас встретила наша «полиция» из добровольцев, по охране города. Они очень почтительно приветствовали нас и сопровождали до нашего дома. «Все спокойно теперь» — уверяли они нас. Сразу, по прибытии, я поспешил в храм; войдя в алтарь, припав ко св. Престолу, со слезами молился, благодаря Господа за Его милосердие, чудо-избавления нас от насильственной смерти. Это было в июне, когда началось наступление немцев.
Немецкая оккупация
В июне 1941-го года немецкие войска заняли Литву. Векшни находились в стороне от главных шоссейных дорог и в начале, после оккупации Ковно и других узловых городов, — все было тихо у нас. Немцы не появлялись, хотя мы знали из газет, что находимся под их властью.
Реакция на вторжение немцев в Прибалтику, и в част-ности в Литву, была троякого рода. Большинство русских хуторян и литовских фермеров, испытав на себе советскую власть, были уверены, что как бы то ни было, под немцами не будет ни коллективизации, ни вывозов и, поэтому под ними может быть только лучше, если уж невозможно сохранить независимость Литвы.
Горожане и верующие люди радовались прибытию немцев, веря в их гуманность и образцовую дисциплину, и главное потому, что немцы не были безбожниками, но поощряли развитие религиозности и не разоряли, а охраняли церкви. Боялось и с тревогой ожидало прихода немцев — наше многочисленное еврейское население. Отношение Гитлера и его сотрудников к евреям и гонения на них в Польше, после ее захвата, не были секретом. Наши евреи, среди которых у нас было много друзей, знали это, но старались убедить себя, что происшедшее в Польше не могло повториться в Литве. Мы были того же мнения, и они жили этой надеждой.
Когда первый эшелон немцев вступил, или вернее, приехал на велосипедах в Векшни, немцев встретили с цветами, пивом и устроили им, почти что овацию. Поведение победителей было безукоризненное — расплачивались и благодарили за все, как «по-настоящему воспитанные люди».
Так продолжалось недолго — только до появления гитлеровских «опричников» — ЭС ЭС. Они открыли сеть комендатур по всей стране, имея отделение и у нас и стало явно, что верховная власть принадлежит им… Началось с гонения на евреев. Всем евреям было велено заре-гистрироваться в комендатуре, где им выдали опознавательные знаки, которые они должны были носить на себе, поверх одежды. Им было велено держать ставни их домов закрытыми день и ночь и не выезжать с их места жительства.
Многие люди стали опасаться дружить с евреями — открыто, по крайней мере. Затем начались вывозы евреев в неизвестном направлении. То было повторение ига энкаведистов. Некоторых вывозили, других просто забирали ночью и расстреливали в лесу, откуда доносилась стрельба из пулеметов. Происходили душераздирающие сцены на вокзале, где на запасных путях, в переполненных вагонах, ждали жертвы, предназначенные на истребление. Одних ждало истребление медленное — на работах в лагерях, других быстрое — в газовых печах.
Не все боялись показать свое расположение к евреям. Моя матушка и некоторые другие женщины ходили на вокзал, нагруженные хлебом и, главное — водой, так как люди страдали особенно от жажды, находясь в духоте. Они убеждали охранников или давали им вознаграждение, чтобы им разрешили подойти к решеткам и отдать приносимое, как делали это и вовремя насильственных вывозах при Советах. Одни разрешали, другие прогоняли…
Такие крохи едва ли могли многим помочь таким скоплениям людей, но это, все же — была большая моральная помощь!
Эсэсовцы занимали главные посты, но их не хватало на всю администрацию и им приходилось пользоваться литовскими «шаулистами» (национальной гвардией) для управления и выполнения их приказов.
Советские власти покинули Векшни так спешно, в панике, что оставили многие секретные документы, среди них — списки доносчиков, по информации которых, тысячи людей были вывезены, как «нежелательный элемент».
Шаулисты имели доступ к таким спискам и не скрывали, кто в них находится. И вот, к нашему великому огорчению, оказалось, что о. Виктор, ставший комиссаром, после того, как он снял сан, стал одним из доносчиков, а также и его матушка. Эсэсовцы, считая всех, кто был за советскую власть, своими врагами, не препятствовали шаулистам и родственникам пострадавших, мстить этим доносчикам — как им вздумается.
Когда у нас воцарились немцы, мой бывший помощник, о. Виктор Мажейка, снова одел рясу, и, хотя, не служил ни в какой церкви, а заведовал большим складом, уверял всех, что снял сан только, чтобы спасти семью и никогда, ни в чем не помогал Советам. Списки доказывали обратное. Группа шаулистов явилась к нему на работу и, тыкая ему в лицо копией списка вывезенных, с его собственноручной подписью, тут же прикончила его.
Они не удовлетворились тем, но отправились на дом, где была его жена с двумя детьми. Она не подозревала о цели их прихода и о случившемся с ее мужем, всего за пол часа до того и приветствовала их, как ни в чем не бывало, даже предложила им чашку чая или прохладительный напиток. С ней была одна моя прихожанка, которая рассказала нам все. Ее малолетние дети были тут-же.
Шаулисты, вместо ответа, сунули ей под нос список, как и ее мужу, сказав, что пришли расправиться с ней. Она страшно побледнела и на коленях стала умолять о пощаде. Когда ей приказали встать — она не двинулась с места. Тогда, один из шаулистов подошел к ней, схватив за волосы, поволок ее из комнаты. Она дико кричала, прося пощады ради детей. «Ты не думала о детях тех, на кого доносила!» — закричал на нее кто-то другой. Раздался сильный удар прикладом, затем выстрел и все смолкло…
Моя прихожанка схватила обоих детей и побежала к моей матушке. Никаких родных у них, кроме родителей в Векшнях, не было, но нашли адрес родителей жены о. Виктора, в деревне, где-то под Ковно. Моя матушка приютила их на несколько дней. Дети — мальчик и девочка, не понимали, что случилось и все плакали, призывая свою мать… Мне пришлось везти их одному. Танюша не могла отлучиться в довольно далекое путешествие. Как я не уговаривал их и не совал в рот леденцы — малыши были безутешны…
Бабушка и дедушка, едва сводившие концы с концами, и с виду хворые, совсем не обрадовались своим внучатам. Мне было очень жаль оставлять их, как бы «умывая руки», но что другое я мог сделать, обремененный все увеличивающейся паствой и своими четырьмя детьми!.. Как трудно примириться с фактом, что часто в жизни, невинные дети должны расплачиваться за грехи породивших их!
Одновременно с вывозами евреев, начались ввозы к нам русских — советских граждан из Новгорода и областей к нему примыкающих. Через некоторое время у нас прибавилось к нашим еще до трех тысяч прихожан, среди них семь священников, которые были назначены приписными — под моим руководством.
Никогда еще я не был так занят и, буквально, завален пастырской работой. Вдохновляло и давало новые силы, сознание, что многие из новоприезжих, стосковавшиеся без церкви и возможности исповедовать свою веру, были счастливы обрести потерянное и не пропускали служб; они делали все возможное, чтобы помочь нам, священникам, в нашей пастырской деятельности. Их пламенные молитвы влияли больше, чем всякие убеждения на тех, кто отошел от своей веры или стал тепло-хладным, ходя в церковь по привычке.
Я больше не служил на дорогах, а отдался полностью церковному служению. Многие из отошедшей молодежи возвращались в церковь. Я проводил много времени в разъездах, упрашивая прихожан приютить своих сородичей и ходатайствовал за них перед немецкими властями. Надо было организовать медицинскую помощь больным, находить помещения, расширять школы, открывать новые и поддерживать дух милосердия не только на словах, но явить помощь стольким обездоленным из Советского Союза…
Немецкие власти не преследовали вероисповедания, кроме иудейского и жестоко, бесчеловечно притесняли евреев, но из двух, еще доминирующих вероисповеданий — католичества и православия, скорее оказывали предпочтение первому. Позже, евреев и русских военнопленных нацисты, не считали за людей…
В скорости ко мне приехал, в страшном волнении, староста нашего приписного храма, св. благоверного князя Александра Невского, построенного в 1905 году, в Шкудах, с известием, что ксендз велел своим прихожанам убрать все иконы и иконостас, также — всю утварь и превратить наш храм в католический костел. Никакие увещевания не помогли. Я сел на велосипед и гнал его «во всю ивановскую», пока не добрался до Шкуд — около 40 верст от Векшней. Снаружи, наш храм выглядел как прежде, но что творилось на площади и внутри!
Снесенный и разрозненный иконостас, иконы, утварь, облачения валялись перед папертью на площади, а остальное на полу в церкви. Стоя на подвижной лестнице, человек снимал иконы, висевшие слишком высоко и бросал их другому, тот — третьему, который сваливал их в кучу. Около дюжины ярых католиков, под предводительством молодого ксендза, оскверняли и разоряли наш намоленный храм. Ксендз орудовал в алтаре, сдирая покров со святого престола. Он не заметил, как я подошел — всюду стучали и громко говорили, не стесняясь.
— Как вы смеете входить и кощунствовать в нашем храме! — сказал я, как можно спокойнее, но сердце билось, как молот и руки чесались, чтобы проучить фанатика, забывшего заповеди Христовы.
— Это больше не ваш, а наш храм — ответил ксендз, рассматривая меня, как будто я был какой-нибудь червяк, а не настоятель объединенных приходов, каждый со своим храмом, из которых данный — названный в честь моего небесного покровителя, св. князя Александра Невского, был для меня особенно дорогим.
— Как вы смеете говорить, что это ваш храм! Он — наш, с тех пор, как был построен…
— Но его бывший настоятель, о. Виктор Мажейка, снял сан и уже расстрелян… Здесь нет другого священника. Наш храм мал для нас всех, а ваш будет нам — как раз. Не мешайте нам работать и убирайтесь, пока мои прихожане вас не выставили! — и он отвернулся и продолжал свой разгром.
Я выбежал на площадь, трясясь от негодования. Вижу, — среди торжествующих католиков, тут и там, стоят наши прихожане. Стоят и смотрят с грустью, но ничего не предпринимают. Один, два подходят ко мне и говорят: «Что ж поделаешь, отец! Они в силе; их много, нас мало. Чуть начнем сопротивляться — так их шаулисты просто пристрелят нас, да и вас тоже».
— А святыни наши как же? — сдаетесь, значит?
— Что ж, не впервые, отец!
— А я — это так не оставлю! И я помчался в немецкую комендатуру. Там сказал, что хочу видеть коменданта и никого другого.
Был я в рясе и так разгневан, что обычный страх, как рукой сняло! Привели меня к немцу… Сидит себе человек, лет около 35-ти, белобрысый, голубоглазый — типичный немец, — а что у него на душе — один Бог знает! Указал мне на сидение. Так вот, думаю, с ним надо на его же языке говорить, благо помнил еще кое-что, с тех пор, как жил у тетушек, где говорили только по-немецки.
Объяснил ему все, как случилось, сказал — могу до-ставить все доказательства. Видно все же затронул какую-то струнку в нем. Пошел он со мной на площадь, совсем недалеко — посмотрел, зашел в храм, вышел — процедил сквозь зубы: «Безобразие» и тут же велел вызвать ксендза и приказал водворить все на место.
Ксендз, и его соучастники, присмирели — видно ис-пугались начальства. Мне же комендант говорит: «Вот я разрешил вашу проблему мирным способом. Каждому — то, что ему принадлежит. Мы не большевики! Вы удов-летворены?». — Я поклонился, и он пошел обратно, а я, попрощавшись со старостой и другими, сел на мой велосипед, радуясь, что спас наш храм, и покатил домой.
Мне и в голову не приходило, что ксендз может ослу-шаться такого, всеуслышанного приказа, и я занялся другими делами, которых была масса… Прошло две, три недели и вдруг мне звонит староста и передает, что того коменданта перевели в другое место, после моего приезда, а наша церковь — уже костел, где служат католики и многие из них шаулисты. Русские хуторяне боялись протестовать, да и не хотели огорчать меня, а где будут праздновать день храмового праздника 12-го сентября (по нов. ст.) — сами не знали.
Тут вскипел я — одурачили, значит! Ехать в Шкуды — нет смысла, а так оставить тоже нельзя. Собрал я все документы, (все, что касалось того храма), сделал копии с них и, посоветовавшись с Танюшей, решил поехать в самое главное управление всей страны в «Гибиц», в Ковно. До отъезда отслужил молебен св. благоверному кн. Александру Невскому, прося его святых молитв и сказал себе — «Не в силе Бог, а в правде» и уехал успокоенный.
Не стану пускаться в подробности о том, что Архи-епископа, вообще в Ковне не было; члены Епархиального Совета были в разных местах (а те, кто были в Ковно, боялись даже давать совет); о том, как я ждал часами в Главном военном штабе и, в конце концов, все же попал к верховному правителю — генералу, благо мой небесный покровитель — наверно вняв молитве меня грешного, устроил мне аудиенцию с ним.
Генерал был с сединой — лет 50-ти не меньше. Принял он меня учтиво и, видя, что я волновался, даже предложил сигару. Он попросил меня рассказать все как было, от начала до конца, что я и сделал не утаив ничего, а когда кончил, положил все документы на его письменный стол и сказал ему: «Мой отец был, в течение многих лет судьей и председателем Окружного Суда, до революции, здесь в Ковно. Он был олицетворением гуманности и чести. Он научил нас, своих детей — никогда не лгать… Я полагаюсь на ваше чувство правосудия, генерал и благодарю вас за то, что вы приняли и выслушали меня, какой бы ни был исход, этого я не забуду».
— Я ничего не могу вам обещать, в данный момент — ответил он поднимаясь, — но я назначу комиссию из честных людей (он подчеркнул слово «честных», с намеком на улыбку).
— Они вынесут свое решение и, как только мне будет доставлен их отчет, я уведомлю вас. Пожалуйста, возьмите с собой эту анкету, заполните ее в приемной, и передайте с вашими документами моему адъютанту — он перешлет куда надо. Генерал взял конверт, написал что-то на нем и протянул мне — положите все это в конверт. — А, теперь, извините — занят. Он встал… Аудиенция кончилась.
Приблизительно через две недели я получил копию решения комиссии. Все было по пунктам:
1. Храм, принадлежащий русской православной церкви в Шкудах, должен быть возвращен своим законным владельцам — русским.
2. Все должно быть в полном порядке, как было до нападения.
3. Все предметы должны быть возвращены — как они состоят в церковной описи.
4. Представитель от Комиссии будет присутствовать при сдаче всего церковного имущества и так же официальный представитель от русской и литовской церкви, которые должны подписаться после сдачи — в том случае, что вышеуказанные пункты выполнены.
5. Храм должен быть возвращен не позже 1 сентября.
Заметка: Нарушение вышеуказанных пунктов или пункта будет считаться нарушением закона и будет считаться нарушением закона и будет караться по соответствующей категории.
Подпись
П.С. Оригинал этого приказа послан католическому священнику в Шкуды.
Как мы все обрадовались, получив этот приказ!
Какая пропасть была по отношению ко всем в Литве, между Вермахтом, к которому явно принадлежал главно-командующий, и эсэсовцами — гитлеровскими комиссарами, не лучше советских, создавшие такую страшную репутацию всем немцам своим садизмом и полнейшим произволом!
12-го сентября мы праздновали наш храмовой праздник св. благ. кн. Александра Невского. Никогда еще не было такого стечения народа. Стояли на паперти и даже на площади. В конце литургии был молебен и все мы, коленопреклонно, молились нашему небесному покровителю, многие слезно, благодаря его за возвращение храма.
За мое участие в этом Торжестве Православия, Епар-хиальный Совет (узнавший о случившемся) наградил меня золотым крестом.
Явление святых мощей
Особое внимание в Векшнях обращал на себя бело-каменный храм наш в честь преподобного Сергия Радо-нежского, Чудотворца, построенный в 1864 году. Он рас-положен на холме над рекой и стоял в венке многолетних лип на обширном погосте, вокруг которого вилась липовая аллея. Не знаю — как там теперь, после стольких лет!..
Тогда, до вывозов при советской оккупации св. Сер-гиевский приход насчитывал 2.000 душ, а в 1942 году немцами было эвакуировано, к нам, свыше 3.000 новгородцев. Они были размещены в самом городе и его окрестностях. И вот, в том же, 1942 году, осенью, произошло великое событие у нас. Наш приходский храм, промыслом Божиим, удостоился принять под свои своды великие Новгородские святыни — раки с мощами: Святителя и Чудотворца, Никиты Новгородского, его матери, св. кн. Анны; благоверных князей: Федора (брата св. благ. кн. Александра Невского), св. благ. Владимира Новгородского и также св. Мстислава, святителя Иоанна Новгородского и св. Антония Римлянина.
Произошло это совсем неожиданно. Утром раздался телефонный звонок — звонил мне начальник станции жел. дор., сообщая, что только что немецкий военный эшелон выгрузил пять «гробов». Начальник недоумевал, что это за гробы. Я немедленно отправился на своей лошадке на станцию. Подойдя ближе к выгруженным «гробам», я увидел кованные серебром раки со святыми мощами, обмотанные старой парчей и рогожей.
Первая рака была Святителя Никиты Новгородского, а за ним, в ряд, стояли все последующие… Глубоко потрясенный этой находкой, я тотчас связался по телефону с Ригой, где была резиденция Высокопреосвященного Сергия, Митрополита Литовского и Виленского (Экзарха Латвии и Эстонии, вскоре убитого неизвестными людьми, в немецкой форме, на пути из Вильны в Ковно). Я доложил Владыке о происшедшем. Последовало распоряжение от Владыки Митрополита — немедленно перенести мощи крестным ходом в наш св. Сергиевский храм.
Я сразу сделал распоряжение о перевозке св. рак. В каждую подводу было впряжено по четверке лошадей. Все они были убраны и увиты цветами с зеленью и устланы коврами. Весть о прибытии св. мощей быстро разнеслась по городу и всем окрестностям. Гудел большой колокол, созывая верующих и возвещая им о великой благодати, по милости Божией, посетившей наш храм.
Со всех сторон собирались люди, чтобы принять участие в крестном ходе, для встречи великих святынь, со слезами радости, передавая друг другу о чудесном выборе места почивания, хотя бы на время, святыми угодниками. Возле церкви царило большое оживление. Выстраивался крестный ход. Народ, с истовым благоговением, выносил из храма иконы и хоругви. Совершалось нечто великое. На лицах присутствующих было выражение глубокой духовной радости… Приближались святыни. Колокол гудел беспрерывно и перешел в трезвон всех колоколов.
Вышел крестный ход, растянувшийся далеко по Мажейской дороге. Осень была сухая и золотистая уже. Блестели иконы на солнце и хоругви развевались над ними, как бы защищая их. Общенародное пение далеко разносилось по полям и лесам, смешиваясь с трезвоном колоколов, который становился все отдаленней, но народное пение крепчало: «Пресвятая Богородица спаси нас», «Святителю отче Никита, моли Бога о нас», рвалось из глубин русских душ, измученных бедствиями и страшной войной, опустошившими Новгородский край и забросивший тысячи людей в далекую Литву.
Трудно описать религиозный подъем, с которым со-вершался этот крестный ход… Вот на седьмом километре, вдали, на опушке леса, показалась, наконец, процессия. Радостный трепет охватил нас всех — «Мощи, святые мощи!» пронеслось в народе. Крестный ход медленно шел навстречу святыням и, подойдя совсем близко, остановился. Склонились хоругви, а народ пал ниц. Плач, пение тропарей — все слилось в одно. Начался молебен. Люди ползли на коленях, чтобы дотронуться до св. рак, прося у небесных покровителей защиты и молитвенного предстательства перед Богом…
Крестный ход двинулся обратно к церкви. Множество людей, по пути, присоединялись к шествию. По прибытии крестного хода, на паперти был отслужен молебен и затем, св. мощи были внесены в храм.
Оставалось три часа до начала всенощного бдения и за это время, надо было привести в порядок св. раки и расставить их в храме. С благословением Митрополита Сергия, мне было поручено открыть раки со св. мощами, чтобы поправить одеяния, находящихся в них святых.
Не могу передать чувства, охватившего меня при от-крытии св. мощей. Первой была открыта рака св. Никиты — со дня кончины которого прошло почти 800 лет. Четыреста лет Святитель Никита почивал под спудом земли и четыреста лет после открытия его св. мощей, в храме св. Софии, в Новгороде.
После долгого путешествия, святые в раках, сдвинулись с места и их надо было положить надлежащим образом, и поэтому, сподобил меня недостойного, Господь, поднять Святителя Никиту, целиком, на моих руках, при помощи иеродиакона Илариона. Святитель был облачен в темно-малиновую, бархатную фелонь, поверх которой, лежал большой омофор кованной золотой парчи. Лик его был закрыт большим воздухом; на главе — потемневшая от времени, золотая митра.
Лик Святителя замечателен; всецело сохранившиеся черты его лица выражают строгое спокойствие и, вместе с тем, кротость и смирение. Бороды почти не видно, только заметна редкая растительность на подбородке. Правая рука, благословляющая, сложена двуперстием — на ней ярко выделяется сильно потемневшее место от прикладывания в течение 400 лет. Дивен Бог во святых Своих!
В течение долгого времени мощи находились в музее, подвергаясь исследованиям, о чем свидетельствует, найденный под изголовьем, в раке у св. Никиты, небольшой мешочек с частицами нетленных мощей новгородских угодников. Эти частицы были, видно, взяты безбожными экспертами и, по-видимому, кем-то из них, имеющих страх Божий, возможно и тайно верующим, бережно собраны и положены в мешочек. Св. мощи подвергались разным атмосферным переменам. В начале войны, как рассказывали мне новгородцы, святыни были возвращены в собор св. Софии, в Новгород, и находились в подвальном помещении собора, который был музеем. С бегством же Советской власти из Новгорода, при наступлении немецкой армии, они были снова внесены во храм и положены в раки, верующими.
Во время боев под Новгородом, собор св. Софии сильно пострадал; купола были повреждены снарядами, а главный купол совершенно исковеркан. Св. мощи остались целыми и не поврежденными. При каких обстоятельствах и по каким причинам немцами были вывезены святыни из Новгорода, объятого пожаром, в Литву и оставлены, именно в нашем городке, осталось неизвестным. Один вывод — Божий промысел!
Мощи св. Анны, княгини Новгородской — матери св. кн. Владимира Новгородского, также хорошо сохранились; она в княжеском одеянии в богато украшенной серебром, раке.
Следующие раки с нетленными мощами св. кн. Вла-димира; св. кн. Федора и св. кн. Мстислава, были в раках, но совсем обнаженные. Эти мощи поражали своей целостью. По-видимому, их княжеские одежды были похищены безбожниками. Вскоре по прибытии мощей, на них были сшиты верующими парчовые одежды и срачницы.
Последняя рака с мощами св. Антония Римлянина и Святителя Иоанна. В ней хранились лишь части их мощей.
Клир нашей церкви состоял тогда, из трех священников: меня-настоятеля, второго священника, о. Иоанна Харченко и о. Василия Николаевского при иеродиаконе Иларионе — благочестивого старца с Афона, который, несмотря на свой преклонный возраст, обладал приятным и довольно сильным тенором. Богослужения совершались ежедневно, а молебны перед св. мощами — в течение всего дня, поочередно. Каждый из священников служил свой недельный черед. В воскресенье же и в праздничные дни, службы совершались соборне.
Через некоторое время, после прибытия св. угодников, о. Иларион видел сон, повторившийся дважды. Он видел Святителя Никиту, стоявшего в храме, облаченного в мантию и читающего покаянный канон. Войдя в храм и увидав Святителя, о. Иларион пал ему в ноги, прося у Него благословения. Благословив его, Святитель сказал: «Молитесь все об избавлении от бедствий, грядущих на родину нашу и народ. Враг лукавый ополчается. Должно вам всем, перед службой Божией, принимать благословение».
Поклонился земно о. Иларион и поцеловал стопы Святителя, после чего Святитель Никита стал невидим. С большим духовным трепетом рассказал мне о. Иларион об этом видении. Впоследствии я об этом доложил Владыке Митрополиту. Выслушав меня со вниманием и по прибытии к нам, в Векшни, расспросив благочестивого старца о. Илариона, Владыка сделал распоряжение — установить правилом, чтобы перед началом каждой службы, при открытии раки Святителя Никиты — выходить священнослужителям н прикладываться к деснице Св. Никиты, возвращаться в алтарь и тогда лишь начинать литургию.
По обе стороны раки Святителя, во время службы стояли рипидоносцы. За часами был установлен возглас священника: «Молитвами Святителя Никиты нашего, Господи Иисусе помилуй нас!».
Благолепные уставные богослужения, при стройном пении большого хора, полный благодати храм, мерцающие повсюду лампады; множество ярко горящих свечей, беспрестанно ставимых верующими под раками св. мощей — все свидетельствовало о горячей вере у народа. Теплота молитв, слезы и вздохи — все захватывало душу и устремляло ее ввысь.
Слова явившегося во сне Святителя Никиты, предвещали великие испытания, переживаемые с тех пор, особенно, всем миром, которые все усугубляются… Как часто за эти годы, думал я о тайном значении явления нам св. мощей. Где они теперь? Вернулись ли они в собор св. Софии, в Новгород? — или же теперь, находятся в нашем храме в Вешнях? Все это было так давно и бывает порой, когда я сижу один, вспоминая былое, что все случившееся в моей жизни, кажется мне, то прекрасным, то мучительным сном…
Такие мысли — искушение. «Святителю Божий, Никита моли Бога о нас…».
Болезни и печали
Литва была богатой землевладельческой страной перед приходом Советов, которые своей коллективизацией сильно подорвали ее благополучие. Немцы вернули землю фермерам, хуторянам, помещикам и священникам (у нас, например, было 40 десятин земли и мельница, которую помогали нам обслуживать, чередуясь, хуторяне). Тем не менее, при немцах, которые вывозили много продуктов в Германию, и заставляли большой процент населения работать на фабриках и заводах на свои военные нужды, появился недостаток в некоторых необходимых вещах. Не хватало лекарств и появилось много больных. Также сильно поднялись цены, а жалование не увеличивалось.
Несмотря на это, хотя бы внешне, для всех, кроме несчастных, ни в чем неповинных евреев, в Литве, при немецкой оккупации, жить было несравненно легче, чем при Советах. Тем, кто не мешался в политику и не критиковал Гитлера, его эсэсовцев и их эксцессы, можно было жить более спокойно, чем когда всем вершили НКВД и нельзя было спать спокойно.
Церковные дела налаживались. Нас было, с приписными, десять священников и все были заняты, с раннего утра до поздней ночи, обслуживая нашу пятитысячную паству. Работали мы все дружно — объезжая приходы, обсуждая возникшие проблемы и общими усилиями находили выход из всяких трудностей. Воспламеняли нас духовная жажда и горение наших соотечественников. Люди причащались сотнями, как бы наверстывая потерянные годы при запретах безбожной власти в России.
Детей и молодежь, многие из которых не имели понятия о догматах православия, церковных служб и Законе Божием, мы должны были обучать с самого начала на радость их родным.
Время мчалось, но уже в половине 1942 года, моя мама и я стали замечать, что моя жизнерадостная и всегда полная энергии, матушка Танюша, стала быстрее уставать и иногда ложилась отдохнуть, хоть на часок, днем, чего раньше никогда не было. Когда я спрашивал ее — что с ней, она, смеясь, говорила мне: «Ничего, все хорошо — это твоя фантазия, я совершенно здорова».
Раз я вошел в спальню — она не слыхала моих шагов, так как рядом, в детской, Сережа строил домик из кубиков и громко разговаривал с кем-то. Глаза Танюши были закрыты, но на лице было выражение, как у кого-то, кто старается пересилить боль…
Я подсел к ней, взял ее руку в свою и поглаживая ее сказал: — Что же ты, мое солнышко прячешься, утаиваешь что-то от меня? Что с тобой? Скажи мне всю правду. Я же чувствую, что что-то не ладно! Поделись со мной, как я делюсь всем с тобой. Она улыбнулась мне в ответ и ответила так: «Знаешь — это наверно пустяки, но вот уже некоторое время, как у меня бывают колики в нижней полости живота, — знаешь — так, как будто где-то внутри втыкают иголки; иногда боль слабая, а вот сегодня — сильно закололо. Не знаю, что бы это могло быть? Не хотела тебя беспокоить — ты так занят… Только не впадай в панику! Я наверно переутомилась — может быть, надорвалась, таская Сережика. Все пройдет… Забудь об этом».
Но забыть я не мог. Мама тоже покачала головой, когда я все ей рассказал и советовала мне повести Танюшу для осмотра в Мажейки, где жил наш доктор и друг семьи, Владислав А. Бурба и жена его Екатерина Васильевна — староста нашего приписного храма Успения Пресвятой Богородицы. Она дружила с Танюшей. В Мажейской церкви, как раз, приближался храмовой праздник 28/15 августа. Я убедил Танюшу показаться доктору, когда мы поедем туда с тем, чтобы он прописал лекарство, которое скоро вылечит ее, — так надеялся я, да и она тоже.
Мы приехали в Мажейки часа за два перед всенощной. Я оставил Танюшу с Екатериной Васильевной, в ожиданье доктора из больницы, и сказал, что хочу пройтись. Когда же я вышел, то решил идти прямо в церковь и стал разбирать что-то и наводить порядок в алтаре, а потом сел и погрузился в чтение жития святого на тот день, которого не успел прочесть дома. Сижу я — вдруг слышу голоса: один Екатерины Васильевны — другой неизвестный мне. Екатерина Васильевна говорит в пол голоса, но слух у меня хороший, да и церковь еще пустая — поэтому все слышно: «Знаешь — говорит — какой ужас! — Приключилась беда с матушкой Таней. Муж, около часа назад, осматривал ее; он почти уверен, что у нее рак, а она ничего не подозревает. Бедные и она и батюшка! Какой это будет шок для него. Он ведь так ее любит!».
Было жарко, но я весь похолодел… Не может быть, я ослышался — говорил во мне один голос, а другой отвечал — нет, это правда! Что-же делать теперь?.. Все застыло во мне, а церковь наполнялась и надо было начинать служить. В ответ на мой возглас запел хор… Среди других, выделялся чистый, как свирель, голос моей Танюши…
Мы ночевали у Екатерины Васильевны и ее мужа. Перед ужином, Танюша, в отличном расположении духа, успела шепнуть мне: — Видишь, я была права — это все пустяки, я не больна и нечего тебе было бояться и тащить меня на осмотр. Доктор сказал, что может быть придется сделать маленькую операцию, но нет ничего серьезного и он уже дал мне лекарство против боли.
Что я мог ответить на все это?.. Танюша была особенно весела в тот вечер, а я делал страшные усилия, чтобы не выдать тот камень на сердце, который давил меня.
После ужина, доктор Бурба пригласил меня в свой кабинет, «чтобы показать что-то, пока дамы могут поболтать о последних модах, между собой». В кабинете он сказал, что почти уверен, что у Тани рак матки и советовал поскорее ехать в Ковно, к специалисту по раку, профессору Ципляускасу. Он решит что делать и самое главное — нельзя, чтобы Таня знала что с ней, так как это может только ей повредить. — «Не огорчайтесь слишком. Если операция сделана вовремя и раковая опухоль удалена, то Таня может совершенно выздороветь и от болезни не останется и следа. Единственное, что может быть будет нужно — это вырезать матку, но у вас четверо детей, а это — более чем довольно в наши смутные времена!».
Я вышел чуть, чуть ободренный его последними словами, но тревога за Танюшу росла.
Было очень трудно убедить Танюшу ехать в Ковно. У нее было масса предлогов, но тут помогла мама, с мнением которой, моя матушка очень считалась. Я ей сказал: — Мы так устали с тобой, что маленькие каникулы на несколько дней отдыха, к тому же у твоих, восстановят наши силы. А визит к доктору — это уж сделай для моего успокоения.
Ровно через неделю, мы приехали в Ковно, остановились у ее любимой сестры, а на следующее утро, я повез Таню к профессору специалисту и передал ему письмо от доктора Бурбы. Профессор долго и очень внимательно осмотрел Танюшу за ширмой, задавая ей вопросы и кончил тем, что сказал — операция необходима, но бояться нечего — она восстановит вас и пройдут боли.
— Я не боюсь, — бодро ответила Танюша — доктор Бурба предупредил меня, что возможно надо будет делать маленькую операцию. Профессор ничего не ответил на это. Он прописал Танюше лекарство и предложил ей пойти за ним в аптеку, напротив. — А я позвоню в клинику, чтобы занять вам место, пока ваш муж здесь, чтобы все было улажено наперед.
Как только Танюша вышла, он подтвердил, что сомнений нет — у нее рак, но не в последней стадии, так что можно надеяться на полное выздоровление.
Я согласен с доктором Бурбой — нет надобности вашей супруге знать, что с ней. Одно слово «рак» — наводит ужас на многих и атрофирует силы, нужные для борьбы за жизнь. Матку надо удалить, как меру предосторожности, но не яичники, если они не затронуты. Здоровье ее от этого только улучшится. Очень важный пункт — полный отдых первый месяц, а то и шесть недель. Внутренние швы срастаются гораздо медленнее, чем наружные. И ничего тяжелого не поднимать.
Профессор позвонил в клинику и когда Таня вернулась — все было устроено и операция назначена через три дня. Надо было поступить в клинику накануне этого дня. Боясь испугать Танюшу, я не упомянул о матке.
Два дня пролетели, как сон. Мы сделали покупки, подарочки для мамы и детей, навестили знакомых, и вечером, многие пришли повидать нас. Единственный человек, кому я рассказал все — была сестра Танюши, гораздо старше ее, которая одобрила мое молчание и предложила, чтобы Таня осталась погостить на время выздоровления у нее…
Операция прошла благополучно. Я молился на коленях у пустой постели Танюши, пока она была в операционной. Когда ее привезли и уложили, она была еще под наркозом и спала глубоким сном. Профессор-хирург был так добр, что сам пришел и сообщил мне, что он вполне удовлетворен результатом операции.
— Ваша супруга молода, у нее крепкий организм — все шансы на полное выздоровление…
Когда Танюша пришла в себя, она улыбнулась мне — Ну, как всё? — спросила она. — Будут резать?
— Уже все позади, солнышко мое — все сделано и кончено. Теперь только, надо тебе отдыхать и поправляться. Ей сделали вспрыскивание, и она скоро уснула.
Следующий день прошел ничего, но Танюша не могла понять — почему ей так больно от такой «маленькой» операции. Сильные боли стали утихать только на четвертый день. На шестой она встала, на восьмой сняли швы. Я находился почти беспрестанно при ней, кроме как по ночам, и объяснил, что разрез был больше, чем предполагали, так как «воспаление» было шире — потому и много швов.
Комната, где лежала Таня, была вся в цветах — прямо, как оранжерея. Приходили только самые близкие и раз, при мне — батюшка, навещавший русских больных в этой клинике. Многие присылали цветы с карточками, и Танюша уже сидела и писала благодарственные записки.
— Ты у меня молодец — сказал я Танюше — гладя ее склоненную головку. — Так храбро перенесла боль, даже сестры говорят, что смотреть за тобой — просто удовольствие — мой герой!
Танюша звонко засмеялась. — А ты, что думал! Не распускать же мне нюни из-за таких пустяков! Я ведь твоя матушка — надо терпеть!
На двенадцатый день мы перевезли Танюшу домой, к сестре. Там нас ожидали добрые вести от мамы и приписки с рисунками от детей. Мама просила привезти некоторые продукты, которых нельзя было достать в Векшнях; и на следующее утро я отправился в город, оставив Танюшу в кресле, в саду, где мы, когда-то, часто сидели любуясь Неманом и всей окружающей природой. Танюша была в самом светлом настроении и шутила со всеми. Было около девяти часов — я вернулся около часа и почти не узнал мою дорогую матушку, так она изменилась.
Она лежала на постели, безжиненно, с закрытыми глазами, и когда я подсел к ней, она не реагировала ни на что — никак.
— Что с тобой Танюшенька? Тебе плохо? Да ответь ты мне!
— Отчего ты не сказал мне правду? — чужим голосом спросила она.
— Какую?
— А вот, что у меня рак, а это неизлечимая болезнь. Зачем вся эта комедия и все, как в сговоре, скрывают все от меня — ты, доктора, все… Один только и оказался честный человек — тот батюшка, что ходит ко всем русским, в той клинике. Он знает и всех докторов, и сестер там.
— И что же?
— Так вот, он пришел сегодня утром, после твоего ухода, сразу, и говорит мне: «Ну что ж, матушка, хорошо, что у вас вид такой радостный, даже веселый — так и надо готовиться к смерти». — Как к смерти — говорю ему я, не понимаю, что вы хотите сказать батюшка?
— «Как не понимаете — у вас же рак! Матку то вырезали, а он может притаиться на время, а потом поползти, куда ему вздумается… Надо каяться в своих грехах!..»
Тут Танюша не могла уже продолжать и разрыдалась, судорожно вздрагивая. Я обнял ее, стал целовать, говорил не помню, что, стараясь ее утешить. Вошла сестра, Надя — она уже знала все! — «С такого священника надо было бы снять сан! Кабы я знала зачем он пришел — я бы его и на порог не впустила бы… И, главное — что врет — сам не знает, что болтает. Когда-то, такая болезнь как рак, считалась смертельной, но не теперь. Ты сама знаешь других, кому делали эту операцию и они остались живы и здравствуют до сих пор!».
Долго, долго Танюша оставалась безутешной, но в конце концов, уснула, будучи еще очень слабой… Я готов был растерзать того священника! Самое страшное была то, что он не отдавал себе отчета в последствиях такого, причиненного им, шока и был, явно, уверен в своей правоте.
К вечеру Танюша оправилась немножко и мы позвонили школьной приятельнице, которой сделали эту же операцию, несколько лет назад. Она пришла, когда мы объяснили ей по телефону о случившемся, и она сильно подбодрила Танюшу, рассказав ей, что от нее тоже утаили в начале, пока она не поправилась совсем и что вот — уже почти семь лет прошло и нет и следа ничего…
Я должен был вернуться домой через несколько дней из-за массы накопившейся работы, но звонил каждый вечер и через пять недель поехал за Таней. Выглядела она так, как тогда, когда я был женихом — так молодела и похорошела… Дети были в восторге. В доме все блестело и некуда было ставить цветы и приношения наших друзей и прихожан, знавших о возвращении «нашей любимой матушки».
К Рождеству Танюша так поправилась и окрепла, что как всегда, устраивала елку, не только для наших, а и для приходских детей, с подарком каждому, а их было около двухсот. Помощниц было много, но основная работа и ответственность были на ней. Мама моя, которой уже пошел восьмой десяток, помогала тихо и незаметно, во всем, чем могла, делая облегчение Танюше…
Так начался 1943 год. Вскоре стали приходить известия, что советские войска реорганизованы, что немцам приходится отступать и что вряд ли Гитлер окажется победителем в этой войне, как убеждало нас немецкое радио. Ходили разные противоположные слухи…
Наступила весна — прекрасная как всегда; за ней — начало лета. Мама первая заметила, что Танюша стала худеть и скорее уставать. Когда я заговорил об этом с моей матушкой и попросил ее съездить со мной к доктору Бурбе, она — такая ровная и терпеливая всегда, рассердилась и отказалась ехать.
Я позвонил доктору, когда Танюши не было дома. Он встревожился. — Узнайте появились ли у нее боли там, где были прежде. Если да — то бесполезно показывать ее мне. В таком случае надо будет везти ее на облучение в Ригу. Это ближе к вам и менее утомительно для нее. Как только узнаете, сообщите мне, и если начались колики, я сразу пришлю вам письмо главному врачу клиники, где лучшее медицинское оборудование для такого лечения.
Только в середине августа Танюша созналась, что у нее, уже около двух месяцев, как возобновились боли, но что она принимала аспирин и он ей помогал. Она молчала, чтобы не тревожить меня с мамой!
Целых два месяца потерянных! И вспомнились мне слова того священника про ползучий рак… Я не мог корить мою матушку, так как представил себе — что она, должно быть, переживала, помимо физической боли, в своем сердце, сознавая значение этих зловещих симптомов.
Доктор Бурба приехал с женой на следующий день с письмом. Он не журил Танюшу, а она избегала разговоров на эту тему о своем здоровье, старалась быть веселой и беззаботной, но чувствовался какой-то надлом. Уезжая, Екатерина Васильевна особенно нежно поцеловала ее, желая ей исполнения ее желаний… Я заметил, что Танюша, очень любившая ее, с трудом сдерживала слезы.
На следующий день мы отправились поездом в Ригу. Так как Векшни находились почти на пограничной полосе, нам не нужно было иметь визы для въезда в Латвию, потому что пограничные жители имели пропуска, по договору между Латвией и Литвой.
Путешествие очень утомило Танюшу. Мы остановились, как обычно, у наших старых друзей, Зельтиных. Николай Иванович Зельтин, после развода со своей красавицей женой, женился вторично. Я венчал его и Софью Марковну. Когда мы возили или увозили Юрика из его школы для глухонемых, мы гостили у них, и они тоже приезжали отдохнуть к нам. Приняли они нас особенно сердечно, так как знали уже о здоровье моей матушки и, хотя старались не показывать этого, — были потрясены, как сказали мне, переменой с ней, ибо не видели ее несколько месяцев.
На следующий день я отвез Танюшу в клинику, где она должна была проходить курс облучения около двух недель. Уход за ней был хороший, ни на что нельзя было пожаловаться; но каждый сеанс, сам по себе безболезненный, изнурял ее и как она не бодрилась, при других — я видел, что Танюша таяла, как свеча.
Я навещал ее два раза в день. Не разрешали оставаться все время, так как она должна была, как можно больше отдыхать. Я ездил каждое утро молиться в собор и был знаком, с давних пор, с его настоятелем и также с Рижским Архиепископом, Владыкой Иоанном. Они знали, почему мы в Риге и оба очень сочувственно относились к моей матушке и ко мне. За день или два до отъезда, я упомянул, в присутствии Владыки, что не знаю, как я довезу матушку домой, поездом — так как ослабла. Тотчас же Владыка предложил мне свой автомобиль с шофером, чтобы довезти нас до дому, во избежание лишних хлопот и переутомления для Танюши… Как я был благодарен ему!
Дома нас ожидал торжественный обед. Всюду были цветы, все было по-праздничному. Дети бросились целовать свою маму, по которой очень соскучились. Леночка была уже большая, почти барышня — 15-ти лет. Она всегда деятельна, помогала дома, в свободное от гимназии время, видя больную Танюшу, и многое понимала из того, в чем ее братья не отдавали себе отчета. Она остро переживала ухудшающееся состояние здоровья своей мамы.
От продолжительной тряски, так как дороги были не ровные, у Танюши начались боли и не было сил стоять на ногах. Мы внесли ее и сразу уложили в постель, и она уже больше не встала.
Наступило самое трудное время. Боли крепчали. Сильных, успокаивающих лекарств нельзя было достать нигде. Был только аспирин, но и он, в том количестве, в котором он был необходим, чтобы ослабить боль, продавался под сурдинку за бешенные деньги, которых у нас не было. Зная, что надежды на выздоровление уже нет, я стал менять золотые вещицы Тани на аспирин. У мамы уже не оставалось ничего из ее, когда-то прекрасных семейных драгоценностей.
Наш маленький запас истощался… а боли все усили-вались. Все чаще она, такая стойкая — не жалуясь, не могла скрыть своих страданий и стонала, переворачиваясь с одной стороны постели на другую, но скоро и на это у нее больше не хватало сил.
Я запустил мою работу и, сиживая часами у изголовья моей Танюши, держа ее исхудалые ручки в своих, молясь, чтобы боль оставила ее и перешла в меня и мое присутствие помогало ей забыться и уснуть хоть на часок.
Танюша знала, что не долго ей осталось жить. Мы не упоминали о смерти, но она витала уже вокруг моей дорогой, никем не заменимой Танюшеньки…
1-го октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, Танюше вдруг стало лучше. Боли не было. Она приподнялась сама и сказала, что хочет причаститься. Как только я кончил совершать литургию, я пошел домой и, после разрешительной молитвы, причастил мою матушку Св. Тайн. Она лежала, вся просветленная, когда мама, дети и наша помощница, подруга Тани, вошли ее поздравить. Леночка думала, что, быть может, произошло чудо исцеления.
Пополудни, когда Танюша проснулась, она сказала мне, что очень давно не чувствовала себя так хорошо. Я спросил ее не хочет ли она покушать чего-нибудь, так как последнее время, она почти ничего не ела и принимала жидкую пищу или питье.
— Мне бы хотелось попробовать немного клубники — сказала она, забыв о времени года. Леночка стала звонить знакомым и у кого-то из них оказалось несколько ягод тепличной клубники, которая была спешно доставлена нам. Все знали о состоянии матушки, понимали и старались, как могли, помочь.
Я положил ягоды на любимую тарелочку Танюши и стал ее кормить. Она смотрела на меня с такой светлой улыбкой, как бы желая выразить то, что не могла на словах. В комнате собралась вся семья и притихшие дети не спускали глаз со своей мамы…
Вдруг Танюша глубоко, глубоко вздохнула, протяжно ахнула и откинулась на подушки. — Что с тобой, солнышко мое родное? — спросил я, быстро поднимаясь с места, чтобы прикрыть ее сползавшим одеялом, и увидел струйку крови, стекавшую на пол. Танюша страшно побледнела — все стояли в каком-то оцепенении. Танюша, глаза которой были закрыты, широко открыла их и смотря на меня сказала — Шурик, спасибо тебе за все…
Мама побежала, чтобы вызвать доктора; подруга бро-силась за всем необходимым, а дети подошли, чтобы быть как можно ближе к матери. Я поднял Танюшину руку, указав детям встать у изголовья на колени, по старшинству. Матушка прикоснулась к каждой головке, благословляя свое дитя и внятно произнесла: — Берегите своего папу — это были ее последние слова…
Пришел доктор — она была еще в полном сознании и старалась что-то сказать, но беззвучно… Доктор проверил пульс: «Поздно» — сказал он — «ничего нельзя сделать. Слабеет сердце от кровоизлияния, а остановить его нельзя». Все медленное и тише дышала Танюша. Тихо, угасала и угасала ее жизнь… Я стоял на коленях и читал отходные молитвы, а что было на душе — так даже теперь, после стольких лет и новых испытаний — слишком больно становилось заново переживать потерю той, которая была мне дороже всего на свете…
В тот же вечер приехал наш духовник, о. Герасим Шорец. Он служил первую панихиду и акафист. Весть о кончине матушки облетела весь город и его окрестности. Дом наполнился людьми. Приходили поклониться моей матушке, приносили еловые ветки, клали их вокруг смертного одра и устилали ими вход в дом у открытых дверей. Это длилось два дня.
На третий день отпевания в нашей церкви, пришли все, кто мог, отовсюду. Никогда еще не было таких многолюдных похорон в Векшнях. Когда запели «Со святыми упокой», все встали на колени и, как мне сказали после, почти все плакали. То же было во время, когда пели «Вечная память» и провожая гроб на место вечного упокоения — так любили мою матушку все, кто знали ее, потому что, как мне сказал потом, один из наших прихожан, — «Ваша матушка была нам всем матерью и ее нельзя было не любить»…
Не помню сколько времени я был как потерянный. Несмотря на всю мою веру в Бога, и в то, что душа Танюши принята там, «где несть ни болезни, ни печали, но жизнь бесконечная» и на чрезвычайную доброту и сочувствие всех окружавших меня, я был так поглощен моим горем, что меня все время тянуло на кладбище. Только там, сидя на скамейке у Танюшиной могилки, целыми вечерами, до поздней ночи, ощущая ее невидимое присутствие, я знал, что я не один…
Как-то, сидя там, где мы столько раз гуляли или сидели вместе, мечтая о будущем — я написал маленькие стихи в память моей дорогой Танюши:
Как серый день, стих грустен мой —
Нет ярких красок, блекнут думы;
Умчались дни весны златой —
С тобой, мой милый друг!
А дни грядущие угрюмы…
Уж не развеет тоски моей —
Ни пение птиц, ни дни весны лазурной,
Лишь ты одна печальница моя —
Один мой друг — ушедший навсегда!..
Зная, как грешно предаваться отчаянию, и чтобы за-глушить боль утраты, я стал работать за двоих, зная, что Танюша продолжала бы жить так и без меня. Я, также стал уделять больше внимания детям, сознавая, что должен справиться с двойной ответственностью, выпавшую на мою долю. Чем бы я не был занят, я старался утешить себя мыслью, что Танюша невидимо с нами и молится о нас всех…
В этом же году, в день св. Николая 6/19 декабря, в Векшнях, Владыка Митрополит Сергий, Экзарх Литовский и Виленский возвел меня в сан протоиерея.
Глава VI. Новые скитания и просвет
Осенью 1944 года… Отступали немцы, наступали теперь повсюду советские войска. Ковно уже было во власти Советов и со дня на день ожидалась, со страхом, оккупация всей Литвы и Прибалтики.
Что делать? Я знал, что был на смертном списке НКВД. На кого оставить детей и маму, если меня «ликвидируют»? Все, испытавшие на себе иго Советов, были в панике и не знали на что решиться. Очень многие бежали в направлении к Германии, присоединяясь, как беженцы, к немецким войскам.
Мама и все наши друзья уговаривали меня ехать, но мама наотрез отказалась покидать Литву, где жили еще два мои брата — Коля и Левушка, а также сестра Лиля с мужем и детьми.
Уже слышалась грозная канонада, указывающая на приближение советской армии, когда я, отвезя маму в имение к друзьям — как мы еще надеялись, тогда, «на время до возвращения» — стал спешно готовиться к отъезду. Я запряг нашу лошадку в тележку, взяв Св. Евангелие, Св. Чашу, Антиминс, Воздухи, облачение и кресты, собрал только самое необходимое из одежды, позвал детей и усадив Сережу поверх багажа, тронулся в путь, попрощавшись с кем мог и поручив дом, со всем находившимся в нем, добрым знакомым.
Куры и индюшки, которых мы надеялись продать к Рождеству, кудахтали во дворе, когда мы выходили за ворота… Я остановился у кладбища, чтобы попрощаться с Танюшей. Кто мог подумать тогда, что это было в последний раз…
Мы двигались к Мемелю (Клайпеде) через Мажейки. Было еще тепло и мы могли спать где попало — в сараях на сеновалах или на траве под открытым небом. Осень была сухая. В начале такое путешествие казалось детям интересной авантюрой. Вскоре же от непривычки, они стали уставать, и кто-нибудь из них присаживался к Сережику, которому только что минуло 6 лет; Сандику было 13, Леночке 16, а Юрику уже 19. Оба старших помогали мне во всем, особенно Леночка, считавшая себя заместительницей своей мамы и заботившейся о нас, как опытная путешественница и хозяйственная глава семьи.
Хуторяне и литовские фермеры кормили нас и оделяли запасом, зная, что скоро все отберется у них. Так мы добрались до Мемеля, где остановились у знакомых, а затем и Кенигсберга, где нас приняли милые Штюрмеры (друзья родителей еще в былые времена). Они дали нам хорошее помещение, и мы отдохнули у них целую неделю. Никто не проверял никакие документы. Вместо урегулированной, нормальной жизни на востоке Германии, — уже многое было вверх дном.
Из Кенигсберга мы направились в Данциг и тут, по дороге, произошло очень неприятное событие для нас. Немецкие власти, какие не знаю, но вооруженные, рекви-зировали нашу лошадку. Спорить с ними было невозможно и, тогда, я сам впрегся в тележку и потащил Сережу и все имущество. Такой способ передвижения оказался весьма неудобным и утомительным для меня, особенно в гору. Юрик чередовался со мной, а Леночка с Сандиком и Сережей подталкивали, когда нам становилось не в мочь.
В Данциге нас приютили добрые незнакомые немцы — семья доктора. Они предоставили нам домик в своем саду и даром кормили нас. Они жили за городом. Там я узнал из газет, что Мажейки и Векшни все еще были не оккупированы и меня осенила мысль — вернуться туда за св. мощами, спасая их от безбожников, а также убедить маму выехать к нам из Литвы.
После хлопот, в которых мне помог доктор — наш хозяин, мне удалось получить пропуск от немецких властей — проезд «по чрезвычайно важным делам» — до Векшней и обратно. К этому времени мы провели несколько недель в Данциге и я спокойно оставил детей на попечение хозяев.
Я выехал поездом на пристань Кранц 6-го октября. Там уже ждал готовый отчалить пароход. Утро было серое, качало и над нами носились чайки. Мы шли вдоль берегов, поросших жидким кустарником на высоких дюнах. Проходили мимо рыбацких лодок. Рыбаки там — не как русские работают с песней — а молчаливые и хмурые…
Сжималось сердце и радостью, и грустью, при мысли скоро вновь увидеть родные места, войти в свой храм, припасть к могилке Танюши. Предо мною всплывали призраки еще недавнего прошлого — кажущегося давно минувшим…
Пробило 4 часа, когда мы подошли к Мемелю. На пристани было много людей с чемоданами и узлами. У всех взволнованные лица. Были тут и военные в форме гестапо и люди с тележками, на велосипедах и пешие. Полиция поспешно уезжала на перегруженных грузовиках… Я не мог понять, что случилось, отчего такая паника. Вот проехали летчики, за ними артиллерия, танки. Ехали тут и невозвращенцы из Мажаек. Спрашиваю — почему? Отвечают — всех, кого могут вывозят, а другие сами убегают.
Зашел я к военному коменданту. Он не советует ехать дальше, а выждать, пока не выяснится положение, так как в Ритово показалась голова советских танковых частей. Всем жителям Мемеля велено выехать из города и потому их перевозят, как можно скорее в Кранцкруг.
Уже стемнело. Надо было искать ночлег — но где его найти, теперь? Шел я в неуверенности, готовый просидеть на вокзале до утра, и вдруг, слышу, что кто-то окликает меня — «Батюшка, откуда вы? Как попали сюда в такое время и куда вы идете? Повернулся я — вижу господин в штатском, представляется. Оказывается это Маржухин, уполномоченный по делам русской эмиграции на Восточную Пруссию.
— Зайдите — говорит — ко мне. Вот здесь мой дом. Могу предложить вам ночлег — квартира большая, места хватит.
— Спасибо — отвечаю и благодарю Бога за такую встречу. Он берет мой чемодан и мы, из ночной темноты, входим в просторное, освещенное помещение с наглухо закрытыми ставнями и спущенными, не пропускающими света, шторами. Г-н Маржухин оказался моим прихожанином, когда в 1935 году я заведовал и Клайпедской, то есть Мемелевской общиной. Перед сном, звонили еще несколько раз в штаб квартиру, но вести были неутешительные. Ночь прошла тревожно и без сна. Никто не знал — продвинутся ли советские части вперед и придется ли тогда — сразу бежать из города? Рано утром, узнали, что огнем немецкой артиллерии, советские танки пока остановлены.
Встал я с тяжелой головой. Моросил дождь. Зазвонил телефон — комендант предлагал мне ехать до Мажеек с немецким разведывательным отрядом, состоящим из паровоза, платформы и двух вагонов — ехать на свой риск. Он добавил, что не уверен — смогу ли я добраться до Векшней и успеть эвакуировать ценности.
Я колебался, но все-же решил — доехав уже так далеко — попробовать. Вагоны представляли собой маленькую крепость на колесах. Из всех окон выглядывали дула пулеметов. Поезд тронулся. Я перекрестился. Солдаты заняли свои места. Радист принимал донесения. Проехали благополучно полпути и вдруг, — тревога! Из леса послышались ружейные выстрелы. Наши пулеметы им ответили. Затем, по радио, последовало какое-то донесение и наш поезд помчался задним ходом, так быстро, что думалось, он сойдет с рельс. Оказалось, что красные обошли с тыла и наш отряд был принужден проскочить, дабы не быть отрезанным.
Эти часы казались целой вечностью, при таком напря-жении, но спокойствие и хладнокровие немецких солдат умаляло мою тревогу. Вот подходит ко мне сержант и говорит: «Благодарите Бога, пастырь, — опасность миновала, проскользнули»…
Въехали на Клайпедский вокзал — пустота, ни одного штатского — только солдаты. В городе — также. Оста-навливает меня полевая жандармерия, требует показать документы, козыряет и советует спешить на последний пароход…
— Господи! — Как я бежал! Попаду-ли? Что, если я останусь здесь и буду отрезан от детей?.. Наконец добежал; пароход, переполненный до отказа людьми, готовился отчалить. Уже начали снимать мостик! И в этот раз Господь не оставил меня.
Дул сильный, холодный, смешанный с дождем, ветер. Пришлось устраиваться на палубе, так как и в трюме не было больше места. Там-же встретился я с генералом Плеховичем, успевшим, как и я, в последнюю минуту, покинуть Мемель. Он ехал в Берлин и был полон надежд на скорое возвращение в Литву, где, как рассказывал генерал, после прихода советских частей, были страшные расправы; в числе других, закололи сестру графини Зубовой — Шавельскую и многих других. Все это было проделано энкаведистами.
Погода прояснилась. Утих ветер. Море стало зеркальным, но было прохладно. Стало спокойнее — тревоги были уже позади, но на душе было чувство горечи, что мне не удалось достичь своей цели. Но на все — воля Божия!
Снова потянулись лодки рыбаков. На воде отражался закат солнца… «Свете Тихий Святые славы Твоея, видевши свет вечерний, в благодарении сердца, прославляю Господа моего за все милости ко мне грешному…».
Пароход шел быстро и плавно, подходили к Кранцу — тут суживаются берега и по обе стороны открывается чудный вид на лиственные и хвойные леса с зелеными лугами и разбросанными по ним рыбацкими поселками.
Пароход идет тише, входя в узкий канал — вот уже и пристань Кранцбека. Еще несколько минут и мы причалили. У пристани ждал поезд, который увез меня в Кранц, симпатичный, красивый город, раскинувшийся по открытому берегу Балтийского моря, с прекрасными виллами, отелями и, несмотря на военное время, ресторанами, из которых доносилась музыка.
Я провел ночь в хорошей гостинице и спал не просыпаясь. Гостиница эта была для высших немецких чинов армии. Я попал туда благодаря ордеру, выданному мне комендантом, согласно командировке «по чрезвычайному важным делам». На следующий день я был уже в Данциге с моими детьми, огорченными тем, что я не привез св. мощи и бабушку, но очень обрадованными, что я вернулся невредимым.
Мы не могли злоупотреблять, слишком долго, госте-приимством наших милых хозяев и, после Рождества, проведенного с ними, двинулись на Торгау. Там, мы нашли подлинно милосердного самарянина — Владыку Митрополита Серафима Берлинского и Германского (Ляде). Он принял меня как сына, поместил нас в гостиницу и взял на себя все расходы, во время нашего пребывания в Торгау.
Как-то раз, подошел ко мне, в приемной, незнакомый священник с немецкой газетой под мышкой и любезно приветствовал меня. Он предложил мне сесть и прочитал мне статью о Гитлере, в которой он восхвалялся и был сравниваем с апокалиптическим ангелом. Затем священник спросил мое мнение об этой статье. Я сразу, довольно резко, высказался о ней отрицательно. Священник попрощался и уехал.
Через несколько дней приехала, за мной и детьми, гестаповская полиция и повезла нас в лагерь, за десять километров от города, за колючую проволоку в «Фобел Гезагт Возак», где было много русских, поляков, французов и прочих. Нам отвели маленький барак с нарами. Нас сторожили громадные псы. Режим был тяжелый и строгий, но можно было ходить по баракам, и я сразу начал служить молебны, панихиды и несколько раз литургию на столе в бараке. Многие приходили молиться.
Начальник лагеря сказал мне, что не было надобности мне служить, так как имелся свой священник для всего лагеря. Начальник этот вошел во время нашей службы (он был чех) и как собак выгнал всех присутствовавших. Он стукнул на меня кулаком по столу, запрещая дальнейшие моления. Он пригрозил мне, что посадит меня в одиночку и ликвидирует всю мою церковную утварь.
Однажды раздался гонг, сзывая всех русских на службу. Оказалось, что служит тот самый священник-провокатор, который донес на меня… Так просидели мы январь и февраль 1945 года. В марте мы начали слышать канонаду, которая приближалась и, в один день, — вся стража покинула лагерь, оставив настежь открытыми ворота! Говорили, что подходят американцы… Мы оказались свободными. В складах стали раздавать, даром, продукты, сахар и прочее. Стояли длинные очереди. Пошел и я с мешком. Вокруг нас летали снаряды…
Лагерь стоял почти на берегу Эльбы. Оказалось, что подходят советские войска, переправлявшиеся через реку. Я бросил мешок и побежал к детям. Уже вечерело. Приведя в порядок нашу тележку, и смазав колеса дегтем, мы немедля двинулись в путь по дороге вдоль Эльбы. Посвистывали пули. Сережа сидел на тележке со скарбом, и мы уложили его, чтобы охранить от пуль; ему было холодно, и он дрожал, а с меня лил пот от волнения и боязни за детей. Только бы уйти подальше от шальных пуль! Шли всю ночь. Под утро встретила нас немецкая часть и офицер спросил: «Не видали ли вы русских?». Я ответил ему, что мы уходили, когда красные переправлялись через Эльбу недалеко от Торгау. Офицер почтительно козырнул, сказав, «данке» и мы поехали дальше, держа курс на Тюрингию, город Эрфурт.
Недалеко от Лейпцига, мы, не подозревая того, очутились в советской зоне. Было уже темно и мы сбились с пути и когда часовой окликнул нас — было поздно поворачивать назад. К тому-же дороги были запружены другими, часто немецкими беженцами. Я ответил по-русски — «свои». К нам подошел солдат с фонарем и, увидав Сережу, других и мою рясу, сказал примирительным тоном: «Аж намаялся малец, чай голодные вы все?». Дети хором ответили — очень! Так оставайтесь ночевать тут…
— Здесь был кирпичный завод; одна стена-то стоит еще, а другие уж прихлопнуло… Я пойду до котла — авось достану еще чего-нибудь для вас».
Скоро он вернулся с ведром на половину наполненным борщом. Никогда еще суп не показался нам всем таким вкусным! Дети набросились на него и прикончили в несколько минут и Сережа тут же заснул.
«Здесь сейчас на биваках наш полк, так нижнее чины спят под открытым небом, а офицеры близко — вон в том бараке — и он указал пальцем в темноту. — Хорошие, ничего не могу сказать; раз вы с детьми, да еще попом будете — не обидят! Мы по эту сторону реки, Саля, значит, называется, а по ту сторону американцы в своей зоне — а мы тут, в нашей».
Вот угодило! — думал я, как-бы отсюда выбраться?
— А нельзя-ли будет переправиться к ним — спросил я — мы в Эрфурт держим путь: может лошадку подберем где-нибудь, а то трудно тележку-то тащить, да частенько и в гору.
— Ну, все понятно — не размазывай, — знаем кого боишься — тех, что над нами, но они еще не пришли… Может, если в барак пойдешь, да пропуск попросишь — так и пустят тебя с семейством отсюда, а то прямо в лапы тем, так и попадешь, как прибудут — завтра должно быть. А офицеры наши добрые ребята. Попробуй!
Не успел я и слова сказать, как вскочила Леночка и говорит: «Я пойду и ведро отнесу» и убежала. Солдат отошел, а я сижу, сижу. Дети заснули… Прошло больше часа. Что могло с ней приключиться? Одна среди солдат — даже подумать страшно! Как это я мог так ее отпустить, не остановить! Пошел я сам, нашел барак, двери настежь повсюду. В одной из комнат пируют и подливают несколько молодых офицеров.
Увидав меня, приглашают к столу. — За дочкой пришел батя, а? Леночка сидит поодаль и стакан полный перед нею — молчит. Я подошел, сел рядом с ней, а она шепчет мне: «Уходи, папа, сейчас же уходи!». А тут еще музыка по радио раздается.
А один из офицеров встал, еле стоит на ногах, подошел к нам и говорит. — Тут тебе не место, батя — сам иди, а девицу с нами оставь. Ночь здесь проведет — все подпишем!
А Леночка мне опять: «Иди, а не то оба погибнем — а как будет с Сержиком и другими? Не бойся — я выкручусь!».
С характером она у меня, не трусливого десятка — в мать свою пошла… Выхожу, молюсь Ангелу Хранителю, а они гогочут мне вслед.
Вернулся к детям — спят, никого вблизи. Встал я на колени и прошу Господа смилостивиться над нами… Вдруг слышу шорох и Леночка рядом. — Скорее, папа бежим! Они так пьяны, что даже побежать за мной не могли, но могут послать кого-нибудь. Вставайте! Она растолкала Юрика и Сандика… Я впрягся, и они последовали за мной спросонку. Никто нам не помешал… Светало, когда мы подошли к мосту — там уже ждали сотни беженцев.
Американская зона начиналась по середине моста и их застава была открыта, а с нашей стороны, советской, была закрыта и около нее стояли вооруженные солдаты. Подъехал грузовик и из него вылезли трое тех, наших знакомых офицеров. Увидев меня, впряженного в тележку, один из них указал на нас другому. — А вон, смотри — там та девка, что сбежала от нас! — У меня замерло сердце, у Лены тоже.
— А на кой леший, она тебе сдалась! Отворите заставу ребята, гоните их в шею! На кой черт нам всех их кормить! — пусть союзники поднатужатся!
И поползла вперед человеческая лава…
Американцы приняли нас совсем равнодушно, и мы поплелись дальше. Все мы были изнурены, особенно Сержик, но Ангел Хранитель не покидал нас. Везде, куда мы заходили, останавливаясь, чтобы передохнуть, крестьяне давали нам хлеба, молока и сала на дорогу. В некоторых местах, когда не было больше сил, останавливались на ночь у немецких фермеров. На пол пути остановились в имении друзей, которые очень тепло нас приютили. Мне отвели большую спальню с ванной и белоснежным бельем. Там, в саду, я покрестил младенца одной бедной русской женщины.
Отдохнув несколько дней, мы продолжали наш путь и пришли в Эрфурт в конце апреля. Город был занят аме-риканскими войсками. Все казалось мирно здесь, и мы решили тут задержаться. Тут уже было много других русских беженцев и, увидав, что я священник, стали объединяться вокруг меня. Мы жили в домике у одной доброй немецкой четы, которая относилась ко мне с почтением, как к пастырю.
Я служил по воскресеньям в одном католическом костеле, любезно предоставленным мне ксендзом… Чуть наладилась жизнь — прошел слух, что американцы отдают Тюрингию Советам. Снова тревога!.. Комендант отрицал эти слухи, но они росли и распространялись.
Нам повезло в одном — один из моих новых «прихожан», Василий Григорьев и его жена Ангелина, оба молодые, нашли где-то за городом, брошенный советскими войсками, грузовик. Видно не хватило бензина! Василий сообщил мне о своей находке, и я отправился к коменданту с просьбой выдать мне документ на него и запас купонов на бензин. Он оформил все и обещал, что в случае сдачи города советским частям, он даст мне знать вперед, чтобы вывезти тех людей, списки которых я должен представить ему.
Я выполнил его приказ. Время шло, но больше не было известий от коменданта, а слухи увеличивались и настроение в городе становилось все тревожнее… Я же разъезжал с Василием, навещая больных и духовно обслуживая тех, кого мог и чей адрес был известен нам.
Я снова отправился к коменданту и, подъезжая, увидел, что комендатура грузится. Комендант очень занятой не мог говорить, но послал свою секретаршу, сказать мне, что он распорядился уже и что сегодня в шесть часов вечера будет проходить польский эшелон и что мои люди должны быть на вокзале в указанное время, чтобы отбыть с поляками в продвинувшуюся американскую зону.
Город огромный! Адресов многих я не знал, а только тех, кто знали других. Я помчался повсюду сразу ко всем, кого мог найти, передавая распоряжение быть на вокзале. Все, кого мы оповестили, явились туда заранее и ждали.
Прибыл польский эшелон — поезд стоит только 15 минут. Комендант ходил вдоль вагонов и хладнокровно посматривал, как мои люди лезли в вагон и как поляки выталкивали многих на платформу. Поезд тронулся и случилось так, что некоторые уехали, а другим не удалось. Семьи были разлучены и люди метались, не зная, что делать, многие были в полном отчаянии.
Наш план с Василием был — ехать самим на грузовике, но как быть? Ведь можно было только взять максимум двадцать человек, а их было больше шестидесяти! Оставить же их тоже было нельзя… Решили посадить кого могли и добравшись до новой границы, оставить их там. Люди плакали, умоляли — не оставлять их на расправу советам. Мы обещали вернуться за ними… И в этом Господь помог нам. И в три поездки нам удалось, до рассвета, перевезти всех, кто явился на вокзал и самим выехать до вступления советских войск.
Мы ехали по направлению к Франкфурту, так как знали наверняка, что та зона Германии будет американской и надеялись, что благополучно доберемся туда. Тележку пришлось оставить и нас было 18 человек в грузовике, поэтому долгий проезд был особенно утомителен для маленького Сережи, который все еще не мог привыкнуть к кочевой жизни, да и старшим было нелегко, но все мы благодарили Бога, что спаслись и помогли спастись другим, помня о несчастных, оставленных на произвол энкаведистов…
Не доезжая до Франкфурта, мы остановились в Бад Наугайме — курорте в графстве Гессен Нассау. Городское управление, куда мы заехали, предоставило нам дом — бывшую школу и там нам сообщили, что в Наугайме много русских беженцев, но пока нет никакой русской организации и что единственная русская церковь (построенная Государем Николаем Вторым и Государыней Александрой Федоровной, которая была дочерью Гессенского герцога и приезжала навещать свою семью) была закрыта и употребляема, как склад. Священника русского тоже не было.
Город небольшой — в центре, окруженные чудным парком, здания с лечебными ваннами. Парк — место гуляния и встреч. Мы очень скоро познакомились со многими русскими из них, ставшими впоследствии близкими друзьями: с полковником Сергеем Константиновичем Наместником, графом Романом Мусиным-Пушкиным, Виктором Ивановичем Мещаниновым и другими.
После долгих обсуждений, решили организовать русскую православную Миссию для духовного окормления православных в Бад Наугайме и его округе, под моим ру-ководством. Первым делом, ходатайствовали в городском управлении, чтобы очистили церковь и передали ее нам — на что получили согласие. Написали Владыке, Митрополиту Серафиму, испрашивая его благословение на нашу Миссию. Он одобрил наше начинание.
Затем мы обратились к американским военным властям, объяснив коменданту как нуждаются Ди-Пи-беженцы, потерявшие все, в духовной и материальной помощи. Для этого нам нужны были средства, чтобы продолжать и расширять нашу деятельность и так же официальное разрешение от оккупационной комендатуры. Комендант отнесся очень сочувственно и, в согласии с представителем Объединенных Наций, мне, как главе и председателю Русской Духовной Миссии с церковным советом, сформированным из вышеупомянутых и других лиц, были выданы все соответствующие документы, которые при мне до сих пор.
Нам было дано разрешение ездить в лагеря Ди-Пи, помогать с оборудованием и освящать походные церкви для заключенных, которые творили чудеса изобретательности, употребляя банки для консервов для подсвечников; ящики для аналоев и многое другое, необходимое для утвари, из, можно сказать, — почти ничего. В результате, с принесенными нами иконами, появлялись скромные, но такие благолепные и намоленные храмы, что было умилительно совершать богослужения в них, смотря на лица молящихся, обращающихся к Спасителю и Его Пресвятой Матери — не имея другой защиты, кроме небесной…
С детьми моими тоже пришла Божья помощь в лице многих добрых прихожан, как например, Раиса Ильинична Заворотная — казначей нашей Миссии; портниха добрая, заботливая, взяла на свое попечение Сережу. Юрик нашел службу. Леночка работала в Красном Кресте. Сандик стал ходить в немецкую школу. Сережа тоже начал учиться и делал быстрые успехи в языке, перегоняя братьев. Жизнь в Бад Наугайме казалась нам вроде рая, после всего пережитого.
Однажды, когда я вернулся домой из одного из лагерей, в окрестностях Бад Нау гейма, и собирался переодеться, так как весь промок от дождя, хозяйка дома, очень милая и хорошо относящаяся к нам всем и моим детям особенно, сообщила мне, что меня ожидает в приемной американский сержант. Когда я вошел туда, то увидел высокого, статного, красивого блондина с голубыми глазами. Он представился — «Джон Ковальский».
— Что ему нужно от меня? Надеюсь не какие-нибудь неприятности с американскими властями — пронеслось у меня в голове, привыкшей к внезапным переменам.
— Что вам угодно? — спросил я, как можно спокойней, по-немецки, так как он заговорил со мной на этом языке, но почему-то у меня забилось быстрей сердце.
— Чем могу вам служить? — добавил я, надеясь, что он пришел урегулировать какую-нибудь формальность по Миссии и оставит меня в покое, чтобы обсушиться. Вид мой, кстати, был весьма плачевный, особенно по сравнению с его щегольской формой…
— Я пришел к вам с визитом, чтобы просить у вас руку вашей дочери.
— Что такое? Простите, я не расслышал. Быть может, вы ошиблись адресом?
Он повторил свои предыдущие слова, поясняя: — Ни-сколько. Я говорю о Олене, которая работает в Красном Кресте. Я ее босс и уже несколько месяцев, как я ухаживаю за ней. Мы любим друг друга и не спешили со свадьбой, но моя часть отсылается обратно в Соединенные Штаты через неделю. Я только, что получил это известие, потому и поспешил к вам, чтобы получить ваше благословение. Я — католик и польского происхождения. Чтобы оформить все, по всем правилам, когда начнут выписывать жен наших военных отсюда, Елена будет в их числе.
Я стоял, как громом пораженный, так как совершенно ничего не подозревал и, хотя Леночке минуло уже 17 лет, смотрел на нее еще как на маленькую, и будучи очень занят все время, не имел представления, что помимо работы и развлечений с подругами, у нее уже тайный жених и они хотят венчаться — когда ко всему еще Великий Пост!..
— Благодарю вас за визит — я поговорю с моей дочерью и тогда дам вам мой ответ — это было все, что я мог сказать ему. Сержант поклонился и вышел…
Вечером, пока я сидел и думал, как бы поступила на моем месте Танюша, ко мне вспорхнула совсем сияющая Леночка и обняв меня, не давая мне времени прийти в себя, заговорила: «Ты, конечно, дашь свое разрешение и благословение, папочка! Джони чудный человек — лучше всех других. Он — мой босс; другие, что работают со мной, — были бы в восторге выйти замуж за такого человека, но он любит только меня и мы выходим уже несколько месяцев вместе и знаем, что мы созданы друг для друга».
— Но он католик!.. Ты ничего не знаешь о его семье и его ты знаешь всего без году неделя! Сейчас, все равно Великий Пост — еще шесть недель. Венчаться нельзя. Подумала ли ты обо всем этом? Леночка разрыдалась.
— Так значит ты не хочешь моего счастья и меня не любишь!
Чисто женские доводы — шантаж своего рода! Но, слава Богу, чутье моей дочурки оказалось верным. Удалось все уладить, получить разрешение на брак от Владыки Серафима — «в виду особых обстоятельств» и все прочее. Через несколько дней, после регистрирования в городской ратуше, и католического венчания, я обвенчал мою Леночку с Джоном в нашей православной церкви.
Спустя несколько месяцев, моя новая американская гражданка, выехала к своему мужу, который оказался всем, чего можно было пожелать в своем зяте. Узнав Джона ближе, я полюбил его, как сына.
С тех пор, прошло 35 лет. У них сын, Леонид — та-лантливый архитектор. Последние 27 лет они живут в своем доме, в Оранже, близко от Лос-Анджелеса. Он и она работают на ответственных постах. Дом их — один из самых гостеприимных, в которых мне пришлось побывать и погостить, за мою долгую жизнь. У Леночки на редкость любвеобильное сердце! Она пошла в свою маму — дорогую, незабвенную мою матушку, Танюшу. Что больше я могу сказать!..
В начале 1948 года, когда все больше православных беженцев были переведены в другие места Германии или переехали в другие страны, так что наша деятельность начинала суживаться, я получил приглашение и аффидевит от Владыки Архиепископа Виталия — занять место второго штатного священника с окладом в 75 долларов в месяц и даровой квартирой при соборе Русской Зарубежной Церкви в Нью-Йорке. Владыка писал о большой нужде в пастырях с опытом служения. Я с радостью согласился принять новое назначение…
В Северной Америке
Прибыв на пароходе, вместе с Ди-Пи разных нацио-нальностей, и заполнив много анкет в Иммиграционном Отделе, мы наняли такси и не говоря ни слова по-английски, отправились к Владыке Виталию в Бронкс. Он принял нас очень сердечно и начал с того, что накормил. После он объяснил мне, что назначение мое было фиктивное, чтобы получить разрешение поселиться в США и что на самом деле, он посылает меня, на следующий же день, миссионером для средних штатов в город Цинциннати, где есть русские, которые просили его прислать им священника и что:
«Там нет церкви еще и все придется начинать с начала, но у вас большой опыт пастырства и я, услыхав о вас много хорошего, надеюсь на вас».
Надо сознаться, что я был огорчен не менее своих сыновей, которые начитались про небоскребы и мечтали поселиться в одном из них. Я же принял назначение за чистую монету и уже свыкся с мыслью жить в Нью-Йорке, при соборе… Что ж поделать — выбора не было.
И вот, мы снова в пути — Юрик, Сандик и Сережа. Леночка не могла нас встретить в Нью-Йорке, так как у нее, в день нашего приезда родился первый и единственный сын — Леонид… Нас посадили в поезд, но никто не встретил нас в Цинциннати. Указали адрес на клочке бумажки шоферу, и он отвез нас в дом семьи Соколовых, где нам временно отвели комнату со столом. Главным препятствием, в начале нашего пребывания в США, было наше полнейшее незнание языка, что создавало чувство беспомощности при общении с американцами — в магазинах, в поисках жилища, службы и т. д.
Я поставил себе три цели: найти работу, чтобы стать независимым в денежном смысле, устроить домовую церковь и отыскать будущих прихожан, чтобы создать церковную жизнь и образовать приход. Числа русских, желающих иметь своего священника в Цинциннати, оказались также фиктивными.
Первым нашел работу Сандик. Он поступил на фабрику, изготовлявшую рояли. Юрик получил место представителя фирмы. Он ходил с чемоданом по домам, предлагая мелкие принадлежности, как ручки, дешевые часы и прочее. При нем была записка с ценами и удостоверение, что он глухонемой и беженец.
Один из русских знакомых Соколовых повел нас с Сережей в городскую управу, где мне выдали документ, что мы Ди-Пи, а я — священник и собираю деньги на церковь. Дали также и книгу, куда надо было вносить получаемые взносы и, при желании, адреса жертвователей. Оттуда нас послали в газету, где нас не только сняли и написали о нас статью, но давали нам всевозможные добрые советы.
По утрам мы выходили с Сережей, я — на поводу у него, так как он изумительно быстро научился нескольким необходимым фразам и скоро запомнил план города. Мы стучали во все дома, сперва с одной стороны улицы, затем с другой. Результат от такого энергичного хождения был минимален в финансовом отношении и максимален по отношению к подметкам нашей обуви. Часто хозяев не было дома, очевидно были на службе, иные не отвечали; другие давали пять, десять центов. Бывали и такие, кто не читая наше воззвание, увидав книжку для сборов, тут же захлопывали дверь.
Убедившись, очень скоро, что такой способ не только весьма неприятен, но и бесполезен, я узнал от кого-то, что на фабрике дамской обуви требуется грузчик. Для такой работы не нужно знание языка. Меня приняли. Сережу мы поместили в приходскую школу и из первого же жалования я нанял нам квартиру из двух комнат. Это был уже большой шаг вперед.
Работа моя состояла в следующем: я должен был укладывать коробки с обувью и, установив их в пять или больше этажей на двухколесной тележке, отвозить их через фабрику на двор, к грузовикам. Секрет заключался в умении уместить картонки, т. к. их не привязывали и первые недели они валились на пол — к большой забаве и смеху рабочих. Я носил штатский костюм, но был единственным человеком на той большой фабрике, носящим бороду.
Так вот, когда у меня случалась обувная авария и я нагибался, чтобы водворять картонки на место — служащие прерывали свою работу и, дергая себя за подбородок, — кричали «меээ-меээ»! Дошло до того, что я был вызван к управляющему, который попросил меня сбрить бороду, так как «она отвлекает других от работы, а мы платим по часам — 65 центов в час и 85 центов за сверхурочные часы».
— Я священник — ответил я — у нас полагается быть с бородой. Вы можете рассчитать меня, я понимаю вашу точку зрения, но сбрить свою бороду я не хочу и не могу. На этом кончились мои притеснения, и я втянулся в дело. По вечерам, я тоже работал сверхурочно; тогда вместо гружения надо было выбирать пары в огромной куче смешанных ботинок с дефектами, которые продавались за полцены. Это тоже казалось сперва китайской азбукой, но и тут я наловчился, со временем. К чему только не привыкает человек!
У нас хватало на жизнь с маленьким излишком. И тогда я нанял в очень дешевом и плохом районе, помещение — бывшую пустую кафетерию и мы, главное Юрик и я, принялись по праздникам сооружать подобие церкви. Денег на краску не было и, получив на фабрике (где ко мне привыкли, но считали эксцентричным) много картонок и рогожи, мы начали работать.
Юрик, очень даровитый художник и изобретатель, смастерил иконостас с тремя дверьми, все из картона, который складывался, и расписал его. Я обил все стены рогожей, из ящиков сделал престол, аналой и все самое необходимое. Нашлись добрые женщины, которые сшили покрышки и покров. Все было чрезвычайно скромно, даже убого, но с утварью, антиминсом и чашей, привезенными из Литвы, можно было через несколько недель, после аренды помещения, уже начать служить.
Сандику и Сереже было поручено помочь нам найти прихожан — на этот раз, не обивая пороги, а по телефону! Каждый вечер и по воскресеньям они искали русские фамилии в телефонной книге и звонили, чтобы сообщить о новом месте моления для православных. Загвоздка состояла в том, что многие, настоящие русские фамилии, были неудовлетворительным ни для набора прихожан, ни для мальчиков, которые предпочитали иначе проводить свободное время.
Когда все было более или менее закончено, мы еще раз обратились к редактору газеты и снова была статья. Теперь уже было куда прийти и молиться, и поэтому, на первую же службу, помимо наших знакомых и друзей, пришли на ту всенощную и новые, неизвестные нам дотоле, православные и, среди них, один американец. Как мне было радостно служить вновь и видеть лица молящихся в нашей, такой примитивной, но ставшей такой дорогой мне, часовне. Среди молящихся были и люди, живущие в Цинциннати и многие годы отрезанные от своей православной церкви. Как они были тронуты и обещали помочь.
В конце службы подошел ко мне и американец — его звали Штрадман, и передал мне, через переводчика, что эта маленькая церковь напомнила ему вертеп, где родился наш Спаситель и что он чувствовал благодать в ней. Православие давно влекло его, объяснил он, и дома у него много книг о православии, так что он хорошо ознакомлен с правилами веры и богословием, но не самими богослужениями и какая для него духовная радость, теперь, присутствовать и молиться с нами вместе…
Он был пресветорианец и вскоре принял крещение от меня, с полным погружением, а через год и жена его, в начале очень недовольная переходом мужа в другое вероисповедание, — последовала его примеру. Оба были очень благочестивы. Штрадман никогда не пропускал служб.
Понемногу стало стекаться больше молящихся, но некоторые боялись приходить вечером, потому что район был населен преимущественно неграми; между ними происходили стычки и вообще было небезопасно. Прихожане просили меня переменить место богослужений…
Приблизительно в это время, я познакомился с греческим священником и, когда я упомянул о нашей дилемме, он предложил мне пользоваться их залом над их церковью, с условием убирать все после богослужений. Греческая церковь была в хорошем районе, не на окраине и легко достижима. Когда я поделился этим предложением с прихожанами, то все были того мнения, что им надо воспользоваться. Итак, дело было решено.
Было жаль разрушать сделанное с любовью, своими руками, но складной иконостас пригодился и на новом месте, да и многое другое. Большой минус был в том, что надо было всегда все выносить в чулан, после каждого богослужения, так как зал был нужен самим грекам, после их служб.
Мне не нужно было больше платить арендной платы и я задумал нанять квартиру более поместительную, чтобы, во-первых, устроить домовую церковь в лучшей и самой большой комнате, а во-вторых, — сделать из моего жилища — временный приют и убежище для друзей Ди-Пи, оставленных в Банд Наугайме, которые мечтали переселиться в США, но не могли сделать этого без аффидевита, а его, без протекции, не легко было получить.
К этому времени у нас был уже церковный совет, вице-председателем которого был г-н Лапп (не помню его имени, отчества). Мы отправились с ним в отделение городского совета для иммигрантов, объяснив о своем желании вывезти «очень подходящих будущих американских граждан — пока Ди-Пи — из Германии». Начальник этого отдела очень сочувственно отнесся к нашей просьбе и тут же выдал нам анкеты, чтобы послать их лицам, желающим иммигрировать, чтобы те заполнили их и вернули ему, с рекомендательным письмом от спонсоров — то есть, от меня.
Мы последовали его совету и отправили несколько анкет, начав с Р. Заворотной, графа Мусина-Пушкина и семьи Мещаниновых. Полковник Наместник и его жена не хотели покидать Бад Наугайм из-за целебных ванн, которые очень помогали Сергею Константиновичу от последствий его ранений в Первой и Второй Мировых войнах.
Вся эта процедура занимала много времени. Я же нашел большую квартиру из шести комнат с четырьмя спальнями (две из них для мальчиков и себя, а остальные комнаты — одна с просторным чуланом, для церкви, а остальные для будущих гостей из Германии).
Пока мы еще пользовались залом греческой церкви, к нам приехал и остановился у меня на новой квартире Владыка, епископ Никон из Нью-Йорка. Была очень торжественная служба и, кроме наших прихожан, было не мало греков. У нас был уже свой, довольно хороший хор.
Вскоре после приезда Владыки, который остался доволен всем, что видел, мой приход отпраздновал мое двадцатипятилетие служения, (в 1949 году). Я получил Грамоту и прекрасный крест с аметистами и надписью. Все эти нежданные дары очень тронули меня…
Стали приезжать, получившие разрешение на въезд — мои друзья. Они жили на полном пансионе, конечно даром, пока не находили себе заработка и своей квартиры. Моя же стала вроде общежития, где мы дружно делились всем.
Добрый Владыка Виталий, узнав от кого-то, что я выписываю соотечественников, на свое иждивение, стал присылать мне 75 долларов ежемесячно из своего кармана, что очень помогло с покупкой продуктов.
Однажды явился ко мне господин-американец и сказал, что он встретил Юрика (у которого не было успеха с продажей товара) и зная директора школы для глухонемых, имеет возможность поместить его туда, чтобы закончить там образование, сроком на два года, даром, чтобы он смог общаться с другими, такими, как сам, и иметь лучшие возможности устроиться в будущем. Юрик очень хотел поступить в эту школу для людей разных возрастов. Я тоже был очень рад за него и согласился.
Там он, через некоторое время познакомился с девушкой, на которой потом и женился. У них родился сын, Яков и дочь Анна и Юрик зажил своей независимой от меня жизнью, встречаясь регулярно, когда он вернулся в Цинциннати, где пока я находился. Он остался жить там насовсем и до сих пор, работает там.
Во время моего пребывания в Цинциннати, приехала навестить нас и Леночка со своим мужем и маленьким моим внуком, Леней. То была исключительно радостная встреча. Леночка все больше напоминала мне мою Танюшу. Она возмужала, уже совсем свободно говорила по-английски, одевалась по последней американской моде и, самое главное, казалась счастливой со своим мужем, который видно души не чаял в ней — еще больше со времени рождения своего сына. Леночка выглядела так моложаво для своих почти 21-го года, что просто не верилось, что она уже мать…
Летние каникулы были длинные, а сада у нас не было; я не знал, что делать с Сережей, чтобы он не болтался на улице. Мне пришла мысль устроить его на лето в Джорданвильский монастырь, куда я слыхал, родители посылают своих мальчиков, чтобы они были на свежем воздухе и имели хорошее питание — главное были бы с монахами, которые знакомили бы их с православием и оказывали на них благотворное влияние.
Сережа поехал в монастырь, где ему так понравилось, что каждый год, после этого, он проводил лето там и подружился с другими мальчиками. Дети помогали на сенокосе, со скотом, лошадьми, домашней птицей, огородом и во многом другом и также прислуживали в церкви. Их учили читать по-славянски, петь на клиросе, помогать келейникам или в трапезной.
Все это было разнообразно и занимательно. Дети, без усилий, воспринимали дух своей веры и лучших традиций нашей родины. Владыка Виталий, настоятель монастыря и, одновременно, уполномоченный Синода Зарубежной Церкви в Америке, полюбил Сережу и, когда он подрос, посвятил его в стихарь. Одно время Сережа даже собирался принять монашество, но жизнь его впоследствии, пошла по другому руслу. Тем не менее, он никогда не терял связи с монастырем, знает все службы и был посвящен Владыкой в чтецы и до сих пор не пропускает воскресных богослужений, где бы не находился, если там есть православная русская церковь…
Наше «общежитие» процветало. Мы были, как одна большая семья. Мне удалось выписать около тридцати человек из Германии. Они приезжали, приспосабливались к новым условиям, брали уроки английского языка и начинали подыскивать место, покидая общий дом, когда становилось денежно независимо — или оставались в Цинциннати или уезжая на место службы.
Я.И. Заворотная осталась с нами, вела хозяйство, смотрела за Сережей, когда он был дома, шила на заказ, была членом церковно-приходского совета и, вообще, очень ценным членом нашего прихода. Когда кто-либо из наших гостей, покидал нас, его место заполнялось другими.
Мы уже не занимали зал у греков, а устроили свою домовую церковь в гостиной. Все трудились, как могли, чтобы оборудовать все как можно лучше. Из монастыря получили некоторые необходимые иконы, купили лампады, паникадила и многое, чего не хватало раньше, так что это не была уже примитивная церковь-вертеп, а скромная, но благоустроенная маленькая церковь.
Как мы все радовались и были горды ею, когда я освятил ее малым чином и у нас начались регулярные службы; теперь не надо было больше выносить все из чулана и снова уносить туда по окончании служб. Число прихожан росло. Я стал уже своим человеком на фабрике, где отношение ко мне совсем переменилось к лучшему.
Наступила весна 1950-го года. Я благодарил Господа за все и совсем уже привык к моим прихожанам и жизни в США когда вдруг, я получил указ от Владыки Виталия о том, что я назначен (с начала июня) Епархиальным миссионером на весь штат Техас с местожительством в Хьюстоне.
В приложенном письме Владыка благодарил меня за мои труды в Цинциннати (куда назначили другого священника) и объяснил, что в Техасе надо будет снова начинать все, с начала, и что он находит меня самым подходящим для такого ответственного назначения. За письмом последовала Грамота (приложенная в конце).
Не могу скрыть факт, что я не обрадовался этому знаку доверия. Но раз работаешь на ниве Христовой — не принадлежишь себе. Грустно было расставаться с сыновьями. Юрик кончил школу «Колумбус», служил и жил теперь, отдельно, но в Цинциннати, и мы часто виделись, Сандик все еще работал на фабрике роялей. Он не захотел переезжать, так как завел много друзей и не хотел «странствовать» со мной. С прихожанами были хорошие отношения и мысль, что надо всех и все оставить, когда, наконец, установилась нормальная жизнь, давила меня. Ко всему страшил, как мне сказали, очень жаркий и влажный климат в Хьюстоне…
За день до отъезда, прихожане устроили мне очень сердечные проводы. Сперва был молебен. Все были в сборе и знали, что возможно молимся, все вместе, в последний раз, поэтому, особенно горячо молились.
Доктор Извеков приехал за нами из Хьюстона на своей машине с прицепкой для багажа. Ехали с доктором — Раиса Ильинична Заворотная, Сережа и я. Выехали мы около семи часов утра, а приехали в Хьюстон поздно вечером. У доктора Извекова, кроме его дома, был рядом еще домик из трех комнат и лаборатории внизу. Он предоставил нам этот домик на временное жительство. Первое, что я сделал, с помощью других, было устроить в самой большой комнате церковь.
В то время в Хьюстоне, поскольку было известно, жило не много русских: Доктор Извеков с женой-американкой. Борис Борисович Юренев с женой Анной Ивановной, Василий Васильевич Завойко — инженер с женой Ириной Дмитриевной; Екатерина Мироновна Чепито, семья Житковых, семья Карнаух и Наташа Розен. После перебрались из Цинциннати Зельтины и семья Заворотных (не родственники Раисы Ильиничны), которых я выписал из Германии.
Как только мы все познакомились, я освятил церковь, и мы организовали церковный совет. Борис Борисович Юрнеев — в то время вице-председатель «Континенталь Ойл» (одной из главных нефтяных компаний в США) предложил мне попутешествовать по Техасу в поисках православных русских. Все расходы, сопряженные с такими поездками, он брал на себя.
Эти поездки, с перерывами, продолжались около года. Греческие священники одалживали мне свои церкви в главных городах Техаса и, в конце служб, я обращался к молящимся, спрашивая — есть ли среди них русские — и просил их подойти ко мне. Таким образом, я находил своих соотечественников, и они были удивлены и очень рады узнать, что в Хьюстоне уже есть священник и временная домовая церковь.
В каждом месте, где я находил русских, мы немедля организовывали комитет, поручая продолжать поиски русских православных. Так постепенно зажигались огоньки, по Техасу, маленьких православных общин.
То была упорная и утомительная работа из-за Техасского климата, в особенности летом, в Хьюстоне. Охлаждения никакого не было, а температура поднималась до 193 градусов, при влаге в 85% и не спадала ночью. Эта сторона оказалась самой тяжелой для непривычного к таким условиям человека. В духовном же смысле было много утешения.
После моего второго посещения Далласа, когда я уже совершил службу для русских в частном доме (комитет уже подыскивал более подходящее помещение), меня пригласил к себе на ужин некий, как мне сказали, состоятельный человек, Павел Маркович Райгородский. Он жил в одной из лучших гостиниц и имел там квартиру. Встретил он меня с большой теплотой и начал с того, что сказал:
«Батюшка, я преклоняюсь перед вашей стойкостью, с которой вы, знаю, проводите такую не легкую миссионерскую работу, и пригласил вас, чтобы вам помочь. Я считаю, что самое главное — это иметь в центре Хьюстона свой дом, где можно было бы устроить свой постоянный храм и квартиру для священника. Тогда, все бы знали, что имеется свой Техасский центр и это сильно облегчило бы вашу работу и объединило бы всех… Я знаю, что вы мне скажите — все это хорошо, но откуда взять деньги, необходимые для осуществления такой благонамеренной цели?.. Так вот, принимая все это во внимание, — я решил внести свою лепту в сумме 5.000 долларов. Вот мой чек. Жертвую от всего сердца!».
Я был так поражен и так тронут, что это происходит наяву, а не во сне, что сперва не мог, от радости и волнения, даже ответить ему. К горлу подступил ком и на глаза навернулись слезы. Затем я встал и обнял его. Он тоже, видимо, был тронут.
Такой нежданный дар (в то время, 30 лет назад, это была очень крупная сумма) был явный промысел Божий и Божие благословение нам. С еще большей энергией я принялся за дело, преодолевая различные трудности, которых было немало, но с полной верой в Силу и Волю Божию, и с помощью свыше не было ничего невозможного.
Вскорости начались поиски подходящего дома — то был первый шаг, и я верил, что Сам Господь укажет нам, достойное для Него помещение для святого храма… Так и вышло. После осмотра многих домов, я с нашим казначеем, Дарией Андриановной Жидковой, которая везла меня на своей машине, свернули, непроизвольно на Гарет Авеню и увидели там двухэтажный дом с белыми колоннами и с вывеской на нем — «для продажи». Мы остановились, позвонили, вошли. Первое, что бросилось в глаза — был зал, тоже с колоннами и чудной, старинной хрустальной люстрой. За домом был сад… Все идеально подходило для устройства церкви.
К нам вышла очень почтенная хозяйка дома. Мы объ-яснили ей цель нашего прихода. Она рассказала нам, что этот дом был домом конгрессов Епископальных Епископов, принадлежавший одному из них — ее деду. И вот, эта теперь одинокая старая вдова, находит дом слишком большим для себя одной и желает продать его, если возможно — под церковь. Стоимость дома со всей обстановкой — 14.000 долларов. Торговаться она не желает, но ради церкви, готова сбавить 2.000.
Итак, с Божьей помощью и указанием Божиим, мы купили этот дом, который сразу-же, стал центром Русской Православной Миссии всего Техаса. Тут же приступили к оборудованию церкви, работая всеми силами. Много трудов было вложено по устройству иконостаса, по проводке электричества и прочего. Главные усилия были положены моим дорогим другом, Николаем Ивановичем Зельтиным и плотником Доросским. Ценный дар был сделан греческим священником Пентакисом. Он подарил нам св. престол из красного дерева с итальянской резьбой. Престол был на мраморном фундаменте с колоннами, под сенью арки, над которой возвышался позолоченный купол. Это было подлинное произведение искусства, вероятно 18-го века и такие престолы встречались иногда в больших старинных русских церквах.
Наш храм был освящен 1 ноября 1952-го года в день св. Иоанна Рыльского и его мощи заложены в престол. Полный чин освящения был совершен Владыкой, Епископом Антонием Лос-Анджелесским (впоследствии Архиепископом Лос-Анджелесским и Южно-Калифорнийским).
Не только все наши прихожане из Хьюстона, но и многие из наших других общин прибыли из своих мест, чтобы отпраздновать вместе такой знаменательный день. Павел Маркович Райгородский отсутствовал, но прислал мне телеграмму, которую я прочитал всем присутствовавшим за трапезой после освящения храма, на которую мы ответили ему благодарственным письмом.
Число прихожан увеличивалось. Были у нас и свадьбы и крестины, случалось и похороны. В Далласе была основана церковь в честь св. Николая Мирликийского. Близкое участие принимал в устройстве этой церкви исполняющий должность псаломщика, профессор Д. Ройстер, посвященный потом в сан иерея Митрополитом Леонтием.
В Сан-Антонио была основана церковь в честь Иконы Божьей Матери Казанской; в Бельмонте — община в честь св. Георгия Победоносца, в Остине, где находится известный университет, ежемесячно совершались службы в университетской церкви.
В 1953 году была мною основана Воскресенская община, в Мексико-Сити. Наша церковь была в часовне Англиканского собора, куда приходили молиться около ста наших православных русских. Председателем общины и большим церковным деятелем в Мексике был А.П. Кассиль. Церковный совет этой общины состоял из вышеупомянутого Алексея Петровича Киссиля, барона А. Венгаузена, Н.Н. Гнибода, Николы Богатырева и графа Владимира Чернышева.
В 1954-м году нас посетил Владыка, Митрополит Ана-стасий — Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. Он провел у нас около двух недель и остался доволен деятель-ностью и успехами нашей Миссии в Техасе и Мексике. Владыка совершал сам Божественную литургию в нашем храме, который очень ему понравился.
Я знал Владыку Митрополита еще по Мюнхену, когда, во время войны, Синод Зарубежной Церкви имел свою штаб-квартиру там, и глубоко почитал Владыку. Его приезд к нам, на такой долгий срок, был большой духовной радостью и великой честью для наших общин и, сознавая это, все старались сделать его пребывание приятным и не слишком утомительным.
По возвращению своем в Нью-Йорк, Владыка прислал мне очень милостивую грамоту (приводится в конце), которую я принял, как относящуюся также ко всем потрудившимся со мной.
Незадолго до прибытия Владыки к нам, у нас произошло большое событие: Мексиканский католический приход в Далласе, во главе со священником, Ильей Рангель, (около 2.000 человек) приняли православие и присоединились к нашей Зарубежной Церкви.
О. Илья Рангель был ревностным аскетом и совершенно искренне уверовал в чистоту православной веры и потому перешел в нашу, а с ним и его приход. Службы происходили по-испански и Д. Ройстер исполнял должность псаломщика, но случилось так, якобы потому, что вышло замедление с утверждением его священства — он уехал, пропал без вести, а приход, без своего пастыря, вернулся к католицизму. Численно то была большая потеря для Зарубежной Церкви — об остальном трудно судить, поскольку неизвестно — понимали ли они, всецело, причину перехода или просто следовали за пастырем, как овцы, потому и не остались верными избранному вероисповеданию. Уход их прихода не отразился на деятельности наших общин.
Я продолжал регулярно служить повсюду и в св. Пас-хальную ночь совершал три заутрени в разных местах: Далласе, Сан Антонио и Хьюстоне. Все было вычислено к прибытию и отбытию аэропланов. Меня везли в пять часов из Хьюстона, полиция ехала впереди и гудела, так как важна была каждая минута. То же самое было в других местах. Все удавалось. Я вел запись всех богослужений в разных городах и имел карту с разноцветными флажками, чтобы помнить, куда и когда я должен был ехать, совершая не только все службы, но и многочисленные требы во всех общинах, но всегда с центром в Хьюстоне.
Фактически в 1957 году все у нас было уже организовано и в полном расцвете. Я мог положиться на всех моих сотрудников. В каждой общине был свой хор. Церкви были благоустроены и жизнь наладилась; как когда-то в Литве — Техасские общины были как приписные приходы там.
Я забыл упомянуть, что через некаторе время, после устройства церкви в Хьюстоне, были куплены аппараты для охлаждения: один для церкви, другой для алтаря. Жара в летние месяцы была самым тяжелым физическим испытанием, так как надо было переодеваться по три и больше раз в день.
Никогда не забуду маленький инцидент в начале моего пребывания в Хьюстоне. Дочь моя Леночка прислала мне в подарок пару пижам. Вставал я всегда очень рано и после молитвы пил кофе на заднем крыльце, которое выходило в сад и сидел, конечно в моей новой пижаме, вспоминая Прибалтику, где такой костюм считался самым подходящим и даже элегантным для выхода на пляж и гуляния. Так вот, однажды, когда мы сидели втроем, наслаждаясь утренней прохладой, явился полицейский и сказал (мне перевел Сережа), что соседка подала жалобу на меня в полицию за то, что я выхожу из дома в сад и сижу на крыльце в неприличном костюме!
Сережа объяснил полицейскому, что у русских пижама считается выходным костюмом и люди одевают ее, чтобы пофорсить в ней… Жалоб больше не было, но я уважая обычаи моей приемной страны (я принял американское гражданство в 1953 году) лишил себя этого маленького удовольствия.
Наша церковь была на нижнем этаже, а квартира наша — над ней. Состояла она из двух спален, моего кабинета-гостиной, столовой, кухни и ванной. Раиса Ильинишна все еще смотрела за Сережей особенно в мои частые отлучки и занимала одну комнату, Сережа другую, а в моем большом кабинете с пятью окнами, у меня, кроме письменного стола и кресел, был и диван-кровать, так что днем эта комната служила и кабинетом и гостиной, а ночью, спальней. Был еще диван и в столовой, на котором можно тоже было устроить постель, так что вся квартира, со старинной мебелью была удобна и устроена со вкусом. Лучше нельзя было пожелать.
Сережа ходил в школу и хорошо учился. В свободное время от занятий, чтобы иметь свои карманные деньги, он продавал вечернюю газету и, так как ее всегда раскупали у него, то когда он продал какое-то довольно импозантное количество газет — редакция подарила ему прекрасный новый велосипед, ставший, особенно вначале, его самым главным сокровищем.
Последние годы в гимназии, Сережа работал грузчиком, в свободное время, а лето всегда проводил в Джорданвилле, в Троицком монастыре, где я побывал несколько раз и который мы оба очень полюбили.
В 1957 году прошло тринадцать лет со смерти моей матушки Татьяны. Сереже минуло уже 19 и он, окончив гимназию (Хай Скул), учился уже на бакалавра коммерции в Лабоке (в Конн.), то есть, был уже взрослым и не нуждался больше в присмотре. Раиса Ильинишна переехала жить со своей сестрой-доктором, которую я выписал из Бад Наугайма. Я был один и мне все еще приходила мысль принять монашество — то, что я мечтал сделать после кончины Танюши, но не мог из-за детей и внешних обстоятельств. Я написал о моем намерении Владыке Виталию. Он одобрил его, но ответил, что я должен продолжать мой жизненный путь в миру — даже после принятия иночества, так как могу быть полезным в активной мирской жизни, помогая ближним…
Было решено совершить постриг 6/19 декабря в день Святителя Николая — нашего семейного покровителя и также годовщину моей хиротонии во священство (1925 г.).
Я приехал в св. Троицкий монастырь за несколько дней вперед, чтобы подготовиться духовно. В Техасе я совсем отвык от зимы, а здесь она была вокруг, во всей своей красоте, так напоминавшей мне Россию и Литву. Посвящать меня в ангельский чин должен был Владыка епископ Аверкий (Сиракузский Викарий Владыки Виталия).
Канун пострига… Перед всенощным бдением я уже в рубище, босой — ожидаю прихода монахов, которые поведут меня с зажжёнными свечами из моей келии в церковь… Вот мы шествуем… Морозная, ясная, лунная ночь. Яркие звезды на небе, белый покров на земле, в руках огоньки от свечей — залог душ, стремящихся к Богу…
В церкви лежу крестообразно на полу в знак страданий Спасителя. Меня поднимает Епископ Аверкий. Начинается постриг. Я стою все время на особом месте, со свечой. В конце всенощной, вся братия поздравляет меня с принятием монашества…
Все уходят, и я остаюсь один на всю ночь в церкви… Тишина… Мерцают лампады. Вокруг лики святых… Не чувствую усталости, нет сомнений. Душа парит над плотью и внемлет Богу…
Нарекли меня Алексием, в честь моего небесного по-кровителя, св. Александра Невского, который перед своей кончиной, принял схиму с именем Алексий. Я принял при постриге, чин иеромонаха, на следующий день — игумена, а 28 июля, того же года, в Нью Йорке, Владыка, Митрополит Анастасий возвел меня в чин Архимандрита (в Синодальном соборе).
Моя паства радостно приняла меня по моем возвращении и все продолжалось по-прежнему в наших общинах.
У меня было крепкое здоровье и, несмотря на некоторые лишения в прошлом, я никогда (кроме обычных детских болезней) не мог пожаловаться ни на какие недомогания или боли, считая себя физически почти несокрушимым!
И вдруг, ранней осенью того же 1958-го года у меня открылись жестокие боли. Меня срочно отвезли в госпиталь в Хьюстоне и там оперировали — вырезав камни в почках. Прилетела из Оранжа (где она жила с мужем и сыном) Леночка и ухаживала за мной, когда меня выписали. Операция прошла благополучно, но долго после чувствовал непривычную для меня слабость…
Позже, той же осенью, в конце октября, если не оши-баюсь, я получил Указ от Владыки Анастасия о моем новом назначении Администратором всех русских православных общин в Южной Африке. Во время моего пребывания в Нью-Йорке, в июле, Владыка говорил мне, что тамошний настоятель — больной сердцем человек и не может оставаться в Африке из-за высоты. Церковный центр находился в Йоханнесбурге, самом большом городе в Южно-Африканском Союзе, члене Великобританского Содружества, как он тогда назывался. В начале 60-х годов Южная Африка стала независимой республикой.
Владыка Анастасий говорил, что в Южной Африке существуют большие возможности для развития православия и что очень важно иметь там подходящего человека и что в Синоде шли в то время, обсуждения по этому вопросу…
После восьми лет в Техасе, я так привык ко всем моим прихожанам и они ко мне, так привязался ко многим, ставшими моими друзьями; крестил их детей и радовался их радостями или грустил с ними и ободрял их, когда сыпались на них удары, что покидать их всех, не говоря уже о моих детях и внуках, а также оставлять нашу намоленную церковь — было для меня тяжелым испытанием. Южная Африка была совершенно чужда мне во всех смыслах. Чтобы добраться до нее, надо было проехать пол света и разлука со всем дорогим мне, могла бы быть на всю жизнь.
Мне известны были несколько священников, которые просто отказывались ехать, куда их посылали. У них были уважительные причины на это. У меня было много аргументов против назначения в далекую Африку, и скажу, что мне очень хотелось отказаться от миссии, которая казалась продвижением и доказательством особого доверия со стороны Владыки Анастасия и Синода.
Но я принял назначение, потому что сознавал — что как монах — должен принять послушание, какое бы оно не было и также оттого, что не хотел огорчить Владыку, которого очень почитал и любил.
Глава VII. В Южной Африке
Не стану описывать расставание с моими детьми и прихожанами. Скажу только, что всем было грустно… Полет мой был из Хьюстона до Нью Йорка, где я остановился у Владыки, который принял меня, как родного сына, накормил, уложил; утром служил молебен и благословил меня в дальний путь, чудотворной иконой Курской Богоматери. Он очень беспокоился о поездке, отправил меня на аэродром в своем автомобиле, прося написать ему сразу по прибытии на мое новое местожительство, о моих впечатлениях.
Мой маршрут был: Нью-Йорк-Рим; Рим-Йоханнесбург, с пересадкой в Риме. Я дал знать о дне и часе моего приезда, телеграммой старосте церковно-приходского совета св. Владимирской церкви в Йоханнесбурге, профессору Балинскому.
В Рим я прилетел поздно вечером и, проведя ночь в гостинице, рано встал и взял такси, чтобы не опоздать на аэродром. Там я сдал свой багаж, показав мой билет, и направился в паспортный контроль, чтобы ждать в зале, когда взовут мой полет.
Каковы же были мое удивление и тревога, когда чи-новник, внимательно просмотрев мой паспорт, заявил мне, что не имея южноафриканской визы, я не могу лететь туда, а получить ее в Риме невозможно, так как надо хлопотать за месяцы вперед из США… Можно представить мои переживания! Денег у меня было в обрез. Билет покупал не я, а те, что его купили, наверно думали, что американский паспорт — талисман или волшебная палочка… Не тут-то было!
Я взял такси, не зная ни слова по-итальянски и никого здесь не зная! Как-то объяснил, указывая на какую-то церковь, что мол, — в русскую еду. Шофер сметливый, понял, в конце концов, — привез. А то было воскресенье, и я попал на службу — и то слава Богу! Не оставил меня Господь и тогда. Рассказал все настоятелю (забыл фамилию) и он познакомил меня с добрым русским человеком, Б.А. Богоявленским (вот уж действительно так) и он взял меня к себе.
На следующий день отправили телеграмму старосте: «Визы нет, денег нет, застрял в Риме. Адрес — русская церковь». Позвонили батюшке, чтобы уведомил, как только будут известия…
Оказывается, русский и сербский церковно-приходской совет, в полном составе, встречали все аэропланы из Рима в течение двух с чем-то дней. Телеграмма пришла на второй вечер, когда все были на аэродроме. Староста позвонил секретарю — как быть? Надо спасать о. Алексея…
Случилось почти чудо. Секретарь, Елизавета Григорьевна позвонила рано утром в Министерство Внутренних Дел. Человек, который ответил, выслушал всю историю и, очевидно, был тронут рассказом обо мне, — оказался самим министром! К нему был прямой провод всю ночь, до начала служебных часов — в восемь. Елизавета Григорьевна поехала в Преторию, повидала его, не зная — кто он, и министр велел позвонить в южноафриканское консульство в Риме и мне выдали визу, вне всяких очередей.
Встретили меня очень торжественно и русские, и сербы в тот Татьянин день 12/25 января 1959 года, когда я вступил в ожидальный зал. Все подходили под благословение: председатель О-ва Русских Эмигрантов, М.С. Свиридов, председатель Сербской Общины, Н. Жакула, староста, профессор Б.И. Балинский, секретарь Церковно-приходского Совета, Е.Г. Фокскрофт и некоторые другие члены обоих русских советов…
Вез меня полковник Е.И. Можаров (таксист) со всем багажом, другие следовали за ним. «Вот приедем к вам на дом — отдохнете, батюшка, наверно устали?».
— Спасибо за внимание, но я бы хотел, сперва заехать помолиться в вашей, то есть, в нашей св. Владимирской церкви и отслужить там благодарственный молебен.
— Что вы, батюшка — какая св. Владимирская церковь! У нас нет, пока, никакой церкви. Настоятель здешнего собора, о. Берон разрешает нам служить по воскресным дням и праздникам в одной из боковых часовен Англиканского Йоханнесбургского собора — это все.
Я не верил своим ушам — как же так! Я помню, недавно читал: «…своя церковь на кирпичном фундаменте»?
— Это наверно приснилось вам во время полета. Всякое бывает… Нет у нас ничего, увы, кроме кое-какой утвари и облачений, да нескольких икон. Все это содержится в чулане. Мы вынимаем эту утварь перед службой, а потом уносим обратно туда, так как часовня нужна для своих прихожан. Неужели вы не знали этого? Мы думали — вам все известно.
Он словно обухом ударил меня! Я молчал, а потом сделал усилие и говорю. — Ну, раз так — так везите меня на квартиру, а про себя думаю, — какие еще сюрпризы ждут меня на дому? А возница продолжает:
— Вы наверно привыкли жить в келии в монастыре, а у вас тут, целых две комнаты с кухней и ванной — роскошь.
Сижу и думаю: откуда он воображает я прибыл? Уж не из лагеря ли Ди-Пи?
Въезжаем в большой, шумный город. — Около миллиона жителей — сообщает он. Замечаю много автомобилей, автобусов и людей белых, черных и других оттенков, спрашиваю: — А как у вас здесь, насчет прихожан? Сколько их и кто они — русские, сербы или какие-нибудь здешние?
— Что вы, батюшка, черные у нас, пока только в услужении! Нет, — мы и русские, и сербы, все иммигранты первой иммиграции из России, а сербы — после Второй войны. Их больше, чем нас. А русских, на всю страну так — около сотни наберется. Здесь, нас в Йоханнесбурге с пол сотни.
Отлегло у меня на сердце. И то слава Богу!
Подъезжаем… Многоэтажный дом. Возница продолжает: — Квартира в самом центре, на одной из главных улиц. Напротив вас — вон импозантное здание — это Верховный Суд. Рядом с ним сквер, можете гулять там. Все магазины рукой подать. Выбор товаров и продуктов первосортный. Жить будете на первом этаже; есть и лифт, черные уборщики, одним словом — полный комфорт, как у Христа за пазухой!
Поднимаемся. Двери раскрыты настежь. При входе (видно увидали, что мы приехали), встретила меня старшая сестра, Т.Р. Кирзи, за ней другие сестры, регент хора, баронесса С.А. фон Раден и несколько дам. У старшей сестры — хлеб-соль. Принял, поблагодарил. Квартира чистая, только что отремонтировали; комнаты маленькие, но большой балкон. Стол был уставлен разными яствами и приношениями и среди всего — карточка с надписью: «Добро пожаловать!».
Прием был очень радушный. Грустно только было узнать, что за семь лет не удалось еще устроить свою постоянную — если не церковь, то хоть домовую часовню. Как же так, что ни Владыка, ни я не знали этого?
Когда все разошлись, я тут же решил на следующее утро устроить в комнате, что при входе, — часовенку, чтобы совершать там ежедневные службы. Спал я не плохо для нового места и рано утром принялся за работу. Черный, как вошел со своим ключом, не постучав, вытаращил на меня глаза и долго смотрел, не двигаясь, как я все передвигал. Я жестами объяснил ему убрать лишнюю мебель в кладовку, что он и сделал, ухмыляясь…
Кончив, я вышел погулять. Правда — выбор отличный, все есть за деньги, но цены, тогда в 1959 году были гораздо ниже американских. Изобилие всего! Здесь, оказывается, масса русских и литовских евреев-коммерсантов, разных профессий и, к обоюдному удовольствию, можно было объясняться, во многих магазинах, на родном языке.
Православная русская колония в Йоханнесбурге и окрестностях, где жило большинство, состояла приблизи-тельно, из 50-ти человек. Сербов было в два или три раза больше. Русские принадлежали к первой эмиграции, многие из них были уже в преклонном возрасте.
Не имея своей церкви, и как бы связывающего звена в церковном доме — было трудно наладить нормальную церковную жизнь, поскольку встречались или в чужом храме, во время служб или у кого-нибудь на дому. У многих прихожан было своеобразное понятие, что меня, как монаха, нельзя было приглашать с другими гостями, а только отдельно, не затрагивая мирских тем, из которых, главным образом, состояла их жизнь, а горения духовного у большинства не было…
Имея некоторые средства, подыскивали подходящий дом, но до поры, поиски наши были безрезультатны. Большая для меня радость была во время первой службы, когда я услышал пение здешнего прекрасного хора, стоявшего на подлинно художественной высоте, честь чего принадлежала много потрудившейся Софье Александровне фон Раден, у которой был дивный, мягкий альт. Другой солист, исполняющий «Верую» — баритон, доктор Краснокутский; третий — известный певец Жаровского хора (в прошлом), талантливый художник, В.А. Иванов. Этот хор можно сравнить с нашими лучшими хорами в США.
В часовне, предоставленной нам — отличная акустика. Апостола читал почтенный Федор Григорьевич Ильченко, с чувством отчеканивая каждое слово. Служба проходила празднично и торжественно. Часовня была полна молящимися, кроме русских и сербов, было много инославных. Запись этой службы сделали на магнитофонной ленте для радио. Телевидение появилось в Ю. Африке только в начале 70-х годов. Настоятель собора сердечно приветствовал меня и также греческий Экзарх престарелый Митрополит Никодим, к которому я отправился с визитом.
Работы предстояло очень много — до некоторой степени, начинать все с начала, но силы мои были не те, что прежде. Операция удаления камней в почках подкосила мое здоровье. Я стал быстрей уставать, да и непривычная высота наверно отозвалась на сердце (6.000 футов над уровнем моря).
Официальная встреча меня была организована приходом Общества Русских Эмигрантов (ОРЭ), к которому принадлежало большинство русских и сербской общиной, в большой греческой гостинице. Это был банкет, где присутствовало около 150 человек, с застольными речами и обилием пищи и напитков. В начале был отслужен молебен, а в конце меня ожидал сюрприз. Хором был пропет гимн-приветствие, слова и музыка которого, были написаны хористом (и таксистом), полковником Можаровым, специально для меня.
Слова гимна были красиво вырисованы по-славянски на пергаменте, обрамлены и преподнесены мне.
Я был очень тронут таким вниманием и поблагодарил всех присутствующих за их доброе отношение ко мне и выразил надежду, что с таким многообещающим началом и помощью свыше и от всех духовных чад, объединясь в одну большую, дружную семью, мы двинемся смело вперед и достигнем цели — иметь свою постоянную, домовую церковь.
Много теплых слов и пожеланий было произнесено в тот вечер. Перед тем, как расстаться, мне пропели многолетие.
Так, вступив на новую землю, началось мое служение в Южной Африке. Привожу слова гимна, посвященного мне:
Приветственный Гимн о. Архимандриту Алексею
Гряди, гряди
Богом посланный нам Пастырь!
Гряди, гряди
Долгожданный Отче!
Прииди, прииди, Ты, наш Наставниче!
Прииди Боголюбче!
Яви любовь и теплое участие
И веди нас к правде,
К истине и счастью,
Яко Ты, еси наш Пастырь —
И будет мир и любовь в народе
И слава приходу его!
* * *
Чтобы ближе познакомиться с моими новыми при-хожанами, я стал приглашать их к себе на чашку чая, после их службы. Борис Иванович Балинский преподавал зоологию в университете Витвадесранда в Йоханнесбурге. Он был родом киевлянин и один из немногих, принадлежавших ко второй эмиграции. У него был сын Ваня от покойной русской и дочь Лена от здравствующей жены-немки.
Михаил Сергеевич Свиридов, инженер, был директором компании и жил в своем доме со своей женой, в Нордклифе — фешенебельном предместье Йоханнесбурга.
Там же жили Виктор Архипович Иванов с женой Ириной Сергеевной. Он работал карикатуристом в главной вечерней бурской газете и, будучи одновременно певцом и художником, благодаря своему веселому нраву, был душой русских собраний, на которых всегда пел русские песни, аккомпанируя себе на гитаре.
В том же пригороде жило семейство Швецовых с двумя дочерями и их друзья, Николай Николаевич Тамм, геолог, с женой, немкой Гертрудой с их тремя детьми и, кроме них, чета Владыкиных. Он был директором одной из главных компаний по вывозу бриллиантов, и поэтому, считался большим тузом. В более скромном пригороде жил Федор Григорьевич Ильченко с женой и сыном и также Муза Андреевна с мужем-датчанином и двумя сыновьями. В другом конце города жил доктор Краснокутский с женой и сыном. Он был владельцем антикварного магазина.
Другому русскому, Н.Л. Яле принадлежал оружейный магазин. Б.Г. Кошелев издавал экономический журнал; В.А. Миллер был юрист-консультант; А.И. Столяренко жил на пенсии и на заработок своей жены-гречанки, у которой был магазин дамской одежды.
Т.Р. Кирзи работала портнихой, а доктор Т.И. Гарди был известным врачом. Почти в 10 милях от города жила в своей усадьбе, Ольга Леонардовна Байкова — наш будущий казначей, со своими тремя сыновьями. У нее был участок в пять акров. Перед домом была круглая лужайка, обсаженная розами, а за ними полукругом росли высокие кипарисы. В сторону вела аллея из тополей, шелест которых, напоминал мне строки из «Тиха украинская ночь…».
При всех домах были сады, обычно от четверти до одного акра, а у Ивановых почетное место занимала береза — редкость в Ю. Африке, которую они взрастили и которой гордились. Елизавета Григорьевна жила в своем доме, в стороне от других русских; у нее было трое детей: один сын в Канаде и две дочери. Она работала как заведующая отделом связи в вентиляционном предприятии.
Елизавета Григорьевна много помогла мне в сношениях со всеми, кто не знал русского языка, так как она в свое время, кончила Оксфордский университет и много лет прожила в Англии.
Она уделяла мне много времени, будучи очень занятой и я не знал, как ее отблагодарить — когда представилась совершенно неожиданная возможность. У нее оказалась, спустя недель шесть, после моего приезда, опухоль и ей предстояла срочная и серьезная операция. Она была первым человеком, жизни которой угрожала опасность, среди моих прихожан. Я молился пол ночи, накануне, и напутствовал ее рано утром, перед тем, как ее увезли на операцию, которая долго длилась и прошла, как сказали «успешно», но она была очень слаба и очень медленно поправлялась. Пока она лежала в больнице, не очень далеко от моей квартиры, я навещал ее по два и три раза в день, стараясь отвлечь ее от тяжелых мыслей, принося ей то цветочек, то пирожное, читая ей вслух и т. п. Так началась наша многолетняя дружба и сотрудничество, так как я знал, что могу доверить ей во всем.
Понемногу моя новая жизнь вошла в свою колею. Каждое воскресенье и по праздничным дням я служил в англиканской часовне. Было у нас несколько свадеб и крестин, главным образом, среди сербов, и в начале, редкие похороны.
Самыми старшими прихожанками в нашем приходе были: мать Елизаветы Григорьевны, Евгения Николаевна Кандыба (урожденная Каульбарс), баронесса Ксения Романовна Фредерикс и Елизавета Леонидовна Миллер. Они были и самые набожные, так как не пропускали служб и во всем поддерживали авторитет своего пастыря. Как и повсюду, были и у нас в приходе не религиозные люди, для которых священник был как бы чиновником, исполняющим свои служебные обязанности на жалованье у них, а не их духовным отцом. К счастью, они были в значительном меньшинстве.
В октябре 1959 года, родственник по мужу Елизаветы Григорьевны, пригласил ее, с ее подругой из США, гостившей у нее, и меня, поехать на несколько дней в знаменитый заповедник для диких зверей «Крюгер Парк», находящийся около 500 километров от Йоханнесбурга, в восточном Трансвале. Заповедник этот — 400 с чем-то км. в длину и около 80 км. в ширину. С одной стороны границей его служила река и горы (за ними Мозамбик); с другой — большие фермы буров, на которые иногда заходят дикие звери. В таких случаях фермеры, всегда имеющие при себе оружие, имеют право их пристреливать…
Какое приятное это было путешествие! Октябрь — как май. Все в цвету — разгар весны, а в тех краях, гораздо ниже и ближе к морю — уже начало лета. Какая там растительность, какое обилие птиц всех пород и оттенков, не говоря уже, о диких зверях! Мы останавливались в лагерях, окруженных высокой стеной из частокола. Ворота открываются в шесть утра и закрываются в шесть вечера. Какой там дивный воздух! В лагерях маленькие круглые домики с мебелью и постельным бельем. Можно привозить еду и готовить ее самим на жаровнях под открытым небом или покупать готовые продукты в консер-вах на месте. В больших лагерях есть рестораны и можно столоваться в них. По середине парка и в стороны проложены дороги для автомобилей. Выходить из автомобилей строго воспрещено, так как не раз случалось, что нарушавшие эти правила, заплатили за это своей жизнью и, на глазах других туристов, были растерзаны дикими зверьми и съедены — по большей части, львами.
Мы видели львов, большие стада слонов, сотни газелей, гиен, зебр, диких кабанов, обезьян разных пород и размеров, которые пристают, прыгая на машины, надеясь получить еду и, если не закрыть окна, они вытянут, что попало и могут испугать детей. Есть там много жирафов и змей.
Интересно смотреть рано утром или когда вечереет, как животное царство собирается на водопой. В реке лежат носороги; обливаются водой, стоя в ней, из хобота, слоны. Иногда на берегу нежатся крокодилы… Ночь наступает очень быстро в этих подтропических местах… Лежишь в постели и слышишь рычанье львов, визг гиен или, холодящий сердце, клич слонов. Звери живут там на полной свободе и просто не замечают людей, которые двигаются по дорогам в закрытых машинах и не имеют представления о том, что происходит в гуще джунглей близко от дорог, но вне диапазона их любопытного взора.
И какие разыгрываются там драмы, когда более сильные охотятся и пожирают более слабых… Эта поездка поверхностно познакомила меня с совсем другой Африкой, чем та, которую я видел ежедневно в Йоханнесбурге — промышленным и индустриальным центром страны и также осью золотых приисков, которые вместе с бриллиантами, составляют главное богатство Южной Африки. Навсегда запомнилось то приятное и интересное путешествие.
В 1960 году, настоятель Англиканского собора, куда стало приходить на службы все больше черных, попросил нас подыскать другое место для наших богослужений, так как они не могли обойтись без регулярного служения в часовне, предоставленной нам. Это был удар!
Мы вошли в контакт со многими инославными церквами (греческая церковь могла только предложить мне сослужить с их священником). После долгих поисков, шведский протестантский пастор разрешил нам пользоваться их церковью на тех же условиях, как было с англиканцами… Тут мы почувствовали себя еще более чужими. И необходимость иметь что-то свое, заняла самое первое место. Мы мечтали найти себе дом, чтобы устроить в нем нашу церковь и квартиру для священника…
И вот, однажды, в 1961 году приходит ко мне Елизавета Григорьевна и говорит: «Батюшка, идем скорее, я нашла дом — только сегодня вывесили надпись, что он сдается. Я говорила с хозяином — он из Литвы и ищет всюду приличных жильцов, на которых можно положиться, так как он хочет сдать дом на долгий срок».
— Где он и каков? — спросил я.
— Идем, — все увидите сами, если вам понравится, надо сразу дать задаток, а то прозеваем.
Дом оказался, как раз, тем, что мы искали. Он был расположен на тихой улице, но близко от центра, с садиком и в двух кварталах от одного из главных парков в городе. За углом находились все продовольственные магазины. В доме было пять комнат, ванная, кухня и задний двор с помещением для двух черных. Комнаты были большие, с высокими потолками и с верандой спереди во всю ширину дома.
Хозяин — религиозный человек, был рад сдать дом под церковь и сбавил арендную плату. Нельзя было колебаться. Я согласился взять дом, и хозяин даже не захотел принять от нас задатка. В тот же вечер, мы сообщили старосте и членам совета о находке, и все были очень довольны, так как их поиски оказались тщетными. Дом был пуст. Оставалось две недели до конца месяца. Договор был подписан с первого числа следующего месяца, но хозяин разрешил нам пользоваться им сразу для устройства церкви.
Первым делом я известил Владыку Анастасия о нашей находке и был очень тронут, как и моя паства, получив телеграмму с его благословением и поздравлением…
С каким рвением, радостью и любовью я принялся, с помощью других, за превращение большой гостиной и смежной столовой в церковь и алтарь!
Работа закипела. Сразу были заказаны: престол, жерт-венник, аналои, поминальный стол. Над входом в церковь повесили икону св. Князя Владимира с лампадой. Пригодилась и моя утварь. Сестры принялись шить покровы и облачения. Вынесли все из чулана шведской церкви… С каким усердием все работали, сознавая, что церковь будет оплотом не только для нас, в Йоханнесбурге, но для всех православных русских и сербов от мыса Доброй Надежды до Кении и до Каира.
Очень торжественен и умилителен был чин освящения. Потом, когда я служил в первый раз литургию, все причащались с большим благоговением. После службы, собравшись вокруг большого, полукруглого стола в светлой столовой, с диванами вдоль всех стен, чтобы уместить всех, мы дружно беседовали, строя радужные планы на будущее.
Вскоре и неоднократно, совершал в нашей церкви литургию греческий Экзарх Никодим, а после его кончины — заменивший его Митрополит Павел, который благоволил ко мне и приезжал не только служить у нас, а иногда, просто заезжал на чашку кофе. Хорошо относился к нам также настоятель церкви, о. Кирилл.
Доказательством благожелательства греческого Ми-трополита, было извещение, гораздо позже, что святейший Патриарх Александрийский и всея Африки, прибудет, в первый раз по основании Патриархии, в Ю. Африку, чтобы заложить камень спроектированного огромного собора в Претории, и я приглашен принять участие в этом торжестве, в сопровождении нашего старосты и церковного секретаря. Это была большая честь для нас. Но еще больше обрадовало нас, после встречи с Патриархом Николаем IV, известие, что он намеревается совершить литургию в нашей церкви и после откушать с нами.
Как мы все готовились к этому незабвенному дню, не в первый и уже во второй его приезд, когда мы были приглашены уже на освящение законченного собора и я принял участие в его освящении. Это было большое событие для всей греческой колонии. На освящение были приглашены все греческие священники в Ю. Африке, члены дипломатического корпуса и члены Южно-Африканского Правительства. Присутствующих было около двух тысяч человек и многие стояли вне собора из-за недостатка места. После освящения был банкет, и Святейший Патриарх назвал следующее воскресенье, как день, назначенный для его служения у нас. Он также изъявил желание послушать русские народные песни, так как любил русское пение и слыхал, что у нас хороший хор.
Высокий, представительный Патриарх Николай IV был величав в своем роскошном облачении, так контрастирующим с нашей скромной, маленькой, но убранной как невеста — ради него, церковью в тот знаменательный день! Епитрахили на патриархе было больше 200 лет. Она была вся вышита чистым золотом и весила восемь фунтов. Начало св. литургии он служил в золотой короне, увенчанной двуглавым византийским орлом, а после «Трисвятого» был в золотой митре.
Талантливый проповедник, хорошо владеющий фран-цузским языком, и немного английским, он сказал очень теплое слово по-гречески, переведенное нам священником. Служил он проникновенно, с сонмом духовенства — явление необычайное в нашей церкви!.. Надо сказать, что наш хор оказался на должной высоте, а также и прислужники русские, но главное сербы, так как у нас не хватало молодых. Патриарх остался очень доволен всем, и мы были поражены простотой его обращения со всеми и сердечностью во время трапезы: он энергично хлопал в ладоши, поощряя наших певцов и певиц и хвалил русские блюда, которые подносили ему наши сестры.
У всех нас осталось самое отрадное впечатление от пребывания в нашей церкви и в нашем доме, Патриарха и мы были очень счастливы, что наш прием удался и как он выразил «доставил мне не только удовольствие, но и духовную радость».
Миссионерские поездки
В первые годы моего служения в Ю. Африке, до того, как в Африке стали образовываться независимые черные государства, я развивал мою миссионерскую деятельность среди наших общин, рассеянных по материку. Такие визиты совпадали с моими поездками в США, которые оплачивались моими детьми, чтобы не быть в тягость нашей бедной церкви. Я брал обратный билет с остановками, чтобы навещать свою паству в Родезии, Бельгийском Конго и Кении. Возвращался через Египет и Юго-Западную Африку.
Трудно выразить на словах духовную радость наших, истосковавшихся по своей церкви, таинствах и родном священнике, русских людей. Сколько сердечной теплоты и ласковой заботы я находил среди отдаленных от нашего центра, но таких близких душой, наших соотечественников.
В Солсбери (в Родезии) проживала семья Бориса Ви-тальевича Закревского, у которого я останавливался и, приехав в первый раз совершил таинство крещения дочери А. Нарышкина, а затем молебен, на который собрались все русские. Много русских было в Бельгийском Конго. Там я посещал города: Елизаветвилл, Леопольдвилл, Бразавилл, Камбов, Кальвези и другие. Тамошний греческий Митрополит Киприан, содействовал мне во всем, чем мог, и даже принимал участие в пении, приходя на мою службу в его церкви.
Помнится, мне один из приездов в Конго, в городок Баквангу и прием у инженера Г.Г. Макарова и его жены (урожденной гр. Апраскиной). Как сердечно я был принят ими и группой наших русских православных. Макаровы жили в прекрасном обширном доме, принадлежащим Бельгийской компании, дорожащей комфортом для своих служащих. В прочувственных словах приветствия, сказанного инж. Макаровым, было чувство подлинного благочестия. Все было приготовлено к молебну. В углу гостиной стоял стол, покрытой белой скатертью, уставленный иконами и украшенный цветами. Теплилась лампада, горели свечи. Было светло и духовно радостно. На следующий день была обедница и все причащались запасными Дарами.
Через день — отъезд, неизвестно, когда свидимся. Поэтому каждое слово пастыря слушается со вниманием и благоговением малой группой русских, заброшенных судьбой в глухие уголки одной из провинций Бельгийского Конго. Проводы… Краткое прощальное слово. Раздача крестиков детям… У некоторых взрослых слезы на глазах…
Следующая остановка в Камбов, — центре медных приисков, директором которых, в то время, был кн. В.В. Оболенский, радушно встретивший меня со своей семьей. У него был отслужен молебен и совершено освящение дома, только что выстроенного для него компанией. Затем я поехал в Кольвези к семейству графа В. Апраскина, на дому у которого была отслужена всенощная, а на следующий день — литургия, за которой причащалась вся семья и много греческих детей, так как в то время еще не было греческого священника и церкви, хотя место было уже куплено, освящено и закладка сделана. Греки очень активны в Африке.
До переворота, когда Бельгия отдала Конго черным, русским жилось там очень хорошо, но когда начался черный террор, почти все покинули Конго. Семья Михайловых, живших в Леопольдвилле, переехала в Ю. Африку, а большинство вернулось в Европу. Затем, на зов черных, кой-кто и вернулся обратно, но нельзя было положиться на их обещания и условия жизни были уже совсем не те, что прежде. Примеры замученных черными, белых наводили на постоянный страх…
Из Конго я отправился в Найроби (столицу Кении), где жила наша уполномоченная, М.В. Рождественская с сыном — кофейным плантатором. Там тоже мною был отслужен молебен и обедница.
Возвращаясь из США, где у меня были радостные свидания с моими детьми и перед отлетом из Нью Йорка с Владыкой Анастасием, я полетел на Святую Землю, а оттуда в Каир. Там я служил в одном старческом доме, содержавшемся на средства Объединенных Наций, и бедные русские, можно сказать, пленники, рассказывали мне ужасы о том, как их содержат, и умоляли помочь им. Увы, Египетское правительство было не расположено слушать жалобы и я ничего не мог сделать, кроме того, что послужил им и причастил.
Не помню фамилии милого русского, принявшего меня у себя, но он считал своим долгом показать мне пирамиды и сфинксы… Те русские, которые могли — покидали Египет. И семья Ф.Г. Ильченко и И.Е. Сушков и их друг поселились в Южной Африке.
Из Каира, который я покидал с тяжелым сердцем, жалея наших беспомощных соотечественников, я прилетел в Аддис-Абебу, столицу Абиссинии. Там я гостил у родственницы Елизаветы Григорьевны — Наталии Владимировны Хвостовой. Она и вся ее семья очень сердечно приняли меня. Церковь русская у них еще была на участке дарованной женой Негуса, хорошо относившейся к русским, но священника не было и мое служение было большой радостью для проживающей там горсточки русских.
Оставалось еще одно место до возвращения домой, в Йоханнесбург — Винджук, главный город протектората (находившегося под опекой Ю. Африки) Юго-Западной Африки, знаменитой своими бриллиантами, пигмеями (почти выродившейся расой) и красотой своих пустынь, весной, когда, в продолжении месяца, они представляют собой дивный ковер из всевозможных полевых цветов, всех оттенков. Ни цветущие пустыни, ни бриллианты, мне не пришлось повидать, но на одного пигмея удалось взглянуть — миниатюрный полуголый человек с колтуном на голове.
Русский, у которого я остановился, Мосолов — известный охотник, рассказывал много интересного о стране, его приютившей. Жаль, я не мог остаться дольше, но такие поездки по большим пространствам и короткими остановками — очень утомительны и меня уже сильно тянуло домой, в свою церковь, к своим прихожанам…
Путешествие мое на Святую Землю было очень зна-менательно, но не имеет отношения к Африке и, к тому же, посещения святых мест прекрасно описаны уже другими паломниками, так что я возвращаюсь к моим воспоминаниям об Южной Африке.
Дома и в церкви все было благополучно. Мой преданный черный слуга, Альберт, которого мы «унаследовали» вместе с домом, был зулусского племени и само олицетворение честности в смысле денег. В остальном же, касающемся продуктов — сахара, кофе, постного масла и прочего, он, по-своему разумно, считал — что все хозяйское — также и его, и проведя ток в свою комнату, расположенную во дворе, завел там электрическую печурку, на которой, потихоньку варил и затем продавал своим черным визитерам, не аппетитную с виду, но очень нравящуюся им, крепкую брагу.
Тем не менее, он был всей душой предан мне, почитая меня, как «жреца» и отца. Елизавету же Григорьевну (которая давно уже переехала в Преторию, куда ее пригласил ректор Университета Южной Африки, возглавлять первый отдел русского языка и литературы в Южно-Африканской Республике) он, когда был в экспансивном настроении, называл ее «мать». Это был самый большой комплимент от черного.
В Южной Африке, в Лесото (теперь независимое черное государство) было влечение к нашей церкви группы черных. Они звали себя «Ортодокс Африкан Черч» и просили меня принять их в лоно нашей православной церкви. Один из их священников даже приезжал ко мне несколько раз и приглашал меня приехать погостить у них в Лесото…
С миссионерской точки зрения, это могло повести к плодотворным результатам, но Южно-Африканское пра-вительство было очень против всякого сближения с черными и был сделан намек, что в случае ослушания правительственной линии— возможно отнимут право на жительство! Ввиду интенсивной и все увеличивающейся советской пропаганды, среди белых и гл. обр., черных, могли бы произойти осложнения, так как наивные черные верили, что русские явятся их освободить и возможно решили, что наша церковь — представительница советской церкви в СССР и будет первым шагом в этом направлении!
Круг моей деятельности в Африке, среди рассеянных по ней общин, не только сужался, но делался невозможным. Я старался чаще навещать моих прихожан, живущих или в самой Ю. Африке или в Мозамбике, который был тогда еще португальской колонией и ниже описываю три из таких поездок:
Вот я уже на перроне громадного, стеклом крытого, Йоханнесбургского вокзала. Собралось несколько из наших прихожан, чтобы меня проводить. Поезд тронулся ровно в 5:30 вечера. Обычно здешние поезда отходят точно по расписанию, но не редко приходят с опозданием. До Дурбана около 600 километров — должен быть там в 8 утра. Железнодорожная колея в Ю. Африке узкая. Йоханнесбург стоит на высоком плоскогории, около 6.000 футов над уровнем моря, а Дурбан — всего в нескольких метрах, но между ними очень гористая местность — «Долина Тысячи Холмов».
Железнодорожный путь вьется полукругами у их под-ножья и поезд проходит через много тоннелей, спускаясь в полутропическую, красочную флору Наталя, после умеренного климата и пейзажа, скорее напоминающего среднюю полосу России.
Поезда в Южной Африке удобные, постельное белье хорошего качества, всюду образцовая чистота. В поездах, идущих на большие расстояния, всегда имеется вагон-ресторан, где подают обильную пищу, которая дешевле, чем в других странах, но за последнее время инфляция распространилась и на Южную Африку и дешевизна отходит в «прекрасное былое». Мерно постукивают колеса; я один в купе первого класса. Большинство белых ездят в первом, хотя, замечаю, что и белые стали больше ездить во втором, в которых обычно ездят индусы, метисы, или черные. Третьего класса здесь нет.
Читать не хочется. Смотрю в окно на бесконечные поля зреющей кукурузы и подсолнухов; первая, в виде густой каши — главная еда черного населения, превышающего белое в четыре раза. Подсолнечное масло — самое употребительное из всех других растительных в Ю. Африке…
Ночь прошла благополучно. Выпив утренний кофе, с выбором блюд, в вагоне-ресторане, вернулся к моему окну. Мы ехали вдоль склона гор. Невдалеке виднелись разбросанные поселки, а часто и одинокие кругообразные хижины зулусов, без окон и под остроконечными, соломенными крышами.
Работают, главным образом, женщины. Одни шли за водой к ближайшей речке, или ручью, другие кормили детей, стирали, или толкали сушеную на солнце кукурузу. Вокруг хижин бегали куры, порой паслись козы. Все были заняты, кроме мужчин, которые или еще спали, или сидели на завалинке, около своего жилья, греясь на солнце в ожидании готовящейся на костре пищи…
Приближаясь к Дурбану, поражает количество плантаций сахарного тростника выше человеческого роста — излюбленное место жительства ядовитых змей! На этих плантациях (сахар главный экспорт Наталя) работают зулусы-мужчины, считающие ниже своего достоинства помогать женам и матерям по хозяйству.
Дурбан большой город — третий по численности населения, после Йоханнесбурга и Капштада. В нем около полмиллиона жителей. Это один из двух главных портов Ю. Африки и столица четвертой провинции — Наталя. Провинций всего четыре: Трансваль, Оранжевая свободная республика, Капская провинция и Наталь.
Дурбан расположен на берегу Индийского океана. Он был основан в начале прошлого столетия и был раньше Британской колонией. Расположен город на многих холмах и занимает очень обширное пространство, так как, кроме порта и индустриальных районов, находится курорт и над городом много усадьб, домов и дач, с одним или несколькими акрами земли; с садами, а то и парками, где деревья и кусты вечно зеленые. Зимы здесь нет и цветы всех сортов и в невероятном изобилии — приковывают взор. Они, наслаждаясь влажным, мягким климатом, соревнуются в своем разнообразии и яркой красоте…
В отдельных районах живут индусы — многие очень состоятельные, даже миллионеры, с особняками, не менее роскошными, чем у богатых белых. Скромнее жилища метисов и совсем убогие жилища черных. В Южной Африке пока еще существует расовая дискриминация, но она понемногу исчезает.
В центре города улицы с магазинами, не хуже евро-пейских, где можно купить, что угодно — лишь бы иметь средства! Много небоскребов, где находятся конторы разных предприятий: прессы, обществ, городской администрации, медицинского обслуживания и пр. На набережной, где пристань, всегда множество лодок и пароходов; от нее, вдоль берега, огибая бухту — широкая аллея, усаженная пальмами, напоминающая «прогулку англичан», в Ницце. Там — все многочисленные лучшие гостиницы и рестораны с чудным видом на море.
Сезон здесь — круглый год, так как купаться можно всегда, но декабрь, январь и март — самые жаркие месяцы, разгар лета, и поэтому, многие предпочитают относительно более прохладную погоду в июне, июле и августе. На пляжах всегда многолюдно и над ними будки, из которых следят за купающимися профессиональные пловцы, чтобы помочь в случае чего.
В Индийском океане много акул, и хотя на некотором расстоянии от берега в море раскинуты сети, волны прорывают их иногда, и акулам удается подплыть совсем близко к берегу и несмотря на все предосторожности, каждый год бывают человеческие жертвы, не всегда роковые, но с потерей руки или ноги.
В Дурбане несколько музеев, театры кинематографы, где показывают новейшие фильмы и славятся огромные аквариум и бассейн с ручными дельфинами, которые забавляют детей и взрослых. Дельфины такие акробаты, что заменяют цирк для всех возрастов.
Вот уже поезд подходит к вокзалу и на перроне за-мелькали носильщики. Меня встречают и радостно при-ветствуют мои немногие члены нашей, совсем маленькой здесь общины. Их, здесь, всего около десяти. Чета Игнатьевых (жена — бывшая известная балерина, муж — композитор. Оба уже покойные) отвозят меня к нашей благочестивой церковной представительнице, Ксении Александровне Бельмас (бывшей примадонне Берлинской оперы). Она очень радушно встречает меня, но предупреждает, что атмосфера в городе напряженная, так как были волнения черных в их районе, подавленные полицией и что лучше не ходить поздно вечером по пустынным улицам или по парку. В центре же, где всегда многолюдно, из-за мест увеселений и наплыва визитеров из Трансваля, совершенно безопасно… Обмениваемся новостями…
Всенощная в 6 часов, в греческой церкви, предостав-ленной мне настоятелем ее. В Ю. Африке очень много греков из Греции и островов, особенно из Кипра. Все кафе, по всей стране, принадлежат им. В одном Йоханнесбурге греков около 40 тысяч. Они строят церкви во всех главных городах и воспитывают своих детей в духе православия и старых традиций. При всех церквах школы, где детей приучают к церкви, обучают родному языку (хотя греки обычно говорят на нем дома) и Закону Божьему, чтобы остались верны своей вере.
Греческий священник, которому митрополит в Йоханнесбурге, дал разрешение одалживать мне свою церковь, во время моих приездов в Дурбан, позвонил К. А. Бельмас, чтобы сообщить, что все готово для всенощной. Батюшка сам встретил меня там. В церкви собрались наши русские, человек десять, двенадцать и почти столько же греков. Пришел и князь М. Кантакузен.
На следующий день — воскресенье, я совершал бо-жественную литургию в сослужении настоятеля церкви. Литургия была на славянском и греческом языках. Храм был полон молящимися. Очень хорошо пел греческий хор и прекрасный голос К.А. Бельмас выделялся своей молитвенностью. Все русские причащались.
После службы все собрались у Ксении Александровны на обед, который прошел в приятной беседе. Около пяти, провожаемый всей паствой, я отбыл со светлым чувством, что внес радость своим духовным чадам, которые обычно ходят в греческую церковь, где и говеют, но свое, родное, на знакомом языке, хотя исповедь и причастие те же, что и у греков, все же ближе и заветнее, особенно когда такая встреча между пастырем и паствой довольно редка и поэтому, еще больше значит.
Через несколько дней я решил отправиться в Лорензо-Маркс, столицу Мозамбика. Я думал поехать поездом, но Елизавета Григорьевна, подруга Ольги Васильевны Корсини (урожденной Олсуфьевой), у которой я останавливался, предложила повезти меня на своей машине. Ей был нужен отдых от ответственной работы в университете и, так как здоровье ее было довольно хрупкое, то перемена декораций должна быть благотворной для нее. Мы выехали из Претории, как только взошло солнце. Претория находится приблизительно в 560 км от Лорензо-Маркс.
Я вез запасные Дары и мою икону Нерукотворного Спаса, которую всегда брал с собою во все мои поездки. Претория расположена на плоскогории (около 5.000 футов над уровнем моря), а столица Мозамбика, порт на берегу Индийского океана (севернее Дурбана) находится в подтропической полосе, где летом температура поднимается до 110, а бывало и 115 градусов, тогда как в Йоханнесбурге и Претории она редко доходит до 85!
Погода была чудная, очень мало движения. Дороги в Ю. Африке образцовые; все магистрали покрыты асфальтом, с гаражами на более или менее регулярном расстоянии один от другого. До выезда мы останавливались, чтобы проверить бензин, шины и пр., в одном из гаражей. Ехали не спеша — приблизительно 85–90 км. в час.
Вдруг, вместо того, чтобы идти прямо, машина, которую только недавно покрасили, накренилась, так что почти коснулась крышей земли, сперва на одну сторону, потом на другую и, как волчок, описав круг по середине дороги, несколько раз, — остановилась. Мы замерли, думая, что пришел нам конец и из-за шока, не могли даже сразу сообразить, что случилось.
Вывел нас из оцепенения громкий голос. Рядом с ав-томобилем стоял фермер и, на чем свет стоит, ругал нас, потрясая кулаком нашему вознице. Он решил, что мы чуть не устроили аварию с пьяна, и он едва не врезался в нас, когда машина вышла из-под контроля. Не слушая наших объяснений, все еще ругаясь, площадной бранью, он оставил нас и уехал…
Никакого жилья не видно. Неужели мы застрянем здесь, Бог знает на сколько времени!.. Главное — что остались живы. Мы перекрестились за избавление, приписывая это спасение св. Дарам и иконе Спасителя. Сперва мы боялись завести мотор, думая, что он сломан, но потом, все же попробовали — он заработал. Посмотрели снаружи — обе стороны поцарапаны, но не пробиты и одна передняя шина оказалась почти совсем без воздуха; но машина двинулась, и мы доковыляли до первого гаража, объяснив, что случилось.
Проверили давление и оказалось, что все шины были накачаны и давление в них было совсем разное, так что заведующий гаражом удивился, что мы остались целы. Вернувшись из путешествия, мы заезжали в гараж, где черный все проверял и накачивал шины. Наш секретарь объяснила ему, что мы чуть не погибли из-за него. На это он ответил, что «измерительный прибор был сломан, так что я не знал сколько было накачано воздуха».
— Отчего же вы не пошли к боссу и не сказали ему?
— Он бы рассердился на меня и выгнал бы за сломанный прибор!
Неудивительно, что в Ю. Африке самый высокий про-цент, по количеству несчастных случаев, на свете! Привел этот пример, чтобы дать представление о степени чувства ответственности у туземного населения. Увы! За некоторыми исключениями, большинство черных еще во многом, как дети и далеко не готовы к политическому равенству.
Пейзаж был довольно монотонный — все те же поля кукурузы и пастбища, на которых паслись стада коров и овец, и изредка, несколько лошадей. Было еще не жарко. Но вот, начался спуск по очень живописной местности. Стало очень душно и влажно, хотя море было не так близко — около 120-ти километров. Тут все зеленеет и растительность другая, чем в центральном Трансвале: пальмы, манго, бананы, ананасы и много ручьев, речек и прудов для скота…
Наконец подъехали к таможне уже к вечеру. С юж-ноафриканской стороны, не было никаких затруднений проверка паспортов — вот и все. Между двумя таможнями — ничья территория, шагов в сто и дальше — уже португальцы, где повторилась та же проверка. Багаж не осматривали. Границу закрывали довольно рано, если не ошибаюсь, вскоре после шести и до шести утра, так что мы, все же, проскользнули. Оставался еще час езды, но дорога была в рытвинах и несравненно хуже южноафриканских.
Население Мозамбика очень смешанное — кроме пор-тугальцев, много метисов разных черных племен, а также большая итальянская колония. Многие белые южноафриканцы ездили сюда, чтобы играть в азартные игры, тогда запрещенные в Ю. Африке. Центр города очень оживлен — много туристов, ресторанов и отелей… Проехав центральную часть, сворачиваем на немощеные улицы, в загород и, после долгих поисков, находим усадьбу Ольги Васильевны Корсини (муж — итальянец).
Дом стоит в конце аллеи, все окна освещены — подъ-езжаем. На пороге уже ждет нас милая и радушная хозяйка. Она из первой эмиграции. У ее родителей была вилла во Флоренции и она выросла там, затем, выйдя замуж, жила в Швейцарии, Эфиопии, и потом, попала сюда. Входим в дом; там собрались другие наши православные русские, тоже заброшенные сюда судьбой. Их немного — около десяти. Все подходят принять благословение. У многих, давно не видевших священника — слезы на глазах. Одна старушка совсем расчувствовалась и говорит:
— Большое спасибо вам батюшка, что приехали утешить нас, не жалея себя!
Когда слышишь такое — не жаль никаких усилий. Кажется, я был первый русский пастырь, приехавший сюда. Паства маленькая, но жаждущая услышать слово Божие и более всего — причаститься и исповедоваться у своего священника.
Службы совершались в частном доме, у бедной благо-честивой семьи Одинцовых, состоящей из отца, матери и двух дочерей. Комната была украшена цветами, стол уставлен иконами. Чувствовалось с какой радостью и любовью все приготовлялось. Был Великий Пост. Я служил часы и вечерню.
На следующий день исповедовал всех и затем причащал св. запасными Дарами. Все молились с глубокой верой и отходя от Чаши, светились духовной радостью… После службы был общий чай, предложенный хозяйкой, с белым домашним хлебом, сухарями и местным медом. Все было просто, но уютно и сердечно…
Я провел шесть дней в Мозамбике, посещая всех, кого мог в городе и окрестностях, с молитвой и окропляя квартиры и дома святой Иорданской водой. Было очень жарко и влажно и ночи тоже были душные. Для меня это было не ново… Вспоминался Техас, где восемь лет пришлось мириться с такими же климатическими условиями. Простился со всеми, как со старыми друзьями, узнав много о жизни и переживаниях моих духовных чад. Путешествие обратно прошло без всяких неприятных инцидентов. Слава Богу!
Прошло несколько дней и, желая порадовать и паству в Капштаде, где было около тридцати русских в то время, я сообщил нашей представительнице там Ольге Васильевне Марш, что прибуду в эту законодательную столицу Ю. Африки. В этой стране две столицы, потому что Капской Колонии, самой первой, давно заселенной белыми — насчитывается уже триста двадцать с чем-то лет. Город Капштад — по-бурски и Капштад — по-английски — самый древний город в Ю. Африке. Он был основан Индийской Восточной Компанией и служил главным портом и остановкой в длинных путешествиях, между Индией и Европой представителям этой компании.
Там, маленькая группа колонизаторов из Голландии, занималась огородничеством по снабжению свежими овощами долгоплавателей (во избежание цинги) и также виноделием. Во время Людовика XIV и его законов, притесняющих протестантов, — некоторые из них выехали, со своими семьями, и поселились в Капштаде или вокруг него, привезя с собой корни лучших виноградных лоз, которые хорошо принялись и, за истекшие века создали репутацию отличных современных вин.
Капштад расположен на побережье Атлантического океана, близко от Мыса Доброй Надежды. И город, и его окрестности расположены на склоне Столовой горы (на-поминающей длинный стол, отвесно возвышающийся над городом) и очень красивы. Там много парков и садов. Керстенбош парк — один из самых известных в Африке; там замечательная коллекция всевозможных растений, главным образом цветов, семена которых продаются всюду в Ю. Африке. В 60-х годах прошлого столетия, в Капштаде остановился и пробыл некоторое время русский корабль; на нем путешествовал вокруг света писатель Гончаров и описал свои впечатления в своей повести «Фрегат Паллада».
Около ста лет назад, на главной площади города, про-исходили торги живого товара — черных рабов, которые работали на своих владельцев — зажиточных фермеров, и пребывали в самых примитивных условиях. Отношение к ним разнилось, в зависимости от хозяев, и многие черные, как русские няни, воспитывали детей своих боссов, часто были привязаны к ним и жили, как члены семьи.
В Капштаде, и сейчас, очень смешанное население. Кроме белых и черных, много метисов, малайцев, китайцев и смеси разных народностей. На живописных, извилистых берегах океана — много усадьб, окруженных зеленью. Стройные кипарисы, пирамидные тополя и различные породы пальм, напоминают Ялту и другие курорты черноморского побережья. Пляжи очень хорошие, светлый песок, но довольно сильный прилив и отлив…
Когда, после Англо-бурской войны, Капская колония была соединена с южноафриканскими республиками (Трансвальской и Оранжевой) в 1902 году, то каждая хотела сохранить свою столицу. Сделали компромисс.
Правительство и все дипломатические представители проводят полгода в Претории (от июня до января) и в Капштаде (от января до июня), что очень осложняет квар-тирный и школьный вопросы. Климат в Капштаде похож на европейский: зимой дожди и холодные ветры; летом сухо и довольно жарко. Перед очень импозантным зданием парламента (годовую сессию которого открывает президент) — аллея из вековых дубов, по которому бегают, в сезон, сотни полу-ручных белок и грызут жёлуди.
Капштад — большой портовый город и в бухте всегда много кораблей, яхт и других судов, всех размеров — от океанских гигантов до рыбацких лодок. Также, по дороге с востока на северо-запад, останавливаются огромные нефтяные танкеры.
Русские в Капштаде, да и вообще по всей Ю. Африке, почти все из первой эмиграции и в преклонном возрасте. Много смешанных браков, и родившиеся дети, вырастают уже в других традициях и некоторые плохо или совсем не говорят по-русски. Смешанные браки заключаются только между белыми, которым строго воспрещено смешиваться с черными или «не европейцами»! Не белые, в Трансвале, не могут путешествовать в тех же автобусах, или вагонах с белыми и останавливаться в тех же гостиницах, или есть в тех же ресторанах. В настоящее время проведено много реформ и разница между расами уменьшается.
Теперь, черные зарабатывают не гроши, как в начале моего приезда в Ю. Африку (1959 г.), а в зависимости от положения, которые они занимают. Так доктор, доцент, инженер получает то же жалованье, что и его белые коллеги, но до, сих пор, существуют разные школы для разных рас и так же районы, где живут, или только белые, или индусы, или черные.
Многое делается для улучшения быта не белых и медицинское обслуживание, хотя и в разных госпиталях — того же качества в смысле докторов, которые работают и тут и там. Еще один важный пункт: белые платят в госпиталях в зависимости от своего заработка; черные, при входе, должны заплатить некоторую сумму в размере 65 американских центов и все остальное: операции, переливание крови, протезы и пребывание в больнице — даром.
Пишу об этом, чтобы дать представление тем, кто не знаком с условиями жизни в Ю. Африке…
Возвращаюсь к русским. Среди русских поселенцев в Ю. Африке имеются люди различных профессий. Как я уже упомянул, в Дурбане живет бывшая известная певица и жила там чета Арсеньевых; он — музыкант, она — балерина. Все работают. Среди русских есть инженеры, землемеры, антиквар, специалист по бриллиантам, издатель периодического журнала, счетовод, шофер такси, преподаватель в университетах, владелец оружейного магазина, художник Тречиков и другие. Женщины заняты домашним хозяйством, служат секретаршами или в больших магазинах.
Была пятая неделя Великого Поста… Приехав в Капштад, я был принят очень сердечно и, в тот же день, начал служить всенощную в церкви, предоставленную нам англиканским священником, на которую собрались большинство русских, так как хотели говеть. Были там и сербы, которые повсюду находились в хороших отношениях с русскими и помогали нам, поддерживая нашу церковь. После всенощной была исповедь, и потом все разъехались.
На следующий день, в воскресенье, многие наши уже ожидали в церкви. Собрался небольшой хор из православных, а среди молящихся было много инославных, английского происхождения, которые хотели присутствовать на русской православной службе. Была теплая молитвенная атмосфера. Успокоенные и радостные отходили причастившиеся от Чаши.
После службы все поехали на русский обед, с закуской, борщом и пирогами, у гостеприимной четы Чеботаревых, а после него, мне предложили осмотреть достопримечательности города и старинные церкви. Особенно понравился мне почти трехсотлетний храм св. Иоанна Крестителя. Молодой настоятель пригласил меня послушать вечернюю службу.
Мы вернулись туда после осмотра грандиозного уни-верситета в классическом стиле, расположенного над городом у подножья Столовой горы, с чудным видом на бухту, океан и на соседнюю остроконечную гору — «Чертову вершину» с очень крутым подъемом. По тучам вокруг этой горы и туману по утрам — предсказывают погоду. До вершины Столовой горы, ходит вверх один и, одновременно спускается вниз — другой фуникулер. Повезли меня и на Мыс Доброй Надежды, где находится маяк и где сливаются Атлантический и Индийский океаны. Видели мы и крепость, построенную первым голланд-ским губернатором Капштада и Капской Колонии, Яном ван Рибеком, в середине XVII века.
Мы закончили обзор в храме св. Иоанна Крестителя. Церковь была полна молящимися и мое внимание было приковано к отличному хору, состоявшему всецело из черных мальчиков с прекрасными голосами. В конце вечерни, молодой настоятель приветствовал меня и представил своей пастве, как главу русских православных общин в Кении, Абиссинии и по южную сторону экватора, родом из России, но проживающего в США, и являющегося Администратором Синода Русской Зарубежной Церкви в Нью-Йорке. Юные хористы обступили меня и рассматривали с большим любопытством. Я похвалил их пение, и они остались очень довольны.
Незадолго до моего приезда в Капштадт, была забастовка черных рабочих по доставке молока по домам. Многие черные не хотели принимать участия в забастовке и вышли на работу со своими тележками, чтобы не терять заработка. Агенты черных зорко следили за нарушителями приказа бастовать и расправлялись своеобразным и радикальным способом. У нескольких человек была отрублена правая рука. Весть об этом облетела район черных и только энергичное вмешательство вооруженной полиции предотвратило возможные последствия террора.
А уже начиналась смута. Многотысячная толпа черных маршировала в центр города к парламенту, чтобы предъявить свои требования премьер-министру, кажется это был, впоследствии убитый, не черным, а греком, д-р Фервурд. Чтобы рассеять толпу пришлось применить слезоточивый газ…
В Южной Африке масса советских агентов, главным образом, среди городского пролетариата, часто находившегося без работы; им сулят всю землю и золотые горы. Не раз, черные, узнав, что я русский, и не зная разницу между русским и советским, говорили мне конфиденциальным тоном: «Мы так ждем избавления от наших притеснителей, здесь — с приходом русских спасителей из России. Когда они возьмут власть в свои руки, — для нас начнется чудная, свободная жизнь!».
Я вернулся в Йоханнесбург с духовным удовлетворением. Ждало много писем, как всегда и добрые вести от Сережи. Получив свой диплом в Коннектикуте, он теперь, кончал Авиационную Академию и был на отличном счету, а Сандик уже воевал в пехотных частях в Вьетнаме и это очень беспокоило меня. Были и письма от моих духовных чад, из разных мест. Контакт с ними всегда радовал меня…
Несколько раз в период моего миссионерского служения в Южной Африке, отправляясь в положенный каждый 3-й год отпуск в Америку, я посещал Святую Землю — получая великую духовную радость молиться и поклоняться святым местам, останавливаясь в Елеонском монастыре.
В монастыре меня всегда радушно и сердечно принимала добрая и заботливая матушка Игуменья Тамара (дочь Великого князя Константина Константиновича Романова), а также глубокочтимый и всеми любимый начальник Миссии, о. Архимандрит Димитрий — с теплой и подлинно братской любовью заботливо меня встречавший.
Вспоминаются благолепные службы, моленья в храмах Елеонской и Гефсиманской обителей, восстает в моей памяти достопочитаемая матушка Игуменья Мария, (ныне приснопамятная) с ее сестрами и все паломничества по всем святым местам. Особенно незабываемо всеночное моление мое у Гроба Господня и св. Голгофы; камень от которой мне посчастливилось отколоть (во время ремонта) и который находится со св. мощами священномученика Макария, Митрополита Киевского (Архимандрита Виленского, убиенного татарами во время совершения св. Евхаристии), подаренных мне добрым начальником Миссии, Архимандритом Димитрием, которые и пребывают в настоящее время у нас в церкви в Сан Диего.
А также помнится незабываемое духовно обновляющее многократное погружение в святой Иорданской реке и после, моление на вершине сорокодневной горы, место поста и молитвы Господа нашего Спасителя.
Все это вливало живительные благодатные силы на дальнейший подвиг миссионерского служения…
Приближалась св. Пасха… Светлая Пасхальная Заутреня и литургия прошли при еще небывалом стечении молящихся, среди которых было много сербов и инославных. С разных концов окрестностей города на своих машинах, автобусах, а некоторые пешком, спешили люди в нашу маленькую церковь.
Сколько любви, труда и надежд было вложено в этот скромный православный русский храм — единственный по эту сторону экватора. Как радовался я сам, когда, уже давно, освящал его и как разделяла эту радость моя паства!
И вот, мы снова празднуем Воскресение Христово! Вместо великопостных черных бархатных покровов — серебристо-белые облачения и белые цветы, вокруг белого, благоухающего гроба, посреди церкви со святой Плащаницей. Мягко освещают лики Спасителя, Богоматери и святых угодников, огоньки разноцветных лампад.
Храм постепенно наполняется верующими. У всех — особенно праздничный, нарядный и благодушный вид… Совершаю полунощницу. Последние напевы св. канона «Волною морскою», «Не рыдай Мене Мати»… Уношу св. Плащаницу в алтарь. Все стоят в ожидании начала Светлой Заутрени… Вот растворяются Царские Врата и зазвучали умилительные слова: «Воскресение Твое Спасе ангелы поют на небесах и нас, на земли, сподоби чистым сердцем Тебе славити»… Засветились в руках у всех, как звездочки, восковые свечи. Озарился и заблистал светом храм…
Невольно вспомнилось далекое детство, приготовления к св. Пасхе. Слушая дивные слова пасхального богослужения — тают и загораются даже замерзшие, потемневшие сердца. Начинается крестный ход вокруг дома, через садик. Как выросли кусты и деревья в нем, с того дня, когда впервые я увидел его!
С хоругвями и иконами шествие медленно продвигается вперед. Тут и там, на темном небе, заволоченном тучами, показывается и исчезает одинокая звезда. Прорывы ветра задувают свечи, но те, у кого они горят, делятся светом с другими.
Вот крестный ход возвращается и останавливается у дверей церкви. Затихли колокола… Наступает молчание, а за ним — долгожданное, проникновенное — «Христос Воскресе из Мертвых, смертию смерть поправ…» и душа наполняется необъяснимым ликованием… Совершается Светлая Пасхальная заутреня… Трезвонят наши колокола, сливаясь с пасхальными песнопениями. Приветствую мою паству снова и снова «Христос Воскресе!», осеняя всех крестным знаменем…
Затем предолгое, но такое радостное христосывание с каждым. Вручаю по красному яичку… Некоторые уходят сразу, разговляться к себе домой, но многие остаются на св. литургию. Есть среди них и причастники — один человек, который не был у св. причастия тридцать лет! Он подходит с трепетом, дрожат его сложенные руки, но отходит умиротворенный и просветленный…
После конца службы, разговляюсь со своими верными прихожанами, которые все принесли что-нибудь, чтобы устроить красивый пасхальный стол…
После духовных высот, спускаемся в долину пасок, крашеных яичек (освященных, как и все), куличей и всяких других традиционных яств… Оживленный разговор о том, как справляли св. Пасху в разных семьях до революции.
Начинаю чувствовать усталость и, поздравив всех с праздником, еще раз, ухожу, уже около четырех часов утра, к себе, чтобы немножко отдохнуть и вновь уйти в тишину духовного созерцания.
Так мелькали месяцы и годы — каждый со своими радостями или горестными событиями, как бы сливаясь в одно целое…
Первая из наших вернейших прихожан, которая скон-чалась от укуса паука, была 84-летняя мать Елизаветы Григорьевны, Евгения Николаевна Кандыба. Случилось это в день нашего храмового праздника св. Равноапостольного князя Владимира, в Претории. Она находилась неделю в больнице, где доктора думали, что вылечили отравление и отключили аппараты, находя их уже ненужными. Увы, — не выдержало ее сердце, когда все думали, что она поправляется.
Позвонили из больницы и, как только кончился молебен, мы поспешили к ней. Мы сидели с Елизаветой Григорьевной несколько часов около нее, пока она тихо отходила: все слабел пульс и так она отошла…
Вскорости за ней, ушла в иной мир и Ксения Ильченко — наш чтец, а через некоторое время после нее и Елизавета Леонидовна Миллер. Это все были столпы нашей церкви, и как пусто было не видеть их всех на своих привычных местах…
Вместо Бориса Ивановича Балинского, уже переменились два старосты, и теперь, был третий, Ф.М. Михайлов (из Бельгийского Конго), а жена его стала старшей сестрой. Казначеем несколько лет была Ольга Леонардовна Байкова. Она и Михайлов часто оставались на обед, после воскресных служб, и мы обменивались новостями.
Елизавета Григорьевна уезжала обратно в Преторию и я, иногда ездил к ней, и мы устраивали, в одной из инославных церквей, концерты по магнитофонным записям русских церковных песнопений. Небольшое количество слушателей являлись на эти вечера, но те, кто приходили, очень ценили их. Я, время от времени, когда мог, совершал богослужения в греческой церкви, в сослужении с греческим настоятелем, или один, в католической или англиканской часовне, в Претории, где было всего четверо русских.
Последние годы, там жил князь Л. Мансырев с женой, голландкой. Он служил преподавателем русского языка в Министерстве Обороны и был вторым экзаменатором в Русском Отделе Университета Южной Африки.
В Южной Африке, как и повсюду, росла инфляция и поднимались цены. Жалованье мое было не велико — всего сто долларов в месяц. Зная, что членов прихода становится все меньше, и взносов также, и не желая обременять приход, я решил взять какую-нибудь службу. Случайно, в разговоре с главным секретарем Библейского Общества, обнаружилось, что там искали приличного человека, чтобы назначить его заведующим всем складом библий на 180-ти языках, которые рассылались по всему африканскому материку.
Служащие там были индусы или черные, склад огромный, с маленьким кабинетом — наблюдательным пунктом. Меня приняли. Работа моя состояла в том, чтобы принимать священников и пасторов, когда они приезжали смотреть на разные издания библий и заказывать те, что выбирали, обыкновенно в больших количествах. Вторая моя обязанность состояла в том, чтобы проверять работу и адреса, написанные черными, когда они отсылали библии, часто большими ящиками в разные страны Африки. Отношение начальства было самое теплое, а я обращался с моими подчиненными, как отец, и они относились ко мне, как к отцу. По утрам за мной приезжал мини-бус и он же в четыре часа увозил меня домой.
Мы начинали рабочий день с молитвы (мое нововведение) и мои черные говорили мне, что никогда, лично мне, не причинят вреда, в случае революции и переворота — потому, что я обращался с ними «как с белыми».
Когда случались большие праздники вовремя недели, я совершал службу очень рано и просил заезжать за мной позже… Работая таким образом, на не трудной работе, я мог уделять часть моего жалования на нужды церкви и, около шести лет, занимал этот пост к обоюдному удовлетворению.
Моя служба в Библейском Обществе дала мне воз-можность познакомиться с людьми, главное с духовными лицами, которых я никогда бы не встретил, если бы там не работал. Я привык к повседневному контакту и разговорам на разные темы с не белыми. Надо отдать им справедливость — все наши туземные служащие относились ко мне с большим почтением и очень сожалели, когда я, по возрасту, должен был покинуть эту службу…
Библейское Общество устроило банкет в мою честь и мне сделали ценный подарок. Никогда не забуду их доброго отношения ко мне…
Каждые два, три года, я ездил в США на несколько не-дель, чтобы не терять связь с близкими и прихожанами…
Окончив блестяще Авиационную Академию (одним из пяти отличников), Сережа женился на очень милой барышне — православной, полурусской. Вскоре, после этого, он отправился в Вьетнам, в качестве летчика и провел там два года. Там он получил разные отличия и высокий орден за храбрость, помогая товарищам в беде, и дослужился до майора. Затем он занимал дипломатический пост и, в данное время, — уже полковник.
У него трое деток: дочки Наташа и Виктория — две-надцати и десяти лет и сын Андрей. Он живет вблизи от Вашингтона. Сандик тоже женат на немке, но не имеет детей. За время пребывания в Вьетнаме, в очень тяжелых условиях, он поседел и сильно похудел. Уйдя на войну солдатом, — он вернулся лейтенантом, ушел в резерв, и теперь служит в Сеаттле.
Очень печально было возвращаться через Нью Йорк, после кончины Владыки Анастасия. Все не верилось, что его больше нет, как нет и Владыки Виталия и, сравнительно недавно, последовал за ним и Владыка Никон…
У нас, в нашем приходе в Йоханнесбурге, было все меньше венчаний и крестин, и все чаще, — похороны. У сербов было много молодой смены, новые люди приезжали и поселялись в Южной Африке. Часто бывали у них «славы» и меня приглашали на них в частные дома или в «Сербский Дом» — центр их общины. Скончался их председатель, Ненад Жакула и его место занял Милан Месарович. Скончался у нас Н.Н. Тамм — на редкость порядочный человек. Светлая ему память!
По приезде из Претории, в конце недели, Елизавета Григорьевна обычно возила меня на кладбище, где покоится ее мать и где — все больше русских могил… Кладбище, надо сказать, не навевает уныния — наоборот: оно расположено в долине, окруженной невысокими холмами, которые находятся вдали — не подавляют, а скорее обрамляют его. Вокруг кладбища растут высокие, пушистые ели; вдоль аллеи, разделяющие кладбище по принадлежности к разным вероисповеданиям (православные греки, сербы, болгары, русские — все вместе). Тенистые жакаранды — деревья с лиловыми цветами, когда в цвету, — напоминают сирень и каштаны. Под ними скамейки, вблизи — краны с водой. На лужайках, между участками, большие клумбы с цветами.
Как отрадно сидеть здесь, вспоминая былое и мысленно беседовать с близкими, покинувшими нас навсегда, во плоти. Много тут памятников, даже с фотографиями усопших и всюду цветы. Обходя могилки, всех наших почивших, со святой водой или с красными яичками в Фомино воскресенье, или всегда с кадилом, — радуешься, поминая их всех, что здесь такой простор и что они все вместе в таком прекрасном парке, на лоне природы. Город в 14-ти километрах отсюда и сюда не достигает его беспрерывный шум и лихорадочная суета. Здесь — подлинный покой…
Мое здоровье сильно подкосилось в Южной Африке: я потерял зрение в одном глазу, приобрел грудную жабу, больное сердце; не раз лежал в госпитале и, однажды, с тромбозом… Много трудностей было у меня и у моих верных духовных чад, когда против нашей церкви восставали и старались погубить ее темные силы. Были даже анонимные письма с угрозой убить меня. Мы боролись… В первый раз, в моей миссионерской деятельности, пришлось мне столкнуться там с завистью, даже ненавистью и клеветой… Очень тяжко бывало, но надо было терпеть, но это все отразилось на сердце и на нервной системе. Я же старался полагаться на волю Божию.
Случилось у нас еще огорчение. Сербы, много лет поддерживали нашу церковь, выписали себе сербского священника, чтобы служил только для них и обучал бы их детей Закону Божию на родном языке. Некоторые из наших прихожан, как Тамара Рихардовна Кирзи и другие, уехали из Южной Африки… Наш приход таял на глазах.
Был момент, несколько лет до того, когда Южно-Аф-риканское правительство было готово принять партию русских Ди-Пи, откуда-то из Италии. Их было около 1.500 человек и они были в ведении Объединенных Наций. Из этого ничего не вышло, а как много можно было тогда еще сделать!
Наши финансы также таяли. Сношения с дальними прекратилось, со времени установления черных режимов в Африке. Наши прихожане старели и, выходя на пенсию, не могли платить того самообложения, что давали раньше. Даже объезжать наши общины в Южной Африке, стало слишком дорогим удовольствием, так как цены росли, как грибы. Лучшие певчие в хоре, разъехались. Стало так печально служить в полупустой церкви, вспоминая ее расцвет…
Моя малая паства была со мной и было у меня много доказательств ее верности и расположения ко мне, но силы у всех — были не те, что раньше, пятнадцать лет назад. Мы встречались у меня, как и прежде, на чашке чая и, вместо планов на будущее, вспоминали былое. Староста часто хворал; казначей находила, что ей все трудней сводить концы с концами: ренту подняли; цены на телефон, электричество, продукты увеличились.
Раньше, воззвания к другим, главным образом, бурским церквам, организованные нашим секретарем, Елизаветой Григорьевной, приносили хорошие результаты, теперь же, все были принуждены экономить, а Елизавета Григорьевна перенесла еще несколько операций и дух ее был еще силен, но плоть слаба…
Доктора, которые лечат в Южной Африке еще по призванию, а не только ради денег, как большинство в США, никогда не брали с меня ни гроша — как со священника — даже евреи, а мне все чаще приходилось посещать их и лечиться у них. Их совет был — уезжать, пока не поздно.
Понемногу, мои духовные чада и я сам, начали приходить к тому же заключению. Были бы перспективы в будущем — все было бы иначе, но оценивая положение реалистично, становилось все ясней, что их, увы, — не было, а жить прошлым, питая иллюзии о настоящем, граничило бы с самообманом.
Воспоминаний же о прошлом, пережитом вместе, которых никогда не мог бы отобрать, образно выражены в стихотворении, написанным Ольгой Васильевной Корсини (ее уже тоже нет в живых — она скончалась от рака легких во Флоренции), когда она гостила у Елизаветы Григорьевны и проводила, вместе с другими, вечер у меня.
Привожу это небольшое стихотворение:
Вечер у отца Алексея
Уютно. Музыка играет
И время больше не летит.
Душа спокойна, не страдает
И сердце с сердцем говорит.
Отец заботливой рукою
Печаль и дрязги отстранил,
С любовью дал он нам покою
И приласкал и угостил…
Уютно. Можно улыбаться…
А громкий смех, так надоел!
Теперь — не надо защищаться
Теперь — не страшен нам удел.
Нам хорошо. Но стихли звуки
И на отца нашла печаль,
Как будто взял он наши муки,
Все на себя. Ему нас жаль.
Он в наши мелочи вникает,
С ним можно мило пошутить,
Он даже смех наш понимает
И знает, как нам трудно жить!
Уйдем мы от него бодрее;
Он многое нам в души влил,
Мы станем лучше и добрее,
Нам каждый ближний будет мил…
Ольга Корсини.
Итак, я решил покинуть Южную Африку. Нигде я не окормлял паству так долго, как там — целых шестнадцать лет. Сколько там было пережито за все эти годы!
Я полюбил Южную Африку — ее просторы, напоми-нающие мне Россию, природу и жителей, не только моих духовных чад, но других, ставших моими друзьями и, от которых, за все те годы, я не видел ничего, кроме понимания и добра…
Мне было очень больно вырывать глубокие корни, прикрепляющие меня ко всему, ставшим мне дорогим там. Самое тяжелое было разорять нашу церковку, снимать иконы, все упаковывать и оставлять голые стены там, где был наш Отчий дом, где из года в год, причащались св. Тайн; где совершались крестины, венчания и отпевания, то, что оставалось нечто невидимое, но осязаемое от всех молитв и витало даже в нашей, опустошенной бывшей церкви и витает до сих пор!
Тяжело мне было расставаться и с моими духовными чадами. Сколько радостных, но еще больше грустных воспоминаний, связывало нас, когда стали покидать нас дорогие близкие и когда мы поняли, что не сбыться уже нашим радужным надеждам, которые так одушевляли меня и верную паству, первые годы.
Мне было жаль и Альберта, моего верного слугу, который заплакал, услыхав о моем решении, а зулусы не расточают даром слез… Смотрел я на мою ёлочку, которую подарили мне на мое первое Рождество в маленьком горшке и которую я украшал из года в год, в сочельник. Последние годы, она так разрослась, что не могла уместиться ни в каком горшке и мы пересадили ее в сад, перед домом, а теперь, мне пишут — она уже так устремилась ввысь, что уже возвышается над нашей бывшей церковью.
Оставляя я и свой великолепный папоротник, который тоже начал быть совсем маленьким и, со временем, занимал все больше места в столовой… Сколько было пережито нами всеми в этой комнате, объединяющей нас всех в продолжение стольких лет! Не сосчитать наших встреч, заседаний и застольных бесед, не говоря уже о разных церковных торжествах или днях Ангела, которые справлялись среди интимного круга преданных прихожан.
Многие из них, как я уже упоминал, на том свете или за границей, но нельзя не назвать некоторых здравствующих еще и проживающих в Южной Африке, и сейчас являющихся моими духовными чадами и друзьями и выразить им, хотя бы теперь, когда я так далеко от них, мою благодарность им за всю помощь, оказанную церкви и мне, во время моего пребывания в их приемной стране.
Начну с моей правой руки — Елизаветы Григорьевны, нашего постоянного церковного секретаря, затем казначея, Ольги Леонардовны Байковой; Елены Алексеевны Михайловой, старшей сестры в последние годы и регента, Гертруды Тамм. Было и много других доброжелателей, но эти составляли, как бы опору и сердцевину нашей приходской жизни…
Было у меня еще одно заветное место, кроме нашей церкви в Южной Африке. Было оно в 60-ти милях от Йоханнесбурга, и я уезжал туда на природу, чтобы в трудные минуты, обрести душевный и духовный мир…
Представьте себе высокий холм, вроде наших курганов. На его верхушке — на большой выровненной площадке, стоит маленькая каменная часовня. Отсюда дивный вид на дальние горы, широким кольцом, охватывающим горизонт… За ними — необъятные просторы Африки.
Здесь стоит не просто часовня, а храм-памятник Южно-Африканским воинам-саперам, павшим в битвах во время II Мировой войны. Каждый камень этого здания, заложен с любовью, товарищами по оружию. Внутри часовни — простой, высеченный из гранита, алтарь; на нем большая книга с полным списком убитых воинов в алфавитном порядке. Каждое воскресенье, в десять часов утра, дежурный сапер переворачивает страницу и читает вслух имена и фамилии на той странице. Затем наступает минута молчания в память усопших. Все стоят неподвижно и саперы, вытянувшись, отдают честь. Над алтарем свешивается простреленные знамена — свои и взятые у неприятеля. На стенах — белые мраморные скрижали с теми же именами, дабы их не забывали.
При жизни воины принадлежали к разным вероиспо-веданиям, народностям и сословиям. Зов родины объединил их в одну сплоченную воинскую семью. Они давно умерли, но память о них живет и все здесь проникнуто их невидимым присутствием. На всем лежит печать того духа жертвенности, который воодушевлял их.
Выхожу на коротко подстриженную лужайку перед часовней. За ней, как и за всем на этой горке, черный садовник. Он лелеет вверенный ему удел. Тут обилие цветов, особенно роз, а по краям — огромные кактусы; они, как часовые, охраняют часовню, а перед ней — бассейн с белыми лилиями и золотыми рыбками; в его прозрачной глади отражаются, скользящие по небу пушистые облака.
Тихо, умиротворяюще журчит внизу, закрытый от взоров пышным папоротником, водопад…
В ясном, чистом воздухе слышится каждый шорох. Здесь особенная тишина и покой — иной мир, недоступный суетному человеку… Молясь здесь — чувствуешь себя подлинным творением Божиим и частицей Его мира. Поэтому и бывает, что отверзается духовное око…
Извилистая дорожка с широкими ступенями, вьется по горке и спускается в долину. Там, над рекой, заботливые люди построили гостеприимный дом отдыха с рестораном, верандой во всю длину дома, гостиной, библиотекой и залами для разных игр. Вблизи и вдали от главного дома, разбросаны круглые белые домики с остроконечными соломенными крышами — спальни для гостей, каждая с ванной. Между рекой и главным домом, очень большой плавательный бассейн, а на лужайке, вокруг него, столики с раскладными стульями. В этой части клуба проводят свои каникулы семьи саперов и их гости, сидя под тенистыми деревьями, плавая или загорая на солнце. Они приезжают сюда отдыхать…
Подают и убирают все — черные, но это не те хмурые, озлобленные черные, которых встречаешь в городах, а улыбающиеся, упитанные и незлобивые люди, к которым хорошо относятся, и которые имеют готовую пищу и участки земли с кровом для себя и своих семейств. Встречая белых, они дружелюбно приветствуют их и белые поступают также.
Среди гостей, регулярно приезжающих сюда, есть такие, которые, как и я, считают своим долгом, первым делом, подняться в часовню — как бы сделать визит бывшим своим соратникам, а для не знавших их — почтить память воинов, ради которых все здесь альтруистично и дышит любовью.
На крутом спуске, за первым поворотом от часовни, солнечные часы. Надпись на них гласит: «Пока каждый из нас сознает, что он часть единого целого — никто не одинок». Эти слова наводят на размышление. Что означают они? Утешительный ли совет — не изолироваться от своего ближнего, укор или напоминание о чем-то — давно утраченного нами?
Вокруг порхают бабочки, прыгают с ветки на ветку, и чирикают птицы всех расцветок и пород. По земле снуют муравьи, ползут улитки и разные другие, незаметные нам Божьи твари. Есть тут и дикие зверьки. С гор, иногда спускаются обезьянки, тащат что находят. Всюду жизнь бьет ключом и все, по-своему, славословят своего Творца…
Снизу доносятся детские голоса — звонкие, веселые… Они живут настоящим и не задумываются о своем будущем и о будущем своей родины — такой прекрасной страны, почти отрезанной от свободного мира и над которой нависли грозные, черные тучи…
Но вот начинает спадать жара… Заходит солнце. По воздуху струится прохлада и расстилается по нагретой земле. Одна за другой появляются, еще бледные, звезды. Ярко горит только Вечерняя звезда. Постепенно умолкает пение птиц… Начинается таинственная жизнь ночи, — на душе покой и тишина…
Много прекрасных мест привелось мне повидать на своем веку в разных странах и на разных континентах, но мне особенно дорога эта горка с часовней в сердце Трансваля…
Заключение
Вернувшись в США, у меня была большая радость свидания с детьми, старыми друзьями и бывшими моими прихожанами. Леночка хотела, чтобы я ушел на покой и жил у нее, окруженный заботой и любовью. Такой исход был заманчив, но я провел свою жизнь в служении Богу и людям. Моя живая вода — церковь и паства…
Итак, после отдыха у Леночки и Сережи, я был некоторое время настоятелем прихода, сперва в Окснарде, затем в Санта Барбара. Там, в первый день Пасхи, от переутомления на страстной седмице, со мной случился сердечный припадок. Он был так силен, что я потерял сознание. Если бы не скорая медицинская помощь и не машины, которые работают на сердце, в клинике, куда меня отвезли, — по мнению докторов, я бы не выжил… Исследования показали, что — как выразился один доктор-специалист — моя нервная система, сердце, грудная жаба и порок сердца, — как у человека, которому за сто лет!
Оправившись, я понял, что у меня не было выбора, кроме как уйти на полу-покой. И вот, Владыка, Антоний Лос-Анджелесский назначил меня на другой приход — самый маленький, который мне пришлось окормлять за все 55 лет моего священнослужения (до 6/19 декабря 1980 г.). Это приход св. Иоанна Кронштадтского в Сан Диего, в Калифорнии.
Здесь, наконец, мой ветхий челн обрел себе тихую при-стань. Надеюсь, она будет его последним приютом на земле. Моя малая, сердобольная паства, осведомленная о моих немощах (к которым прибавились камни в обоих почках), не ждала ничего от меня, кроме богослужений. Вход в домовую церковь был так узок, что при отпевании, было невозможно вносить и выносить гроб, кроме как — через окно. Да и места в церкви было очень мало.
Как увеличить и улучшить эту церковку — чтобы сделать ее более достойной своего небесного покровителя? Думал я все время и усердно, горячо молился св. Иоанну Кронштадтскому, и он внял мне грешному…
Совершилось чудо… Тайный голос стал мне подсказывать — «имей веру!» — Действуй сей час-же. Сядь и пиши — обратись к русским, но не только здесь, а и в рассеянии. Они помогут тебе в этом благом деле…».
Я воспрянул духом и с помощью моего собрата, инока Сергия, написал о наших трудностях, не только в нашем Церковном Листке и «Православной Руси», но также и в русских газетах: «Русская Жизнь» и «Новое Русское Слово». Их читают в самых отдаленных уголках и далеких странах, и я был очень признателен им, что они напечатали мое письмо… Что-же случилось?
Одно за другим стали прибывать к нам пожертвования от великодушных русских людей, с единственной просьбой, — чтобы я молился за их здравие и упокой их близких — нашему небесному покровителю св. Иоанну Кронштадтскому.
«Дивен Бог во святых Его!» Когда я примирился с мыслью, что моя миссионерская деятельность подходит к концу — передо мной, совсем нежданно, открылось новое поприще — заочного духовного окормления, путем переписки…
Письма многих из наших благожелателей и жертвователей — это мольба ищущих Бога душ. Они делятся со мной своими сомнениями, горестями и надеждами, испрашивая моих молитв, и часто, совета. Вера и доверие этих, незнающих меня людей, так глубоко тронула меня, что они внесли и продолжают вносить благодатное обновление в мою душу…
Да благословит их всех Господь и наградит, если не на этом, временном, — то на вечном свете, по молитвам нашего заступника перед престолом Божиим — св. Иоанна Кронштадтского!
Мне пошел уже девятый десяток лет… Я не знаю, как и все мы смертные, сколько времени еще положено мне волей Божией оставаться на этом свете, но заканчивая мои воспоминания теперь, хочу поблагодарить всех тех, кто помогли мне в чем-либо в моей жизни. Сейчас же благодарю, особенно тех, кто так самоотверженно помог и помогает преображению нашей, раньше убогой церкви.
Земно кланяюсь нашему небесному Покровителю — Отцу нашему св. Иоанну за Его великую милость ко мне — удостоивши меня быть причастным к Его прославлению, в нашей маленькой, но теперь, — прекрасной, обновленной церкви.
Архимандрит Алексей
8 сентября 1980 года
Сан Диего, Калифорния.
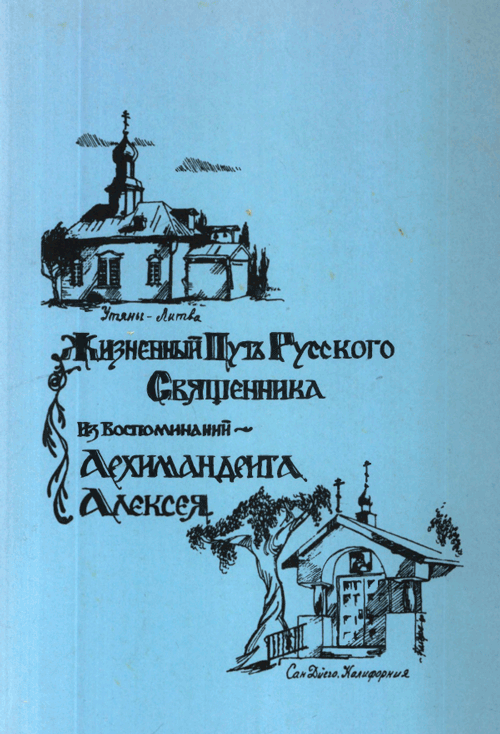
Комментировать