- Часть первая
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- XIII
- XIV
- XV
- XVI
- XVIII
- XVIII
- XIX
- XX
- XXI
- XXII
- XXIII
- XXIV
- XXV
- XXVI
- XXVII
- XXVIII
- XXIX
- XXX
- XXXI
- XXXII
- XXXIII
- Часть вторая
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- XIII
- XIV
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX
- XXI
- XXII
- XXIII
- XXIV. XXV
- XXVI
- XXVII
- XXVIII
- XXIX
- XXX
- XXXI
- XXXII
- XXXIII
- Часть третья
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- XIII
- XIV
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX
- XXI
- XXII
- XXIII
- XXIV
- XXV
- XXVI
- XXVII
- XXVIII
- XXIX
- XXX
- XXXI
- XXXII
- XXXIII
- Полный текст
Часть третья
I
Я проводил её, а когда возвращался с вокзала – я нарочно пошёл пешком, чтобы подольше не могло подступить ко мне одиночество в пустынной моей квартире – меня вдруг такая тоска взяла, такая невыносимая, что завыть впору. Я набрёл по пути – и долго стоял потом у того кафе-стекляшки, куда мы с нею еще вчера забегали наскоро, и все смотрел на стул в углу, где она тогда сидела, глядя на меня, как я несу от буфета кофе и пирожные на блюдечке. Отчего же такая тоска?– силился я понять. Не от расставания же. Нет. Не расставаться вовсе – я бы и сам не пожелал никогда. Мне ведь уже хотелось даже, чтобы она уехала поскорее. Долгая фальшивая близость чуждого (как ни крути ни верти) человека всегда тяготит, досаждает назойливо. Да и не любил же я её, эту шлюху по призванию, чтобы тосковать в разлуке.
Может быть (на миг мелькнуло), тут именно безысходность от ощущения своей неспособности к любви? Нет. Кажется, это уже перегорело во мне.
Я смотрел на тот стул в углу кафе-стекляшки и думал, что ведь ещё не раз смогу зайти, пусть даже и не с той, а другой какою женщиной – сюда: выпить наскоро чашку кофе. Впрочем, нет: сюда больше не хочу: отвратительно готовят, да и грязно – никогда бы специально сюда не пришёл, просто на пути попалось случайно.
Никогда? Значит, никогда уже никто не будет сидеть здесь, на этом вот стуле, и смотреть, как я несу осторожно, чтобы не расплескать, две чашки кофе и блюдечко с пирожными. Будут другие кафе, другие пирожные, другие женщины. Но того, что было – неважно даже: хорошего или безразличного – никогда не будет. Не повторится.
И я понял – пронзило насквозь – понял, отчего эта тоска во мне. То тоска, всё та же давняя моя тоска по времени, которое не вернётся. Никогда. Никогда. Страшно и непонятно. Можно снова встретиться с теми же людьми, даже в том же месте, где и прежде. Всё будет то же. Но время уже не вернётся. И ведь не то чтобы чем-то уж очень дорого было оно для нас, просто само сознание, ощущение, что – не вернётся – мне вдруг стало невыносимо до лютейшей тоски. Река времён не течёт вспять.
Никогда не войти – ещё в школе, помню, учили . дважды в одну и ту же реку. Но там, в реке, хоть иллюзия есть. А тут всё иное, всё меняется. Всё? И даже люди? Да, и люди. Порою это так явственно чувствуется: вчера с тобою был совсем иной человек: не то что внешне даже, внешне-то, хоть и в мелочах, непременно иной,– но и по сути своей внутренней. Да что вчера!– вот в мгновение какое-то изменилось настроение у человека – и перед тобою уже не тот, что был только что. А того нет. И не будет никогда. Как в калейдоскопе – меня эта мысль в детстве поразила – однажды выпавший узор уже никогда не повторится. А что калейдоскоп?– куча стекляшек разноцветных. В человеке элементов составляющих куда больше. Тут количественных перестановок и сочетаний бессчётно – это и математически вывести можно.
Выходит, с математической непреложностью выходит, что нельзя дважды встретиться с одним и тем же человеком. Хоть и приедет она вновь из своего Питера, та разгульная бабёнка, хоть и приведу я её – вот нарочно же приведу – сюда в эту забегаловку, и в углу здесь усажу, и кофе тот мерзкий возьму (экое пойло отвратное!) – а всё бессмысленно. Того не вернуть. Каждое наше расставание с человеком есть расставание со временем – вот где тоска-то.
Я смотрел вокруг, на дома смотрел, на людей, на машины проезжающие – и чувствовал: всё это я вижу в последний раз. А завтра всё иначе станет. То, да не то. Зыбкость и неустойчивость мира – я это вдруг чуть ли не физически осязать начал – отчаяние охватило! Даже умереть не так страшно стало. Не я умру – там, впереди во времени, уже кто-то другой умрёт, а меня уже и завтра не станет.
Теперь-то я понимаю, что хотел сказать мне однажды некий старик, случайный попутчик в каком-то, не помню, поезде. Почему-то мы с ним заговорили про «тот свет». Я – так, из праздного чувства, чтоб время занять. А он, видно было, верил глубоко. Так вот он сказал мне тогда: вы, мол, рай небесный себе представляете, пусть это и сказка для вас, как сад какой-то фруктовый с вечным ангельским пением, а это не то. Рай, сказал мне тот старик, это когда времени нет. Остановится что ли?– спрашиваю. Да нечему будет останавливаться, сказал он. Просто там нет никакого времени. В ту пору я подумал: что за чушь дед несёт! Теперь-то я понял. Нет времени – и тоски этой нет, отчаяния этого. Значит, всё иначе, всё иное. Но может ли так быть, чтобы времени не стало? Не могу в себе этого представить. Внутренне ощутить и понять этого не могу. Хотя порою и кажется: если сосредоточиться, то какие-то обрывки, намёки в самой глубине души, сознания – можно почуять, хоть и смутно. Вот как будто забрезжит что то, но мгновение – и всё исчезает. Слишком уж призрачно. Нет, этого просто не может быть. Время вечно. А значит, просто не может быть никакого рая. Мечта всё это. Ничего иного не может быть, кроме времени: оно всегда будет течь – неуловимо и неумолимо.
И может ли что-нибудь утешить в этой тоске? Да нет, не то чтобы постоянно и была она, тоска эта от сознавания неудержимости времени,– так, порою лишь. В сутолоке, в суете и забывается всё. Может, оттого так и любят иные суету нашу. В суете некогда задуматься, вслушаться в себя. Суетою всё глушится.
Но вот что: сколько бы ни твердили мне прописных истин о всеобщем счастливом будущем – а ведь и будущее так же утечёт и прошлым станет. Впрочем, для всех вместе, для абстрактного общества – сколько бы его, времени, в прошлое ни уходило, а и в будущем всё-таки не убывает. Но у меня-то, у меня, вот у того, кто сейчас ощущает это моё Я, которое тоскует, страдает, а временами и радуется, которое мыслит (и следовательно, существует – вот ведь ирония!) – у меня же его всё меньше – времени. Я теряю его, растрачиваю как самый легкомысленный шалопай – транжирю. Проматываю последнее, даже если усилий к тому не прилагаю. А в конце – ничто. «И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели…» И что же меня в моей тоске утешит?
Да, да: лучше не вдумываться, не заглядывать в глубину самого себя. Страшно это.
Как же ухватить ускользающее время? Хоть крохи…
Память. Самое драгоценное, может быть, что есть у нас. Она удерживает хотя бы призрак уходящего времени, помогает хоть как-то примириться с утратой.
Но не усиливает ли она боль утраты? Если забыть – то ведь и утраты нет. Забудешь – о чём тогда и тосковать? Тогда жизнь прекрасна. Тогда – только будущее. А что ушло, того и нет. Забыто.
Память. Не проклятие ли наше вечное? Память об утраченном.
Не знаю: память – дар или проклятие. Но знаю: без неё я не могу. Без памяти об утраченном – человек перестаёт быть человеком. Это я знаю. Чувствую.
Но ведь и мучительна же она, память наша – понял я, стоя у стекляшки-забегаловки на затёртой между домами небольшой московской улочке. Понял, глядя на простенький в углу стул, на котором ещё так недавно сидела она, уехавшая теперь в другой город чуждая мне женщина, сидела, глядя, как я несу с осторожностью кофе и пирожные на блюдце.
Когда-то, помню, очень раздражал меня Пруст, слишком вязкий и тягучий. Потом я сознал, что нет иного способа обрести утраченное время – нет, кроме этих бесплодных усилий памяти. Пруст не стал мне оттого ближе. Потому что он искал и обманывался, будто нашёл – собственную утрату. Но мне-то, мне зачем утраченное другим время? Мне нужно своё, мною упущенное, потерянное прошлое. Мне нужна моя, только моя и ничья больше – память. Только мне нужен и дорог этот стул в московском кафе-стекляшке, где ещё вчера сидела исчезнувшая теперь для меня во времени и пространстве женщина. Только мне – и никому иному в мире.
Меня всегда раздражает ставшее во многих семьях ритуальным рассматривание фамильных альбомов с фотографиями. «А вот это мой брат,– рассказывает при этом какая-нибудь милая бабуся.– Посмотрите, какое выражение смешное. Мы ему в пирог зёрнышко перца подложили, а он и раскусил. Как все смеялись тогда». Но мне-то что до того перца и до того смеха? Для них – здесь множащиеся и всё обволакивающие воспоминания. И перец – лишь знак ушедшего, многосложного, дорогого для них прошлого, это сразу целый мир, эпоха их жизни, к которой они деспотически желают приобщить и меня,– и до которой мне нет никакого дела. Так ведь и мои воспоминания им тоже безразличны. Не раз замечал, как скучнеют люди, хоть и стараются из вежливости придать себе выражение внимания, стоит мне увлечься рассказом о своём.
Только мне, только мне важен и дорог тот стул в углу небольшого московского кафе.
И вдруг мне понятным стало: как можно хоть ненадолго создать иллюзию власти над ускользающим временем. Нет, не прустовским пассивным воспоминанием.
Я не просто понял – я ощутил, моё сознание явственно ухватило (хоть это всегда на поверхности находилось, да мимо внимания скользило), что разные элементы окружающего мира движутся во времени с разной скоростью. Изменчива и непостоянна морская волна, но многие годы и века пройдут, прежде чем изменит свой облик утёс, под которым размылось и исчезло её недолгое существование. Многие времена не изменяет своего русла и течения река. Незаметно для глаза, но приметно во времени преображается облик берёзы на её берегу. А стрекозка, трепещущая крылышками над водной гладью, не доживёт и до будущего лета. Долго, очень долго, пока не вмешается недобрая воля человека, сохранят свои очертания моя улица и мой дом.
Мгновение минуло – мы умчались вперёд – но медленно, незаметно для восприятия уплывает во времени то кафе и тот стул в нём, на котором сидела она, далёкая от меня женщина. Мы умчались вперёд, а они лишь чуть-чуть стронулись с места, они почти неизменны. Они хранят в себе те ушедшие от нас мгновения. И прикоснувшись к этим материальным следам прошлого – рукою, мыслью, чувством,– мы как будто замедлим свой бег во времени и возвратимся ближе к ускользнувшему от нас. Мы цепляемся памятью за внешне неизменный материальный мир, как за валун, выступающий из стремительной течением своим реки,– и стремнина времени, как и водный поток, пусть ненадолго, но становится бессильной против нас.
И я понял, чего мне так не хватает сейчас.
Всё как-то перемешалось, запуталось в моей жизни. Порою мне казалось, будто существование моё всё наполнено какою-то безысходностью. Хотя со стороны поглядеть – я бы и сам сказал в иные времена: с жиру парень бесится. Не то что каких потрясений, а и мелких неприятностей не было. О чём толковать…
Но отчаяние-то моё – от пустоты, от безграничной всепоглощающей пустоты, что окружала меня и заполняла меня (пустота – заполняла? странно). Всё у меня было: и близкая уже блистательная карьера, и деньги некоторые, и свобода, и женщины, и беззаботность, и молодость, и крепость жизни – но всё вдруг обессмыслилось. Жизнь, такая полная и счастливая для стороннего взгляда, представилась мне тем ровным путём без цели, который сам по себе есть уже всеохватывающая безысходность. Со стороны этого не понять. Это перестрадать в себе надо – чтобы право иметь судить.
Пусть тут много было от мимолётного настроения, пусть даже оно и улетучится вскоре – но теперь-то оно во мне, тяжкой ледяной глыбой в груди, и надо было как-то перебарывать его.
И я понял, что мне нужнее всего сейчас: та твёрдая, неподвижная опора, за которую уцепившись, я мог бы хоть ненадолго удержаться, противоборствуя стремнине времени, отдышаться, одуматься. Мне нужны были соединённые с реальностью воспоминания. Но не те жгущие совесть воспоминания, какие могли быть порождены недавним временем. Нет. Моё воспоминание должно быть… не помню, чьё сравнение, чей образ, не я его придумал, но не найти ничего точнее; мне нужно воспоминание – как озарённая солнцем радостная лесная поляна.
И это – детство.
II
Давно уже собирался я съездить в ту деревню, где в детстве жил у деда каждое лето – и лет таких набралось более десятка. Когда дед умер, дом его зачем-то продали, и я там больше никогда не бывал. Да и вырос я уже – другие были интересы, другие привязанности, друзья. Поначалу меня туда и не тянуло. Будь и дед жив – не знаю, ездил ли бы туда часто.
А потом – и думал как-нибудь побывать, просто так, без цели – собирался, собирался, да как-то всё недосуг оказывалось. Всё думал: успею, ведь рядом же, здесь, под Москвой. Но и не так чтобы совсем уж рядом: часа четыре, а то и больше – со всеми пересадками, ожиданиями, хождениями – в один конец. Так и тянулось: пока некогда, но как-нибудь и успеется ещё.
Там, в лесу,– а вокруг нашей деревни почти сплошь леса – много было озарённых солнцем лесных полян. И зелень их как будто сама светилась и ласково согревала всё вокруг. Я любил бывать там. Цветов много. Бабочки всюду мелькали, красивые, разноцветные все, и стрекозы, казавшиеся мне тогда громадными. А у реки летали стрекозки поменьше, зато с цветными крылышками – синие, зелёные и коричневые. Река текла под горою, полная, спокойная, ровная – ясно и чисто отражая стоящий по берегам её высокий лес.
Золотым, прозрачно-золотым видится мне в воспоминаниях солнечный свет – золотым и пронизывающим весь тот давно исчезнувший во времени и уже сказочный для меня мир, в котором жил я в дальние мои годы. Разумеется, он не был таким в реальности, тот золотой свет, да я и не обращал тогда на него внимания, и вероятно, он был, как и теперь, обычным бесцветным – и лишь даль времени, подобно дали пространства, изменяет теперь облик, очертания, равно как и окраску тех дней.
Я вспоминаю тишину светлых летних вечеров, поглощающую и растворяющую в себе дневной свет. Вспоминаю в медленно густеющей сумеречной неясности – зыбкость деревьев, реки, кустов вдоль дороги, что уводит за собою взор через поле за деревней к далёкому горизонту.
Я вспоминаю, как любил уходить далеко по этой дороге, увлекаемый собственными глазами, которым не терпелось заглянуть всё дальше и дальше, сначала за ближнее поле, потом за пригорок, густо поросший невысоким кустарником, потом за небольшую берёзовую рощу… В роще в июльские жары крупнела в траве невообразимо пахучая земляника. Я порою очень ясно могу воссоздать в себе и чуть ли не реально ощутить тот особый земляничный запах, какого с тех пор я уже никогда нигде не встречал – то ли потому, что такого и не было нигде больше, то ли оттого, что я сам изменился и утратил свежесть и остроту восприятий, то ли из-за суеты, которая просто не оставляет мне возможности сосредоточиться в своих ощущениях. Я почти забыл все – когда-то такие ясные и знакомые для меня запахи; и лишь порою услышишь, почуешь что-то знакомое – и грустно, неизменно грустно становится. А когда-то я знал по запаху каждую комнату в большом дедовом доме, и все дома, в каких мне доводилось бывать, если там жили мои летние приятели. Я бы с закрытыми глазами узнал все места в окрестностях, потому что на огороде пахло совсем иначе, чем в поле, а в сосновом бору за рекою – чем у самой реки. Даже в огороде у картофельных борозд пахло ботвою совсем не так, как там, где росли помидоры или огурцы. Особый запах стоял и в зарослях акации, лопуха и крапивы у стен полуразрушенной церкви – над крутым склоном высокого берега реки.
«В этой церкви, – сказал однажды кто-то из взрослых,– венчались Дубровский и Маша». Я и тогда понимал, что этого быть не могло, что Дубровский лишь вымысел. Я знал также – хотя и не читал, но в кино смотрел,– что Дубровский как раз и не венчался с Машей Троекуровой даже и в вымысле. Но в то же время я вполне допускал, или хотя бы хотел в это верить, что Дубровский мог существовать и в жизни, и что как раз в жизни-то – пусть там в книжке или кино всё кончилось для него несчастливо, но это лишь в книжке – а в жизни могло бы случиться и наоборот. А если так, то вполне возможно и само венчание в нашей церкви. Не просто же так было сказано о том. Опять-таки: в минуты, когда наваждение вымысла отпускало мой ум, я трезво сознавал, что тут именно игра ума, мечта,– но и тогда я не позволял себе отказываться вполне от мечты, где-то в глубине сознания не расставаясь с ощущением, что без этой мечты всё станет хуже, а с мечтою – теперь бы я сказал: романтичнее; но тогда мне не было известно это слово, и поэтому я назвал всё просто – красивее.
Мы с моими приятелями любили то место – «церковь Дубровского» (так её у нас называли) – там много было потаённых уголков, где мы укрывались для наших игр: среди кустов, высоких лопухов, в развалинах, в подвале, откуда вели в неизведанность тайные, как мы воображали, ходы, где было сумрачно, пахло сырой, даже в летнюю жару, прохладой, битым кирпичом, крапивой, росшей где попало снаружи и внутри запустелого храма. Часто с риском (подлинно – с риском!) покалечиться или и того хуже, а поэтому и со страхом (со временем, впрочем, притупившимся) мы залезали на обветшалую колокольню, карабкаясь по неверным выступам и выщербинам в стене, по обманчивым остаткам лестницы. Зато сверху – а впечатление усиливалось из-за собственной нашей малости – нам открывались необозримые и глубочайшие дали, и можно было увидеть (сразу всё вместе) то, чего никак не разглядеть с земли, с самых высоких её пригорков. Дома же, люди, пасущаяся скотина – всё казалось уморительно маленьким, отчасти игрушечным.
И как заманчиво было думать, что можно скрыться, исчезнуть, раствориться в глубине открывающихся сверху лесных далей – зажить там вольной и таинственной (в тайнах воображаемых самая прелесть и заключалась), никому неведомой жизнью. Укрытость и защищённость от мира, о которой мы все с непонятным внутренним ликованием смутно мечтали тогда – как порою мечтаю я и сейчас,– была, может быть, высшей для нас надреальной ценностью, хотя, здраво помыслить: от кого и от чего было нам тогда укрываться? Эти мечты парили у нас в сознании именно над реальностью, поскольку при всей нашей несмышлёности детской мы ясно отдавали себе отчёт в их не то чтобы недостижимости, но – более того: в полной бессмысленности.
И всё же теперь, когда те годы оказались уже в дальней дали – они представляются мне именно тем укрывищем, где можно было затаиться, хотя бы и ненадолго, скрыться от суетности и неустроенности настоящего, остановиться, задуматься и одуматься – осмыслить наконец вечно ускользающую не то реальность, не то видимость бегущих навстречу, мелькающих перед глазами и свистящих в ушах жизни, времени, мыслей, ощущений, переживаний, страданий и радостей.
Мне захотелось, мне стало нужно, необходимо – снова десятилетним пацаном спуститься по крутому склону от церкви к самой воде, где трепещут над ровной её гладью разноцветные стрекозки,– захотелось, возжелалось до невыносимой душевной боли,– пробежать по узкой тропинке, идущей вдоль реки сквозь высокий прибрежный кустарник как через туннель,– добраться до старой плотины, давно уже прорванной и не сдерживающей затаённую в глубине силу течения, но всё же чуть изогнувшей русло реки – заглянуть в непроницаемую темноту омута возле этой плотины, в до сих пор жуткую, как и прежде, глубину его – туда, где утонул когда-то один из нашей тогдашней компании, анютин Серёга (так называли мы его потому, что он жил у бабки своей Анюты, привозимый родителями, подобно многим из нас, на лето из Москвы).
Это был один из моих главных врагов, вредный и противный малый, с которым мы непримиримо враждовали в то последнее для него лето. Он был старше и сильнее меня, и избил однажды до крови из носу – я его боялся и ненавидел. А когда он утонул, пережил – мерзкое, как понимаю теперь, но мне приятное тогда – злорадное чувство удовлетворённой мести. Но к тому злорадству, я помню, примешивалось и другое – страх, недоумение, растерянность перед тем ужасным, что всем нам было непонятно тогда (а теперь – понятно?).
Помню, мы, мальчишки, часто рассуждали об этом, затаившись где-нибудь в зарослях у церкви,– само место особенно и располагало к тому – толковали о таинственном, о возможности существования после смерти, о духах, о привидениях. Смерть анютиного Серёги стала для нас побуждающим к тому толчком.
III
Примерно за год до моей защиты я шёл с похорон одного из своих прежних преподавателей университетских – по неширокой дорожке старого московского кладбища. Я, помню, нарочно отделился тогда от общей компании, чтобы меня не зазвали на поминки, до которых я не большой охотник. В нынешнем их виде, с почти обязательным пьянством и обжорством, так что под конец забывается почти и повод сего обильного застолья,– поминальные трапезы скорее оскорбляют память ушедшего из жизни. Я шёл и думал – и размышления были банальны своей естественностью,– что вот странно, непостижимо: живёт человек, мыслит, чувствует, страдает, суетится, любит и ненавидит – и потом вдруг ляжет в деревянный ящик, ближние закопают его в яму и… и больше ничего. Думы вполне заурядные, но, кстати, тогда-то я впервые отчётливо и понял, как важна память оставляемая человеком, и понял ещё, что вовсе без памяти нельзя. Всё прошлое, ушедшее – преобразуется в память, именно в память. И даже материальные предметы – не что иное, как память, только не идеальная, а овеществлённая. И вот что: качественные характеристики нашей собственной жизни зависят от внутреннего нашего состояния, от того, что по старому шаблону мы именуем душою – душа же есть именно сконцентрированная в сознании память. Так думал я тогда, бродя по дорожкам кладбища. Каждое событие, каждый человек оставляют в нашей памяти либо светлую, условно, либо тёмную частицу, добавляет либо положительный, либо отрицательный элемент к её составу. Люди с отрицательной, если можно так назвать её, памятью – люди дурные. Прошлое вызывает у них отрицательные эмоции, на настоящее они смотрят сквозь призму своего отрицательного опыта, своей ненависти к жизни, своей злой памяти. В прошлом для них – зло, в настоящем – зло. И чего же ожидать им от будущего, если они не знают ничего доброго в жизни? Значит, если мы хотим добра тем, кто будет после нас,. мы обязаны прежде позаботиться: как заложить им в душу элементы доброй памяти. А вовсе не златые горы и реки, полные вина.
Так я размышлял, и, быть может, не всё было в тех думах вовсе и глупо.
Я вспомнил, как тот человек, с которого похорон я шёл тогда, учил меня варить какое-то особое варенье. Сейчас я, пожалуй, не смогу передать всех подробностей, чёрточек, деталей – но он был тогда так мил, так добродушно приветлив, так искренне стремился передать мне все немудрёные секреты своего умения – что, мне кажется теперь, память об одном этом эпизоде, быть может, важнее для меня всех его научных занятий. Я понимаю: что варенье?– вздор. С какой-нибудь всеобщей точки зрения – и двух слов не заслуживает. Но для меня, для меня-то, для души моей, даже и для всей моей жизни – оно важнее многого, очень многого. То есть не то важно, что я теперь умею варенье варить – я ведь уже и не умею, потому что забыл всё, и не собирался вовсе никогда ничего варить, а урок тот брал больше из вежливости, чтобы приятное человеку сделать (а ему это было приятно, я видел),– важно само расположение его ко мне доброе, которое не бесследно же прошло. Важно и моё то желание, искреннее совершенно, ему приятное сделать – вот золотая крупица!
И тут-то я увидел вдруг у самой дорожки, по которой шёл, у самого края – небольшой памятник с фотографией детской и надписью: Сергейка Паутынский. По фотографии я бы уже и не узнал, но фамилия слишком запоминающаяся и редкая, чтобы спутать с другими. И дата под фамилией лишь подтвердила: я не ошибся.
Вот она, случившаяся через много лет встреча – с моим давним врагом, теперь от которого, наверно, и не осталось-то ничего. Только вот этот холмик да камень с фотографией. Да недобрая во мне память. Сергейка… Как резануло меня что. Это для меня он был вредным Серёгой – а для кого-то маленьким любимым Сергейкой, милым драчуном и забиякой, неизменным источником радости и тревоги. Одно слово: Сергейка… Передо мной раскрыло оно теперь всю, и не подозреваемую мною силу и глубину горя неизвестных мне людей, которые ходят теперь на эту могилу (ходят. видно по ухоженности её), уже столько лет безуспешно пытаясь примириться со своей утратой. Или уже высохло всё, и лишь в пустой обряд превратились для них эти хождения?
Но для меня-то!– была же тогда мстительная радость. Неужто в глубине души я уже тогда был так испорчен – чтобы радоваться смерти? Я принялся утешать себя: что с меня тогдашнего и взять, с десятилетнего? Вспоминая то время, я со строгостью вопрошал себя: ну, а теперь ты тоже рад его смерти? Нет, разумеется, теперь мне даже жаль его – впрочем, даже не его, уже забытого мною, а этих совсем неведомых мне людей, остался он для которых маленьким любимым Сергейкой.
Как же мало соответствуют действительности наши ощущения, если одно и то же событие вдруг вызывает во мне чувства совершенно противоположные! Да какова она сама, эта действительность, когда ничто другое – одно лишь время заставляет её принимать те или иные очертания? «Она ни хороша ни дурна, а лишь такова, каково наше отношение к ней» – теперь только с ясностью я воспринял старую истину. А отношение к жизни, додумал уже я сам, зависит от времени, из которого мы смотрим на неё. Тогда я злорадствовал, теперь я сострадаю, потом – всё это может стать безразличным для меня.
Но что за вздор! Почему это вообще должно занимать меня? Разумеется, тогда я должен был ненавидеть его и радоваться смерти. А сегодня для меня всё это должно стать пустым местом. Зачем жалеть о событиях многолетней давности, о том времени, когда я просто не мог, этически и юридически, отвечать за свои поступки и свои примитивные эмоции? Теперь должно лишь посмеяться над тогдашними переживаниями, которые из сегодняшнего дня представляются слишком маленькими, как мал был я и сам… Не остановившись ни на чём определённом в своих раздумьях, я поспешил уйти и забыть об этих своих сомнениях.
Однако теперь, когда с того дня прошло уже больше года, я не мог уже просто принять справедливость своего детского злорадства, и своё нынешнее безразличие. Ибо: они несправедливы. Если меня так испугала пустота в душе, как бы вдруг возникшая… вдруг или исподволь? – не знаю… если я хочу найти опору в новом обретении утраченного прошлого – я должен выжечь из него все дурные воспоминания. Нужно, решил я – или подсознательно ощутил – попытаться совместить два времени: воскресить в себе своё сострадание на кладбище – и перенести его, бережно, стараясь не расплескать, туда: в прошлое, соединив с памятью детства – на старой плотине, над тёмной водою печального омута.
Зачем? Какой смысл? Смешно. Да и что за ерунда, в конце концов!– пытался остановить меня мой рассудок. Но мне так уже стало тошно от всего тупого рационализма нашей жизни, что я с ненавистью приказал рассудку заткнуться. Мною руководило теперь чувство, которое совсем недавно я и сам бы не понял, высмеял и осудил безжалостно.
Нужно с утра, рано-рано – думал я – надо ехать на то кладбище, найти могилу… это нетрудно, я примерно помню… а потом на вокзал… там, в деревне, к кому-нибудь попроситься на день-два… надо всё вспомнить, всё восстановить…
Но я не отыскал той могилы, как будто исчез куда-то маленький Сергейка, о смерти которого я пожалел год назад. Я попытался найти могилу нашего преподавателя, так и не научившего меня варить варенье, – но и это мне не удалось. Я без толку бродил по дорожкам, то кружась на одном месте, где, по моим расчётам, должна была находиться та могила, то уходя вовсе в сторону, уже без всякого расчёта и смысла.
Вот так мы и теряем память, склоняемся к тому собственным безразличием и небрежением. А взамен – пустота… Мне попался на глаза покосившийся и заляпанный птичьим помётом памятник с полустёршейся позолотой надписи: «Мамочка, родная, светлая,– с трудом разобрал я буквы,– ты всегда с нами, будем достойны тебя». Где же вы, думал я, не сдержавшие своего слова? Неужели мы превращаемся в людей, теряющих память? Она ведь, память, не в суете юбилеев и дат, а здесь, в тиши кладбищ.
Я вспомнил, как недавно в одной шумной молодой компании все с насмешкой и недоумением взглянули на одного нашего приятеля, когда он сказал (не припомню уже, по какому поводу), что он должен пойти на кладбище. «Ты что: ненормальный! Нашёл развлечение – по кладбищам ходить!» А некий эрудит с пьяным глубокомыслием продекламировал: «Спящий в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий». И завершил сентенцией: человек должен думать прежде всего об удовольствиях жизни, смерть же, когда нужно будет, сама тебя разыщет. И все решили, что по этому поводу нужно выпить.
И ещё я вспомнил, как один из моих знакомых весело сказал однажды: «Все бы эти кладбища снести: сколько места без пользы пропадает! А всех бы жмуриков – в печь и на удобрение. Вот это действительно разумное решение. А со слюнявыми эмоциями кончать надо».
Ну а сам, сам-то я – хоть раз ходил на кладбище на чью-нибудь могилу? А ведь есть к кому…
Тоска, тоска, тоска давила меня. От бессмысленного кружения среди могил на меня вдруг начало накатывать ощущение ненужности и иррациональности видимого мира. «Всё действительное бессмысленно, всё бессмысленное действительно» – вот бы что надо сказать заумному зануде Гегелю. Что толку в оставляемой нами памяти?..
Но у меня ещё оставалась цель: встретиться со своим прошлым.
IV
Ехать нужно было на электричке, потом на автобусе до небольшого низенького городка, а уж оттуда на другом автобусе до места: пешком оставалось с километр, рядом совсем.
Когда-то от городка до деревни мы ходили пешком. И дорога там была обычная, просёлочная.
Золотым, прозрачно-золотым видится мне в воспоминаниях время моего детства. Я помню, как тихо освещало заходящее солнце густые заросли акации и сирени вокруг нашего дома, как сладко тянуло от цветущих лип в саду. Я уже вижу себя идущим луговою тропой среди высокой некошеной травы, сплошь пестреющей цветами, над которыми выше всех – жёлтые грозди пахучей пижмы. Тропинка плотно утоптана и местами кажется мне асфальтовой. Отовсюду – перестрёкот кузнечиков. Тёплая земля ласково дышит на меня – и я иду по ней – пока ещё только в мечтах – уже не тогдашний, а теперешний, снова возвратившийся, перенесённый в то далёкое время – и я весь переполнен счастьем этого возвращения – которое скоро станет для меня реальностью, потому что в реальности-то я пока ещё не там, а ещё только еду туда – счастливый предощущением теплоты матери-земли – по которой я уже мысленно иду среди трав и цветов, а в золотом воздухе не то слышится, не то чудится тихая грустная песня – и грудь готова разорваться от радости, от слёз, от любви ко всему великому и прекрасному миру.
А солнце уже как будто село, и у горизонта над лесом – малиново-розовое зарево. Маленькое облачко висит в темнеющем небе. Звёзды всё гуще блестят, и лишь самые маленькие дожидаются полной темноты.
Покой. Всеобнимающий покой растворяет в себе, утишает волнение – и душа ощущает себя чистой и безгрешной, сопричастной вечному счастью и вечной любви. Я чувствую, что я безмерно полон любовью – сам не знаю, к кому и к чему – мне хочется припасть к земле и плакать обильными лёгкими слезами, и ликовать – под огромным звёздным миром. И любить. И страдать.
Я возвращался в своё детство, и тихая радость вытесняла из груди леденящую тоску.
Больше часа пришлось дожидаться мне нужного автобуса в маленьком городишке, который я хорошо запомнил с тех давних пор. Я не досадовал на ожидание: оно полно было предвкушением уже близкого свидания с возвращающимся ко мне временем. Я изгнал из души нетерпение – оно лишь нарушило бы нисходящий на меня покой. Я взглянул на городок – вот чудо: он почти не изменился – и понял, что встреча с прошлым уже началась. В те годы городок становился для меня то предвестьем скорой деревенской вольницы, то началом нового вхождения в заботы московской жизни, преодоления уже укоренившейся в привычках отчуждённости от неё. Эти поездки – в начале лета в деревню, а в конце его обратно – всегда были радостны для меня, приводили всего меня в столь сильное возбуждение, что если бы накануне отъезда по каким-либо причинам он был отменён (к счастью, этого ни разу не стряслось), то я сразу стал бы несчастнейшим человеком на земле, а может быть, и слёг бы в нервной лихорадке.
Помню, когда однажды мы ехали на вокзал, я увидел из окна трамвая на какой-то улице одиноко игравшую в мяч девочку – она бросала свой мяч об стенку и подпрыгивая ловила его – и меня неожиданно поразила мысль о колоссальной разнице между положением моим и той незнакомой мне девочки: я еду далеко, впереди счастье, а она обречена остаться здесь, на эту одинокую игру, и предвкушаемое мною блаженство недостижимо и непостижимо для неё. Я не мог себе представить ничего хуже этого, я почему-то вообразил, что она именно обречена на одинокое пребывание в городе,– и долго потом воспоминание о ней болезненно отзывалось во мне острейшей жалостью, но одновременно и радостью, что судьба избавила меня от подобного несчастья.
Сидя у автобусной станции на площади немноголюдного зелёного городка, я вспоминал, как по-разному отзывался во мне его облик при поездке из Москвы и при возвращении в Москву. Весной он зеленел началом новой жизни. К концу лета я начинал скучать и по городскому шуму, и по прежним радостям и заботам, по старым друзьям, по нашей улице, по заливчатым трамвайным перезвонам. Хоть маленький городишко этот был совсем тих и неспешен жизнью своей, но всё же вид его обозначал для меня переход к совсем иному, нежели прежний деревенский, способу существования – к иному быту, к иной манере общения с людьми, к иным приёмам поведения, к иным ценностям – к иному восприятию реальности вообще. Ощущение инако-существования моего в городе и в деревне было во мне неколебимо.
И вот странно: если при переезде из деревни в город маленький городок обретал для меня все приметы его близости городскому бытию, то при поездках в деревню облик того же городка становился несомненным знаком существования негородского. Я мгновенно выделял в нём все приметы жизни утраченной и вновь обретаемой – и они отзывались во мне радостным чувством совершавшихся во мне перемен и обновления.
Этот городок находился, как мне порою представлялось в те годы, не просто на границе, но – на грани двух миров (двух цивилизаций, двух мироощущений для меня – так попытался бы я теперь сказать точнее) – и переход из одного в другой поэтому не мог не напрягать всех моих ощущений, не отзываться в моей душе. Вот и теперь: дожидаясь своего автобуса, я уже не сомневался в том, что уже начинается та перемена во мне, которой я с такою неистовою силою жаждал,– я знал, чувствовал, что робко, почти незаметно, но начинается моё вхождение в прошлое, обретение утраченного. Я уже представлял себе мысленно ту дорогу, по которой поеду сейчас,– вспоминал, как когда-то шли мы по ней пешком… вот наконец покажется за пригорком верхушка колокольни, потом вся старая церковь, «церковь Дубровского», а уж после, ниже у реки, и вся деревня за нешироким полем, через которое угадывается извилистая тропка, сбегающая прямо к нашему дому. Дорога же резко свернёт в сторону, снова в лес – и на опушке его забелеет, как и прежде, высокая фигура солдата с автоматом: памятник на братской могиле.
В наших местах в войну, в сорок первом году, самые бои шли, и даже годы спустя находили то тут то там спрятанные в земле мины. Помню, как прочёсывали наше поле и лес специально присланные сапёры с миноискателями – после того как нашли старую мину прямо посреди футбольного поля пионерского лагеря, что неподалёку от нашей деревни. Помню, как пионеры, проходя строем мимо братской могилы, отдавали ей салют, а если в отряде шёл горнист, то он торжественно трубил, а барабан вторил его горну. Война была ещё так близко, и люди жили памятью о ней. И я, хотя и не знал войны, тоже жил этой памятью и искренне понимал, что нельзя просто равнодушно пройти мимо памятника. Теперь, заглушая привычный скепсис, я не побоюсь снова назвать то чувство, которое испытывал тогда, проходя мимо братской могилы,– священным,– хотя ныне утратил его, как и многое за прошедшие годы.
«Да, я обязательно пойду к тому памятнику,– думал я, уже сидя в автобусе,– но сперва нужно к нашему дому… там кто-то незнакомый теперь… хотя бы в палисадник… попрошу пустить… интересно, акации растут ещё?..»
Сплошные акации совершенно закрывали наш дом со стороны деревни. Помню, куры любили, разгребая рыхлую землю, устраивать себе под акациями пыльные ямки, в которых сидели подолгу, время от времени встряхиваясь и поднимая пыль. Помню, как на акациях созревали обильные стручки, из которых, пока они были зелены, мы делали себе пищики; потом стручки темнели, становились жёсткими и лопались с треском, разбрасывая семена. Под самыми окнами вокруг дома шла утоптанная плотная дорожка, на ней в жаркие дни появлялись большие трещины, в дождливую непогоду стояли лужи, а в ливень бежали струистые потоки – из сада к калитке на деревню.
В набухшие влагой ненастные дни я любил глядеть, как жалобно гнутся на ветру кусты и деревья, размахивая ветвями, как будто умоляя о чем-то судьбу. В низинах и у воды начинает всё явственнее густеть туман. Отовсюду тянет запахом сырой земли и травы. Замычит где-то корова, и кажется, она тоже жалуется всем на холод и судьбу. И хорошо сидеть у окна, слушать треск в печи, смотреть, как идёт мимо по деревне редкий мужик, месит грязь сапогами. И вдруг заметить, как сорвалось в саду и упало на землю с неслышным стуком тяжёлое яблоко. Тогда можно выбежать на миг прямо под дождь и тут же мчаться обратно, и передёрнуть плечами от озноба, очутившись снова в тепле,– и яблоко брызнет соком у тебя под зубами.
Яблок у нас было много – и какой дивный запах поселялся в доме, когда постепенно начинали заполнять ими старый шкаф и большие ящики, стоявшие в нежилой горнице и в сенях!
Яблоки – это уже конец лета, осень, близость отъезда, последние деньки, счастье которых я только теперь сумел осознать полностью.
И вот теперь, в один из таких милых моей памяти погожих дней на исходе августа я вновь пройду по тропинкам моего прошлого, увижу с высокого берега лесные дали за рекой, услышу шум боровых сосен, загляну в темноту старого омута.
День был редкостный своею погодою. Солнечный свет, как и в давние времена, золотил воздух и стоящие вдоль дороги берёзки – даже сверх меры: обычно в это время желтизны на деревьях почти не заметно, нынче же даже палого листа было немало по опушкам среди увядающих иван-да-марий, зверобоя и редкого тысячелистника. Видно, осень поспешала очень быстро. Над самой дорогой впереди возникли две бабочки, тоже золотые – бабочки-лимонницы, как называли мы их в детстве,– замелькали, закружились и исчезли в солнечных лучах.
Я вспомнил, как над светлыми полянами моего детства так же радостно мелькали такие же бабочки, а в шелестящей листве деревьев звучали птицы, и лёгкий ветерок ласково гладил меня. Давно это было.
Мне стало грустно: наверное, невозможно так легко и просто вернуться в дальнее далеко времени – а что разглядишь там отсюда, с расстояния в двадцать лет?
А автобус уже поднимался на пригорок, и уже показалась верхушка колокольни – она стоит, уцелела!– и нервная дрожь тронула меня – и вот я увидел впереди…
…огромный, иссиня-серый водный простор увидел я там, где должна была стоять наша деревня. Церковь уже не возвышалась на горке, а ютилась у самой воды…
Впрочем, это была уже не церковь, а груда развалин, лишь колокольня еле держалась, ещё не успела рухнуть и торчала нелепо над сухим бурьяном. Дорога уже не делала резкого поворота, потому что там, куда нужно было поворачивать, тоже была вода. Дорога тянулась теперь берегом широкого водохранилища, затопившего бывшую речную долину,– по краям его во многих местах стояли в воде мёртвые остовы деревьев. Вблизи развалин церкви был ровный песчаный пляж, а на нём – две сломанных кабинки для переодевания, покосившийся грибок, обрывки газет, старые молочные пакеты и прочий мусор. Особой горкой выделялись ржавые консервные банки. И всюду изобильно – бутылки, целые и битые. Следы костров. Рваная автомобильная камера.
Там, куда уходило шоссе, километрах в двух, виднелись ровные порядки стоявших на пустынном открытом пространстве серобетонных (или шлакоблочных?– кто их там разберёт) домов – вероятно, передвинутая на новое место деревня.
Был бы я одиноким степным волком – я бы выбежал на бескрайний простор и завыл, так что на сто вёрст в округе у людей стыла бы кровь от ужаса. Был бы я простой деревенской бабой – я бы бросился на землю и зарыдал в голос, и царапал бы её, срывая ногти. Был бы я художник – я бы вылил свой вопль в неведомый доселе шедевр.
Но я просто пустился в обратный путь. Вернулся домой. И больше ничего.
V
Я узнал потом: там водохранилище создали – «для улучшения водоснабжения столицы». Что ж! Дело нужное.
А я потерял вкус ко всему. Всё моё существование, прежние интересы, привязанности – всё стало именно безвкусным каким-то, пресным. Меня даже спирт, который я начал было потаскивать из лаборатории, не брал: я испытывал от него не будоражащее опьянение, а тяжёлый тупой дурман и злобу на всех. Да я и без всякого спирта как в дурмане каком находился, главное: всё представлялось мне безнадёжно бессмысленным. Всё, что я ни делал, я совершал просто как заведённый механизм, как часы, которые стоят в пустом запертом доме, откуда все уехали,– а часы идут и идут, и отбивают положенные удары, потому что завод ещё не кончился и нет у них собственной воли прекратить всю эту несуразицу.
Я испытывал полную утрату устойчивости, слабость изголодавшегося человека, не находящего нигде и ни в чём насыщения. И совершенно утратил волю. Мне говорили: пойдём выпьем!– я шёл и выпивал; мне советовали: сходи на такой-то фильм,– я шёл и смотрел; меня просили помочь кому-нибудь в эксперименте – прежде я всегда отказывался, а теперь покорно плёлся за просителем. Меня бы и не на то угораздило – да никому до меня дела в тот период не было.
Часто я просто выходил на улицу и бездельно бродил по Москве – в толпе, в сутолоке становилось легче: я как будто подчинялся уличному броуновскому движению, и толпа увлекала меня за собою – мне нравилось растворение моей воли в безсмысленной и безликой воле людской суеты.
Я стал человеком толпы, меня это тянуло. Я пристрастился к спортивным зрелищам, до которых прежде был не большой охотник, начал почему-то болеть за «Спартак» – особенно и привлекала сама нелепость и беспричинность моей склонности: чем мне был так дорог «Спартак», именно он,– никогда бы я не смог разумно объяснить. Я ходил и на футбол, и на хоккей, заимел новых знакомых среди завсегдатаев стадиона, при первой возможности вопил вместе со всеми от восторга и матерился в сердцах, и спорил до посинения, орал, обсуждая с такими же как я знатоками все тонкости турнирной борьбы. Я забывался во всём этом, и мне становилось легче. Каждый раз я с интересом читал в газетах отчёты о виденных мною накануне играх, и вновь проживал в себе испытанные накануне волнения.
И вот однажды в какой-то, не помню, статье я задержался на неожиданно поразившей меня фразе – подобное и раньше встречалось, но проскальзывало мимо – я впервые задумался над утверждением комментатора, что команды, игравшие такой-то матч, впервые встретились ещё в довоенные годы. Как?! Ведь тех игроков, каких я видел вчера на поле, до войны ещё и на свете не было. Ведь если вдуматься: при любой замене даже одного спортсмена команда становится иною совершенно. Порою это видно, как говорится, невооружённым глазом – по самой манере игры: вышел кто-то на замену – и как будто всех подменили. А тут: встречались ещё до войны!
Впервые я сознал простейшую как «аш два о» истину: коллектив пытаются сделать бессмертным. Пройдёт сто лет, все мы давно в прах рассыплемся, но вчерашняя победа команды будет причислена к заслугам тех парней, которые выйдут на поле с той же эмблемою.
Что значит отдельный человек? Его появление на свет абсолютно случайно – определяется нелепым стечением некоторых необязательных обстоятельств. Он просуществует свой недолгий срок и исчезнет безследно, распадётся на простейшие элементы, и ветер развеет след его могилы. Но безсмертными объявляют себя сообщества людей, большие и малые, тешат тем себя, пытаются в том обнаружить смысл и собственного бытия: они вкладывают свою частицу во всеобщее безсмертие. И кто же посему смеет не признать справедливость того, что интересы этих сообществ важнее стремлении отдельного индивидуя: право на таковое предпочтение основано на безсмертии целого и конечности единичного.
Вот, к примеру, тот орден, что дали недавно нашему Институту,– не отбирать же его, когда вымрут те, кто как бы заработал эту награду своими стараниями. Их заслуга уже не принадлежит им лично – но навеки всем вместе.
Однако с того момента я оравнодушнел к спорту. Я уже не мог болеть ни за какой «Спартак», ни за какую иную команду. Для меня теперь существование любой команды стало совершеннейшим абсурдом: ведь даже если от игры к игре состав не меняется (чего не бывает) – то и тогда это каждый раз вовсе не те, какие были накануне. Потому что люди-то меняются. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». И изменения в каждом человеке не могут не отразиться на всех. Я не могу, если бы и захотел, болеть за «Спартак», ибо нет неизменного и единого «Спартака» – всякий раз это нечто совершенно иное. Я мог переживать и волноваться, пока не понимал того, но теперь прошлое увлечение потеряло для меня всякий смысл.
Мир окончательно распадался в моём сознании на дробные, взаимонепроницаемые сущности. В каждое мгновение он становился другим и менялся беспрерывно – и я уже перестал понимать, в каком мире я живу, да и существую ли я сам-то, если сегодня уже нет вчерашнего меня, не говоря уже обо мне, о том человеке, который обозначался моим именем десять лет назад.
Пожалуй, я был близок к умопомешательству.
Я как будто нашёл опору для себя: в некотором единстве, хотя и относительном, моего самосознания, отражённом в моей памяти. Но что лежит в основе такого единства – оставалось для меня загадкой. А реальность не поддержала меня в моих воспоминаниях. Оставалось лишь размышлять об идентичности разновремённых церебральных биохимических реакций. Вздор!
Наваждение, которое как будто начало отпускать меня, пока я отвлекал себя зрелищами, растворяясь в толпе, – теперь снова обволакивало меня; я впадал в состояние серого бреда, реальность опять представлялась мне ирреальной – и ничего не хотелось: ни жить ни умирать, ни спать ни бодрствовать, ни есть ни поститься. Время тянулось болезненно и нудно, как шершавая нить, – и нить эта тянулась прямо через моё сердце, и сердце болело, и я хотел только одного: чтобы время остановилось, перестало бы тянуться.
Мои бесцельные прогулки продолжались, хотя теперь я старался выбирать места безлюдные. Я бродил в одиночестве и размышлял – и результаты этих размышлений не радовали меня.
VI
Так я забрёл однажды на кладбище, то кладбище, где я тщетно пытался отыскать могилу недруга моего детства. Теперь я уже не стал искать её, а просто бродил по дорожкам, разглядывая памятники, читая надписи на них.
На одном из могильных камней было высечено: «Он жил…». Многоточие меня особенно умилило. Вероятно, те, кто придумал столь оригинальную эпитафию, полагали, что сие многоточие придаёт надписи некую особую многозначительность. Право, подумалось мне, подобная банальность претенциозная не заслуживает труда того мастера, который выбивал эти три точки. Что за самонадеянность! А другие – что: не жили?
Сколько жизни, сколько неведомой мудрости, страстей, поэзии – под всеми этими памятниками и крестами! Да, я знаю, найдутся умники, что поспешат возразить: одни живут, но другие лишь существуют, небо коптят. Я скажу подобным олухам так: да что вы за ясновидцы, присвоившие себе право решать, кто живёт, а кто лишь прозябает? Под самой неприметной внешностью, в самом жалком и тусклом существовании – могут таиться страсти шекспировской мощи. А тот человек, о котором все с восторгом вопят: он жил! он испытывал всю полноту бурных страстей! он преодолел все возмущения стихий!– не была ли его внешне столь насыщенная жизнь, не была ли она: всего лишь суетливым бегством к химерической цели, пустой и жалкой? Кому дано судить?
Неподалёку, на невысоком сером обелиске под фотографией совсем молодого паренька позолоченными буквами была запечатлена иная сентенция: «Каждому дню я радовался». Ну, это вряд ли. Родители явно переусердствовали. Нашёл чему радоваться.
Я вгляделся в фотографию: юное лицо действительно светилось радостью. А может, и впрямь справедлива та кажущаяся нам банальной гипотеза, что уж если родился человек, то должен жить и чувствовать, что живёт,– радостно ощущать полноту бытия. Жить просто: чтобы жить и не мучиться дурацкими вопросами. А если уж этого не дано, то зачем других презирать за радость их?
Пусть так, но радости же часто иллюзорны и быстротечны. Если бы всё радости только! Пожалуй: если одни радости, то они, разумеется, и сами по себе цель.
Однако ведь и тут беспокойные люди отыщутся: а каков смысл в радостях? Зачем они? Положим, тут совершеннейший был бы бред – в таком вопрошании. Но кто запретит? А уж как хоть один раз поставлен будет вопрос – так и не отмахнуться от него. Так и будет, проклятый, в мозгу свербить.
Что толку во всех радостях, когда в результате… снова и снова к одному мысль возвращается… когда в итоге из тебя лопух тот базаровский вырастет – и ничего больше.
И вдуматься ведь: ничего, кроме лопуха. Ничего. Так хоть иллюзиями бы себя потешить. Я и того лишён. Я химик. Хорошо ещё если лопух… Помню, у «церкви Дубровского» что лопухов-то было!.. Ужасно. Тут и верующим позавидуешь: у них хоть конфетка впереди за все муки – загробное блаженство… Да, вот тут на кладбище церковь есть.
По пути к церкви я вычитал на одном из старых памятников: московская купеческая жена. Как почётное звание какое…
Снаружи церкви, у входа, на длинной скамье стоял гроб, возле него несколько человек, да ещё несколько неприкаянно слонялись поблизости. Какая-то пожилая женщина с красным мокрым лицом порывами голосисто причитала над покойником (я разглядел: совсем молодой), мордастый же парень с какой-то неловкой, но снисходительной улыбочкой тянул её за рукав, приговаривая: ну хватит, мать, довольно.
Из церкви вышел моложавый священник – к нему выпрыгнула откуда-то бабка в чёрном платочке и, кланяясь, протянула две ладони горстью, как за милостынею: батюшка, благослови. Батюшка перекрестил её и вложил в протянутые ладони пухлую руку. Старуха поцеловала её и отошла. Видно было, что она осталась весьма довольна совершившимся. «Этому батюшке она уже бабушка»,– усмехнулся я про себя.
Священник тем временем обратился к мордастому парню: «Скажите, а вы верующий – вот крест на вас?» У парня на волосатой груди виднелся крестик на жёлтой цепочке. Он косо взглянул на попа и скривился, крутанув головой. «Зачем же вы против совести идёте, крест носите, если не верите?»– не унялся батюшка. «Он ещё и антицерковной пропагандой занимается»,– подумал я, глядя на служителя культа. Тот укоризненно покачал головой и не сказав ничего более пошёл прочь.
Я ещё раз оглядел всех, толкавшихся вблизи гроба, внимательно всмотрелся в них: так ли уж искренне выставляемое напоказ торжественно-мрачное настроение? Один из стоявших, примерно мой ровесник, встретил мой взгляд и отвечал растерянной улыбкой. Видно, ему захотелось сказать мне что-то. Я усилил выражение вопросительного внимания в своём взгляде. Он ещё раз жалко улыбнулся и пожал плечами:
– Вот никак не укладывается. Когда старик – жалко, но понятно, как будто всё-таки надо. А ведь мы месяц назад с ним на футбол ходили. Смеялся всё. А теперь вот лежит. Странно: ходит человек, а потом вдруг так вот лежит.
Я тоже пожал плечами и отвернулся: чего отвечать! Толочь воду в ступе. Отчего так однообразны и стандартны мысли и реакции наши? Вот примерно то же самое и мне приходит в голову, стоит попасть на похороны.
…А может, это меня хоронят? Я тоже ходил недавно на футбол, тоже смеялся чему-то…
В этот момент кто-то выскочил из церкви и как в панике замахал рукой, громким шёпотом – а чего шептать-то было?– заторопил: «Скорее, скорее, несите! Где же вы!» После небольшого суматошного замешательства и метаний гроб подхватили и все спешно двинулись в церковь. Я вошёл следом.
Помню, в детстве – не мог преодолеть непонятного мне теперь страха перед церковью, перед тёмным замкнутым пространством, которое виднелось в проёме церковного входа. Я и к дверям храма с опаской подходил, а войти внутрь – ни за что меня не могли уговорить. Кажется, вошёл бы– и тут же умер от ужаса. Что так пугало меня тогда? Тёмная тень того страха и теперь во мне колеблется порою, и теперь с опаской вхожу я в церковный полумрак.
В церкви уже стояли три гроба, к ним присоединили новый – и находящийся тут же священник, только не тот, молодой, а старенький и седенький, приступил к соответствующей поводу церемонии. Для меня были совершенно непонятны все её элементы: действия служителя, жесты, их смысл и значение, были почти неразличимы слова произносимых им молитв, равно как и невнятное нестройное пение вторившего ему хора бледных худолицых женщин в платочках. Вокруг же, по всему пространству храма – творилась отвлекающая внимание суета – хождение людей от иконы к иконе, какие-то торгово-канцелярские операции у конторки при входе.
Что это? Бессознательная потребность в самообмане? Во мне была воспитана – отчасти мною самим, отчасти привита другими – трезво-ироническая манера мышления и жизневосприятия, отчего многие элементы совершаемого на моих глазах обряда казались мне не просто нелепыми, но смешными. Во мне не укладывалось тогда: как можно всерьёз участвовать в том, что происходит, что лишено всяческого смысла, что давно превратилось абсолютно для всех в мёртвую лишь форму. Господи, как ещё глупы, как непроходимо глупы люди!
То, что я наблюдал, никак не удовлетворило моего любопытства, но наскучило скоро – и я принялся бродить по храму. Настенная живопись, как и иконы, были весьма невысокого качества. Всюду перед иконами подрагивали пламенем безсчётные свечи, а люди подходили и зажигали всё новые.
Для кого-то – это робкий огонёк надежды. Или нет? Суеверная плата за ожидаемые или оказанные свыше милости? Попытка задобрить своё божество? Или просто бессмысленный обычай? Нет, если бы я попытался обрести здесь успокоение или ответы на измучившие меня вопросы – я, казалось мне, не нашёл бы здесь ничего.
– Колеблешься?– строго спросил меня вдруг странного, ибо отчасти безумного вида старичок в потёртом пальто.– Всегда так. К Богу трудны первые шаги, зато к лукавому легки. Приманчив он, ох как приманчив! Зато потом у Всевышнего радость неизреченная, а у лукавого – тьма и скрежет зубовный. Этот мир всё о телесном беспокоится, а о душе кто подумает? Вот и рассуди.
Может, и справедливы были эти слова, да слишком невзрачен говоривший, и у меня не тот настрой – я промолчал. Старик же упорно взглянул на меня:
– Ну? Что?!
– Да не в коня корм, наверно,– вздохнул я.
Он ещё раз как-то странно посмотрел на меня и сурово отошёл.
Полный ироничного недоумения, я вышел вон. Мысль опять вернулась во всё тот же заколдованный круг и понеслась по нему в сотый и в тысячный и в миллионный раз – всё об одном и том же. Как бессмысленна вся эта жизнь, и как бессмысленно поэтому всё, что делаю и думаю я сам, и как бессмысленны все заботы этих людей, суетящихся и не понимающих тщеты своих стремлений.
Пусть, пусть все эти мысли пошлы и неоригинальны. Я не об оригинальности печалюсь. Я не знаю: как и зачем мне жить.
Осуждайте, клеймите, бичуйте – но что же мне делать, если меня не утешает предсказанное, пусть и научно объективное, будущее социальное благоденствие. Пусть оно даже и завтра наступит – но послезавтра же из меня лопух вырастет.
Да, я признаю: интересы общества выше и священнее моих маленьких интересов и вопросов. Но ведь не могу же я совсем без них.
Я эгоист? индивидуалист? эгоцентрик? Но ведь это и самому мне радости не доставляет. Я потерял сам себя.
Я понимаю и признаю справедливым: общество может и имеет право делать со мною что угодно. Но одно не в его власти: сделать меня счастливым. Я бы и сам хотел, да не могу. Верёвками меня что ли ко всеобщему счастью привязать? На аркане притянуть и привязать.
VII
А жизнь тем временем продолжалась. И всё шло как положено. Я и в Институт ходил, и опыты ставил, и статейки пописывал – а Рост-прохиндей из меня две ценных идеи вытянул. Я ему, считай, треть докторской так-то сделал (а остальное он потом сам украл, когда меня туда сдал). Он явно что-то учуял в моём настроении – даже не то чтобы учуял, а просто своей тактике верен остался: не ослаблять напора и выцарапывать из окружающих насколько сил хватит. Прежде: как только он слишком нахально попрёт на меня – я отпор даю – он почувствует, отступит, и как ни в чём не бывало. Теперь же он меня чуть не за горло брал – а я: будто так и надо. Меня спрашивали: ты к нему нанялся что ли? А мне даже возражать тошно.
Я как будто издалека на всё глядел и дивился только: что за мелькание такое, что за суета! Противно было унижаться до всего до этого мельтешения. Пропади всё пропадом! Мне даже смешно было порою на всех и на всё.
Сидели мы однажды в лаборатории – я, Рост, Шерман и Казакова. Тамара посуду спиртом мыла. Шерман говорит ей:
– Солнышко, не переводи ценный продукт зазря. Давайте лучше тяпнем.
Тяпнули. Я тут Тамару и спрашиваю (в трезвом виде вряд ли спросил):
– Слушай, Тамара, а ты когда-нибудь задумывалась: зачем ты живёшь на белом свете?
– Я думала, ты умный,– отвечает,– а ты в философию вдарился!– говорит и этак снисходительно на меня взирает.– Жить надо просто чтобы жить. И никто ещё ничего умнее не придумал.
– А что значит – жить?
– А вот то и значит.
Я спьяну-то не сообразил попервости, что возразить. Есть у меня такой изъян: медленно иной раз до меня доходит. Бывало и сообразишь, что ответить, да лишь на следующий день – вот беда.
На следующий день я и допёр: жить чтобы жить – тут ведь нулевая информация. Пустая скорлупка. Форма без содержания. Бессмыслица в обёртке глубокомыслия. Ахинея, имеющая, однако, претензию выдавать себя за глубокую и чуть ли не конечную из конечных истину. Тут всё тот же дешёвенький трюк: вместо объяснения подсовывается обозначение. Жить чтобы жить – говорите? Сказать так всё равно что ничего не сказать. Что такое квадрат? Это квадратная фигура. Зачем книгу читать? Чтобы прочитать. Вот тип подобных рассуждений.
Зачем жить? Ради процесса. Чтобы есть, пить, спать, совершать прочие физиологические отправления, расти, взрослеть, стариться и потом идти на удобрение почвы. А зачем всё это?
Те, кто не задумываются, – они своё стихийное понимание выработали: жить значит получать наслаждение от жизни. «Жить надо в кайф!» Старайся получить побольше удовольствий – вот и вся суть.
– А что есть удовольствие?
– А это уж кто как понимает. Нравится книжки читать – читай. Нравится по горам шататься – шатайся. Нравится по бабам промышлять – не зевай.
– Кто во что горазд?
– Примерно так.
– А если мне нравится вам кирпичом по башке шарахнуть?
– Нужно разумно ограничивать себя.
– Ну уж если цель – наслаждаться, то ограничивая свои удовольствия, мы жизнь тем обессмысливаем. А если не ограничивать, то все скоро глотки друг другу перегрызут за собственный кайф.
– А совесть…
– Это уж бросьте! Понятие, смею заметить, вовсе неопределённое. А потом со словом совесть чаще сочетается слово муки. Что опять-таки смыслу жизни противоречит. Как соединить: удовольствие и муки? Я, простите, не мазохист.
Да ведь и не одни же наслаждения в жизни. А остальное зачем? Его, остального, намного больше ведь. Просто списать за ненадобностью, не замечать, не считать и жизнью даже? Поди попробуй – не заметь.
Хорошо: в сторону вопрос – зачем все муки и страдания на земле? Разумеется, на такой вопрос не ответить, то и смысла жизни не отыскать. Но я другого не пойму: а наслаждения-то зачем? Вот ведь тоже до вопроса додумался! И не такой уж он бессмысленный. Опять-таки посмеются: чего спрашивать – наслаждайся и всё, если можешь. А зачем? Я понимаю, что меня за идиота сочтут. Ладно, пусть так. Только вот те умники, кто не задумываются вовсе,– не дурее ли?
Наслаждения имеют одно препакостное свойство: они приедаются. Требуются всё новые, более острые, утончённые и примитивные одновременно – вот парадокс. До той грани доходит поиск наслаждения, где всё неизбежно пресуществляется в извращение и склонность к преступлению. Неизбежно. Оглянитесь – это так.
Читал я как-то рассказ фантастический… автора уже не помню… там в будущем всё… вроде секты тайной… собираются люди и самые великие шедевры живописи, из музеев похищенные, медленно, с наслаждением. в оргиастическом экстазе – уничтожают. Фантастика? Реальнейшая реальность будущего.
Тут гибель всего, если наслаждение – цель. Тут пустота. Хуже страданий. И тягостнее умирания.
Что там картины – человеков станут живьём пожирать, и медленно, чтоб подольше помучился.
VIII
На тех путях-перепутьях, где искатели истины скитаются, давным-давно всё хожено-перехожено, езжено-переезжено. И столько во все стороны направлений обозначилось – со счёту собьёшься.
И чего только не наговорят те, с кем доведётся столкнуться на иной стёжке, сквозь дебри пробираясь. Натопчут свою собственную и манят: иди за мною. А я смотрю: куда ни поверни – одними лопухами всё заросло.
Вот лопух проклятый! Привязался – не отвяжется. У нас Сашка Боков тайно корень лопуха копает: от лысины отвары делает. Вот тебе и вся суть. Живи – чтоб плешивых потом меньше стало.
Всё же отважусь сказать: жить – это значит: знать, для чего живёшь, и следовать тому.
А для чего мы живём?
IX
А мы и не живём. Мы – играем.
Можно ведь притвориться, будто знаешь всё. Можно поиграть в особую игру: в жизнь.
Можно не печалиться о постижении законов и смысла жизни. Можно произвольно установить их для себя самим, со всеми в том условившись и притворившись, будто эти-то ценности и ценны. И уже не нужно сопоставлять понятия добра и зла с неизменной шкалой всеобщих эталонов платино-иридиевых. Можно изготовить и разметить их собственноручно.
И следовательно: всё условно, вечных ценностей нет. Условно – любой может признать себя самым гениальным гением: это поможет человеку избавиться от любых комплексов. Измыслить несуразное звукосочетание и сказать, что гениальнее Пушкина. Это поможет обрести устойчивость. И труда никакого не нужно к тому прилагать.
Можно менять правила в любой момент: они же условны. Менять, сообразуясь с собственной выгодой. Сегодня я превознесу кого угодно до небес, а завтра продам его с потрохами. И буду чувствовать себя правым.
Правило же едва ли не главное всегда: я начальник, ты дурак.
Вон Рост – я никогда не сомневался: когти будет рвать – выбьется в начальники и начнёт себе чужое приворовывать откровенно, в знаки собственного отличия превращать. И ведь как в воду я глядел.
Вот недавняя хотя бы история. В соседней с моею (бывшей, бывшей моею!) лабораторией полимер некий произвели на свет. Случайно, в общем-то. Занимались совсем другим, а тут вдруг попутно – сами не ожидали – схимичили. Бывает. Смотрят: вроде ничего вышло. И на выставку какую-то там. Рост и не знал ничего. Ну, пока это дело тянулось, то да сё, формальности всякие и прочее – все и думать забыли. Вдруг как с неба: золотая медаль и две серебряные – по разным параметрам оценки. И кому же? Золото – Росту, по серебряной – завлабу и руководителю группы. А тому мужику, какой всё и сделал,– благодарность в приказе директора. Хоть бы четвертной на премию выделил, сукин сын! Так ведь многие считают, что всё по справедливости, что всё так и надо. Играй, ребята!
Да что медаль с выставки – так, между делом. У него в послужном списке трудов научных и не сосчитать – почти все, разумеется, в соавторстве.
Прочь все пророки! Не мешайте нам играть! не лишайте нас наших иллюзий!
Жизнь слишком сурова. А мы не хотим ничего принимать близко к сердцу. Вот мы утратили наши сокровища – а это и не сокровища вовсе – это просто камешки – наберём новых – и опять всё распрекрасно. Вот кровь хлещет фонтаном – но это не кровь, а подкрашенная водичка, клюквенный сок. Неужто кто-то хочет истекать настоящей кровью?
Мы поняли одно: это прекрасно, что мы не знаем истины. Истина деспотична. А мне хочется, чтобы хоть изнутри меня никто бы не распоряжался мною.
Но как всё это хрупко и ненадёжно. Стоит по-настоящему задуматься – начать задавать себе вопросы – и настоящая кровь брызнуть может. Только бы не думать! Только бы не думать!
Мы стараемся оглушить себя. Развлечениями, алкоголем, спортом, газетами, политикой, ритмами рока, сидением у «ящика», суетой, видимостью дела. Да и самим делом.
Не потому ли и стал нашим идеалом человек, который «не может ни минуты усидеть без дела. Именно: не может. Вот подлинная доблесть. Да я без дела с ума сойду!» – типичная убеждённость многих. Потому что без дела придётся думать. А это страшно. От этого и впрямь с ума сойти можно. Я-то знаю.
Помню, зашёл к нам в лабораторию некий наш сотрудник институтский, а я сидел в окно смотрел.
– Ты чем занят?
– Думаю.
– Лучше бы делом занялся.
Не в упрёк сказал, а так – по инерции.
Уже совсем недавно, когда я уже оттуда вышел, мне дали прочитать статью в газете про Роста – какой он прекрасный человек, учёный и директор. Ну, это мне и без газет известно. Но там любопытный эпизод один. Журналист повествует, как Рост в отпуск с женою (правда, не уточнил: с какою именно) на юг поехали. Дикарями. Опять же демократично. Поставили палаточку на берегу морском в уединённом месте. И тут-то оказалось вдруг, что делать совершенно и нечего. Не всё же море да любовь. А в промежутках что? И вот Рост принялся камни таскать и отгораживать (зачем – автор так и не объяснил вразумительно) небольшую бухточку каменной дамбой. Последний камень был уложен в день отъезда. И то, что Рост бессмысленно камни у моря ворочал,– представлено было почти как подвиг: вот какой активный и энергичный герой нашего очерка!
Это вы другим сказочки рассказывайте – я-то Роста знаю. Испугался он. Хотя, может, и сам о том не догадался. Потому что когда человек вдруг лишается возможности отвлечь себя внешней суетой – вот тут он, хочешь-не хочешь, а вынужден на самого себя (и в самого себя) в упор взглянуть. Нет уж – лучше в камушки поиграть. Есть, правда, люди с такой сильной фантазией, что ею, как завесой дымовой, отгородиться от мира могут. Но Рост всегда отличался скудостью воображения. И думать – то есть быть способным задавать себе страшные вопросы – он никогда не умел и боялся.
Помню, в идиллические времена Рост развивал передо мною теорию, что двигателями истории являются так называемые люди дела, которых цель – деньги делать. У нас они, дескать, для явно общего блага этим заняты, а на Западе – хотя как будто и из эгоистических соображений, а по сути, тоже на общество работают. Теория не оригинальная, впрочем.
По-моему, в данном словосочетании – делать деньги – не на том слове ударение ставят: всех, разумеется, деньги привлекают. Но ведь деньги при их росте с некоторого момента превращаются в некоторую же и абстракцию. Иметь миллиарды долларов, допустим, и стремиться к увеличению состояния ради него самого – было бы чистым безумием. Не деньги, но: делание – вот приманка. Я уверен, что так называемые деловые люди – суть особи, лишённые творческих талантов, воображения, способности к высшим переживаниям. И всё это они компенсируют деланием денег, самоутверждаясь таким примитивным способом. Их мир настолько беден, что без своего дела они быстро деградируют.
Хотя: от самой мысли, что ты, например, богаче всех на свете – неизъяснимый восторг в душе может возникнуть. Тоже цель заманчивая.
Ну, а если вдруг нечего делать – так хоть камушки потаскать.
Чем бы дитя ни тешилось…
Теперь вот жалуются мои коллеги бывшие, весь Институт лихорадит: Рост, кажется, о нобелевских лаврах возмечтал – и мечется, вынюхивает, за что бы ухватиться, чтобы верняк был. То одну начнут тему – не кончат, бросят на пол пути – за другую хватаются. И ведь всё мимо.
Дурак – Рост! Зря он меня тогда заложил. Я бы ему это дело вытянул. Знаю, где жар-птица скрывается. Я бы и изловить её смог. Не хвастаясь говорю. Я бы его и в соавторы по собственной воле взял, потому что: чего у него не отнять, так это проходимости и хватки, а без них нынче нельзя – у меня же от того с души воротит – и не миновать нам было в одной связке с ним очутиться. Прекрасное бы вышло «творческое содружество»!
Да ведь: хоть десяток нобелевских премий – оросительную систему для лопухов на те деньги сооружать?
А пока живу – мне есть чем себя утешить: я знаю, кто из нас с Ростом чего стоит.
Кто чего стоит – я знаю. Всем грош цена. Это только такие как Рост могут утешаться, что их не ниже чем на Новодевичьем похоронят…
X
Но жить как-то же нужно было. Я вновь прежнее время вспоминал – и вот странно: тогда, в минуты сильнейших недоумений, так же, как и потом – там – и теперь – ни на миг не являлась в голову мыслишка: коли нет смысла, так зачем и небо коптить? Мало ли способов – сбежать… То ли слишком велика во мне жизненная сила, то ли оставалась несознаваемая вера, что есть же разгадка, есть ответ – а если я не могу его отыскать, то не значит же это, что нет его вовсе.
Надо было только как-то устроить её, эту свою жизнь, с которой расставаться я и не помышлял, – нельзя же неподвижно на диване лежать, в потолок глядя. Собственно, и проблем особенных не было: направление движения давно задано, всё изначально предопределено. Я продолжал работать, время шло. Всё было как всегда.
Ну – рвения прежнего не имелось, да Росту не мешал попользоваться кое-чем. Так-то вот и год пролетел.
Я тогда себе цель положил: обрести для себя как можно большую степень свободы. Уж если заниматься работой, то чтоб никаких побочных соображений – а так, из одного лишь чистого любопытства. По такой примерно схеме: а что будет, если вот этот порошок вон в ту жидкость всыпать? И чтоб ни выгоды никакие не смущали, ни соображения практической пользы, ни угрозы начальства, ни критерии научной перспективности, ни степени, ни мысли о повышении зарплаты – ничто.
Вот сравнить для примера просьбу и приказ. Просьба ведь предполагает возможность выбрать: хочу – сделаю, не хочу – нет. На всё моя добрая воля. А уж приказу и возразить не смей. Я в просьбе никогда не отказываю, а от приказа всегда, хоть бы и неприятнейшие неприятности мне грозили, всегда старался уклониться.
В то же время: как ни хорошо сознал я порочность стремления к жизненным удовольствиям, натура постепенно брала своё – и отказываться от них я уже не собирался. И если я даже был уверен, на опыте убеждён, что все они, в конце концов, могут мне осточертеть, так ведь в том ещё не повод, чтобы отказываться от них, пока этого не произошло окончательно.
Именно: зачем бы мне от них отказываться? Смысла в них нет? Так ни в чём его нет. В аскетическом самоистязании тоже особого смысла не сыскать, сколь ни пытайся. Жизнь свою в удовольствиях можно сгубить? А коли в ней смысла нет – чего и тужить…
Зачем удовольствия, наслаждения? То-то и оно, что низачем. Нравится – и ладно. Всё остальное – измышления нашего больного и равнодушного ума. Бесспорно лишь чувственное и осязаемое наслаждение.
При нынешнем уровне развития общества наивысшую степень возможной свободы – сколько ни крути вокруг того словес – помогает достичь лишь одно: деньги. Мысль опять же пошлая, неоригинальная до отвращения, но – верная. Зачем мне ждать того, чего я уж и не дождусь – будущего всеобщего процветания? Нет: мне теперь подавай! Я уж на то раззадорился.
Деньги, кроме того, имей я их много помимо зарплаты, помогли бы мне обрести внутренний иммунитет против смущающих покой мыслей о неизбежной корысти, примешанной к моей увлечённости делом, о материальной зависимости моей от работы. Сознание независимости представляло для меня немалую ценность.
Мне нужно было: чтобы я работал и знал: я работаю, потому что хочу работать, а не потому, что обязан работать. Ради куска хлеба. Пусть даже и с маслом. Лучше с икрой.
Все мои умозаключения с закономерной последовательностью приближали меня к тому выводу, к которому мне неизбежно было прийти.
Где взять денег? Теоретически – можно получить большое наследство. Но зачем говорить о случае с нулевой вероятностью?
Можно реализовать свой труд и талант. Однако: исходный момент всех моих рассуждений в том и заключался, что я согласен был вкалывать, но – непременно бескорыстно.
Последняя реальная возможность достижения данной цели – найти дорожку в обход закона. Я не находил в том ничего дурного. В законах я видел не более чем условность, определяемую людьми, временем и пространственными координатами. Тут тоже не более чем игра. Ведь: что принято одними людьми в таком-то месте и в такое-то время как добро, другими людьми в другом месте и в иное время может быть сочтено злом. Да люди могут и обмануться. Одно и то же общество по прошествии времени может кардинально изменить свои критерии оценок. В одно и то же время в разных частях света отношение людей к одному и тому же явлению может быть прямо противоположным. Таким образом, критерии истины оказываются весьма неопределёнными. Всему тому история даёт бесчисленные доказательства.
Другое дело, что за нарушением закона, поскольку он так или иначе, но установлен, может последовать наказание. Но здесь, во-первых, нет стопроцентной вероятности, а во-вторых, это не имеет никакого отношения к нашим внутренним критериям оценки добра и зла. Я не могу, допустим, считать взгляды и убеждения Джордано Бруно дурными только на том основании, что какие-то конкретные люди сочли необходимым сжечь его на костре.
Законы же нравственные, если к ним подойти не с иррациональными эмоциями, а чисто логически,– имеют ещё большую степень неопределенности. И также весьма относительны. Так или иначе, но законы эти всегда связывались с интересами той или иной общности людей. Почему же отдельный индивидуум не может связать их со своими собственными интересами?
Разумеется, общество имеет возможность не признавать индивидуальные интересы нравственными и законными, выдвинуть требование подчинить их интересам всеобщим. Но индивидуум тоже может не признать подобных притязаний общества.
Общество обладает лишь одним преимуществом: в силе, которая обеспечивает ему возможность применять наказание к преступившим его законы. Но это, ещё раз скажем, не имеет отношения к критериям нравственных оценок.
В конце концов и в начале начал – речь идёт о внутренних убеждениях и устоях человека, которыми он только и станет руководствоваться в тех случаях, когда приобретёт уверенность и надежду, что общество не сможет осуществить в приложении к нему свои карательные функции.
Я, например, никогда не украду у ближнего своего даже копейки – именно потому, что внутренне настроен против такого поступка, а не из страха наказания. Но, положа руку на сердце, я не видел ничего дурного в невиннейшем ограблении какой-нибудь сберкассы. Во-первых, от этого никто не пострадал бы лично. Во-вторых, если украсть даже миллион, то в пересчёте на одного жителя нашей страны вышли бы десятые доли копейки. Стоит ли шум подымать из-за такой мелочи?
Кто-то вставит тут шаблонное возражение: но что будет, если все так начнут рассуждать? Не беспокойтесь: не начнут. Лучше задуматься вот над чем: поскольку сберкассы всё-таки грабят, значит, есть люди, которые так всё-таки думают, а пока существуют такие люди, будет сохраняться и потенциальная возможность преступления. Сила закона в борьбе с такими людьми обществу мало поможет.
Создайте во мне такое внутреннее убеждение, что то, что вы считаете злом, есть зло на самом деле. Что: кишка тонка?
Сам-то я грабить сберкассы вовсе не собирался. У меня был более доступный и, как мне казалось, безнаказанный способ достигнуть своей цели. Я мог делать то, что уже много раз делал для своего шефа.
Синтезировать наркотики.
XI
– Ты хочешь продавать людям наркотики?
– Спрос рождает предложение.
– Ты хочешь наживаться на болезни человека?
– На его стремлении к наслаждению.
– Наслаждению на ничтожно малое время?
– Но разве существует вечное блаженство?
– За наслаждением его ждёт страдание.
– Это его личная печаль. Я никого ни к чему не неволю.
– Ты толкаешь его к гибели.
– А вы можете гарантировать ему безсмертие?
– Но человек, которому ты продашь свою отраву, будет деградировать как личность.
– Зачем ему сохранять свою личность?
– Чтобы жить полноценной жизнью.
– А что такое полноценная жизнь?
– Жизнь с наибольшей пользой для общества.
– И почему же кто-то должен жить с пользой для общества?
– Мы все в долгу перед обществом. Пора бы понять это.
– Не надо говорить мне о долгах. Мы не на собрании.
– От развитого общества, от общественного благосостояния зависит и твоё личное благо.
– Моё личное благо зависит от моего кармана. Общество меня лишь сковывает.
– Ты думаешь, тебе удастся обрести свободу от общества?
– Я сделаю для того лишь то, что в моих силах.
– Закон накажет тебя за это.
– Я постараюсь укрыться от закона.
XII
Подтолкнуло меня к таковому деянию знакомство с прелюбопытными индивидуями, адептами оккультизма купно с верою в летающие тарелки.
Началось всё встречею, случайною совершенно, с некиим приятелем Роста, зашедшим к нам с какою-то, теперь уж и не помню, приватной просьбой… Стоп! Вдруг в ум пришло: не нарочно ли тогда Рост начал этакую-то мину под меня подводить? С него станется. Может, он и не наверняка рассчитывал, а так – наудачу пальнул, с дальним прицелом пальнул. Возможно, подумал: вдруг что и выйдет из того, а не выйдет, так и шут с ним – пусть дело начнётся, а там поглядим.
Нет, скорее, грешу я на него понапрасну, зря грешу. Всякое в ум взбредёт. У меня как комплекс навязчивых идей появился: во всём козни Роста усматриваю. Мания своего рода. Но разве так уж невозможно: зазвал он своего так, ненавязчиво зазвал, будто тот сам явился – и пошёл краснобайствовать.
Трепач был редкостный, виртуоз, можно сказать, в своём деле. Манерою изъясняться он отчасти походил на самого Роста: изрекал всё неуловимо свысока, как будто считал собеседников не вполне способными понять некоторые вещи сразу, и не просто ораторствовал, а одновременно как бы растолковывал то, что для него проще пареной репы, а для прочих – премудрость за семью печатями.
Начал он, помнится, с того, что разделил человечество на две неравные части – щекотная мысль – на мыслителей и потребителей.
– Из всей толпы лишь процентов десять имеют эту несчастную способность: думать,– разглагольствовал он, сидя в углу и крутя в руках какую-то колбу, которую преблагополучно и разбил в конце концов.– Что поделаешь: статистика! Давить бы их надо, чтоб не мешали, мыслителей этих,– добавил он отчасти самодовольно, кокетливо подмигнув самому себе: вот-де я каков: из тех, что давить бы надо, а всё же не станет никто давить, нечего бояться, так что можно и покалякать о том не без приятности.
Затем он долго и, надо отдать должное, весьма красно толковал об оккультизме и всяческой мистике. Три часа язык чесал. Суть же была вот какова.
Человека, как установила наука, вполне можно назвать механической биомоделью. Но он сам ощущает себя сущностью вневременной, хотя жёстко привязан к своему времени. Отсюда внутренний дискомфорт и прочее. (Но откуда же у машины столь немашинное восприятие мира?– забрезжило во мне ненадолго.) Образовавшуюся нишу в эмоциональном самосознании (хитро!) когда-то заполняли разного рода религии и культы. Но нынче произошёл кризис веры, и кризис вообще всего старого мира со всеми его ценностями. Поэтому вместо веры теперь пошли – свято место пусто не бывает – разного рода суеверия. Вот тут и оккультизм, и летающие тарелки, и прочая телепатия вкупе с телекинезом и левитацией.
Хорошо это или плохо? Все явления и хороши и плохи одновременно. Смотря по тому, какова точка отсчёта. В любом отрицательном явлении можно найти положительное и наоборот. Собственно, оценка по системе «хорошо-плохо» вообще не годится. Но уж коли оценивать, то мистические явления последнего времени явления суть весьма положительные.
Говоря об оккультизме, он, кстати, упирал на сугубо научную его сущность. Логика тут была не нова: первобытному дикарю многое из обыденного для нас показалось бы сверхъестественным, но ведь и мы не более чем дикари по отношению к далеко отстоящим от нас впереди поколениям – так почему бы не попытаться предвосхитить хоть в чём-то их достижения? А поскольку развитие человечества пойдёт далее отнюдь не по пути развития технической цивилизации (она уже близка к исчерпанию себя и ведёт, что всем стало ясно, в тупик), то следовательно, начнётся активизация духовного начала, освоение новых структурных уровней бытия и выход на те явления, которые в непросвещённые времена почитались за колдовство, магию, а теперь же обозначаются как телепатия, взаимодействие биополей, ну и всё прочее такое.
Я по размышлении пришёл к выводу, что тут просто ещё одна логическая система, каких много нынче скопилось в области мыслительной умственности и умственной мыслительности, как то: в философии, в науке, в эстетике, этике – и даже одновременно в чистейшем эмпиризме, как ни странно. Одно лишь всё сие логистика, созданная для самоуспокоения и самоодурманивания. Но может, я ошибаюсь?
Когда у нас недавно зашёл о том разговор с Назаровым, у него всё просто оказалось: лукавый мутит. Ну, от Саши чего и ожидать? У него всё: либо свыше, либо от нечистого.
– Пожалуй, здесь повторение первородного греха ещё на одном витке: попытка проникнуть в область запретного знания,– сказал он как о чём-то давно для себя уяснённом.– Соблазн псевдодуховности. Самый коварный, без сомнения.
Легко ему: сказал так – и думать уже не надо.
Соблазн-то, соблазн – я и прежде что-то подобное смутно ощущал, но ведь на то он и соблазн, чтобы им соблазниться. И всегда ведь мыслишка подстерегает: а вдруг и впрямь что-то такое есть? Притом: весьма научное, хоть и не признанное пока.
Вот на что приятель Роста и напирал: не обязательно сразу соглашаться, но придерживаясь научной точки зрения, надо же и исследовать эмпирически. А вдруг и впрямь что-то есть?
Я его спросил, помню: так что же тут – наука или суеверие, как он вначале утверждал. Он опять принялся долго и свысока растолковывать, что такой вопрос вообще неправомерен, поскольку наличие бесконечного множества точек зрения на нашу призрачную действительность не позволяет делать категорических оценок и дефиниций. Нельзя вообще разграничивать науку и суеверие. Только вульгарный ум может ставить проблему в одной плоскости и искать единственно верных критериев, каких в природе просто нет: мир многообъёмен, многомерен и в высшей степени лишён определённости. Каждый может выбирать себе точку отсчёта, руководствуясь собственными вкусами и пристрастиями,– нужно только и за другими признать их право выбора, то есть свободу.
Двойственное у меня от всего от этого осталось ощущение: и нравилась мне декларированная свобода, и неуютен сей свободный и многомерный мир казался: как будто проваливаешься куда-то в бездну и барахтаешься без надежды обрести опору.
Но вообще эти рассуждения хорошо на моё настроение тогдашнее ложились. Да и зазорно было себя к вульгарным умам причислять. Знал, подлец, как противника одним махом обезоружить.
Тут вечная моя слабость: я как будто подпадаю под влияние подобных людей, хоть ненадолго, но подпадаю: такой неоспоримой представляется вдруг их жёсткая логика – хочешь, не хочешь, а принимай. И ведь как будто что-то угадал он во мне…
– А что, есть такие, кто к мистическим переживаниям некоторым эмпирическим макаром и прикоснулись уже – из простых смертных?– спросил я.
– Так о том масса письменных свидетельств,– отчасти даже удивившись моей неосведомлённости, ответил он.
– Да нет, мне чтоб живьём таковых увидать.
– Могу,– он самодовольно кивнул.– Я вхож в эти круги. У меня много знакомых парапсихологов.
– И когда же?
– А вот хоть бы и завтра.
Мы условились о встрече на завтра, чтобы пойти затем к живым мистикам и телепатам. Когда я позвал с собою Роста, он снисходительно отмахнулся.
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Но как поразительно изменчива личина человеческая! Когда на другой день мы вошли в какой-то темноватый полу подвальчик, где застали многолюдное сборище индивидуев, столь значительно молчавших, как если бы они являлись хранителями наиважнейших тайн (и я подивился: неуж так много народу запросто общается с потусторонними силами?) – меня поразила метаморфоза вчерашнего Цицерона: он с почтительнейшей приниженностью обратился к некоему долговязому худощавому субъекту, представляя меня и как бы прося прощение за самовольное приглашение в святая святых столь сомнительного типа, как я. Тощего субъекта звали Гришей – все эти мистики называли друг друга исключительно по именам, независимо от возраста,– и он явно почитался среди прочих за старшого. Гриша, впрочем, отнёсся ко мне весьма доброжелательно, в отличие от некого Виталия, тоже, по всей видимости, из местных вожаков,– тот снисходительно, полуиронично даже, выспросил меня, знаю ли я что-либо из оккультной литературы, и получив отрицательный ответ, значительно покачал головой, как бы подтверждая своё изначальное предположение о моём невежестве и ничтожности. Цицерон же мой (каюсь: совершенно запамятовал его имя, да и то: с тех пор я ведь и не встречал его ни разу) понимающе перемигнулся с Виталием и чуть заметно развёл руками, одновременно и извиняясь и подчёркивая нечто сближающее их, посвящённых в высшую премудрость, и незримо превозносящее надо мною, убогим. Хотя и тут Цицерон не изменил своего подобострастного выражения.
Я, не вполне ещё освоясь, стал осматриваться – и обнаружил, что присутствующие, представлявшиеся мне поначалу глубокомысленными молчальниками, вовсе и не молчат, но создают некое висящее в пространстве кружение голосов. Я попытался вникнуть…
«…на астральном уровне… переход в ментал важнее… он же достиг состояния самадхи… Кришнамурти распустил «Орден Звезды» – это ведь имеет сакральный смысл… эти энергетические уровни нам вполне доступны… тогда как Елена Ивановна Рерих прямо свидетельствует… йог полностью усваивает прану, поэтому и может обойтись… чёрная ложа постарается, конечно, не допустить, но разве можно противостоять священной Шамбале! …Блаватская, конечно, много даёт, но ведь уже и «Агни-йога» не последнее слово… нет, в ведизме мы видим полное отречение от воли и ответственности, а этот уровень весьма высок…»
– Но разве отречение от воли и ответственности так уж хорошо?– осмелел и спросил я.
– А как иначе вы изживёте собственную карму?– как о чём-то само собою разумеющемся ответили мне.
Меня привлёк разговор в группе, сплотившейся вокруг Виталия.
– Даже президент США признал необходимость исследования состояний, вызываемых наркотическими воздействиями,– рассуждал некто.– Конечно, невежественные люди воспринимают всё на заведомо примитивном уровне, но такова участь всего, что не укладывается в рамки понятий, выработанных заурядными умами.
– Когда у одного гуру в Индии спросили о наркотиках,– вставил своё слово Виталий,– он ответил примечательно: Бог должен был превратиться в порошок, чтобы люди заметили его.
Все закивали головами, как китайские болванчики, давая тем понять окружающим: ну я-то, как и все мы,– мы понимаем с вами, сколь глубока эта мысль.
– Тут ведь возникает возможность преодолеть структурные преграды между различными уровнями бытия.
«Надо запомнить»,– мелькнуло у меня, хотя я и сам не сразу сознал, какой мне от того прок.
Я заметил, что все присутствующие, хотя и казались поглощёнными каждый своею высокоумной беседою, постоянно оглядывались на Гришу, отрешённо стоявшего в стороне от всех. Как будто чего-то ожидая.
– Скажите, я здесь впервые, а кто этот Гриша?– обратился я к весьма симпатичной девице, которую высмотрел среди прочих.
– Ну!– благоговейно и с нежностью в голосе ответила она.– Он же Посвящённый. Учитель.
Признаться, устыдился своей серости и не спросил, а что же за зверь такой – Посвящённый. Вероятно, догадался сам, обладающий каким-то особенным знанием.
Но вот что занимало меня: неужели все тут обладают мистической силой и опытом? Я разыскал отдалившегося от меня Цицерона и спросил его о том.
– Нет, конечно,– только и ответил он, потому что Гриша в тот самый момент начал говорить, и все мгновенно принялись внимать его словам.
Он говорил много и складно – о духовных монадах, составляющих основу бытия; о некоторых людях, представляющих собою лишь материальную оболочку без такой монады; о необходимости освоить выход в астрал как о первой ступени на подъёме, уводящем к высотам освоения энергетических стихий; о способности особо просветлённых личностей сосредотачиваться на своём внутреннем состоянии, черпая из него энергию высших постижений…
– Знаете, Гриша, вот интересно, что экзистенциалисты близко подошли к этим проблемам и уверяли…– перебил Посвящённого какой-то неискушённый вьюнош, но Гриша тут же остановил его – я видел, что Грише было даже не то неприятно, что его перебили, но больше: само упоминание о чём-то, ему неизвестном (я почувствовал: именно неизвестном),– и он высокомерно заметил:
– Не надо ярлыков, я буду говорить о вещах более глубоких.
И вновь полилась плавная речь, часто перемежаемая одною и тою же фразой: «Наука этого ещё не знает, это ей только предстоит открыть».
Мне хотелось спросить, откуда же ему известно то, что ещё и наука не успела открыть, но, признаюсь, заробел: я предчувствовал, с каким презрением и негодованием воспримет аудитория мой вопрос. Я всматривался в Гришу и видел, что он упоён тем благоговейным вниманием, с которым все внимали его словам. Если вначале он был сдержан в жестах и движениях, то под конец восторг перед самим собою настолько уже распирал его, что он начал незаметно для себя самого и внешне совершенно беспричинно подхихикивать своим речам, изгибаться всем телом, и при этом то садился на низенькую табуретку, то снова вставал, а то вдруг, усевшись, балансировал на двух её ножках, ловко удерживая две другие на весу, подбрасывал и тут же ловил неведомо откуда очутившуюся в его руках книгу – но всех сих манипуляций как будто вовсе и не замечал никто, наоборот, многие пытались бессознательно проделать нечто подобное и сами.
Своё выступление Посвящённый завершил пространным рассуждением о неизбежности существования сложной иерархии богов – и высмеял в связи с этим все монотеистические религии.
Когда пророк смежил уста, все пребывали в состоянии сильнейшего возбуждения: как будто у всех глаза раскрылись на нечто неведомое им доселе. Особенно бесновалась та девица (а может, и не девица – не проверял), что аттестовала мне Гришу как Учителя – она перемещалась по всему пространству, с сияющими глазами заговаривала то с одним, то с другим – и напоминала мне осеннюю ошалевшую муху, которая будучи разбужена какою-то случайной причиною, летает очумело с громким жужжанием, мечется, ударяясь о возникающие перед нею преграды, каковые она не в состоянии различить из-за одурелости своей. Говорят, такая муха должна непременно погибнуть.
– Нам обетования даны!– возглашала девица.
Признаюсь: при всём моём скептицизме я и сам соблазнился отчасти словами проповедника. Пожалуй, какой-то смысл моему существованию они сулили. Или манили тайнами, до коих мы все так падки? Как будто действительно пелена с глаз спала. Да и чуть ли не обладание каким-то могуществом обещалось…
– Мы живём под апокалиптическим знаком гибели материального мира,– начал говорить тем временем ещё один пророк, правда, по всему видать: калибром поменьше.– Но переход хотя бы на астральный уровень лишает мысль об уничтожении нашего бытия какого бы то ни было смысла. Вот путь к спасению.
– Да, ключ к Апокалипсису утерян, но не ощущать роковых предзнаменований мы не можем,– подтвердил Гриша.
Рядом со мною снова очутился Цицерон.
– Здесь вот у некоторых есть желание иметь постоянный и верный источник для оккультных исследований с наркотиками,– сообщил он как о чём-то мне понятном и без особых разъяснений.– Вы не могли бы помочь? Разумеется, они понимают, что затраты должны быть возмещены.
О, идиот я и кретин! Как же не заметил я столь откровенной ловушки! Или не было тут никакого подвоха, а подозрение возникло лишь теперь, пост фактум, так сказать? Ничего не разберу…
– Надо подумать,– только и сказал я, но обоим нам стало ясно, что дело сладилось.
Затем он снова свёл меня с Виталием, мы перебросились незначительными фразами, имевшими, впрочем, особый скрытый смысл – но это не имело ровно никакого значения: всё решилось помимо и прежде того.
Когда я выходил на улицу, незнакомый мне парень, шедший впереди, доверительно обернулся почему-то ко мне и усмехнулся:
– Все мы хотим, чтобы спастись, но поменьше усилий…
Я промолчал, да он и не ожидал ответа – пошёл себе восвояси. А я подумал: ладно, предоставлю вам такую возможность.
И вот что мне самому любопытно: при всём овладевшем мною соблазне – что-то воспротивилось во мне даже мысли о новом посещении подобных сборищ. Лишь с Виталием мы встречались с того времени всё чаще и чаще – но и он, почуя, вероятно, телепатически, что не в коня корм, не предпринял никаких попыток залучить меня на их собрания. Мы ограничивались лишь товарно-денежными отношениями.
Однако ясно я понял, когда наваждение прошло: одна тут игра, самообман. Так, тешат себя разными гипотезами и надеждами – просто от скуки или от отчаяния, какое, скорее всего, и сами-то не вполне сознают. Или я ошибся, не уяснил чего-то? Не разглядел?
Нет, зачем мне такое топтание на месте? Торопиться, торопиться жить! Что мне до всего остального!
А если и впрямь апокалиптические времена? Тем более – торопиться.
Да что бы там ни было – всеобщая гибель или всесветное благоденствие – от собственной же смерти никуда не деться. Так вот: кого волнует – пусть сам о себе заботится. А мне некогда. Вовсе не циник был тот, кто утверждал, что после него хоть потоп. Он просто трезво глядел на жизнь, он был правдив до конца, не лицемерил, подобно прочим иным.
XIII
Баба одна. Спорить со мной тут стала. Разбитная такая бабёнка. По мужикам промышляет. И не сказать, чтоб из корысти какой особенной. Так, из любви к искусству больше. То с одним, то с другим. А то и с тремя сразу.
Кто, говорит, меня не одобряет, тот несовременно мыслит. Я, говорит, с устаревшими предрассудками рассталась. И вся из себя передовая.
Чего ж, говорю, нового-то у тебя такого особенного? То, говорю, самая она древняя профессия и есть.
Оскорбилась.
XIV
Не знаю, не понимаю теперь: когда это произошло и было ли вообще. В прошлом или настоящем?– не могу вспомнить.
Как будто это случилось теперь. Или тогда?
Не помню, не сознаю. Да собственно, ничего и не было.
Я вышел из дому рано, мне нужно было побывать в больнице у мамы, потом я думал зайти в библиотеку, чтобы поискать ту публикацию, что так уязвила в своё время Роста. Но прежде надо было заскочить в кулинарный магазин, где я постоянно брал что-нибудь из полуфабрикатов, которые можно наскоро разогреть: самостоятельно готовить что-то основательное не умею и не хочу.
В небольшой очереди стояла сзади меня нелепая старуха, сгорбленная, в странном каком-то берете на голове, в довольно потёртом пальтишке и старомодных резиновых ботах – колоритная бытовая зарисовка могла бы выйти – при том, что в самих манерах её сквозила претензия на стародавнюю интеллигентность.
– Вы не будете так добры сказать,– обратилась она ко мне,– что: вон тот салат у них бывает здесь несвежий?
Почему-то я понял, что её вовсе не интересует ненужный её салат, но просто от застарелого своего одиночества она хочет хоть несколькими словами перемолвиться пусть со случайным, но человеком. Может, я и ошибся. Однако я и вообще не склонен вступать в общение с посторонними, а тут и вовсе находился в своём почти обычном раздражённом состоянии – поэтому сердито буркнул нечто невнятное и грубо отвернулся. И хотя я отвернулся, но заметил, что она поворотилась как бы за сочувствием к стоявшей рядом женщине, показывая на меня глазами и с жалкой улыбкой строя гримасу показного испуга. Но и соседка старушки тоже не изъявила желания сказать хоть слово сочувствия и, нахмурившись, отвела взгляд. Старушка ещё более сжалась и постаралась стать как бы совсем незаметной.
И неожиданно столь незначащее, совершенно ничтожное событие, если можно назвать это событием, отозвалось во мне острым стыдом и какою-то болезненной жалостью к незнакомому мне старому – и одинокому по всему – существу. С чего бы? Почему-то мне стало стыдно перед Сашей Назаровым – нечто совершенно необъяснимое для моего рассудка. Как будто я ударил кого-то беззащитного, но удар поразил меня самого, и теперь мне было от того больно и гадко. Но в то же время ложный стыд перед самим собою – именно перед собою: кого ещё было стыдиться?– не позволил исправить мою оплошность и ответить просившему мимолётного участия одиночеству хоть малою долею сочувствия.
Или слишком уж нафантазировал я – дал волю обычной своей мнительности? Не знаю. Но тягостное чувство сохранялось во мне долго, даже когда я сидел в давно надоевшей мне больничной палате. Здоровье мамы не улучшалось. Да и у самой у неё, я видел и понял, не было воли жить. Впрочем, она по давней привычке спрашивала о моих делах, даже как будто начала строить планы о моём возвращении в Институт (я всегда поражался мере её наивности и непонимания жизни), но я односложно бурчал нечто маловнятное, и она покорно смирилась перед обычной моей отчуждённостью.
Когда я вышел из больницы и сел в трамвай, я вдруг увидел ту самую старушку: она стояла впереди спиною ко мне, держась за металлическую стойку, хотя в трамвае и были свободные места. Вот уж не могу понять – но я выскочил на следующей остановке, боясь, что она обернётся и узнает меня. На улице было ветрено и сыро. Отвернувшись от ветра, я разглядел впереди, куда ушёл трамвай, старое кладбище, посреди которого, возвышаясь над частыми деревьями, пока ещё тёмными, лишёнными листвы,– круглится жёлтая под серым куполом ротонда церкви. И меня потянуло туда – меня настигло нелепое желание: поставить свечку у какого-нибудь образа – и это (брезжило в туманном сейчас моём сознании) искупит мою вину… но какую вину – я и сам перестал понимать.
До входа на кладбище пришлось идти целую трамвайную остановку – по сырому ветру небольшое удовольствие.
Когда я вошёл в церковь, в ней было пусто, в тишине лишь чётко слышались звуки одинокой уборщицы, протиравшей пол мокрою тряпкой. А в самом углу, у какой-то тёмной иконы неприметно стояла та самая старушка, отрешённо и печально смотря куда-то в сторону. Я уже не боялся, что она меня увидит, но ставить свечку в пустом храме мне было неловко, стыдно – опять не пойму: кого и чего.
Я вышел на стылый воздух, побрёл, задумавшись по какой-то дорожке,– и тут по самым нервам моим ударили трубы грянувшего похоронного марша. И мне стало жутко, я от ужаса сжался внутренне: я ощутил жестоко, что следом за мною движутся похороны и что я не должен видеть их, иначе произойдёт нечто страшное,– и я почти побежал прочь, вперёд, но дорожка сделала неожиданный поворот, и теперь я вынужден был идти навстречу надвигающемуся на меня гробу – я всё же успел свернуть куда-то вбок, и бежал, и снова поворачивал, и опять уклонялся в сторону, а музыка доносилась то с одной стороны, то с другой, и некуда было спрятаться от неё, и она настигала меня, и я опять и опять спасался бегством, а тёмная толпа обтекала меня то справа, то слева, и холодея от её завораживающего движения, я ринулся между могил, но вскоре оказался в тупике: так тесно, вплотную одна к другой, были поставлены передо мной могильные ограды – но хода назад не давала накатывающаяся страшная музыка, и я полез через ограды, цепляясь одеждой за острые наконечники прутьев,– продирался куда-то в невыразимом ужасе не разбирая дороги и вырвался наконец из окружения памятников и крестов – и далеко позади осталась тёмная музыка, а совсем рядом громыхнул на стыке рельсов трамвай.
Я помнил, что мне нужно ещё успеть домой к шефу: он сегодня ждал приготовленного мною снадобья – Мария Петровна, вероятно, опять была близка к новому срыву, а прежний запас как будто бы иссяк.
Как ни странно, но когда я вошёл в трамвай, моей старушки там не было. У окна сидела девушка, привлекшая меня той самой неприметной тихой красотою, которая сильнее всего действует на меня. Я сел рядом.
Я подумал, что мог бы заговорить с нею сейчас, но не сделаю этого – трамвай остановится и мы разойдёмся навсегда, и никогда я не увижу её более, и мы так и останемся навсегда чужими друг другу, и она никогда ничего не узнает обо мне, и я никогда даже не услышу её имени – и это нелепо и бессмысленно.
Как нелепо и бессмысленно всем нам одиноко стремиться куда-то…
В библиотеке, где по обозначенному в каталоге шифру я выписал нужный мне журнал, выяснилось неожиданно, что хотя данное издание и поступает к ним, но именно нужного номера в наличии почему-то не имеется. Но вероятно, сказали мне, он есть в библиотеках институтов соответствующего профиля. Это я и без них знал. Я подумал с неудовольствием: не в наш же Институт идти. Придётся просить кого-то из знакомых.
По дороге из библиотеки, проходя мимо подворотни одного из домов, я заметил, что туда только что свернула с улицы та самая, не дававшая мне нынче покоя старушка – как некое кошмарное наваждение. Несуразное любопытство заставило меня двинуться следом. Она шла впереди, медленно, еле ковыляя на выгнутых колесом ногах, придерживаясь порою за стену – было видно, что она а крайней степени усталости, а больные ноги каждый её шаг делают мучительным. Я физически ощутил, глядя на неё, какое это будет счастье дойти до места и дать покой этим усталым ногам – скорее бы, скорее бы – но идти оставалось ещё много: она пересекла обширный двор, вошла ещё под одну арку в самом углу его – а там был ещё один двор, поменьше. «Неужели тут начнётся бредовая бесконечность арок и дворов, которая измучит и вконец опустошит меня?»– испугался я. Но нет. Во втором дворе старушка вошла в какую-то дверь, я постоял ещё, посмотрел ей вслед – и отправился своей дорогой.
Весь это нелепый и смутный кошмар до сих пор саднит мне душу оставленным в ней воспоминанием.
Было это, не было – не пойму.
И что за ничтожные случайности обретают порою для нас непостижимое, но важное значение…
XV
– Но я ведь дам им свободу наслаждения.
– Ты поработишь их пагубной страсти. Они попадут в кабалу к греху.
– Понятие греха – не нелепость ли в наше просвещённое время?
XVI
Мне снился сон. Как будто меня судят. Потом, когда наяву уже я пытался вспомнить, за что же меня судили, мне этого никак не удавалось, но во сне я хорошо знал. Или лишь смутно чувствовал? Нет, я знал: потому что, помнилось мне, было в моём положении какое-то одно уязвимое место, которого я боялся и о котором опасался, что станет говорить прокурор, и я помнил, как похолодело у меня внутри, когда прокурор всё-таки заговорил о том. Я помню, что внимательно следил за ходом всего дела, участвовал в допросах свидетелей и приводил некие убедительные доводы в свою пользу. И – то казалось мне, будто я вовсе не виновен и меня судят по ошибке и нужно только указать всем на эту ошибку и доказать её, то представлялась очевидной и несомненной моя вина, и тогда я начинал как будто хитрить и изворачиваться, и всё старался скрыть эту свою вину, и искал какие-то остроумные доказательства собственной невиновности, ложной, но и бесспорной одновременно.
Я помнил также, что все, и я тоже, были уверены, что наказание будет условным, и помнится даже, как спокоен я был, когда читали приговор. И было даже смешно, потому что судья сначала очень долго что-то говорил (нарочно, мне думалось, чтобы помучить меня), а я тогда взял да и ушёл домой, потому что стало вдруг скучно и я был убеждён в условности наказания. Когда я вернулся, судья ещё продолжал какие-то общие рассуждения (потом я забыл какие, но тогда хорошо помнил и понимал), а затем – этого-то я никогда не забуду – он вдруг прекратил свою болтовню, объявив неожиданно и странно: безусловное наказание,– так и сказал: безусловное. Потом, то есть на переходе от сна к яви, я никак не мог уяснить, что же за странное слово такое и как оно могло быть произнесено, да ведь и не бывает наказание безусловным, ну хотя бы формально так никогда и никто не объявляет. Но в тот момент, во сне, мне названное слово показалось не странным, а страшным – страшным, но не необычным. И как будто меня осудили на тюрьму, и безусловно. Затем я опять пошёл домой, но уже не уверенным в себе, а только спокойным внешне, потому что меня заставлял быть таким ужас.
Я был свободен, но каждую минуту могли… а срок дали небольшой, можно же было и переждать… но ведь каждую минуту могли безусловно осуществить наказание. И это вызывало во мне настолько сильный ужас, что я едва не проснулся, но лишь едва не, потому что неожиданно пришла судья – теперь это была почему-то женщина, а прежде мужчина – и долго потом с ненавистью и страхом я вспоминал её наяву и даже какое-то время боялся и ненавидел ту, на кого походила в реальности вынесшая мне безусловный приговор и которая и прежде была неприятна мне, – и она пришла и сказала, что пора вспомнить о наказании. Меня отвели в тюрьму, но это оказалась и не тюрьма вовсе, а комната, очень похожая на ту, где я спал и видел свой сон,– только выходить оттуда было никуда нельзя, и я остался там и сидел в тоске от своего безсилия, а потом вдруг как будто обрадовался, что всего ведь два дня сидеть, но скоро свирепая тоска опять овладела мною, так что когда кто-то пришёл и сообщил, что через две недели состоится новый суд, на котором меня оправдают непременно, но надо сидеть и ждать, то я страшно обрадовался и умолял, чтобы суд состоялся безусловно, а я готов ждать и целый месяц, но чтобы обязательно состоялся, иначе я не выдержу тут… И как будто суд был, и что-то мне смутно припоминалось и об этом суде, и как будто… Нет, уже не помню…
Но помнил я, что когда я проснулся, пробуждение не принесло мне облегчения, как бывает, когда освобождаешься от неприятного сна, но наоборот: стало ещё страшнее. Как будто и наяву может прийти та женщина и безусловно запереть меня здесь. Моя комната напоминала ту самую тюрьму, куда меня заперли там, во сне, и я бежал от неё, от её стен, от сна, от воспоминаний о нём, от ужаса перед каким-то чудовищным наказанием, несправедливым, безусловным, как смерть, и давящим, как неволя. И лютая безысходность ощущалась во всём – и хоть об стенку головой бейся – а ничего не изменишь. Чувствование бестолковости всего, что случилось со мною и во мне, более и более овладевало мною – то странное состояние, когда чего-то нужно и в то же время не хочется ничего, состояние недоумения над самим собою. Состояние, в каком стоит лишь подумать о чём-то: вот это надо сделать,– и тут же всё существо твоё цепенеет от безразличия ко всему. И некуда деться от своей внутренней окоченелости, от собственного бессилия перед собственным же тупомыслием.
Я утратил сознавание времени и последовательности событий – так что даже и теперь трудно мне восстановить её – да так ли уж то и важно?
Прежде я нередко задумывался над тем, что вся жизнь состоит из неведомых мне по внутреннему смыслу сложных комбинаций, отчасти сходных с шахматными построениями. Всё жёстко взаимодействует со всем, и нужно лишь разгадать тайную логику композиционных связей, чтобы постигнуть и скрытый замысел пребывающего в постоянном самосотворении бытия. Чтобы понять, нужно всё сопрягать – вспомнил я знаменитое толстовское словечко. И вот во мне как будто всё рассыпалось, распалось – и я уже ничего не могу связать в моём сознании, в моей душе. Как если бы я разложил всю многосложность окружающего мира на элементарные геометрические формы, числовые соотношения, отвлечённые цветовые сочетания – и не знал бы, каким образом можно вернуть им утраченную осмысленность.
Вот странно: я совершенно различно воспринимаю цвет вообще, в его чистой отвлечённости от всего, и цвет как внешнее проявление внутреннего смысла окружающей нас реальности. В цветовых комбинациях временами смутно угадывалась мною их соотнесённость с жизненными ситуациями. Нередко в детстве, особенно в деревне когда я жил, краски окружающего мира вызывали во мне глубинные, до сих пор непонятные мне переживания: как будто, созерцая их, я прикасался к некоей тайне этого мира,– но именно лишь прикасался слегка, ибо она оставалась надёжно скрытой от меня, и только некий намёк на неё чуялся мне в цветовых откровениях, посылаемых мне из неведомых сфер. Да, как отблески неведомого воспринимал я порою всякий чистый и насыщенный цвет, если он встречался мне в природе. И до сих пор помню, какое поистине мистическое чувство снизошло на меня – и ужас и восторг одновременно,– когда на закатном небе увидел я однажды сочетание чёрной синевы, которую несла в себе поднимавшаяся из-за горизонта туча, и ярчайшего алого сияния заходящего солнца. Теперь я уж и не уверен даже: видел ли я то в действительности: с тех пор мне не довелось наблюдать подобного ни разу. Тогда же, вглядываясь в небесные краски, я детским своим сознанием почему-то верил, что там, если проникнуть сквозь них ввысь, в глубь небесной тверди,– можно непременно увидеть и узнать какую-то разгадку – хотя и сам не знал, что именно предстоит там разгадать. Теперь-то я знал: за той тучею ничего ведь и не было – пустота. Скучно стало.
Отголоски того состояния удавалось мне порою подслушать в себе и после, хотя прежнее цветоощущение всё более размывалось во мне течением времени. Мир постепенно как будто обесцвечивался для меня: я, разумеется, не утратил способности различать краски, однако они превратились в элементарные сочетания различных по длине световых волн.
Может быть, подумал я, прежнее цветоосмысление мира я смогу обрести вновь, если сумею – насколько возможно полно – ввести себя вновь в состояние раннего восприятия природы. Но ведь тот мир, где я с такой полнотою переживал её в себе,– его нет, он исчез навсегда.
Тут я вспомнил, как один давний мой приятель – настолько давний, что, вероятно, уж и забыл обо мне,– когда-то в незапамятные времена зазывал меня к себе: он некоторое время обретался где-то за городом – около часа на электричке, да лесом от станции километра три.
И вот тогда я представил себе совершенно непостижимую комбинацию и поверил: мой сон, моё восприятие цвета и то давнее приглашение – всё вместе составляет некое загадочное пока единство, которое, будучи осуществлённым въяве, каким-то образом повлияет на мою судьбу.
– Когда это было?
– Так ли уж и важно?!
Как в шахматах: партия, разыгранная тысячу лет назад, может и сегодня поразить нас своею логической красотой – так и жизненно-бытийные композиции привлекают и своей независимостью от времени. Пугающее время вдруг утрачивает свою властность над реальностью, и она являет перед нами то важнейшее, ради чего мы готовы терпеть её давящую тиранию. В сущности: не самообман ли: освобождаясь от одного ярма, окончательно смиряемся с другим: подчиняемся неким окостенелым схемам, повторяющимся в разных обличьях, но неизменно из века в век –?
Странное рассуждение. Или опять сон?
Просто метался я, не зная, куда деться. Думал: вот начну жить торопясь – всё иначе пойдёт. Нет: одна сумятица.
Тянуло вон из стен, напоминавших тюремную камеру – там, во сне,– и невмоготу тяжко стало мне в теснящихся этих плоскостях, как будто готовых сдавить всякого, кто отважится хоть ненадолго остаться между ними. Простору не хватало, вольного воздуха.
Как будто нечто вне меня (или надо мною?) управляло моими действиями и независимо от моей воли заставляло совершать то, что я сам же и воспринимал, как полнейший абсурд. Бессильный противиться своему безволию, я пустился в путь к людям, которые меня вовсе не ждали, даже не подозревали о моём существовании.
Прилегающее к железной дороге пространство, через которое пробирался вначале пригородный поезд, было долго загромождено с обеих сторон – какими-то сараями, вагонами, путями, мятыми деревьями, рваными кустами, насыпями, мостами, задворками улиц, рытвинами, задними обшарпанными фасадами домов, грудами мусора – и поезд всё никак не мог выбраться из их хаоса. К окнам вагонов на железных дорогах любят собирать всякий хлам. Но как и любой кошмар, придорожный городской пейзаж перешёл наконец в нечто более приятное для взора.
Особенно привлёк меня один открывшийся ненадолго вид: покрытый чистой зеленью косогор, изгиб неширокой речки под ним, несколько весёлых домиков с палисадниками по склону, беленькая церквёночка наверху – а дальше чистое поле и светлая берёзовая рощица, совсем недавно зазеленевшая. И я подумал, когда всё это уже осталось позади: зачем рыскать по свету в погоне неизвестно за какими миражами – вот то покойное счастье, которое мы легкомысленно оставляем в стороне и о котором лишь память затоскует порою. Странное побуждение во мне возникло: нужно непременно очутиться возле тех домов, у стен той белой церквёночки, присесть на пенёк в тени той рощи – без цели, без смысла, без рассуждений. Если я не сделаю этого теперь, то уж и никогда тому не бывать. Это всё просто исчезнет, потому что бытует только теперь, а скоро исчезнет, как всё исчезает. И значит, ещё одна нелепая утрата увеличит число моих внутренних утрат.
Тяготило меня, как и прежде много раз, это никогда: неужели именно никогда не смогу я сделать то, что вот мелькнуло в моём сознании? Никогда – вот мой злейший враг, которого я всегда ощущал в своей судьбе. Всё, всё, к чему я стремлюсь, отделяется от меня этим чудищем. Вот враг, которому нужно бросить вызов, перебороть его хотя бы в малом. Нет, то не блажь, не безумный бред – необходимо преодолеть, победить. И нет ничего для меня важнее – пересилить жестокое никогда.
Экая бессмыслица!– посмеялся я над собой.
Однако на ближайшей станции – а поезд укатился уже достаточно далеко – я покинул вагон, через зачерствевшие ухабы и колдобины, через пристанционную грязь выбрался на полевую тропку и пошёл себе назад, недоумевая отчасти и дивясь собственной несуразности. И стоило мне добраться до места, подняться по тропке к опустошённой церкви, как сознание полной несообразности содеянного лишь всколыхнуло во мне раздражение и досаду. Я тупо огляделся вокруг – ничего я тут не знал, и меня не знал никто, чужое мне здесь всё было, и лишним я стоял – и для деревеньки, и для храма, и для рощи, до которой и дойти-то теперь стало мне просто лень.
Ну вот пришёл. Вот стою тут. И что?
Ну вот пришёл, вот стою тут – и что!
Я решил: чтобы потом не было чересчур стыдно перед самим же собою, нужно не валяя дурака возвращаться обратно, заняться делом и тем заглушить разгулявшиеся во мне несуразные настроения. Подходя к станции, я уже по-другому задумал: поеду туда, куда прежде поезд будет. Первой пришла электричка на Москву, а я наперекор себе отправился к прежней своей цели.
Я ехал и думал: опять ведь на то же нарвусь: чужие мне, незнакомые люди и я – хуже татарина. А всё-таки ехал.
XVII
Хранящая в себе влагу ушедших снегов и первых весенних дождей, лесная земля была ласково мягка под ногами, нежный ветерок успокаивал меня, и пока я шёл от станции к назначенной мне деревне, что-то во мне как будто высвобождалось из-под гнёта, расправлялось и разглаживалось. В сквозящей весенней зелени сплошь гомонили птицы; где-то в стороне громыхнул гром, но солнце в просветах между верхушками деревьев не собиралось прятаться в тучах, сверкало радостно, покрывая дорогу обилием светлых колышущихся пятен. Оттого было мне и радостно и грустно: трудно освободиться от давящего ощущения своей чужести всеобщему ликованию вокруг, но невозможно не покориться, хоть в малой мере, его всевластному призыву.
Впереди послышался крик петуха, потом ещё. Покоем и уютом отозвались во мне те немудрёные звуки; я без колебаний и сомнений шагал теперь и шагал себе, окончательно решив: раз я явился сюда, значит, это для чего-то необходимо мне. И вскоре лесная тропинка вывела меня к деревне, одним концом своим упиравшейся прямо в лес.
Спросив нужный мне дом, я подошёл к голубому палисаднику, из-за которого раздавался тонкий высокий голос, как будто выпевавший на одной ноте: ти-ти-ти-ти-ти… Перед крыльцом стоявшего в глубине дома, обшитого тёмной вагонкой, топталась сморщенная старуха в не первой свежести платье, засаленной кофте и надетых прямо на чулки галошах; из-под небрежно накинутого платка прямо на лицо её свисали космы седых волос – и вся она походила отчасти на бабу-ягу, когда бы не то общее впечатление полнейшего добродушия и незлобивости, которое возникало сразу при первом же взгляде на неё и выражалось прежде всего в графическом рисунке морщин на её лице. Старуха сыпала перед собою на землю какую-то крупу, которую время от времени черпала горстью из небольшого эмалированного таза, скликая и без того уже поспешавших кур.
Я отвлёк её и спросил о своём приятеле: здесь ли он. Она не ответила, а закричала в сторону дома: «Валька-а!» Из дома вышла полная рыхлая с крупными чертами лица женщина лет сорока пяти. Я повторил вопрос.
– Ой, да он уж и не живёт здесь давно,– ответила мне женщина, видимо, дочь старухи.– Да вы заходите, чего там стоять. Он вам кто будет-то?
Я вошёл в палисадник. От меня явно хотели узнать причину моего появления, но причину эту я и самому себе не смог бы вразумительно растолковать – пришлось прилгнуть:
– Да вот он приглашал меня когда-то, я адрес этот записал, да так и не собрался. Знаете как: то то, то это… А теперь он мне по одному делу нужен, а где искать, не знаю.
– Нет, – повторила женщина,– он тут уж давно не живёт.
– А может, вы знаете, где его теперь можно найти?– я уже не мог отделаться от своей фальшивой роли.
– Да где-то было у нас записано, только вот уж не помню…– она обернулась к старухе:– Мать, а отец-то где?
– Ухрял куда-то,– живо откликнулась та.
– Вот он должен знать, у него та тетрадь была. Да вы проходите в дом, он тут где-то, придёт скоро.
– Я лучше здесь подожду,– скромно возразил я.
– Да чего! Проходите,– сказала опять женщина и неожиданно принялась громко хохотать, вглядываясь в лицо матери.– Слушай, мам, ты так и не отмылась ведь.
– А, страсть делов-то!– отмахнулась старуха.
– Ну мать у нас: это тыща и одна ночь!– дочь вновь обратилась ко мне.– Ведь это только сказать кому. Вчера она вон у бабки Середневой сидела, и чего-то голова у неё заболела. А та ей и говорит: ты уксусом полей, полегчает. Ну она домой, значит, пришла, а у нас уксус там вон в сенях на полке стоит. А темно уж. Она как в темноте бутылку-то достала, полила на себя. «Вальк, говорит, помогло». И спать пошла. А мне и ни к чему: помогло и помогло. А утром сегодня как встала, платок накинула и в магазин, а бабы на неё там так и уставились: «Ой, Надя, что это с тобой!» А у неё…– Валентина не удержалась и вновь закатилась.– А у неё… ой, не могу… по всему лицу полосы. Это она когда в темноте по полке-то шарила, а там у нас чернила стоят в точно такой же бутылке, четвертинки такие, знаете. Она чернилами себя и полила. И главное, ведь говорит: Вальк, полегчало.
И она опять принялась хохотать – от души и всласть.
– Э, болдунья, окаянный тебя драл!– добродушно проговорила старуха.– Только бы мать обстрамотить. Такая ехида.
– И главное: полегчало, говорит!– и было успокоившаяся Валентина вновь залилась, так что потом от изнеможения долго не могла отдышаться.
Я решил не противиться обстоятельствам и ждать, что из всего этого вздора выйдет. Ладно: узнаю совершенно не нужный адрес давнего своего знакомца – меня от того не убудет. Да и любопытны мне стали эти простодушные женщины, нравилась мне нецеремонность их. Зазвали они меня в дом и принялись потчевать. Старуха – величали её Надеждой Петровной – поставила на плиту чайник и вдруг, к вящему моему изумлению, бухнула в него штук пять не совсем чистых, в навозце, куриных яиц.
– Мать!– возмутилась Валентина.– Ты бы хоть ради гостя этого не делала. Они же знаешь откуда у курицы вышли.
– Вот страсть делов-то,– невозмутимо возразила бабка.– Всё в море будет.
Но на Валентину сей довод не подействовал: она вылила воду из чайника, достала яйца, и сполоснув, налила его свежей водой из стоявшего на лавке ведра, пояснив при этом:
– Она у нас так воду экономит. Не уследишь, так и будешь чай с дерьмом хлебать.
Разговор за чаем начался с обсуждения погоды, которую мои хозяйки весьма не одобряли. Я подумал было, что вот и тут правила политеса требуют непременного пустопорожнего обсуждения погоды, но потом решил, что, пожалуй, я не прав: отношения у этих людей с погодой иные, нежели у горожан: для нас все проблемы упираются в сомнения, как одеться да прихватить ли зонтик на случай дождя, здесь же явно ощущались отголоски иных забот, более насущных.
– Летошний год как стало лить,– напомнила старуха,– так и погнило всё.
– Всё сикось-накось пошло,– проговорила дочь.
У Надежды Петровны имелось и объяснение тому :
– Люди грешные. Бога не признают. Вот Он им и делает так. «Всё сами будем! И погоду сами!» А вот не очень-то.
Валентина тут же отвергла оную версию:
– Всё ты, мать, ерунду говоришь. А я вот в газете читала,– обратилась она ко мне,– что это оттого, что озоновый слой выжигают, и климат меняется.
– Это всё от атома,– поправила её мать.– Никакого толку от этого атома нет, а только люди мрут.
– И вовсе не от атома, чего ты говоришь, когда не знаешь. А есть озоновый слой там наверху, и его ракетами выжигают.
– И чего же?– спросил я: так любопытно мне было это рассуждение.
– А ничего. Как всё выжгут, так все перемрут.
– Ты что!– возмутилась мать.
– Вот тебе и «ты что». В газете вон писали.
– Они напишут!
– И как же теперь быть?– не унимался я.
– Как, как… Никак. Что они теперь, летать что ли перестанут из-за этого?
– Так ведь сами же себя губим.
–Выходит, что губим.
– Как подумаешь об этом, так страшно,– гнул я свою линию.
– Чего страшного? Смерти бояться не надо. Почём ты знаешь, как твоя жизнь сложится. Может, ты сейчас умрёшь, а тебе на завтра суждено мучение перенести. Значит, это тебе избавление.
– А вдруг мне счастье на завтра выпадало, а я сегодня умер?
– Да, много его нам выпадает!– заметила Валентина с явной иронией.
– И всё-таки озона жалко. Остановиться бы надо.
– У кого ж на это ума хватит?
– Думаете, не хватит?– я уж и всерьёз спросил.
– А то хватит! Вон мужики – знают, что водка губит, а хоть один пить бросил?
– Многие у нас подобрались уже,– подтвердила Надежда Петровна.
– С вина кто не помрёт. И всё равно пьют. Да ладно бы ещё водку. Всякую гадость жрать начали. Вон Ванька Курозаев клей какой-то хлещет. И выкобенивается ещё. Так его и околевание не берёт.
– Ну, этот совсем негодящий,– опять подала голос бабка.
– А другие годящие!
– Нажрутся до усёру и знать ничего не хотят.
– И чего же у вас не борются с этим?– задал я бестолковый вопрос.
– Борются. Вон как по телевизору передавали, передача была,– Валентина, видно, припоминая, начала смеяться.– Мы, говорит, её пьём, потому что боремся, чтобы её меньше оставалось. Так и у нас. Да это ещё что! Вон у нас колдуны завелись. Вот дела-то.
– Что за колдуны?– я искренно заинтересовался.
– Не знаю, чего они там у себя колдуют.
– Да какие они колдуны!– вмешалась мать.– На блядки они тут собираются,– Надежда Петровна вообще в выражениях не стеснялась.
«Час от часу не легче,– подумал я.– Экие дивы дивные под самым боком у столицы».
– А ты видала, что так говоришь!– набросилась тем временем Валентина на мать.
– Бабы говорят.
– А ты баб-то слушай больше, они и не такого наговорят.
– А я что? Мне ложь, и я то ж.
– Вот и молчи лучше.
– Я и молчу.
– И молчи.
– Погодите,– остановил я перебранку.– Вы лучше всё толком объясните.
– Экстрасенсы они, так что ли это теперь называется?– Валентина, я заметил, боялась неправильно сказать незнакомое слово и заранее как бы извинялась передо мною самим тоном речи.
– Есть такие,– подтвердил я.
– Ну вот. У нас Нюша Шишкова померла. А этот, кто он ей? Я и не знаю. Племянник что ли. В общем, неважно. Дом она ему отказала. Ну вот и навёз сюда девок, парней каких-то. Виталий его зовут. Закроются там и колдуют. И длинный у них ещё какой-то, за главного, видать. Нинку Курозаеву к себе приманили.
– А вы-то колдовство их видели?
– Ну да, стану я смотреть. Они и не пускают никого.
– Так что хоть делают-то они?
– Кто их разберёт. Тётя Дуня Варгина Нинку пытала, а та молчит.
– И что же, постоянно они тут живут, или как?
– Кто и живёт, а кто приезжает. Всё время народ толчётся.
Меня зацепило имя «Виталий» и упомянутый в разговоре «длинный». Уж не мои ли то клиенты-парапсихологи?
– Где же тот дом?– я решил проверить свою догадку.
– На том краю. Такой под крышей зелёной.
– Хочу пойти посмотреть.
– Чего его смотреть!
– Колдуны всё-таки. Не каждый день встретить можно.
– Это-то так,– согласилась Валентина.– Только они не пустят.
– А чего я теряю?
– И это верно.
– Я к вам зайду ещё за адресом.
– И где же это он записал?– засуетилась Валентина, перебирая какие-то бумажки, конверты и тетрадки на столике в углу.– В Монетчиках он живёт, от вокзала недалеко. Так-то я вот помню, как идти если, а адрес шут его знает, как он пишется. И куда отец-то запропастился?
– Намазурился где-нибудь,– откликнулась Надежда Петровна, собирая со стола.
– Большое спасибо!– поклонился я хозяйкам.
– Не на чем,– ответила старуха.
– Я ненадолго, а потом опять зайду.
XVIII
Выйдя на деревню, я легко отыскал нужный мне дом. Снаружи он ничем особенным не выделялся: дом как дом, ладный, весело глядящий из-за буйных зарослей сирени, пока ещё робко распускавшей свои листочки. Вот только окна, пожалуй, слишком плотно изнутри занавешены. И вообще никаких видимых признаков жизни дом этот не обнаруживал. Я потоптался в нерешительности у загородки, а потом решил, что уж ежели пустился я нынче во все тяжкие, то и тут тушеваться негоже – не убьют же!– и толкнул калитку.
Меня, как оказалось, заметили, потому что не успел я постучаться, как дверь в доме отворилась и безмолвным вопросом возникла передо мною женская фигура – странное и неприятное чувство возникло во мне сразу же от её взгляда: она смотрела прямо мне в глаза, но в то же время и как бы мимо меня, сквозь меня, как если бы меня вовсе и не было или я был для неё ничтожен совершенно.
Но не отступать же из-за того. Я спросил Виталия – и почти мгновенно тот самый Виталий, покупщик моего снадобья, отчасти ошарашенный, лупил на меня свои бельмы.
– Поскольку я здесь,– заявил я ему, решив блефовать напропалую,– то думаю, не надо объяснять и доказывать, что я пользуюсь некоторым доверием у лиц из определённых кругов.
О ком именно идёт речь, я и знать не знал.
– Кого вы имеете в виду?
– Разве в таких случаях принято называть имена?– твёрдо и с лёгким оттенком иронии укротил я его любопытство.
Ещё в самом начале знакомства с Виталием я понял, а вернее – почувствовал, что он в высшей степени тугоумен. Догадка эта возникла у меня, лишь только я увидел линию его силуэта в профиль: подобная линия могла быть только у безнадёжного тупицы. Более внятно объяснить не могу.
Может быть, мой ответный выпад и не произвёл бы должного впечатления на субъекта с более вёртким умом, но Виталий не нашёлся мне возразить, что для него самого стало доказательством моей правоты – да оно и логично: если некое суждение не может быть опровергнуто, оно должно быть признано за истинное.
Виталий пригласил меня войти, произнеся при этом со значительным видом:
– Вы успели вовремя, мы уже начинаем.
И в тот самый момент, когда мы, миновавши стылые сени, входили в затемнённое внутреннее помещение, я увидел долговязого Гришу, который с размаху бил по лицу какую-то девицу, с презрением изрекая поверх голов стоящих вокруг него:
– Я заставлю вас отринуть вашу низменную самость!
И девица в восторженном порыве вдруг бухнулась перед ним на колени и припала губами к руке, только что отвесившей тяжкую оплеуху. Я узнал в сей девице ту, что ошалело кричала когда-то о данных нам всех в речах Гриши высших обетованиях.
Размышляя позднее над увиденным, я вспомнил рассказ одного старика, уверявшего меня, будто есть люди, имеющие над окружающими особую неодолимую власть, которую нельзя объяснить никакими видимыми причинами. Особенно легко могут подпадать под эту власть женщины, такова уж их природа, причём сама склонность к подчинению может иметь различные истоки: интеллектуальные, эмоциональные и чисто физиологические. В его родной деревне, как рассказывал мне тот старик, проживал мужик, имевший над бабами необоримую плотскую власть, так что стоило ему пожелать – и ни одна не могла ему противиться. Кончилось тем, что кто-то из деревенских зарубил того пакостника топором прямо на собственной жене – за что был приговорён (о благословенные патриархальные времена!) к церковному покаянию и трёхгодовому послушанию в ближайшем монастыре. Случилось сие, разумеется, ещё до революции где-то в Смоленской губернии.
Кто его знает – гипноз то или неведомая иная сила, но я уверен, что Гриша обладал над многими именно такой властью. Считайте меня каким угодно ретроградом и мракобесом.
– Я нашёл вас, потому что вы были готовы к этому,– проповедовал Гриша перед своею паствой.– Я избрал вас, потому что ваши духовные сущности раскрыты для слова истинного гуру.
Было несомненно, что все присутствующие уже находились к моему приходу на грани особого состояния нездоровой экзальтации, а истинный гуру готов был всевластно управлять этой мини-толпой (всего здесь было около пятнадцати человек, из них большая часть – особы женского рода).
– Человек страдает, ибо не может отречься от мерзостной самости. Вы должны растоптать её, вы должны отринуть себя, отказаться от себя, отбросить низменное сознание, уничтожить стыд, раствориться в воле гуру и через неё войти в высшее состояние. Нет ничего абсолютного и неизменного в плотском мире. Наша цель – достижение высшего состояния, достижение чистых божественных сфер и преодоление телесности грубого материального мира. Мы создадим иную этико-нравственную ситуацию для проявления тончайшего личностного начала. В соитии телесном познаем слияние духовное. В каждом телесном акте вы должны стремиться осознать символ сакральных действий, становящихся эманацией вашего высшего духа.
Та особа, которую он только что избил на моих глазах, взирала на учителя в особом исступлении.
– Вы примете частицу бога и бог войдёт в вас, и вы сольётесь с богом и причаститесь высшей духовности и вам будет открыт доступ в чистейшие сферы – вещал гуру.
Виталий вынес небольшой светлого металла кубок (такие, помню, вручали победителям на школьных спартакиадах) и передал его проповеднику. Тот застыл посреди комнаты, подняв кубок над собою. На столе у стены закурилась сладким дымом какая-то смесь. И вдруг все запели непонятный мне тарабарский текст и принялись дёргаться в механическом ритме – отчасти всё было похоже на современные рок-танцы. Беснование длилось достаточно долго, при этом и учитель и его подручный совершали некие явно ритуальные действия. Затем пастырь с непостижимой акробатической ловкостью, сохраняя неподвижность во всём теле, начал сгибать ноги и подворачивать их под себя, так что в результате оказался сидящим на небольшом коврике в позе индийского йога. Плавным движением он опустил кубок на уровень своих глаз. Виталий подошёл к нему и, зачерпывая маленькой ложечкой находящийся в кубке порошок (я догадался, что это мой «товар»), начал сыпать его крохотными порциями в открытые рты по очереди подходящих к нему участников ритуального действа.
Виталий взглянул на меня – я оставался последним, и понял, что не подчиниться общему порядку нельзя,– и тоже подошёл к кубку с открытым ртом, и получил свою дозу отравы. Я знал – теоретически – особенности действия данного порошка: он был сравнительно безобидным – но всё же отойдя в сторону я постарался незаметно избавиться от того, что впихнул в меня тупоголовый экстрасенс.
Я не уследил за всеми дальнейшими подробностями церемонии, так как не понимал совершенно её смысла. Она казалась мне забавной, местами даже смешной, но та болезненная восторженность, которая всё сильнее разгоралась в её участниках, становилась мне более и более неприятной. Но и я постепенно без всякого порошка (или что-то просочилось в меня?) начал заметно поддаваться общему дурману, я будто отрешался постепенно от нормального самосознания – и сдерживающие меня тормоза, вначале позволявшие мне совершенно отстранённо наблюдать происходящее, чем далее, тем становились слабее, и вдруг я утратил истинное чувство реальности.
«Всё вздор, всё бред, всё бессмыслица, нет ничего абсолютного и неизменного, всё абсурд, всё бред, всё вздор, всё можно»,– кружилось у меня в мозгу (или они пели и кричали это?), и я заворожённо вовлекался в общую вакханалию.
– Аллилуия любви!– возопил учитель.
– Аллилуия любви!– запели все хором.
Началось непотребство. Свальный грех – по старым понятиям. По новейшей передовой терминологии – групповой секс.
Я утратил разум и сознание, я воспринимал сам себя лишённым удержу зверем, и это доставляло мне глубочайшее наслаждение, какого я не знал ещё никогда прежде, и я изведал радость силы и насилия, я в упоении постиг восторг от чужой боли и страдания, причиняемых мною ближним моим, я готов был растерзать все эти обнажённые извивающиеся вокруг меня тела, я физически ощущал, как недостаёт мне клыков и когтей, чтобы вонзать их в мягкую податливую плоть,– и тоска и отчаяние, давно прочно угнездившиеся во мне, растворялись теперь в той злобе, что обуяла меня, и внутренняя скорбь отпускала мою душу, пресуществляясь в физическую боль беснующихся вокруг – подобных мне нелюдей.
………………………………………………………………….
О блудодейство окаянное! Будь я проклят, поддавшийся тебе!
………………………………………………………………….
Пожалуй, я отрезвел быстро, к реальности меня вернуло переполнившее меня чувство тошнотности во всём теле. И я сразу почувствовал на себе тяжёлый взгляд главаря.
– Ты духовный вампир, ты расслабляешь и разрушаешь мою ауру, ты высасываешь из меня прану моего духовного тела, зачем ты тут?– прохрипел он.
Рядом с верховодом сидел Виталий – и как же гадостны были они оба в голом виде! Их неэстетичность переполнила меру моего отвращения к себе и ко всем – и меня тут же вырвало прямо на пол – и я инстинктивно пополз прочь от собственной блевотины, кое-как отыскал свои тряпки, напялил их на себя, выкарабкался наружу, а затем долго сидел в отупении на ступеньках низенького крылечка, обхватив голову руками.
Потом я поднялся и выйдя из палисадника оказался вскоре у околицы. Солнце висело уже над самым горизонтом, и, пронизанная его закатными лучами, светилась чуть в отдалении, посреди насыщенной зелени широкого луга, трепещущая берёзка. Вглядываясь в переливы и переходы её цветовых оттенков, я вдруг почувствовал близость того самого особого, может быть, мистического восприятия цвета, ради которого я ведь и ехал сюда (хотя и сам не мог бы объяснить, почему оно должно было посетить именно здесь – в этом, что ни говори, какая-то несуразица). Однако столь долго жданное мною ощущение спугнул Виталий, догнавший меня в тот момент.
– А всё-таки,– настойчиво сказал он,– кто вас всё-таки послал сюда?
Я досадливо поморщился:
– Боитесь, что заложу?
Он не ответил, но я знал, что не ошибся.
– Пойми, тупица,– с расстановкой проговорил я,– мы связаны одной верёвочкой. Та отрава, которую вы тут скармливаете, она же сделана моими руками.
И я пошёл прочь.
– Смотрите!– крикнул он мне вдогонку с жалобной угрозой.
XIX
До сих пор не пойму странного пересечения отдалённых друг от друга времён (а если и пространств?). Так параллельные прямые по новейшим остроумным измышлениям пересекаются где-то в недостижимой бесконечности – и таковое чудо принимается нами уже на неоспоримую и всеочевиднейшую реальность, а не как именно отвлечённое умствование, ради щекотания игривых рассудков сочинённое,– опять-таки своего рода логическая система, для удобства дальнейших наисверхлогически-диалектических построений предназначенная, или же для того созданная, чтобы нашему ограниченному уму евклидовскому – большую бы гибкость придать. Впрочем, я это от отвращения к себе забалтываться начинаю.
Но однако: такое перекрещивание времён всё же для мово умишки убогонького непостижимо в совершеннейшей степени. Хотя: не аберрация ли тут моей собственной памяти, совместившей в одной точке времени и пространства далеко отстоявшие одно от другого события? Умопомрачение что ли на меня снизошло? В полнейшем пребываю недоумении.
Помню только ясно, что шёл, досадуя на тупоумного Виталия, спугнувшего мои начавшиеся прозрения, помешавшего тем перебороть то тошнотворное, физически и нравственно тошнотворное состояние моё, которому он же и был отчасти причиною. Я принялся заставлять себя вновь возвратиться к переживанию цветовой сущности мира – и вглядываясь опять в насыщенную зелень луговой травы, сопоставляя её с трепещущими оттенками золотых тонов в листве одинокой берёзки, я начал туманно догадываться, что в самом зелёном (а не синем, не красном, к примеру) весеннем обновлении природы нет случайности, а есть лишь загадка, какую, быть может, никому и не доведётся разгадать, но она всё же есть, полная скрытого значения.– И пожалуй, лишь интуитивное прикосновение к ней могло бы – пусть и смутно, но – дать почувствовать её тревожащий сознание смысл.
Впрочем: что опять за вздорное блудомыслие?
Тщетно стараясь перебороть блудом умственным память о блуде телесном, я брёл без цели и смысла по тропинке совершенно в сторону от деревни и от дороги на станцию, куда всё-таки нужно же было бы мне направляться: опускались сумерки, и не в поле же было мне ночь коротать.
И вот как из воздуха возникнув, прямо навстречу мне вышел Саша Назаров со своим сыном – оба что-то увлечённо обсуждали и от избытка возбуждения размахивали руками. Параллельные линии пересеклись и я очутился в бесконечности? Они же ничуть не удивились, увидев меня, а мальчик даже обрадовался чему-то: просиял и запрыгал на месте. У меня же на удивление и сил не хватило.
– Ты отчего такой мрачный?– спросил Назаров.
– Да вот, говорят, активно уничтожается озоновый слой в верхних слоях атмосферы, что грозит гибелью всему живому. Вам не жалко, что вот это всё,– я показал широким жестом вокруг себя,– всё погибнет?
– Не нашим умом, а Божьим судом,– невразумительно ответил Саша.
– Абы на кого вину спихнуть? Ещё и на Боженьку?
– Вот мы только что спорили: виновата ли кукушка, что она на других свои заботы сваливает, или не виновата?
– И к какому же выводу пришли?– я окончательно утвердил в своих репликах мрачную иронию.
– Решили: не виновата.
– Она же не может выбирать, такая у неё природа,– пояснил Назаров-младший.
– Как прекрасно!– почти искренне воскликнул я.– Как прекрасно быть не виноватым, потому что природа такая. Вот природа и виновата. А я как кукушка: не могу выбирать, вынужден внимать природе. Просто гора с плеч!
– Кукушке хорошо,– согласился Саша,– чем она отличается от нас, которые, хочешь-не хочешь, а выбирать должны постоянно – что и делает нашу жизнь невыносимой порою, страдать заставляет.
Божий же суд – он уже после выбора.
– А если отказаться от права выбора?
– Так ведь это тоже будет результатом выбора.
- Куда ни кинь, всюду клин. И не выбирать нельзя, и за выбор тебя судить станут? Хорошо, коли на несуществующем том свете: есть надежда отмотаться. Так ведь ещё и на этом судов понасажали.
– И от того не уйдёшь,– грустно покачал головой Назаров,– и тут: от сумы да от тюрьмы не зарекайся.
– Кабы в одной тюрьме дело. Ладно, пусть: тюрьма. Было за что,– я окончательно признал перед самим собою вину свою.– Но вот хоть бы меня взять: теперь-то за что? И общество со мною, и я с обществом – сполна в расчёте. Теперь-то за что? Да ведь и с точки зрения того же общества я бы ему больше пользы принёс – там, в науке, а не на наших задрипанных курсах. Нет, я так, безотносительно говорю. Меня и позовут – не пойду. Но хотя бы теоретически: справедливо ли до сих пор меня бить?
– Ты сам себя бьёшь,– ответил Саша.
Мне досадно стало такое непонимание, ещё и неловко чувствовал я себя оттого, что наш разговор внимательно и серьёзно слушал мальчик.
– Нет, ты не понял,– всё же пересилив свою внутреннюю нерасположенность к продолжению разговора, сказал я,– на десять лет, это я сам себя измордовал. Но теперь…
– Я про теперь и говорю. Знаешь, когда мне плохо, я всё время вспоминаю мысль одного святителя: если тебе плохо – ищи где согрешил. Само страдание – лишь выражение внутреннего нашего греха. Ведь просто.
– Да, да, я помню, мы что-то такое говорили не помню с кем…
Тем временем мы успели уже войти в деревню и оказались перед ладным домиком с красивыми резными наличниками.
– А ты где тут остановился?– спросил Саша.
– Да нигде,– ответствовал я,– мне ещё до станции топать.
Между тем уже заметно смеркалось.
– Так оставайся у нас, места хватит.
– Ты разве тут живёшь?
– Бабушка у меня тут. Вернее, сестра бабушки. Я как свободный – так частенько сюда. Сегодня, например, вообще не мой день, а на завтра у меня физики под итоговую контрольную часы забрали.
– А мне завтра идти.
– Так не с утра же,– уговаривал он меня.– После обеда выйдешь, как раз успеешь. Чего сейчас-то впотьмах по лесу блуждать?
– Конечно,– рассудительно поддержал сын отца,– а места у нас много. Ещё придут – и их будет куда положить.
Ладно, уговорили.
В доме встретила нас маленькая ласковая старушка.
– Вот, баба Катя, гостя привёл,– указал на меня мой приятель.
– А я как знала, – радостно сообщила старушка, – блинов поставила.
– Не хвались: ты до них сама большая охотница.
– А чего ещё остаётся? Знаете, как прежде говорили,– обратилась она ко мне:– две старухи без зубов толковали про любовь: мы с тобою влюблены – ты в кисель, а я в блины.
– Блины дело хорошее,– подтвердил я.
– А вы чьи же будете?– полюбопытствовала она.
– Да я здесь случайно. Сюда приехал, а уезжать не хочется, пошёл гулять, вот и загулялся.
В хлопотах и приготовлениях к трапезе старушка не переставала что-то приговаривать, рассуждать – не то сама с собою, не то со всеми сразу:
– Сяду я подумаю, чем кормить угрюмую. Куплю сахару, изюму, накормлю свою угрюму,– выпевала она свои присловья, накрывая на стол. Сева с милой старательностью помогал ей.
– С молоком нынче плохо стало. На всю деревню две коровы, только и всего-то литр нам один достаётся,– сокрушалась хозяйка передо мною.– А ведь бывало, вон Сашенька ещё помнит, как стадо гонят, так на полдеревни растягивается. Я тоже держала, а нынче уж стара, доить не могу: руки уж не руки, а крюки.
– А вы тут одна живёте?
– Упрямая потому что,– с укором ответил за старуху Саша.– Давно её зовут все, а она ни в какую.
– Пока ещё двигаюсь. Вот и хорошо. А пустой дом-то как оставить? Лишний раз уж и не приедешь. И при доме я тут, и люди все свои,– говоря это, она всё время обращалась ко мне как бы за поддержкой.– Недаром же говорят, что дома и стены помогают. Не нами сказано.
Поглощаемые мною блины оказались, между тем, отменно хороши. Вскоре я уже вынужден был с трудом переводить дыхание от обилия съеденного.
– А вы что же не едите-то?– всполошилась баба Катя, лишь только я откинулся в изнеможении на спинку стула.
– Да уж сыт, спасибо.
– Сыт покуда съел полпуда, осталось фунтов семь, и последние съем,– подложила она ещё парочку.– Грех оставлять.
– Завтра доедим,– заступился за меня Саша.
– Гретые это уже не блины.
Когда Саша повёл сына укладывать на ночь, старушка горестно взглянула мне в глаза:
– Беда-то у нас какая! Уж я и виду стараюсь не подавать, а он ведь порой еле держится, у меня глаз приметливый.
Я сделал, больше из вежливости, скорбное лицо, сокрушённо вздохнул.
– Вот как,– поддалась она на моё сочувствие,– злее зла зло бывает.
– Давайте, я вам помогу,– предложил я, скорее чтобы перебить тягостную для меня обстановку вынужденных сожалений и вздохов, чем от истинного желания помочь.
Всё уже было убрано, когда вернулся Саша. Он молча подсел к столу, я тоже молчал: на меня снова накатило досадливое на себя и на всех настроение, хотелось остаться одному, уйти от людей, и невозможность этого начала раздражать меня. Хозяйка вдруг робко и смущённо обвела нас взглядом:
– А я сегодня молитву сочинила.
Это ещё что за диво! Я неподдельно изумился. Саша тоже казался удивлённым. Баба Катя распрямилась и, глядя куда-то поверх наших голов, начала торжественно:
– Господи, всеблагий и предвечный, слава Тебе, слава Тебе. Всемилостивый жизнедавче, пресветлый благоустроителю, утешителю в скорбех наших, слава Тебе, слава Тебе. Долготерпеливый человеколюбче, пречудный душ укрепление, слава Тебе. Пресильный, преславный, пресладчайший, слава Тебе, слава Тебе. Помощниче и надежда наша, слава Тебе. Пастырю многомудрый, водителю по жизненному пути нашему, слава Тебе, слава Тебе. Судеб вершителю, любовь неизреченная, сердец веселие, нечистоты устрашение, слава Тебе, слава Тебе. Наставниче пребезсмертный, мздовзимателю премилосердный, слава Тебе…
Она вдруг запнулась, замельтешила, поясняя смущённо:
– Это я всё славлю, славлю Его… У меня там ещё есть, тоже всё так. Это я прославляю…
Я с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Саша же с серьёзностью сказал:
– Надо записать. Ты мне потом продиктуешь всё полностью. Не забудешь?
– Я уж давно сочиняю, а сегодня вот закончила,– ответила она.
Тут как будто возникла какая-то неловкость, напряжённость повисла над нами, скорее всего – от моего присутствия: так часто бывает, когда что-то сокровенное выставляется ненароком перед посторонним человеком. И пожалуй, чтобы замять эту неловкость, Саша обернулся ко мне:
– Ну что, пойти подышать на сон грядущим?
– Погуляйте, погуляйте,– поддакнула баба Катя и посмотрела на меня, ещё не преодолев смущения:– Бывали дни, гуляли мы, теперь гуляйте вы. Здесь воздух-то то-онкий. А как в Москву эту приеду, всё тяжело и как будто давит, всё вздохнуть как следует не могу.
Я согласился.
XX
Саша пошёл вперёд, как бы приглашая меня последовать за ним.
– Значит, страдание есть продолжение греха?
– Ты думаешь иначе?– тихо спросил он.
Сейчас я тебе врежу!
– Ладно,– я решил не щадить его.– Когда ты хоронил дочь, ты страдал оттого, что любил. Значит, и любовь – грех?
– Мне было больно, потому что колебалась моя вера в справедливость высшего Промысла.
Он всё-таки держался молодцом, самообладание у него было просто поразительное. Но меня было не сбить:
– Слишком завиральная логика.
– У веры нет логических критериев.
– Но зачем же твой Бог всё же допускает зло?
– Этот мир – не цель, а лишь средство. Испытание для человека. Грех был добровольно выбран нашими прародителями – и нам нужно познать что есть жизнь вне Бога в грехе. Чтобы мы могли сделать иной выбор, если должно осмыслим этот опыт. Но выбор каждому делать самому.
– Ага! Расплата за выбор Адама! Но где же тогда справедливость вообще, если я должен платить по долгам какого-то Адама, которого я и в глаза не видал и не уверен даже, жил ли он и на свете-то? И яблочки я те не откушивал. Сын за отца не отвечает.
– Уж если наследство – так всё: и доходы, и долги. Благами же, тебе оставленными, пользуешься?
– Я и доходов не хочу брать. Я сам по себе.
– Ты отрекаешься от человечества? Отрекаешься от тех, кто тебе дал жизнь? И отрекаешься тем от самой жизни? То есть от смысла своего бытия вообще? Впрочем, вне Бога всегда тянет к небытию. Таков закон.
– И каков же смысл бытия?
Я спросил скорее от безразличия, вяло. Он же начал воодушевлённо:
– Вот как ребёнок: должен непременно девять месяцев развиваться в материнской утробе и только пройдя тот путь, может явиться на этом свете, так и наша жизнь здесь тоже своего рода утробное развитие для вечной будущей жизни. Разница лишь: от ребёнка в те месяцы ничего не зависит, нам же на то и дана свобода воли, чтобы мы сами направляли своё развитие, готовили себя. Да плоховато используем, что нам дано. Хотя куда как ясно сказано: не собирайте сокровищ на земле, но ищите прежде Царства Божия. То есть: готовьте себя для Горнего мира.
– А коли нет того мира? Тогда же всем твоим рассуждениям грош цена.
– Да, тогда: подминай всех, и всё позволено.
– Как же быть?
– Всё-таки готовить себя к тому самому значительному моменту, который всех ждёт.
– Готовиться к исчезновению здесь…– безнадёжно проговорил я.
– К рождению там,– твёрдо возразил он.
– Красиво всё это, даже логика своя есть. Только нет твёрдых доказательств.
– Доказательства были бы губительны для внутренней свободы. Без свободы нет и веры.
– Какая вера, когда в душе сплошная мерзость запустения…– равнодушно возразил я.
– Кто же её вместо нас самих вычистит?
– А коли сил нету?
– Проси помощи. Ни у кого ведь нет в полной мере. Просите и дано будет вам, стучите, и отворят вам…
– И для того ходите на театрализованные представления в храм…– в тон ему подхватил я.– В том-то и бессилие ваше, что кроме – и сказать ничего не можете.
В глазах Саши я угадывал страдание, но не мог отказать себе в удовольствии помучить его.
Себя я мучил – не его. Теперь понимаю: он страдал, потому что видел: мы говорим на разных языках, а я не хочу сделать усилие, чтобы выучиться истинам веры.
XXI
Утром, в полудрёме ещё, в удивительно тихой тишине услыхал я крик петухов по деревне – и что-то со времён детства хранящееся во мне шевельнулось и замерло у самого сердца.
Ночью прошёл дождь, но к утру разгулялось – и лишь остатки недавней пасмурности таяли в небе, когда я вышел на крылечко приютившего меня дома. Вышел – и от запаха свежей молодой зелени стало мне и радостно и грустно, как при воспоминании о чём-то прекрасном, но унесённом уже необратимым течением времени. С шумом прилетел откуда-то крупный красивый шмель, сел на цветок, закачался, пригнув его своей тяжестью. Рядом замерла, раскрыв крылья, бабочка-крапивница. Сверкал под лучами солнца весёлый разноцветный мир. И отовсюду – сплошной птичий гомон.
А ведь и вправду: зачем ломать голову, чего-то искать, мучить себя и других? Вот это мгновение светлого зелёного утра – длиться бы ему вечно – в нём бы жить, с ним бы и умереть…
…За околицей деревни, за зелёною луговиною, где накануне повстречал я своего странного приятеля, тянулся небольшой овражек, болотистым дном которого бежал вёрткий ручеёк – он разливался в глубокую лужу как раз при пересечении его с дорогой, так что всем приходилось пробираться краем лужи по кочкам или прыгать по камушкам, положенным здесь кем-то на значительном один от другого расстоянии. Но ни скакать с камня на камень, ни доверяться нетвёрдым кочкам у меня не было охоты; я остановился перед лужею, остановились и Саша с сыном. Мы втроём отправились после недолгого утреннего чаепития обозревать окрестности, а вернее – на это уговорил нас неуёмный мальчишка, снедаемый довольно обычным для многих желанием разделить восторги от местных красот природы хотя бы ещё с одним человеком – теперь вот со мною.
Полуночный разговор наш с Назаровым и у меня, и (по всему) у него тоже оставил не совсем приятное внутреннее ощущение, поэтому мы старались не вспоминать его и рассуждали о совершенно постороннем, и даже не между собою говорили, а как бы через посредника, обращаясь более к юному нашему спутнику – его увлечённость беседою постепенно передалась даже мне.
Мы принялись разглядывать раскинувшуюся перед нами лужу: в незамутнённой воде ясно различимы были все её обитатели. Ползали тут какие-то неведомые червяки и козявки, расчертившие всё дно извилистыми полосами; грузный ручейник казался среди них огромным чудищем, а тянувшийся за ним след выглядел глубокой траншеей; у самого дна шныряли повсюду мелкие жучки, сверху же скользила по гладкой воде одинокая водомерка. Вся же толща воды кишела несчётными головастиками: их гнало откуда-то из верхнего болотца течением ручья, которому они не могли противиться,– в широкой луже наступало затишье, но с того краю, где вода вновь устремлялась дальше по овражку, они увлекались вновь неумолимым потоком вперёд.
– Вот как странно,– обратился Саша к сыну,– ведь сколько всяких живых тварей тут перед нами, а мы даже отдалённого понятия не имеем, что они чувствуют, о чём думают.
– Ты полагаешь, они думают?– усомнился я.
– Конечно,– как о чём-то само собою разумеющемся отозвался мальчик.
– Но ведь они же совсем примитивные.
– Но ведь им же бывает больно?
– Не знаю. Наверно.
– Если больно, то они должны это понимать. Если не понимать, то значит, и не больно.
– Так может, им и на самом деле больно не бывает.
– Но вот я его прутом трону, почему он тогда в сторону плывёт? Значит, чувствует. И вообще лягушки умеют кричать от боли.
– Верно,– подал голос Назаров-старший,– если больно, то непременно подумаешь: мне больно.
– По-моему, ерунда,– сказал я,– просто больно и всё. Чего тут понимать?
– Не понимают только машины. Стоит же пристальнее вглядеться, и сразу ясно: эти козявки во много раз сложнее любой машины. Я не могу себе представить, что в них нет хотя бы зачатка мысли,– Саша зачерпнул горстью воды с несколькими головастиками, поднёс к глазам, разглядывая некоторое время, и затем выплеснул обратно.– Только начинаешь вдумываться в окружающий мир, и рассудок цепенеет перед его загадками. Что определяет отличие вот этих живых тварей от неживого? Что они ощущают, входя в наш мир? Каков смысл их существования?
Меня не привлекало подобное глубокомыслие на мелком месте – в прямом смысле на мелком: в самом глубоком месте тут было не более чем по колено. Впрочем, ежели в смысле педагогическом, то предназначенное юному отроку рассуждение было весьма приемлемо как побудительный толчок для дальнейших размышлений.
Всё же я вознамерился возразить, и вот каким образом: критерием истины может стать и собственный опыт, а опыт наш таков: когда мы были бессмысленными младенцами, то мы, разумеется, ощущали и боль, и телесные удовольствия, и неудобства разные (не успел родиться, а уж орёшь благим матом), но разве мы сознавали что-либо тогда? Однако приближаясь мыслью к собственному младенчеству, я всё же порою не мог отделаться от воспоминания, от уверенности через воспоминание: я тогда очень интенсивно осознавал и осмыслял окружающее. Что именно я тогда думал – не помню уже, конечно. Но именно думал – тут меня не разубедить. Я это помню. Поэтому моё намерение спорить сразу же натолкнулось на мою память и было опровергнуто ею. Я промолчал, признав тем свои сомнения в правоте собственных возможных возражений.
– А ты, брат, философ,– сказал я мальчику, когда мы шли обратно.– Вывел ненароком важный закон бытия: страдания и мысль неразделимы, сущностным признаком боли является её осознание, боль рождает размышление. А может, и размышление – боль?
Моё (втайне ироничное) замечание, я подметил, наполнило его горделивой радостью. Боже, и в столь юном уме угнездилась уже гордыня!
Мне тем временем нужно было отправляться восвояси. Назаровы вызвались меня проводить, но мне хотелось остаться одному. Я кстати вспомнил, что приезжал сюда вовсе не в гости к приятелю, и сослался на необходимость зайти по делу к давешним моим приветливым хозяюшкам и собеседницам, у которых могу на неопределённое время задержаться. В адресе, который я у них выпытывал, я, разумеется, не нуждался, а всё же счёл невежливым миновать Валентину с её хватской матерью.
– Ой, это вы!– удивлённо и отчасти (не пойму, отчего) радостно встретила меня Валентина.– А мы уж тут думали всё, думали: колдуны что ли его там заколдовали?
– Да какие колдуны!– я постарался как можно небрежнее отмахнуться от такого предположения.– Я к ним и не ходил. Просто совершенно неожиданно встретил моего товарища. И знаете, как бывает: то да сё, а потом уж поздно, неудобно было вас беспокоить. Ладно, думаю, завтра.
– А мы тут голову ломаем! И кто же этот товарищ?
– Саша. Он тут к бабке приезжает. На том краю живёт, зовут её баба Катя, а подробнее и не знаю даже.
– А! Мать! Это он у Кати Краёновой был. Ну да. Сашка к ней приезжает. Слышишь, мать?
– Вот мать твою так-то,– отозвалась старуха.– А мы уж бознать что думали.
– Уж не серчайте.
– Да ничего. Вот ведь как бывает. А мы тут с матерью сидим… был человек, и нет его. Уж мать тут чего только не говорила.
– Я думала, на б–ках застрял,– призналась та.
– Скажете тоже!– изобразил я смущение.
– А чего! Тут всё в голову взбредёт. Ну как же: был человек, и нет его. Скоро, говорит, вернусь, а сам не вернулся. А я и говорю: мать, его колдуны украли. А тут оказывается: товарища встретил. Мы-то же не знали, вот и гадали. Ну куда мог деться? Пошёл к колдунам и не вернулся. А он у Кати Краёновой. Откуда же мы знали. И кто он вам будет, Сашка-то?
– Работаем вместе.
– Ну надо же! А мы тут не знаем, что и думать. Ушёл человек и пропал. И отца тоже нет. Думаем: и его что ли колдуны заманили? А он у дяди Васи Курбанова сидел, хорош вернулся. Мать его уж чихвостила, чихвостила. Ты, мать, его уж больше не трогай, а то знаю я тебя.
– Вот ужо ещё просиборю.
– А он оттого пить перестанет!
– Как же, перестанет, жди больше.
– Ты вот, мать, тоже… Что же ему теперь: отказываться, когда угощают?
– Его каждый день угощают.
– Ну и не ври: не каждый.
Я решил прервать прения:
– Адрес-то вы нашли?
– Вон лежит. Вчера ещё.
– Где?– оглянулся я.
– Слепой пятиалтынный! Вон он,– Надежда Петровна указала на подоконник.
Пришлось изобразить заинтересованность и переписать адрес на отдельный клочок бумаги.
– А мы всё думаем: и куда он пропал?– никак не могла уняться Валентина.– Ушёл и нет его. Я говорю: мать, не мог же он так уйти, если он из-за этого специально сюда ехал. А тут вон оно что: товарищ сыскался. И ведь надо же как бывает!
– Да знаете, я и сам думать не думал, что встречу,– в тон Валентине поддакнул я.
– Ну надо же! А мы всё гадаем: что стряслось? А он у Кати Краёновой. Да вы бы хоть зашли предупредили.
– Так знаете: то да сё, заговорились. А потом уже поздно – неудобно. Чего же, думаю, тревожить зря, завтра зайду.
– А чего неудобного? Мы поздно ложимся.
– Откуда же я знал, поздно или рано. Уж раз всё равно остался, решил сегодня зайти.
– Это конечно. Но всё-таки мы-то не знали, что у вас товарищ тут.
– Я и сам не знал.
– А мы думаем: куда он делся?
– Куда же я мог деться?
– А кто его знает? Всякое бывает. Да ещё к колдунам пошёл. Я матери и говорю: ведь не может же быть, чтобы он уехал, когда он из-за этого специально приезжал.
– Конечно. Вот видите: пришёл.
– А мы-то откуда знали, что так? А вы что, к колдунам и не ходили?
– Да у них заперто. Я посмотрел: вроде нет никого.
– Там они. Они чужих не любят.
– А что же, скажите: милиция их не трогает?
– Был тут милиционер. А он что может? Тот говорит: я тут живу. А это ко мне в гости приехали. Милиционер с тем и ушёл. Так у них вроде всё нормально. А там кто их знает, что они делают. У них окна изнутри занавешены. И запираются.
– Шут с ними, – постарался я ещё раз беспечно махнуть рукой.– Зато вот кого не ждал, того встретил.
– Ну как же, Сашку-то мы хорошо знаем. Он вот таким ещё бегал,– Валентина показала рукой от пола.– Теперь свои уж такие… Ой!– схватилась она вдруг за голову.– С девчонкой-то у них что?
– Умерла.
– У нас ведь кто что говорит. Спрашивать вроде неудобно. А он молчит. Катя говорила: лечили плохо.
– Плохо.
– Ну вот правильно бабы говорили: врачи упустили. Слышь, мать? Этим врачам только в руки попадись. Одна слава, что лучшие в мире.
– Разные бывают. Как и везде,– заступился я за врачей.
– Да как же врачи разные могут быть? Тут ведь жизнь. А теперь вон какое горе. И ведь надо же! А мы её хорошо помним, девочку-то. Машенькой звали. Симпатичная такая была. Они вон к нашей соседке, к тёте Мане ходили. Так, помню, и ходили все втроём. Он, Сашка-то, всё с детьми, всё с детьми. А жену его мы и не знаем почти. Приезжала раза три. Городская, непривычная, не нравилось ей тут. Ой, мы на неё тут умерли, помню. Тётя Маня им молока парного дала, а она скривилась: коровой, говорит, пахнет. Ведь надо такое сказать: коровой молоко пахнет!– Валентина закатилась в хохоте.– Коровой молоко ей пахнет. Во как бывает. Быком ему что ли пахнуть! Она там в Москве своей молока-то настоящего и не пробовала ни разу. Вот как… Они совсем что ли с Сашкой-то разошлись?
– Вроде совсем.
– То-то мы смотрим: он всё один да один. Жениться ему надо, чего же одному-то?
– Это уж его дело.
– Да уж конечно… Так вот втроём всё и ходили. А уж девчонка была – ну прямо картинка. Да вы же её видели.
– Видел,– вздохнул я.
– Вот ведь горе-то. Мы как узнали, прямо ахнули. Всё, помню, бегает, смеётся. Живая такая была… А в этом году они у Насти молоко берут. Тётя Маня продала свою. Руки болят доить.
– Настя эта преподобная,– проворчала вдруг Надежда Петровна. – Воды набухает, там и молока-то не остаётся.
– Да будет тебе, мать, на людей грешить. Молоко как молоко.
– То-то Мишаня с того молока три дня дристал. Чего она там намешала?
– Твой Мишаня с чего только не дрищет!
В этот момент в дом вошёл неказистый мужичонка в видавшем виды пиджаке, по всему – хозяин.
– Птяха, ты куда опять ухрял!– накинулась на него старуха.– Чушку пора кормить.
– Кстати,– спохватился я, не заметив висевших у меня за спиной ходиков,– время-то сколько?
Птяха (полного обозначения старика я так и не узнал) проворно сунулся за занавеску, притащил оттуда большущие карманные часы-луковицу, открыл крышку и приподнёс мне:
– Вот!
– Будет тебе хвалиться!– одёрнула его дочь.– Иди лучше поросёнка кормить,– и обернулась ко мне:– Вон на стене сзади вас часы. У него уж и время разучились показывать. Любит тоже пофорсить.
– Вы знаете, мне пора. Ну, спасибо вам большое.
– Да чего там! Хорошо хоть всё объяснилось. А то мы с матерью вчера уж не знали, что и думать. Я говорю: мать, ведь не мог же он так уехать, ведь сказал же, что зайдёт.
– Видите, как бывает. А я приятеля неожиданно встретил.
– Да, всякое бывает.
XXII
Уже к самому концу рабочего дня заявился я в Институт.
– Здорово. Ты куда пропал?– встретил меня Рост.– Матвеич тебя ищет. И у меня к тебе дело на сто тыщ.
Вот как: похлопает простецки по плечу – и вроде бы свой в доску, а со своими чего и чиниться.
– Беру любую половину,– вторил я игривому его тону.
– Тут имеются люди,– Рост отвёл меня в сторону, хотя в комнате никого не было, и понизив голос, принялся доверительно мне втолковывать:– Мне, конечно, всё равно, дело твоё. Я, учти, вообще ничего не знаю и знать не хочу. Просто мужик хороший, почему, думаю, не помочь? А ты его так изящно обработаешь. А что? В этом, старик, что-то есть.
Хотя ничего определённого он как будто не сказал, но я сразу сообразил, в чём дело, и, признаться, обрадовался: с Виталием, по всему, мои контакты рвались: даже если он и попытается восстановить связь, я с ним и разговаривать не стану: вспомнить – и то тошно. Однако это грозило уменьшением доходов, что мне явно не улыбалось. Роста же бояться нечего: он же «не знает» ничего. (Так он потом и на суде уверял: ничего, мол, не знал, граждане судьи.)
– Подумаю,– с вялым равнодушием ответил я.– Да и вообще хочу прикрыть свою лавочку.
– Подумай, старик, подумай. Но люди надёжные.
Рост ещё раз похлопал меня по плечу и вышел. Я постоял, подумал и решил, что глупо упускать верный шанс.
Потом я, помню, пошёл искать Витьку Монахова, заглядывая поочерёдно во все двери, потому как на месте его, по обычаю, не оказалось. В одной из комнат я, к удивлению своему, увидал рыдающую Дегтярёву, окружённую кудахтающими бабами и дамами, поэтому, хотя Монахова среди них и не было, я несколько замешкался, они же все вдруг оголтело накинулись на меня:
– Ваш распрекрасный друг учёный секретарь теперь думает: что хочу, то и ворочу?
Оказалось, Рост решил притормозить деятельность Дегтярёвой – не то чтобы вовсе прикрыть. а просто распорядился перекрыть снабжение группы дефицитными и необходимейшими ей реактивами, а дабы оборудование не простаивало: передать временно большую его часть в соседнюю лабораторию. Дегтярёва садилась на мель, кое у кого накрывались почти готовые диссертации. Попросту: резал без ножа.
Тогда я, по дурной своей наивности, не сразу смог сообразить, зачем ему сия совершенно бесполезная акция, чем помешала ему несчастная Дегтярёва (а чуть было не сорванную его защиту я и забыл), которая, ко всему прочему, разрабатывала весьма перспективное направление и была близка к успеху. Да и сил сколько потрачено, времени, нервов. Правда, дегтярёвские результаты перечёркивали всю кандидатскую самого Роста, но то дело прошлое – кому нужно старое ворошить…
Теперь-то я всё понял. Задним умом все мы крепки. Рост, как виртуоз-шахматист, рассчитал на много ходов вперёд. Он уже смело прозревал то светлое будущее, когда он сядет в кресло Матвеича, прикидывал удобную и выгодную для себя стратегию Института, план научных свершений, согласно той убогонькой логически-концептуальной схеме, каковая сложилась в его башке, вероятно, ещё в школьные времена. Он уже и начал всё увязывать и согласовывать с этой своей схемой. Дегтярёва же (виделось ему) как-то слишком выдавалась из общего ряда. Опять же: приятно ли вечное напоминание о твоей собственной бездарности, выражавшееся самим фактом существования опровергающей тебя чьей-то непрекращающейся деятельности? Лучше прекратить. Да и историю с собственной защитой не забыл же он.
Постоянно якшаясь с чиновным начальством в высших сферах (что ему и по должности как бы полагалось), Рост успел коротко сойтись со многими нужными людьми. В народе о таких, вроде него, говорят обычно: без мыла в жопу влезет – и оного таланта ему было не занимать стать. Руками нужных людей он ограничил (чуть ли не до нуля) снабжение Института как раз реактивами, которые были до зарезу нужны дегтярёвской группе, и создавшейся нехваткой оправдывал соответствующие меры медленного удушения тех, к кому лелеял в душе тайную неприязнь.
Я, признаться, тогда не знал всего этого, о том вовсе не думал, да и плевать мне было много раз на все дегтярёвские проблемы и переживания, но чем-то меня Рост раздражил, и я, явившись к шефу, между прочим заметил:
– Михал Матвеич, чего же дегтярёвских-то ущемляют?
Петельский находился как раз в одной из тех своих обычных для последнего времени депрессий, кои следовали за очередными семейными катаклизмами, и с глубоким внутренним отвращением относился ко всякой попытке втянуть его в административные дела.
– Андрюша, что вы говорите!– сказал он с досадою в голосе.– Кто их там ущемляет? Временные трудности со снабжением, вещь довольно заурядная. Кроме того, вы забываете об общей стратегии Института. Нам нужно выдать, руководствуясь политической конъюнктурой, сейчас, немедленно, хоть какой-то эффектный результат – от этого многое зависит, вы должны понимать. Поэтому мы сосредотачиваем усилия, в частности, на теме Монахова, ему и первоочередное внимание. Дегтярёва в ближайшее время всё равно ничем не могла бы нас порадовать. Ну и пусть подождёт, подтянет тылы, как говорится. Да, знаю, ей нужно время, у неё перспективная работа. Но будем мыслить широко: научное открытие не станет менее значительным, если будет совершено на три месяца позднее.
С тоскою слушал я, как успешно освоил академик терминологию Роста. Впрочем, шеф, сдаётся мне, искренне верил в то, что успел насуфлировать ему расторопный учёный секретарь. Но каков Рост! Матвеич рассуждает о «политической конъюнктуре», об «общей стратегии»… Милейший Михал Матвеич, когда-то неистово презиравший подобный прагматизм хитроумных бездарей, пошёл на поводу одного из них.
Выходя от шефа, я в приёмной столкнулся с Ростом, который кокетничал с Аллочкой-секретаршей. Скорее по инерции, чем из любви к истине, я сказал ему:
– Рост, ты чего делаешь с Дегтярёвой? Хоть бы о том подумал, что на работу затрачено масса средств. Всё коту под хвост? Тебе же за перерасход…
– Не серьёзно, старик,– с некоторым укором перебил он меня.
И что в самом деле за наивность! Странная есть у меня черта: мне бывает искренне жаль пропадающих понапрасну государственных затрат. Меня, например, так и подмывает, когда я вижу вхолостую работающий мотор грузовика, оставленного беспечным шофёром, подойти и заглушить его: бензин же зря выгорает. Глупо, но ничего с собой поделать не могу. Росту, разумеется, подобные эмоции не знакомы. Он на мой довод снисходительно улыбнулся лишь.
Да и впрямь несерьёзно.
А то серьёзно, что Рост решил взять противника измором. Временные меры, они, как известно, самые долговечные и есть. Рост же потом ещё много таковых измыслил, вёл осаду по всем правилам «общей стратегии». Так что ещё при Матвеиче Дегтярёва ушла из Института, группа распалась, тему закрыли. Убытки списали. Правда, я тогда уже далече обретался.
Бытовала, говорят, некогда среди человеков игривая склонность ума, именуемая порядочностью. По слухам, в стародавние времена ежели какой индивидуй вышеупомянутой склонностью не обладал – ему и руки не подавали. И вот думаю теперь: разделяй я тот старорежимный пережиток – как раз и не случилось бы со мною ничего такого этакого. Плюнул бы Росту со всеми его клиентами в рожу – а? Так нет. Широкость ума воспрепятствовала.
Я только Витьке Монахову в тот же вечер выговорил:
– Он ведь твоим именем прикрывается. Мне, конечно, наплевать, но нехорошо же.
– Если мы подобных дефиниций придерживаться станем, – ответил он мне,– то недалеко уйдём. Хорошо, плохо… Не мне тебе объяснять: нынче не только семь пядей во лбу требуется, но ещё рука наверху и собственные крепкие локти, лучше то и другое сразу. У меня же ни того ни другого нет – обделён природой и судьбой. Поэтому пришёл я недавно к Росту и сказал: Ростислав Аркадьевич… заметь: по отчеству и на вы… Ростислав, говорю, Аркадьевич, мы люди без предрассудков, буду говорить прямо. Я вижу в вас сильную личность. Готов работать на вас. То есть всё, что я делаю, будет выходить отныне прежде всего под вашим именем. Но я должен быть всегда при всех условиях и во всех ситуациях вторым. Всегда: вы первый, я второй. Кроме того, обещаю безоговорочную поддержку во всех ваших схватках с конкурентами, недоброжелателями и прочими.
– И что же он?
– Его всегда отличала широта ума и нешаблонность мышления. Он понял меня правильно. Пойми меня правильно и ты. Мне противно темнить. Я выложил свои карты перед ним, раскрываю их и тебе. Осуждать меня ты не имеешь права: тебя прикрывает твой фавор у шефа, у тебя иное положение, тебе легче.
Я и не осуждал его. Я его понял. Он на верную лошадку поставил. А теперь всё при нём: доктор давно, в замах у Роста ходит, лауреат. На следующих выборах Рост в академики выскочит, а Витька в членкоры.
Помню только: тогда, глядя ему вслед, я подумал злорадно: хрен вам всем, первым буду я. А вы уж как-нибудь потом…
XXIII
На следующий день – мамина соседка по палате, Вера, должна была выйти из больницы.
И мерзкий сон мне перед тем приснился. Будто ребёнок её уже родился, и это мой ребёнок, а я сижу и считаю деньги, и будто бы выходит так, что я все деньги должен отдать на ребёнка (…кто: мальчик или девочка?), но мне не на что станет покупать реактивы, которые Дегтярёва прячет от Роста и продаёт Виталию, мне же нужно перекупить их, чтобы заставить всё сборище деревенских «колдунов» подчиниться мне, потому что я хочу овладеть особой мистической силой для борьбы с Ростом, и будто бы Вера приходит ко мне со своим ребёнком, а я прячу от неё деньги, чтобы не отдавать, и начинаю объяснять ей, что не верю, что я отец этого ребёнка, потому что она была любовницей Роста, но хочет взвалить на меня чужую обузу, и она начинает плакать и говорить, что Рост заставляет её сделать аборт, но если она сделает, то ребёнок умрёт, потому что он уже родился, и это будет убийство, за которое нас всех посадят в тюрьму; а в это время откуда-то появился Саша Назаров, присел на стул у окна и вдруг начал рыдать, громко и страшно, я же, глядя на него, подумал, что если он так рыдает, то оттого что ему больно, и он понимает, что ему больно, и если бы не понимал этого, то ему стало бы легче. И откуда-то во мне явилось понимание моей вины в его страданиях, и эта вина острой тяжестью разрасталась во мне.
Когда-то я совсем не знал, не мог представить даже, что вина – это именно тяжесть, физическая тяжесть, что она материальна, так ощутимо давящая грудь. Порою она чуть слабеет, но потом наваливается вновь. Она убивает, вот сейчас убьёт меня. И ноющая, изнуряющая жалость к себе угнездилась в самом моём сердце, и оно болело, болело, болело, и ничто не могло утишить его боль. По моим щекам текли слёзы. Боль давила и колола, я чувствовал, явственно чувствовал, как оно может разорваться. Дайте мне другое сердце, я не хочу жить с этим… Надо устроить катастрофу для Роста и взять его сердце… Ведь если я умру, то со мною умрёт всё, что во мне, что досталось мне такой дорогой ценой,– но не может же всё это исчезнуть вот так бессмысленно и бесследно. Я ещё не успел сделать чего-то очень важного, самого важного для меня. Зачем тогда моя жизнь? Зачем эта бессмысленная жизнь? Как я ненавижу её. Я же не хочу умирать. Мне нельзя ещё умирать…
Недавно от одного умного человека я услышал: ничто не исчезает, что было и есть в нас,– но сохраняется в Боге…
И вот тут, на грани, на зыбкой грани между сном и пробуждением меня пронзила мысль, что я должен искупить свою вину перед этой женщиной, пусть даже и незнакомой мне совершенно. Подобная мысль не могла бы придти ко мне въяве: слишком она нелепа и нелогична. Но и проснувшись, я не мог уже выйти из-под власти того ощущения, состояния, которое оставила во мне та мысль из полусна,– состояния вины, долга, жалости к чужому одиночеству.
Проснувшись, я некоторое время лежал неподвижно, дожидаясь, когда станет тише боль в груди, но утвердившееся в подсознании стремление очень скоро заставило меня (мне казалось: я действовал помимо сознающей себя воли) подняться и отправиться по уже привычному для меня пути к небольшому садику, вжатому среди томительных серых корпусов в обширный больничный квартал. Ждать мне пришлось совсем недолго, и когда Вера показалась на дорожке между деревьями, я молча подошёл к ней и взял у неё из рук большую коричневую сумку с вещами – как будто так и нужно было, будто это само собой разумелось, а естественнее ничего и быть не могло. Мой безмолвный жест сразу же установил между нами ощущение особого душевного единства, как если бы всё давно уже было ясно и ненарушимо до конца времён.
Опасная иллюзия. Я знаю: она оборачивается в конце особо жёсткой взаимной отчуждённостью. Но некоторое время внутренний покой создаёт всё же видимость гармонии и счастья.
Я проводил её до самого дома, поднялся в маленькую квартирку, потом сходил в магазин за продуктами, помог кое в чём по хозяйству. Мы долго пили чай с принесённым мною тортом и говорили о всяких пустяках. Я знал, что она, может быть, ждёт от меня каких-то более важных слов (или действий?), но я просто болтал без всякого смысла и был, как это случается со мною иной раз, весьма остроумен и интересен. Когда я почувствовал приближение того опасного момента, после которого почти неизбежно и непоправимо начинается спад внутреннего эмоционального напряжения, зарождается и растёт ощущение отъединённости друг от друга,– я поднялся и приготовился уйти. Вообще-то, такой, неуловимый почти, момент, если удастся его не упустить, весьма благоприятен для перехода к объятиям, поцелуям и прочему – и всегда обещает успех. Но я не хотел оскорблять в себе того, что дорого для меня было в моём внутреннем состоянии в тот самый момент. Я поцеловал её в лоб – невинный братский поцелуй – и ушёл.
Не сообразил: оставил её в недоуменном одиночестве. Я думал только о себе. Вот в чём печаль.
XXIV
Так вышло, что Вера жила в том самом районе, где обитал и мой давно позабытый приятель, адрес которого я с приключениями раздобыл в недавней поездке за город. Клочок бумаги с адресом так и провалялся бы долго и бесполезно в моём кармане, если бы я не очутился – случайно совершенно – поблизости от его жилища.
Мы сошлись с ним когда-то, на заре туманной юности, в пору наших совместных ученических занятий живописью. Признаться, я уже начал забывать его, даже в фамилии не твёрдо был уверен… Гаенков – вот как: Владимир Гаенков. Да не в том суть. Пути наши давно разошлись. Я принялся химичить, он же подался в архитекторы, но после окончания учёбы ни на какую казённую службу идти не захотел, а перебивался случайными и не вполне понятными мне заработками. Впрочем, источники его доходов – они мне были безразличны, он что-то говорил мне даже, а я – мимо ушей пропускал. Мы встречались время от времени: так просто, сами не знали зачем – скорее по беспечности молодого немыслия. Потом он отправился на жительство в добровольную деревенскую ссылку, мне же туда ездить было вовсе не с руки. Так мы и затерялись друг от друга.
Теперь вот я подумал: почему бы и не зайти?
Владимир оказался дома. Он меня узнал, не удивился, широким жестом пригласил войти – в одну из комнат обширной коммунальной квартиры с неопределённым и непроглядным коридором. В комнате, почти лишённой мебели (внушительная двуспальная кровать у стены и три стула, посуда и непонятный хлам на двух широченных подоконниках), стояла посредине большая чертёжная доска. Неопрятный и плюгавенький индивидуй что-то вынюхивал в некиих чертежах, почти водя носом по листам ватмана, приколотым к доске.
– Рекомендую,– широчайшим жестом указал мой бывший приятель на индивидуя.– Александр Феликсон. Коллега.
– Андрей Михалыч,– представился я.
– Кто бы мог подумать! Даже Михалыч!– воскликнул Гаенков и без всякого перехода ошарашил меня вопросом:– А скажи нам, разлюбезный друг Андрей Михалыч, для каких таких непонятных целей люди строят башни? Молчи. Всё равно изречёшь вздор. Я скажу. Вовсе не для того, чтобы установить там пушку или же телевизионный передатчик, к примеру. Или прочий абсурд.
– Чтобы места поменьше занять, – предположил я.
– Я же сказал, что изречёшь вздор. Со времён Вавилонской башни человечество жуёт подобную бессмыслицу. Молчи. Лучше молчи, не то скажешь, а потом будет стыдно. Я объясню. Человек стремился испокон веков построить башню, чтобы забраться туда и крикнуть на весь мир: «Вот я!!!» Но побочные соображения вскоре одолевали его, и он отвлекался от истинной цели всякого рода практическими химерами. Саша, подтверди. Саша у нас знает всё. Мы соавторы. И мы-то как раз высвободили изначальную идею из-под всей наслоившейся чепухи. Молчи и слушай. А лучше смотри. Вот проект. Огромная башня. Высота на пределе достижимого.
– Выше Останкинской?
– Не опошляй. Не оскорбляй чистоты идеи. В верхней части – сияющий прозрачный объём. Молчи. Всё равно не поймёшь. Любой человек может подняться туда и предстать перед всеми в сиянии яркого света. Его голос, усиленный мощными стереоустановками, прогремит с вышины: «Смотрите, это Я!!!!!» Всё продолжается пять минут. Затем туда поднимается следующий. Башня работает круглые сутки. Билеты распространяются через общественные организации и систему специальных рекламно-кассовых агентств.
Я ошарашенно вопросил:
– Это серьёзно?
– Я сказал: молчи. Самому же будет стыдно. Если бы было несерьёзно, за это не платили бы деньги. Со своим проектом мы заняли первое место на международном архитектурном конкурсе в Японии. Премия – несколько десятков тысяч иен.
– Однако!– только и смог я сказать.
– Именно!– подтвердил он.– Мы только этими конкурсами и живём.
– То есть ещё и…
– Не один раз. Две первых, одна вторая, одна третья премии различных международных конкурсов. И все в валюте. Сейчас вот работаем над темой «Дом для Винни Пуха». Швеция объявила. Александр, а почём нынче шведские кроны?
– И у нас тоже такие конкурсы есть?– проявился в моём затуманенном сознании вопрос.
– У наших чиновников пока не хватает воображения. Только в мире свободной мысли может возникнуть идея поощрения вольной фантазии творца.
– А что вы ещё натворили?
– Лучшей своей идеей я считаю «Лестницу, устремлённую от буден». Я опять тебя спрошу: зачем нужны лестницы? И ты опять скажешь вздор. Поэтому молчи. Любая форма и конструкция могут стать либо несуразнейшим воплощением скудоумного человеческого прагматизма, либо отражением высших смыслов. Смотри. Мы ставим лёгкую, уходящую в беспредельность лестницу над скопищем городских трущоб. Человек подымается ввысь, постепенно вырываясь из каменных теснин, вся низменная суета внизу и остаётся, постепенно город преобразуется под ногами в слившееся сияние несчётных огней, остаётся всё ниже, а человек обретает единство с музыкой небесных сфер, сливаясь с вышним простором. Первая премия в Лондоне.
– И что, это строить будут, или как?
– Вот грубый материальный ум! Посмотри, Александр!– обратился Гаенков за поддержкой к соавтору.– Человек должен творить идею в чистом виде. Всё остальное – лишь вульгарное приложение к сфере мысли, и по сути – фикция. Между прочим, нас поддерживает поэт Андрей Вознесенский, тоже архитектор.
– Не знаю,– не сдался я.– Пусть и сфера чистой мысли, но я вот лишь подумал, как карабкаюсь по той лестнице, и у меня одышка началась. Мысленная.
– Молчи. Подобные критерии неприменимы к творчеству.
– А нельзя ли всё же на лифте – к небесным сферам?
– Важен сам процесс.
XXV
Нашу плодотворную дискуссию прервал звонок у входной двери. Владимир вышел и затем ввёл нового посетителя. Тот взглянул на меня и подтвердил:
– Мир тесен.
Это был Владислав, с которым однажды я встретился у Назарова. Помнится, они ещё спорили о судьбах христианства.
– Вы знакомы,– как бы выражая своё согласие с фактом сказал Гаенков.– Молчу.
– Вот и молчи,– поощрил его Владислав.– Лучше бы стульев купил побольше, а то кому-то всё время стоять приходится из вежливости.
– Вон садись,– указал хозяин на кровать.
– И сяду. А ты всё-таки стулья купи. Или валюты жалко?
Гаенков пожал плечами. Владислав грустно посмотрел на него и на безмолвного индивидуя-соавтора, который всё водил носом по чертежу:
– Вот он, дьявольский соблазн творчества. Художник творит свой мир и всё время живёт как бы на грани реальности и вымысла. А как легко сорваться и уйти в эту, тобою сотворённую фантазию – без оглядки! Вот взять хоть бы вас – существуете в химерическом мире из башен для страдающих комплексом неполноценности и лестниц для самоубийц в компании с Винни Пухом, а реальность, о чём свидетельствует роскошь обстановки, в совершеннейшем презрении. Правда, от валюты пока не отказываетесь.
– Молчи. Если бы то были химеры, нам бы не платили деньги. Буржуи деньгами не швыряются зазря.
– Если платят сумасшедшие деньги тем, кто, например, публично лупят друг другу морду или бегают наперегонки, то ваши премии – отнюдь не большее безумие.
– А почему соблазн дьявольский?– неожиданно подал голос соавтор.
– Потому что возомнили себя равными истинному Творцу.
– А!– удовлетворённо хмыкнул индивидуй и замолк навсегда.
– Что спорить с таким приземлённо убогим пониманием вещей!– в раздумье произнёс Гаенков, но Владислав тут же нарушил его философский настрой:
–Ты в подвале был?
– Некогда.
– А я собирался тебя за компанию прихватить.
– Некогда, сказал.
Владислав огорчился:
– Одному неохота.
– Вон его возьми,– ткнул Гаенков пальцем в мою сторону.
– А что, идея!
– Какой ещё подвал,– не понял я.
– Выставка авангардистов. В прямом смысле подпольная, ибо – в подвале.
– Их что, запрещают? Теперь же вроде всё можно.
– Кому они нужны? Запрещать их ещё… Но тут суперрадикалы. Пошли, пошли, будет забавно. А этих зодчих будущего оставим в их бредовом хаосе.
– Молчи.
– Сам дурак.
Я не мог не рассмеяться, выходя от Гаенкова.
– А вот ещё что!– как бы спохватился Владислав уже на улице.– Надо Сашку же захватить. Его вообще надо теребить и отвлекать от мрачных мыслей. Он ведь только вида не подаёт.
Я не возражал.
Когда мы явились к Назарову, он гладил на кухне какие-то детские вещи.
– Один?
– Севку в деревне оставил. Чего ему тут?
– Тем более,– заявил Владислав.– Ты имеешь полное право посвятить себя культурному досугу.
– Чего ты ещё выдумал?
Саша отнекивался, но Владислав всё-таки растормошил его и вытащил из дому.
– Мы отправляемся на передовую. Противник наступает по всему фронту искусств,– возгласил наш вожатый.– И кто бы мог подумать, что это совсем недалеко, за двадцать минут доберёмся.
По дороге к подвалу Владислав развивал собственного, вероятно, изобретения теорию – с таким жаром он витийствовал – теорию о грозящей человечеству «игровой слепоте» (как он называл), зародыш которой несёт в себе искусство.
– Искусство вообще всё сплошь игра. Хотя в игре, впрочем, есть и рациональное зерно. Дети вот – они так жизнь постигают. Вреда в создании иллюзии инобытия нет до тех пор, пока в этом видят средство к постижению самого бытия. Но в игре могут увидеть и цель: полный уход в творимое фантазией инобытие. Например. Собираются вроде бы взрослые люди и начинают: «А я теперь как будто председатель земного шара!» А все: «Да, да, ты председатель земного шара!» Или: «А я как будто поэт великее, чем Пушкин и сейчас напишу вам будто гениальные стихи: дыр-был-щур»… или как там?– Владислав взглянул на меня вопросительно, но я не мог сказать точнее и лишь утвердительно подкивнул головой, будто знаю и удостоверяю правильность его цитирования, и он, ободренный, продолжал:– Ну а поскольку в заднице-то свербит, оттого что это же только в твоём иллюзорном мире ты гениальнее Пушкина, то и: долой его с корабля современности, как ту персидскую княжну. Разыгрались – просто удержу нет. И главное: есть же кто-то, кто весь сей вздор всерьёз изучает. Диссертации пишут. Вот сейчас придём, глянем, во что теперь нынче играют.
– Так пусть себе. Кому мешают?
– Они приучают к тому общественное подсознание. Тут хитрый механизм. Ведь все начинают играть. Вот я как будто хороший начальник, умелый руководитель и мне за то премии и награды положены. А я как будто великий учёный и как будто великие открытия сделал и мною как будто все восхищаться должны. А я как будто великий писатель. А я общественный деятель, опытный политик. А я как будто ночами не сплю и о всеобщем благе голову ломаю. В справедливость играют, в добро, в правду тоже. Из любви тоже игру сотворили. «Вот как будто то, что у нас с тобой, это и есть любовь». Придёшь в поликлинику а там как будто врач тебя как будто лечит. Как дети: нарвут бумажки: это как будто деньги. Пока играем, деньги, ценности. А потом сразу и выбросить можно. И это ещё цветочки. Новые технологии вообще всех погубят: виртуальные миры создадут, и человечество заблудится во многих реальностях, не разбирая, где истинная.
– Так ты полагаешь, во всём виноваты художники?
– Да,– вздохнул Назаров,– промочили ноги, а потекло почему-то из носа.
– Головастый!– с нарочитым почтением воскликнул Владислав.– Сразу суть ухватил.
– Какую суть?– не понял я и даже подосадовал на себя.
– Взаимосвязь разрозненных отправлений реальности. Во всём этом искусстве, каковое как будто само по себе, заключена всеобщая потенция превращения бытия в инобытие. То есть раньше инобытие искусства существовало как бы параллельно, а теперь им просто норовят перекрыть реальность. Усёк? А может, искусство чутко предугадывает потребности общества? Во всяком случае, по состоянию искусства можно судить, куда готово двинуться человечество.
Однако лишь только Владислав принялся развивать свою теорию перед художниками, среди которых мы в конце концов оказались, добравшись-таки до подвала – а где он находился, я бы и не нашёл теперь, довелись мне искать его вновь и самостоятельно – и пропихнувшись через узкую щель в темноватое бесформенное пространство, образуемое грязными перегородками и причудливыми коленцами больших и малых труб, кучами строительного мусора, окружённого расставленными, развешенными и разложенными прямо на бетонном полу замысловатыми творениями неисчислимых живописцев и скульпторов, слонявшихся здесь же, в этом мглистом пространстве, и пребывающих в трансе беспрерывных дискуссий всех со всеми, так что мне померещилось даже, будто Владислав именно здесь и витийствовал в то время, пока мы добирались сюда, как бы раздвоившись что ли, опередив самих себя,– ибо лишь только он принялся развивать свою теорию, то не успел и двух слов сказать, как тут же был срезан ловким вопросом: какой же тип игры подразумевается: экстатический или миметический. Вопрос совершенно обескуражил Владислава, он начал тушеваться и был добит язвительным советом: сперва разобраться в азах теории, а уж потом брать на себя наглость навязывать другим собственные домыслы.
XXVI
– А впрочем, вы совершенно правы, когда констатируете сам факт, но отнюдь не правы, пытаясь постулировать свою негативную дефиницию!
С этими словами вступил в разговор некий чернявый неопределённого роста господинчик с искрами во взоре. По его лицу время от времени пробегали лёгкие судороги, хотя оно казалось совершенно застывшей маской; да и сам он, будто его жёг изнутри некий огнь, не мог и мгновения постоять спокойно, перебегал с места на место, но остановившись, перебирал ногами и извивался телом, иногда взвизгивал свиньей, временами исчезал, потом снова появлялся, подбрасывая в ведущийся спор вовсе не относящиеся к делу реплики.
– Вы правы, вы абсолютно правы!– верещал он.– Но так и надо. Наша задача – погрузить мир в космическую игровую стихию. Мы должны укрыться в иллюзорности. Бытию надо придать хоть какой-то смысл, ибо оно абсурдно по природе своей.
– Почему же абсурдно?– с присущей ему наивностью в голосе поинтересовался Назаров.
На протяжении всей нашей дальнейшей экскурсии по подвалу, как и по дороге к нему, он чаще молчал, с большим любопытством всматривался в людей, чем даже слушал их речи, никому не возражал, лишь в редчайших случаях задавал вопросы.
– А как же!– послышался в ответ на его любознательность гвалт выкриков.
– Именно по природе абсурдно!– радостно настаивал вывалившийся из общего гвалта визгливый господинчик.– Как может быть не абсурден мир, лишённый всякой цели собственного существования?
– Но почему же лишённый цели?– опять спросил Саша.
– А какая же может быть цель у слепой игры стихийных сил?
– Ага!– выкрикнул кто-то.– Опять игра!
– И мы должны противопоставить ей собственную игровую перманентность.
– Ведь ясно же,– втолковывал, обращаясь ко всем сразу, юркий господинчик,– ясно: чтобы наличествовала цель, необходим сознающий и оценивающий её разум, пребывающий вовне! Что же тут неясного? А его, разума-то, и вовсе нет.
– Во-первых, мы должны сами создать новую систему истин,– выступил из полутьмы круглый здоровяк.– Нынешние истины основываются на так называемом научном принципе, прагматически-позитивистском, я бы сказал. Но присутствует ли дионисийский феномен в научной истине? Давно доказано, что нет. Значит, нужна истина иная, нами же, художниками, а вовсе не учёными сотворённая.
– Новая истина в инобытии!– кричали из мглы.
– Именно! Радикализм полный и во всём. Не ограничивая себя ничем и ни в чём.
– Да. Но ведь сегодня можно это «что угодно» объявить произведением искусства, а завтра и это не будет уже оригинально. Как быть?
– Надо полностью отказаться от предметного мира, от события как такового. Мы должны отразить не предмет, а отсутствие предмета, не событие, а отсутствие события. Эстетическое переживание заменить отвлечённой медитацией.
Голосов было так много, что я не всегда различал, откуда и от кого они исходят. Да это было уже и не важно. Забавнее мне казалось другое: находясь в подвале долгое время, мы так и не начали пока собственно осмотра творений нового искусства, причём сами мастера как будто выказывали к ним отчасти даже и безразличие. Лишь изредка кто-то хватал кого-то за руку и подтаскивал к своему опусу. Меня, например, атаковал жиденький молодой человечек, настойчиво и жалко убеждавший оценить его мысль:
– Вот смотрите, я приклеил к полотну полено – и что же? Я тем самым вышел за пределы плоскости, я отрицаю плоскость в прямом смысле. И ведь не в скульптуре же, заметьте!
– Конкретика бездарна! Мы должны нацеливать себя на беспредметную медитацию.
– Нет, мы должны раскрывать в предмете его рефлективную имманентность, гносеологически субъективную. Непонятно? Поясняю,– седовласый мэтр встал в позу и принялся излагать своё пояснение, украшая речь презамысловатыми модуляциями голоса, как это делали провинциальные «благородные отцы» на дореволюционной сцене.– Вот взгляните (он показал всем авторучку, потом вынул из неё стержень, показал и его), вот сей заключённый вязкий субстрат я, быть может, вытяну на листе бумаги в замысловатую линию, подобную причудливой арабеске, и она выразит в своём затейливом узоре мысль, которая, быть может, поразит человечество величием своим, своею высокостью непостижимой! (Тут он выдержал театральную паузу.) Но мысль ли главное? Главное: предощущение мысли и преклонение перед нею. Зачем же тогда сама мысль? Вы правы, мои юные друзья: она не нужна. Мы должны лишь, вглядываясь в предмет (он особо повертел в воздухе стержнем от авторучки), предвосхищённо осознать потенциальность мысли и поразиться ею.
– Надо освободить предмет!
– То есть как?– седовласый искренне оскорбился сей репликою.
– Нужно отстоять независимость его составных частей, отказавшись совокупить из них его целостность.
– И что же?– седовласый выказал ещё большую оскорблённость.
– Освобождение предмета символизирует освобождение человеческого духа. Надо освободить его от любых внешних ассоциаций, сковывающих его, накладывающих на него какие бы то ни было обязательства. Надо освободить его от времени и пространства.
– Именно, именно!– восторженно завопил, завизжал примчавшийся на эти слова чёрный господинчик.– Вот великое назначение искусства! Мы должны создать искусство нового религиозного экстаза. Если религии говорят о существовании непознаваемого «того света»… Вспомните, Будда погружался в благородное молчание, едва его вопрошали о нирване… да, «тот свет» непознаваем. Но мы имеем в таком случае право создать свой «тот свет» – погружая человека в особый слой арт-социума и трансцедент-арта, ибо: чем в принципе будет отличаться их «тот свет» от нашего? Оба непостижимы, недостижимы и непознаваемы. По сходству трёх признаков устанавливаем их тождественность. Кроме того, и тут и «там» мы имеем в наличии принцип абсолютной свободы. Он выражается в тенденции относить к глубинным слоям искусства всё, что утверждается волею художника-демиурга. Я могу покрывать холст краской в любых сочетаниях, а могу не покрывать его ничем, я могу вообще отказаться от холста, не брать его, я могу вообще ничего не брать, и тогда пустота станет моим созданием.
– Малевич совершил великую революцию,– подхватили из толпы,– ибо он упразднил пространство, он лишил его права на существование. Он декретировал это своими созданиями.
– Позвольте, но его «Чёрный квадрат» – это всё же пространство.
– Во-первых, это не квадрат, а портрет квадрата в ракурсе. Такие вещи надо бы знать.
– Это чёрная дыра в пространстве!– перебили из толпы.
– Ага! всё-таки в пространстве!
– И шаг к отрицанию пространства. Он прозрел бытие чёрных дыр, когда наука даже не догадывалась, что их можно открыть.
– А отсюда рукой подать до идеи свёртываемого слоями мироздания.
– Вот эти-то семантические слои искусство и должно попытаться раскрыть.
– А как же Шагал и Ларионов?– недоумённо пролез вперёд некий хлипкий индивид.
– Скажи ещё: Репин.
Все понимающе загоготали.
– Даже сам ракурс в портрете квадрата,– не унимался кто-то,– постулирует именно волевое обращение с пространством и знаменует собою шаг к отмене его.
– Именно!– возликовал господинчик.– К отмене! А следующим шагом должна стать отмена времени, потому что сущностная характеристика «того света» заключается как раз в отсутствии пространства и времени. Средствами нового искусства мы и упраздним их.
– Как же вы это сделаете?– спросил Назаров.
– Мы изберём своим объектом то, что неподвластно времени и пространству. Пустоту! Ничто. Nihil.
– А сами-то куда денетесь?– опять спросил Саша.
– Разумеется, высшим творческим актом стало бы полное самоуничтожение человечества, но оно ещё не настолько дерзновенно.
– Да и какая в нас во всех такая уж особенная и нужда?– снисходительно принялся растолковывать нам какой-то толстячок.– Поэтому мы призываем к отречению от самости во имя утверждения себя.
– Именно,– егозил чернявый.– Надо уничтожить своё «я», и такое уничтожение наполнится светом мистической силы, высшей духовности, этическим смыслом божественных откровений.
– И эстетических!– подхватил толстячок.
– От эстетических необходимо отказаться вообще,– нравоучительно и веско изрёк невысокий сухой человек, лицо которого, казалось, было сделано из мятой жести, жёсткое и жестокое, и походило на грубо отчеканенную маску врождённого бесстрастия. Заметно было, что при чеканке по металлу били неуклюжим молотком, и небрежно. Жестяной презрительно щурился и цедил:– Только примитивный поверхностный ум станет искать эстетического совершенства или какой-нибудь идеи в искусстве.
– Верно: где эстетика, там уже и идея,– подсказал вертлявый.– Эстетика сама по себе идея.
– А где идея, там идеология. Последняя же в принципе антиэстетична. Абсурдный замкнутый круг. Нужно искать автономные формы внеэстетизированных смыслов.
– Собственно, идеал и совершенство суть понятия неопределённые, и весьма,– заявил некто неразличимый во мгле.– Критериев-то нет и не может быть. Они насквозь субъективны.
– Единственным, хотя и условным критерием,– мрачно произнёс жестяной человек,– мог бы считаться Христос, но мы давно отвергли этот неудачный символ, поскольку Христос всегда был антидемократичен, проявляя насилие над свободою воли и над всей жизнью вообще. Его патернализм отвратителен. Искусство же не может существовать вне свободы. Хотя сам по себе Христос был, должно признать, великим художником, и та игра, которую он затеял, принимается многими и по сей день.
– Браво, брависсимо!– завизжал господинчик, завертелся на месте, подобно волчку, и тут же умчался во тьму.
В это время из пространства материализовалась перед нами какая-то дама, которую Владислав, шепнув мне на ухо, представил как крупную искусствоведку из престижной газеты. Запамятовал её фамилию, помню только, что если бы в этой фамилии заменить одну букву на смежную, то звучала бы она, фамилия, весьма неприлично. Как можно было догадаться, дама явилась в подвал негласно: неприлично же было ей, специалистке по древней иконе и Рафаэлю (как было доложено шёпотом), посещать столь прогрессивное место. Крупные черты лица её ещё более укрупнялись грубой косметикой, под ушами висели массивные блямбы, каждая величиною не менее самого уха, на руках были нацеплены столь же громадные перстни, а над головою возвышался пышный бант, блестящий и трескучий.
– Ну покажите же мне, что тут у вас!– игриво и иронически-снисходительно гаркнула она.
Наконец-то начался обход самой выставки – дама с матерной фамилией шла впереди, остальные составляли как бы свиту,– а у того или иного опуса из общей массы вывинчивался автор, давая пояснения. Выставленное было весьма многообразно: тут и измазанные краской холсты, фотографии с дорисовками, и всевозможные изделия из разного рода деталей и обрезков, в основном металлических, и просто самые обычные предметы – например, в одном углу лежали: молоток, камень, тыква, ещё что-то, и к каждому же предмету прилагалась бумажка с обозначением: «Молоток Бога», «Камень Бога», «Тыква Бога» и так далее. Произведением искусства оказалась и куча мусора, возвышавшаяся посредине. Автор кучи пояснил:
– Предметы старого искусства были средством выколачивания денег. Это оскверняло и унижало искусство. Я стремлюсь создать нечто такое, за что никто не захочет дать ни гроша. Это и станет истинным искусством.
Искусствоведка одобрительно кивнула.
Рядом в уголочке стояли две небрежно сляпанные скульптурки, напоминавшие отдалённо Венеру Милосскую и Аполлона Бельведерского. Под первой из них помещалась не без изящества исполненная табличка: «Венера без трусов». Под второй так же лаконично: «Аполлон без трусов».
– Исполнение вздор. Главное слово,– заявил крутящийся тут же, вероятно, автор.– Тысячи лет люди смотрели и не видели. Все твердили: обнажённая натура. А они просто без трусов. Я первый обратил внимание. Если в начале было слово, так давайте и не пренебрегать словом.
– А вы, батенька, ещё и филолог, любослов, так сказать,– одобрительно похлопал автора по плечу неведомо откуда примчавшийся господинчик.
– Конкретика бездарна!– прокричали где-то рядом.
– А вот это, конечно, заслуживает особого внимания,– заявила неприличная дама, указывая на значительных размеров полотно, свисавшее с потолка до самого пола.
Возле огромного этого холста, уставившись куда-то в угол и вовсе как бы не замечая никого из сновавших вокруг, сидел человек с застарелым блеском, но только в одном глазу.
– Финогеныч! Неужто смог!– вновь вывернулся откуда-то вездешний господинчик.
Человек с одноглазым блеском отрешённо кивнул.
– Нет, это выше моего понимания!– господинчик яростно раскочегаривал свой восторг.– Повторить такое! Я заранее объявлял это невозможным.
– Оригинал купили недавно на одном международном аукционе. Триста восемьдесят семь тысяч франков отвалили,– сообщил мне неразличимый во тьме шёпот.– А это уже авторское повторение.
– Сикстинскую Мадонну легче было повторить,– раздумчиво, как бы целиком уйдя в себя, пробормотала специалистка по русской иконе.
Градус всеобщего восхищения был столь высок, что я даже побоялся предположить, что окружающие просто издеваются над нами.
На полотне, автор которого как будто и не замечал своих почитателей, хотя блеск в его глазу усилился и даже перекинулся отчасти и на другое око,– на обширнейшем этом полотне (примерно два на три метра) была изображена оранжево-красная линия, стремительно пересекавшая чуть наискось густой синий фон… И всё.
– Вот,– взял слово один из зрителей.– Человечество всю историю свою смотрело на всевозможные линии, а пришёл гений и указал на то, чего никто не видел: эстетическую самодостаточность линии.
– Тут символ переживания бытия,– заметил кто-то из толпы и развёл руками, как бы заставляя тем всех признать, что такое не может не быть гениальным.
– И вовсе нет,– напористо возразил его сосед.– Тут идея линейности прогресса…
– Плоско!– заставили его тут же замолчать.
– Об этом,– указывая на полотно, наставительно и с расстановкой начал отчеканивать господинчик,– нельзя сказать вообще ничего, и в том-то и смелость шедевра. К этому, именно к этому должно стремиться искусство.
Всё смолкло. Высказывать мнение стало боязно.
– Я бы всё-таки позволил себе сказать,– после некоторой паузы произнёс некто с неопределённой физиономией,– я бы позволил себе, с вашего разрешения, разумеется…
– Ну разумеется,– поощрил господинчик.
– Так вот я бы позволил себе сказать, позволил бы заметить, что тут всё же в материализованном артуме выражено понятие о грани между мирами трансцендентным и трансцедентальным.
– Ну разумеется!– опять согласился господинчик.– Разумеется, вы правы.
Видя, что высказывать своё мнение вовсе не возбраняется, толпа вдруг загалдела наперебой:
– Это жизненный путь человечества.
– Тут стремление к неизведанному.
– Перед нами символ неизреченного.
– Презумпция познания мира.
– Наоборот: непознаваемости бытия.
Господинчик согласно кивал всем. Один юный отрок вдруг выпалил:
– Луч света в тёмном царстве.
Выпалил и нахально покраснел. Все понимающе переглянулись и улыбнулись снисходительно. Чернявый судия снова одобрительно кивнул:
– Молодой человек демонстрирует эрудицию и смышлёность.
Отрок запылал нестерпимо.
– И свет во тьме светит!– предложил кто-то набор гипотез.
– Это уж слишком,– поморщился господинчик.
– Простите,– я решился обратиться к нему,– но вы же сами себе противоречите. То вы утверждаете, будто тут ничего нельзя сказать, то соглашаетесь, когда все говорят вразнобой. Что же правильно?
– Противоречу!– по-детски простодушно засмеялся он.– Именно противоречу! И в том-то вся и суть. А чего вы хотите? Тут же диалектика. Как же без противоречий? И все именно правы, поскольку тут противоречие в квадрате. Квинтэссенция диалектики. Супердиалектика. Метаметадиалектика.
И вдруг завопил, указывая куда-то в угол:
– Вот истинный гений!
В указанном углу некий худощавый вьюнош звучно кромсал ножом вставленный в раму и во многих местах тронутый краской холст. Порезав холст, он принялся ломать раму.
– Так я воспринимаю мир,– грустно объяснил он нам.– Я ещё не знаю, зачем всё это. Я делаю, но мне нужно время, чтобы осмыслить, что я делаю. Зачем я разрезал эту картину? Не знаю.
– Он гений!– не унимался, проникаясь благоговением, господинчик.– Вот полное торжество интуитивной релаксации. В сущности, перед нами экстатическое искусство. Это искусство трансинтеллектуальных возможностей, рождённых силой, меняющей и обновляющей генерации творчества. Необходимо взаимодействие фактуры действия с фактурой мысли. И он этого добивается.
Движение по подвалу возобновилось.
Через некоторое время, обогнув одну из внутренних перегородок, мы оказались перед неожиданным зрелищем. Жирный бородатый человек с растопыренными глазами, по пояс голый, со вздутым волосатым животом – громоздился посреди пустого пространства на несуразной кушетке, на полу рядом с которой стояла миска с ломтями смачной ветчины,– он опускал, не глядя, руку, захватывал всей пятернёй ломоть и пихал в рот, столь обширный, что там помещалась чуть ли не вся пятерня,– человек жевал и сальными губами ласково и одновременно презрительно наставлял окружающих, ни к кому, впрочем, не обращаясь персонально.
– Вот вы говорите,– начал он при нашем приближении, хотя ему никто и слова не сказал,– что экзистенциальность есть определяющий момент в познании непознанного. Как вам, право, не надоест ещё? Вы и впрямь в это верите? Стыдно, господа!
Все изобразили на лицах стыдливое почтение, а пучеглазый без всякой логики продолжал:
– Нужно просто уметь быть первым. Гениален не квадрат этого болвана Малевича, а гениальна его способность убеждать всех, что он гениален. И потом: нарисуй мы сейчас хоть все геометрические фигуры – и всё равно выйдет лишь жалкий плагиат. Нас опередили, господа товарищи социал-демократы.
– Нет, Костенька, ты не прав,– опять объявился чернявый, который никак не мог отказаться от дурной привычки куда-то исчезать.– Квадрат гениален и сам по себе. Он значителен. Он первооснова бытия, первоэлемент космоса и отрицание пространства и времени в одно и то же время, прошу прощения за невольный каламбур. Вот вы, мадам,– обратился он к престижной искусствоведке,– вы тоже, я уверен, не должны этого отрицать.
– Я вообще-то думаю, что весь супрематизм, несмотря на его несомненную сверхэстетическую ценность,– как-то очень по-домашнему забеседовала мадам,– что он давно уступил дорогу иным трансавангардным смыслам. Я отдаю предпочтение концептуализму, ибо в нём мы видим не ремесло, развлекающее одряхлевшее человечество, а интеллектуализм, смеющий сметь.
– Несомненно, несомненно!– в который раз восхитился господинчик.– Это меняет критерии восприятия мысли, и именно смеет сметь!
– Тут раскрываются пути к созданию языка нового искусства, провокация обновляющих генераций творчества,– подхватила на лету дамочка.– А супрематизм… Ведь уже в рублёвской Троице весь супрематизм налицо, что ни говори. Зачем же возвращаться к такой архаике? Её, разумееется, нельзя отвергать, но она уже исчерпана.
– Вот и я говорю,– сокрушённо сказал вдруг чёрный,– что совершенно бессмысленно работать для вечности. Зачем? Зачем, если для меня вечности не предвидится? Вот предложили бы мне сейчас полнейшую известность теперь за полнейшее забвение на другой день после похорон, ни на миг бы не заколебался.
– Не кокетничай,– брякнул Костенька.– Ты бессмертен.
Господинчик ухитрился смущённо покраснеть и, взвизгнув, испарился.
Столь странный выверт логики несколько озадачил даму, но жующий Костенька тут же ошарашил её ещё сильнее:
– Когда вы ляжете сегодня спать,– забубнил он с набитым ртом,– значит, спать ляжете, н-да, и вам приснится сон, то именно это станет моим высшим шедевром.
– Почему же твоим?– выпучил глаза вовсе и не думавший испаряться господинчик.
– А потому. Потому что я первый до этого додумался.
– Костенька, ты гений!– закричали все.
– Я бы и не то сказал, но у меня в голове нынче сквозняк и он мешает мне сосредоточиться,– сообщил Костенька, отправляя в пасть новый ломоть.
– Понимаете,– продолжала тем временем непотребная искусствоведка свои прения с господинчиком,– необходимо воздействие фактуры изображения с фактурой мысли, а для этого следует вообще переместить фокус творческой направленности мастера со структуры работы именно на её фактуру, или, другими словами, на создание любыми средствами мощного трансимманентного взрыва, который трудно идентифицировать.
– Но взгляните с иной стороны,– возразил ей оппонент,– вот перед нами (он ткнул пальцем в сторону) довольно изящный кусок кирпича под названием «Для носа». Согласитесь: трансимманентно и в то же время визуально образ совершенно не обременён интеллектуализмом. А он воздействует!
– Но тут главное же радикализм по отношению ко всему. В этом основной критерий трансавангарда вообще.
– Зато акт восприятия более действенен в ситуации не взирания, а лишь спонтанного подглядывания.
– А мы только в банях подглядывали,– мелко-мелко захихикал вдруг Костенька,– мы и в мертвецкую захаживали, чтобы посмотреть на голеньких курочек.
Но хихикал он уже вслед толпе, которая оставила его, устремившись в ту глубину пространства, где некий заморыш блямкал кувалдой по бесформенному кому жести.
– Форма не должна быть застывшей, она должна как бы перетекать из одной ипостаси в другую, иначе смерть для искусства. Стоит мне остановиться, и творение превратится в ничто.
– Испарится что ли?– спросил я и был обруган:
– У вас грубое материальное мышление. Исчезнет перетекание ипостасей формы.
– Игровая стихия творит новые ценностные феномены,– как бы погрузившись в глубины собственной мысли, тихо произнёс господинчик.– Вдумаемся: сей мир не более чем временное обиталище смутно сознающих себя мнимостей. Значит, он странен и ужасен. Наша задача поэтому отбросить шелуху этико-эстетического обмана, окутывающего наше восприятие. И нужно захватить сферу ещё не открытых ощущений, преодолевающих узкие рамки обыденных пяти чувств. Интуитивное тоже должно обрести и материальный смысл. Мы же материалисты,– обратился он к непотребной бабе.
– И всё же не забывайте,– решила она вернуться на свои ортодоксальные позиции,– что объектом искусства должен оставаться именно человек. Всё-таки!!!
– Именно!– возопил господинчик.– Я в том всегда пребывал убеждённым. Я покажу вам сейчас мои истинные творения. Но это там,– он указал куда-то во мглу.
Все отправились в тусклую неопределённость, минуя какие-то выгороженные помещения, где бродили и бродили мятые фигуры, на которые мы уже не отвлекались, а всё шли и шли вперёд (подвал, видимо, находился под очень длинным домом, каких теперь в множестве понастроили на окраинах Москвы, так что двигаться пришлось долго), и стены выламывались перед нами в тумане, и мы погружались в этот почти осязаемый вязкий туман, и становилось трудно идти, а мглистая бесконечность пространства безнадёжно терялась где-то впереди, и низкий тошнотворный потолок опускался всё ниже, давя и изматывая меня,– а спереди всё явственнее долетали жёсткие шершавые, корябающие слух звуки: потолок не давал им уходить вверх, но опрокидывал на нас, помутняя сознание. Затем из мглы начали выплывать фигуры молодых людей с неопределёнными выражениями лиц, многие были одеты весьма экстравагантно, встречались и вовсе не одетые (чему я уже не удивлялся), с раскрашенными телами и волосами. Кое у кого волосы были совершенно обриты, но их непременно заменяла ярчайшая раскраска. Попадались и такие, кто был одет весьма изысканно, однако одежды их имели внизу спины и живота большие округлые прорехи. Все они отрешённо двигались под громкие ритмизированные шумы, источник которых остался для меня непонятен.
– Молодёжь не виновата в том, что она такая. Время такое,– объясняла всем некая добродушная тётка.
Среди всеобщего разгула почему-то объявилась чета явных молодожёнов: невеста в свадебном белом платье и жених «весь в чёрных штанах», как пелось в какой-то дурацкой песенке. Они ходили, держась за руки, и не то с любопытством, не то с сочувствием разглядывали окружающих.
Невеста обладала той самой красотой, от которой в старинных арабских сказках слабые натурой сыновья неограниченных владык или богатейших купцов обретали недержание мочи, теряли рассудок и лишались чувств. «И пупок её вмещал унцию масла»,– вспомнилось мне обозначение высочайшей степени женского совершенства. Впрочем, никакого пупка видно не было.
– Ну разве можно верить в справедливость,– подошёл ко мне субъект с мрачным байроническим взглядом,– разве можно верить в справедливость, если такая баба должна ложиться под этого мозгляка и раздвигать для него ноги?
Таковой речевой силлогизм меня несколько озадачил.
– Послушайте,– спросил я,– а вы случаем, не отвергнутый соперник?
– Первый раз их вижу. Но, как говорил мой дядя, хоть и не завидую, а зло берёт.
– Может быть, жених и вправду отчасти мозглявенький,– признал я,– но…
– Но очень скоро он завалится на неё. А мне досадно, что не я.
Субъект мрачно завернулся в широкий плащ и, вперив взор в рокочущие волны, вскоре скрылся в тумане – вместе с палубой беспокойного корвета, на которой он хмуро возвышался в гордом одиночестве.
Беснование же продолжалось.
В мрачном тупике какие-то индивидуи зазывали проходящих на «выставку порно-иконы»: здесь всё было заставлено большими и малыми прямоугольниками из досок, на которых знакомым иконным формам была придана откровенная непристойность.
– А почему нельзя? а почему нельзя?– егозил и извивался повсюду чёрный господинчик.– Кто сказал, что нельзя?
– Аллилуия любви!– запели все истошно-гнусавыми голосами.– Аллилуия любви! Аллилуия!
– Красавчик!– завопила неожиданно голая раскрашенная девица, бросилась на Назарова, повисла на нём, обвивая руками и ногами.– Я хочу иметь с тобою любовь!
Саша спокойно оторвал её от себя и слегка приподнял над полом, держа на вытянутых руках (тут я только понял, насколько он силён физически – недаром грузчиком подрабатывал), потом, оглядевшись, посадил на стоявшую у стены тумбу и погрозил строго пальцем: «Сиди и не балуйся!». Она обиженно надула губы, но с тумбы не слезла. Сидела и пела:
Я сначала всем давала…
Из кармана семечки,
А потом давать не стала:
У самой маненечко!
– И напрасно, и напрасно!– заверещал господинчик.– Препикантнейшая цыпочка!
Он взвизгнул и, оставаясь совершенно неподвижным, одновременно исхитрился вывернуться вокруг самого себя как бы в состоянии полнейшего невладения собой от восторга – и я потом долго недоумевал: как же ему удалось подобное?
– Предмет искусства человек!– вопил господинчик.– Я воплотил это в реальность!
Вся толпа посетителей распалась, рассосалась, и даже непечатная дама исчезла куда-то. Господинчик бесновался в совершенном одиночестве.
– Где же тут выход?– спросил Назаров, оглядываясь в поисках Владислава.
– Куда же вы!– ходил вокруг нас вьюном чёрный бес.– А у нас тут и песенки будут. Послушайте!
И впрямь некоторое время какой-то вялый белотелый парень выкрикивал из ритма шумов: «О-о-о! я и ты! О-о-о! ты и я! О-о-о!..»
– Погодите!– соблазнял бес.– Он споёт свой шлягер «О аромат говна моей возлюбленной!» Это шедевр, истинный шедевр! Но вы обязаны объяснить мне, почему можно петь о глазах девушки, но нельзя про её дерьмо. Кто это сказал?!
Мы уже далеко ушли, но всё неслись вслед нам его истошные вопли: «Нам обетования даны! Мы есть провидцы новых времён!»
Дорогу нам загородил массивный помост, окружённый толпою, через которую невозможно было протиснуться. Мы вынуждены были некоторое время созерцать, как на высоту взошла голая девица в одних туфельках. Она покрутилась во все стороны, потом сняла обе туфельки, присела над ними, раздвинув ноги, и принялась попеременно писать тонкой струйкой то в одну, то в другую туфельку.
– Тут главное не промахнуться и попасть точно,– усердно растолковывал всем непременный господинчик.– И вот этот-то акт, господа, есть на нынешний момент высшее достижение мирового, нет, даже вселенского искусства!
Мы бежали от него и в поисках выхода набрели на небольшое, сплошь заставленное длинными скамейками помещение. На скамейках тесно сидели возбуждённо ожидавшие чего-то люди; с многими из них я уже сталкивался здесь, в подвале. По углам стояли те, кому не хватило мест, и среди них оказалось тоже несколько примелькавшихся лиц.
– Что тут будет?– спросил я у одного из них, полагая, что наше отчасти совместное блуждание даёт мне некоторые основания считать его своим знакомым.
– Гениальный поэт. Там (он мотнул головой) для вульгарной толпы. Здесь для подлинно утончённых эстетов.
– Чем же он гениален?
– Пишет стихи без рифмы, без знаков препинания и почти без смысла. Вот только от слов никак не может избавиться.
– На Западе его считают крупнейшим нашим поэтом,– подвернулся с объяснениями вездесущий господинчик.
– Но если смысла нет, то как же…
– Eсть мета-смысл. Это сразу переводит поэзию на более высокий уровень.
– Но мета-смысл нужно же всё-таки выразить в слове?
– Тогда он сразу превращается в обыденный смысл, и это убивает поэзию. Слово вообще противозначно подлинному искусству.
– Но стихи-то состоят всё же из слов?
– Это признак несовершенства нашего мира,– безапелляционно вставил господинчик.
Тут все захлопали, потому что перед скамейками возник маленький тщедушненький человечек, с интеллигентской бородкой. Публика изготовилась внимать. Человечек глухо монотонно и не без картавости начал:
я хочу купить её
вот она лежит
витрина в бликах
дребезжание трамвая
трость тэрсть
ты помнишь меня во время без трости
теперь не время
я думаю о трости
кто знает
никто
эту трость
пройдёт время
зачем так гремит трамвай
память доносит звуки полей
трамвай удаляется
я спокоен
и все будут знать
эту трость
не зная
а-а-а у-у-у
готовили что ему
прутовище безрыбья
но он есть я
бхырбь бзырбь
хотя не знают того
и кто уехал в пыльном трамвае
а ты мечтаешь в полях о времени
потомки их будут внимать реликвийности
теперь же безвестность
его трость
и я есть он
и он есть я
лёгкость походки
от трости
трость тэрсть
– Особенно гениально это повторённое «трость-тэрсть»,– проникновенно вымолвил, обратившись ко мне, случайный сосед,– любые звуковые ассоциации гения достойны запечатления в вечности.
Мы бежали дальше, наткнувшись вдруг на громадную вывеску: «Катарсис метарелигиозного экстаза». Волосатый армянин, разместившийся под вывеской, возвещал всем, что всего за сотню баксов он разрешит уплатившему разрубить топором одну из расставленных здесь копий великих шедевров иконописи: рублёвской «Троицы», нескольких икон Богородицы, Нерукотворного Спаса. Кроме того, желающим будет позволено справить на образовавшиеся щепки малую нужду или вскипятить на них стоящий здесь же большой самовар.
Неожиданно всё окружающее пространство заполнилось какими-то бритоголовыми уродами: они вытащили на средину ту самую невесту, которая встретилась нам прежде, принялись срывать с неё белую одежду – и вскоре началось непотребство, а жених бегал вокруг и подзадоривал всех: давай, давай…
– Аллилуия любви!– вопили все.
– Кто ещё хочет попробовать мою невесту?!– надрывался жених.
– Особенно хороша она будет в жареном виде,– замурлыкал господинчик, блаженно ухмыляясь.– Ведь любовь это прежде всего соединение телесное, а можно ли полнее совокупиться с объектом страсти, чем скушать его во всех подробностях?
Господинчик с заговорщицким видом придвинулся к нам:
– Знаете, вот так-то однажды Парфён Рогожин с князем Львом Николаевичем Мышкиным укушали Настасью Филипповну Барашкову, сожительницу господина Тоцкого… не изволили быть знакомы? И Гавриле Ардальонычу кусочек достался. Сынку генеральскому. А как же-с! Он ведь тоже вожделел. Правда, я не вполне разобрался, чего ему на самом-то деле надобно было…
– Чего ты плетёшь!– почти заорал Владислав.
– Да вовсе и не я,– обиделся господинчик.– Мне батюшка один знакомый рассказывал. Отец Иоанн. Не слыхали? Там ведь тоже продвинутые имеются.
Мы устремились прочь и наконец отыскали выход. Я еле сдерживал тошноту.
– Вы что-нибудь поняли из того, что здесь произошло?– спросил Владислав, когда мы, выкарабкавшись из подвала, пытались вытряхнуть из себя пыль, пропитавшую нас в его мглистом нутре.
– А чего тут понимать?– ответил грустно Назаров.
– И чего же ты понял?
– Люди растерялись и не знают, куда плыть. Так это не ново. Но теперь стало хуже: безбожный человек окончательно распадается в своей основе.
Его тянет к небытию. А перед этим он проходит через ряд безобразных форм. Его к тому поощряет сила тьмы. Весьма успешно, надо отдать ей должное. Человека уже активно приучают к аду. На поверхности же, как симптом: всё больше людей, которые никогда не перестанут кривляться, страдая, чаще бессознательно, от собственной безысходной бездарности.
– А тот чёрный тоже?
– Кто бездарнее беса?
XXVII
Это было как раз накануне… Мне нужно было зайти к шефу. Помню, перед тем я купил сирени – люблю, как она пахнет. Сразу вспоминаю нашу сирень в деревне – и почему-то поиски «счастья» о пяти лепестках в пышных её кистях.
Жил когда-то и не подозревал: счастье-то – вот оно! Переживай его, пока не ушло… Или уж так устроены мы, что счастливою жизнь представляется нам лишь в воспоминаниях. Или грезится впереди – в надеждах.
Помню, какие удивительные краски воспринимал я в те счастливые дни детства на закатном небе. У горизонта над зашедшим солнцем – малиновый пламень, выше – несколько полос розовеющих облаков, и тут же три бесформенных крохотных серо-коричневых облачка, как три неаккуратных прикосновения кисти поверх основного тона. А с противоположной стороны, на востоке, небо синё, и разных оттенков серо-фиолетовые курчавые облака. Светлая полоска на горизонте постепенно смещается от запада к северу: там, где-то очень близко, идёт солнце. На южной стороне – чистейший горит месяц, и постепенно появляются редкие звёзды. Пахнет сиренью и свежей травой. Ликуют на болотце лягушки. Подала голос кукушка из глубины леса и тут же примолкла. И всё умолкает. Соловьи завладевают тишиной. Всё заметнее опускается роса.
Когда это было? Это и теперь есть, но не для меня. Просто нет уже того меня, а у нынешнего…– так, сожмётся что-то при воспоминании.
Запах сирени теперь у меня навсегда будет связан и с тем временем – накануне ареста. И всё будет царапать душу…
Когда я подошёл к дому Петельского, оттуда появился Рост, мы столкнулись нос к носу, и он как-то чересчур уж развязно, слишком даже оживлённо принялся мне что-то говорить, будто замять старался некую неловкость.
– Ты к шефу?
– Да.
– Его нет дома С утра срочно вызвали в Президиум.
– А ты чего там делал?
Рост не ответил, подмигнул и заспешил куда-то.
Оставшись один, я вспомнил, как некая проницательная дама в Институте намёками толковала мне об особом «канале влияния» Роста на шефа. Я об этом и без того почти знал, и меня это мало волновало, своих забот хватало. А тут вдруг противно стало.
Теперь вот думаю: не подтолкнуло ли и это Роста – то, что я как бы откровенно застал его на месте преступления? Ведь он как будто испугался. И неприятно же, когда застанут при какой-то гадости.
Нет, Роста в подобных эмоциях заподозрить нелепо: он любую гадость принародно сотворит и как будто так и надо – не передёрнется. Может, донос его уже лежал «где надо», и всё же неловко было ему со мною говорить как ни в чём не бывало?
Элегическое настроение моё рассеялось – и я принялся злобствовать против всех – и неожиданно ясно сознал – именно странную прозрачность рассудка ощутил я тогда – и увидел: между мною и возможностью поиздеваться над собственной жизнью нет никаких преград. Я понял, что удерживали меня до сих пор лишь химерические, искусственно изобретённые и неизвестно кому нужные условности, бессмысленные, отжившие свой век табу. Поразительно: люди порою на всё готовы ради жалких граммов белого порошочка… Я же… «Бог должен был превратиться в белый порошок, чтобы люди обратили на Него своё внимание»,– кажется так вещал долговязый Гриша? Не обратить ли теперь того внимания и мне?
Счастье то или несчастье моё, что ничего не успел я тогда? Ведь именно тогда внутренние запреты утратили для меня всякий смысл. А внешние – их просто и не существовало как будто. Я презирал весь внешний мир – и он за то без жалости исхлестал мне душу, исполосовал вдоль и поперёк.
Когда меня – уже через три дня – впервые допрашивал злорадствующий Пётр Сергеич, я испытывал банальнейшее ощущение нереальности происходящего, вовсе не туманное, а прозрачно ясное сознавание того, что вся сия нелепость вот-вот прекратится. Не может же быть так, что я только что был свободен, мог распоряжаться собою, вступать в общение с людьми, и вообще я жил, а теперь как будто жизнь прекращается, какие-то люди (абсурд! абсурд!) в силу непонятных условностей могут распоряжаться мною, отдавать глупые (сколько же глупостей творилось со мною тогда, бесполезной жестокости даже) приказания, и я должен их исполнять, хотя порою просто завыть хотелось и об стенку головой биться, но поделать-то ничего нельзя! Какой, какой смысл во всём том? Или меня надо было измордовать, чтобы мне больно стало? Да, мне больно.
В притче о Господине, созвавшем гостей на пир, Христос Спаситель рассказал, что те под разными предлогами отказались: у кого дело, у кого свадьба, у кого нужная дорога. Погнались за необходимым во времени и лишились важнейшего в вечности. Батюшка недавно на проповеди это хорошо раскрыл.
А я: и вовсе как блудный сын – отошёл в страну далече, и отказывался отвечать на призыв. И был остановлен: не туда иду. Но я слеп был, не хотел видеть явного данного мне знака, и десять с лишком лет маялся, упрямо не замечая единственно мне потребного. Теперь понял: благо мне было дано. Я, по недомыслию своему, всё вопрошал: за что? за что? А надо бы: зачем? куда меня направляет совершаемое со мною? Знаю теперь: от времени к вечности.
Господи, милостив буди мне, грешному.
Господи, слава Тебе!
Ты был рядом со мною, Ты сострадал мне, а я не понимал. Я не понимал, что ещё там, на Кресте, Ты брал на Себя мой грех и мою муку – осмысляя тем и моё страдание.
XXVIII
У меня есть знакомый, плюгавенький невзрачный человечек, который в один вечер покорил чрезвычайной привлекательности женщину, притом бывшую весьма моложе его,– только тем её одолел, что беспрестанно ныл и расписывал свои невзгоды и страдания, в большинстве лишь мнимые, а некоторые и придуманные только что по вдохновению. Десять лет почти они прожили, она родила ему троих детей, обихоживала, как могла, он же все десять лет только ныл и страдал, а потом он-таки и ушёл от неё – к другой, и теперь (я навещал его на новом месте) точно так же ноет и жалуется, а сам живёт себе припеваючи (втайне от всех – припеваючи), окружённый самоотверженной заботою новой подруги жизни. Как тут не воскликнуть: женское сердце, кто тебя разгадает!
Признаться, мне самому противно бывает, когда слишком уж начинаю я нюниться, но если совсем чуть-чуть – отчего же и не пожалобить податливую к состраданию слушательницу. А то ещё и так расслабишься, что и самому себя жалко станет,– а что приятнее, чем самого себя жалеть?
Теперь я плакался перед Верой – и мне это тем более нетрудно оказалось, поскольку жила она совсем недалеко от дома покойника-шефа: и именно по дороге к ней я вспомнил, проходя мимо того дома, последние вольные мои дни, столкновение с Ростом в дверях подъезда – я нарочно дал крюку, чтобы пройти мимо того подъезда (зачем? вероятно, из странного желания ещё раз ковырнуть засыхающую болячку) – отчего злоба на всех и жалость к себе всколыхнулась во мне в который раз.
Испытанный приём не подвёл и теперь. Мне помогло и то, что сама Вера тоже находилась в тягостном состоянии и знала не понаслышке, что такое душевная боль и одиночество. Она в последнее время отдалилась от всех, даже от близких когда-то (относительно, впрочем) людей: она-то как раз не любила, чтобы её жалели. Нас, двух одиноких особей рода человеческого, сближала наша внутренняя бесприютность.
– Скажи, что же мне делать?
Когда Вера говорила мне это, я смотрел на неё и думал, что ведь она обладает редкой красотой, неброской, но постепенно изнутри раскрывающейся и исподволь проникающей в душу.
Но моим сознанием одновременно овладевали её слова:
– Сейчас последняя неделя, когда можно что-то решать.
В моих намерениях было уговорить её «не осложнять себе жизнь» – что я, признаюсь ещё раз, и собирался сделать и что для меня не составляло особого труда: она уже почти смирилась с неизбежным, мне оставалось лишь слегка подтолкнуть…
И тут мне впервые – в жизни!– стало страшно от ощущения и осознания собственного бесовского паскудства. Я как палач: готовился выбить последнюю неверную опору из-под ног жертвы, чтобы она через мгновение забилась в удушающей петле.
Что же мы все делаем!
– Не ходи никуда,– сказал я.
– А как же?
– Как-нибудь.
Я и сам не знал – как. Я и впрямь думал: как-нибудь.
Опять-таки по совести: я вовсе не желал принимать на себя какую бы то ни было ответственность. На Веру я смотрел до сих пор – нечего сладенькие сопли размазывать!– лишь как на временную и весьма привлекательную сексуальную партнёршу. Но одно я знал теперь твёрдо: такого греха мне потом – хоть два раза, и три, хоть десять раз по десятку лет отсиди – не избыть.
А ведь с другой стороны: дело-то заурядное, и весьма. И уж не безгрешен я был в том грехе. И иной доброхот – коли сказать кому – лишь плечами недоумённо пожмёт: тоже нашли проблему на ломаный грош.
Что же мы все делаем?
Но пусть то для всего хоть мира вздор, а я не могу.
А как же тогда?.. Не знаю. Как-нибудь.
– Как-нибудь. Как-нибудь образуется. Пойди посмотри лучше: чайник не перекипел ли?
Утром, возвращаясь от Веры, я вновь сделал крюк, чтобы пройти мимо тех дверей, возле которых я столкнулся с выходящим от Марии Петровны Ростом. Подошёл, постоял недолго. Хотел даже войти в подъезд – раздумал.
Может быть, и впрямь та встреча его подтолкнула?
Уже во время следствия я знал: выдал меня Рост. Я и не подозревал даже, какую он успел забрать силу. Связи его оказались столь надёжны и многообразны, что несмотря на всю мою тогдашнюю оцепенелость и отстранённость от всего, я не мог не почувствовать: кто-то как будто из укрытия направляет ход следствия, а потом и суда.
Сам он, хотя, подчёркивал свою сторонность, показания давал скупо, не слишком выставлял напоказ и своё гражданское негодование. Я же его имени тоже не касался, чтобы шефа ненароком не задеть. Но вот: прокурор требовал для меня семи лет, суд выдал на полную катушку – драматургия абсурда, никогда так не бывает. Адвокат потом, оправдываясь, намекал мне, что кем-то было организовано особое давление на председателя суда через районное начальство.
Что ж, я уж не так наивен, чтобы не поверить тому.
Я постоял недолго у столь мне памятного подъезда, и прочь пошёл. На душе было снова пусто и лишь досадно на себя же самого: зачем накануне отговорил Веру – взваливал на себя последствия чужой вины? И что за страсти наворочал вокруг сущего вздора…
Я пошёл бродить по лесу, с которым мой дом соседствовал. Натоптанные тропки уже почти просохли после оттаявшего снега, и вероятно, было бы совсем сухо уже, когда бы не моросил второй день мелкий – как осенний – дождичек. И вообще время срединной весны, пока не распустится листва, в пасмурную погоду мало чем разнится с осенью. Так же голы деревья, земля, так же пахнет палым листом, так же сквозит в лесу… Нет, есть одно отличие: птицы – даже в ненастье слышны. А всё же хмуро и бесприютно.
Я бродил и вспоминал, как давным-давно, в прошлой жизни, мы гуляли здесь с мамой. И как она мечтала вновь придти сюда со мною…
XXIX
А вернувшись домой, я узнал, что мама умерла.
Это не было неожиданностью. Этого ждали. Накануне меня предупредили в больнице, что собираются её выписывать,– а попросту, хотя прямо о том не говорилось, отправляют умирать домой. Дело обычное. У них там своя отчётность. Я на них не в претензии: для чего бы им ухудшать свои показатели? Я сразу их понял и не спорил. Да и против чего было возражать? Не против смерти же.
Но она ни с кем и ни с чем не посчиталась.
И ещё один камень навалился на душу, как ты ни мудрствуй. В кого бы его зашвырнуть?
Многочисленные тётушки-приятельницы освободили меня от всех неизбежных хлопот и похоронной суеты. Признаюсь, я всегда терялся, едва сталкивался с необходимостью каких-то действий по казённой надобности. Так и прежде было, и теперь. Все эти бумаги, выписки, квитанции – казнь египетская. Когда же смерть рядом – вся формалистика может и невподъём оказаться. Хорошо, как есть кому помочь, а как некому? «Свидетельство о смерти» – что за немыслимое измышление чьего-то бойкого ума? Вот оно свидетельство – остывшее недвижимое тело.
И всегда, хоть в который раз случись, всегда непостижимо: что же это – смерть? И сызнова по столь привычному уже кругу движется мысль: что же это – смерть? И где тот человек, что лежит безвольно и беззащитно перед тобою? Творится ли с ним некое таинственное действо, или нет уже ничего? И неужели и я – Я!– так же вот лежать буду – неужели так?! Никуда мне не сбежать от того.
И всегда всё ничтожно перед этим.
Я стоял у гроба мамы в пугающем душу просторном пространстве старого крематория – но ещё не понимал вовсе: вот оно, совершилось – то событие, одной мысли о котором я ужасался когда-то и которое мало затронуло пока мои чувства. Через динамики зазвучала где-то впереди «Элегия» Маснэ.
Где те дни?.. А ведь и вправду – где? Что это значит: всё прошло, всё позади? Что значит: никогда, никогда – !– я уже не услышу её тихого укоряющего голоса, обращённого ко мне?
Всё по тому же, давно накатанному – и не мною одним – кругу скользила мысль.
Краем глаза я увидел внесённый в зал ещё один гроб, и множество венков (а у нас всего один, бедноватый), и награды на красных подушечках. Как всё это бессмысленно и глупо, подумал я. Как всё незначительно перед этим.
Но что, что же есть – это? Каков в нём смысл?
И вот я так же буду беспомощно лежать, и может быть, в этом самом зале.
Неужели всё так просто: все мы окажемся перед этим. и как бы ни разнились мы жившими, это уравняет нас. Неужто всё так просто, и нечего мудрить и усложнять?
И всё по одному и тому же накатанному замкнутому кругу движется мысль.
И важно не то, сколько блестящих бляшек будет приколото к красным подушечкам,– а то важно, с чем в душе своей придёшь ты к этому моменту – и за что станешь держать ответ – перед кем?– перед собою ли самим?– перед Кем-то высшим?
Вот она, точка отсчёта, от которой бы мерить нашу жизнь: с чем придём мы к этому часу. Страх мой перед этим – вот что он означает: с чем приду я к сему единому для всех смертному исходу?
Я всегда был обуян гордыней, я возмечтал об утверждении себя над другими, но я впал лишь в житейскую суетность, и страдаю оттого до сей поры. Я поработился сластолюбию, и ради наслаждений ублажаемой мною плоти поддался корысти и пошёл на преступление, и был повержен, и не желаю раскаяться. Я жестокосерд, я нёс без сострадания горе всем, с кем сводила меня судьба, ибо я несу в себе порок болезненного себялюбия, и я страдаю от него теперь безмерно. Вознеся себя в мечтаниях над людьми, я начал презирать их, но неизбежно перенёс презрение на самого себя, сознавшего собственную малость. Рождённое сознанием страдание озлобило меня против мира и произвело во мне зависть к ближним – и это не даёт мне покоя доныне. Я перестал бояться своего греха, но я был нетерпим к малейшим слабостям окружающих меня, ибо я не любил никого, видя во всех лишь соперников себе. Я легко впадаю в гнев, я вспыльчив, непокорен. Я умею роптать на весь мир, но не умею сдерживать себя. Я всегда был лжив и лукав в погоне за благами жизни. Я не ощущал потребности ограничивать себя ни в чём, был невоздержан и злоречив – и это мучает меня – но я не желаю смириться. Я вовлечён в порочный круг страданий: гоняясь за внешним, я пренебрёг тем, что имел доброго и благого в себе, в глубине души своей – и все муки её есть лишь продолжение моей внутренней порчи.
Тревожно мне, непокойно. Я в постоянном раздражении. Нечисто в душе моей.
Кто поможет мне?
Никто.
Даже мама не сможет уже никогда! никогда не сможет простить меня.
И вот вдруг пришло ко мне прозрачно-ясное сознавание того, что ничего нет, и всё навсегда и бесповоротно прекращается в вульгарной печи бессмысленного крематория.
И сразу как будто легче стало. Как отпустило что-то внутри. И проще всё, и спокойнее, и как будто вольнее. Нет причины насиловать сознание, ни страдать.
Но и тяжелее стало, мрачнее всё увиделось. Душа осквернена и отвержена от мира. Как очистить её – если нет: ради чего.
Господи! Где же Ты! Хочу уверовать в Тебя! Хочу слиться с Тобою и в Тебе обрети покой, своё бессмертие. Хочу возвыситься в величии Твоём. Хочу утешиться молитвою к Тебе. Страданиями моими хочу искупить свой грех перед Тобою. Волею Твоею хочу получить блаженство в Тебе. Разумом Твоим хочу постичь смысл бытия моего. Твоею мудростью хочу примириться с миром. В Тебе хочу сохранить себя. Боже! Зачем Тебя нет?!!
Зачем кто-то говорит какие-то слова? Зачем мне велят прощаться с этим безжизненным телом? Зачем кто-то плачет?
Музыка смолкла. Гроб движется вниз. Две шторки смыкаются над ним. Как всё это…
Мама, прости меня.
Странно: но ведь её уже нет?
Потом мы все приехали в мою пустую квартиру – она именно теперь опустевшей мне показалась, хотя я уже давно жил в ней один, – поехали справлять ещё один нелепый обряд: поминки. Я подчинился воле тётушек-приятельниц, да и в высшей степени грубо было бы не соблюсти известных приличий, тем более что тётушки помогли мне, растерявшемуся совершенно в столь непонятном для меня положении.
Всё шло своим положенным чередом. Я знал и видел, что все, принявшие участие в похоронах, с искренней любовью (по меньше мере – с симпатией) вспоминают маму, искренне вздыхают, искренне жалеют – и под всеми вздохами и сожалениями чуялось мне искреннее же, хотя и не выказываемое слишком уж явно, сокрушение о моей непутёвости, преждевременно сведшей её в могилу. Они со скорбным и важным видом поджимали губы, украдкой указывая на меня глазами, и затем переглядывались многозначительно, и даже как будто отчасти выражали тем своё тайное удовлетворение – вот поди ты, разберись в человеческой душе.
Усугубляло выразительность их мимики вдобавок и то, что на похороны пришла Вера. Пришла она, в общем-то, как знакомая покойной, привязавшаяся к маме за недолгий срок совместного лежания в больнице. Справедливости ради, надо бы сказать: мама, заметив мой интерес к Вере, отнеслась к тому ревниво-неодобрительно. В одно из последних моих посещений она долго увещевала меня – вышло нечто вроде изъявления последней воли – остерегала от опрометчивых поступков. Скучно всё это и неинтересно. Но тётушкам был лишний повод особо значительно поджимать губы.
Так уж само собою вышло, что после поминок Вера задержалась после всех, помогая мне завершать уборку (но в основном-то всё было сделано не нами). Я и рад был и не рад её приходу. Одному тяжко бы остаться было, и не просто одному, а с сознаванием бесповоротности свершившегося. Но… но как быть с тем, что поддавшись мимолётному чувству, я… нет, не знаю, мимолётному ли… но ведь теперь уже не вернёшь… чему быть, того не миновать… теперь я взял на себя тяготу ответственности…
Вера всё суетилась, выискивая для себя какие-то хлопоты, а когда совсем уж никаких дел не осталось, замерла и взглянула на меня с печалью и покорностью.
Не знаю, как теперь будет. Ничего не знаю.
Как-нибудь.
XXX
В детские мои деревенские годы была у нас в ближнем лесу небольшая полянка, среди других какая-то особенная, необыкновенно солнечная вся – такое у меня воспоминание осталось: будто никакого иного состояния у той полянки и быть не могло. Может, видел я её только в солнечные дни, а скорее всего: в пасмурности внимания не обращал – вот и задержалось в памяти.
И когда я поехал туда, через много лет поехал на свидание с ушедшими годами – всё время в уголке сознания теплилось: нужно непременно на той полянке побывать – детство в душу вернуть. А вышло: бессмысленно всё.
И вот я вдруг выбрел на ту самую полянку, солнцем светящуюся. Это случилось близ деревни, где жил Назаров,– опять я к нему поехал. Шёл по дороге лесом – тропка какая-то в сторону свернула. Взял да и пошёл по ней – она на ту поляну и вывела.
Светлая зелень берёз, какая лишь на переломе от весны к лету случается, золотилась в солнечных лучах. Дубы, тут стоящие, зеленели особенно нежно, как будто их отдельно солнцем высвечивало. Хотя солнца вовсе и не было.
Посреди поляны две молодые ёлочки росли… не помню только: стояли ли они здесь тогда…
Та ли эта поляна?
Я не тот – вот что. Не осталось во мне того солнечного детского чувства. Так, где-то в глубине, на дне самом… на дне чего?.. шевельнулось будто.
Когда я выходил обратно на дорогу – передо мною проехали два пацана на велосипедах, а за ними на стареньком дребезжащем ещё один… Так вот и я когда-то. А теперь это уже не моё. Это чужое детство.
И мне вдруг представилось, что меня и вообще здесь нет, а просто я подглядываю как будто со стороны (как на экран что ли?), подсматриваю чужую жизнь. Чужое детство. Чужое время. Я подсматриваю чужое время, не имеющее ко мне никакого отношения. А моё всё уже давно прошло.
Заворожённое и завораживающее, вне меня вершащееся, инопространственное и иновремённое существование мира – окружало меня и было чужим и чуждым и чужеродным мне, и не было возможности проникнуть в него, соединиться с ним, утвердиться в нём – не было ни возможности, ни воли к тому, ни желания, ни сил; казалось: мир, зыбкий как видение и неверный как мечта, готов раствориться и исчезнуть в небытии, оставив меня в тоскливой пустоте одиночества, в которой плотно вязли, обессмысливались мои чувства, мысли, даже отчаяние моё. Всё вне меня, и я вне всего.
Время реального мира как будто вышвырнуло меня из себя. Но затем оно снова втянуло меня в своё тугое течение и опять потащило в неведомую даль. И не дано никому вернуться к истокам.
Роковая бессмыслица нашей жизни – время. Вечное проклятие наше.
Не пора ли угомониться мне? Надеяться уже не на что – у разбитого корыта. А я всё как будто не живу, а чего-то жду, всё надеюсь на свой маленький урывочек счастья. Как будто всё ещё что-то случиться должно. Ничего не случится. Одни заботы житейские. Но если ты всё один да один – какой в них смысл?
Но зачем мне новая обуза? И какой из меня отец семейства?
Вот нелепость: вроде бы никому ничего и не обещал. И себе, прежде всего, не обещал ничего. Но в то же время как будто долг надо мною. И перед самим собою долг.
Что за вздор!
Какой из меня отец семейства с нищенской зарплатой преподавателя подготовительных курсов? И она тоже должна с работы уходить. А беременную где теперь возьмут?
Я вспомнил вдруг, как Назаров принёс своим детям крохотный тортик и как радовались все они тогда, и как я жрал огромный тортище, жрал, пока не обблевался с досады. Нет, если ребёнок рад дешёвенькой конфетке больше, чем пресыщенный обжора редкостным лакомствам – я предпочёл бы быть тем ребёнком. Ведь и впрямь, в конце концов, не в деньгах счастье.
Режущей тоской возникла вдруг боль в сознании в моём и в душе – вызванная желанием ощутить прижатое ко мне лёгкое тельце беззащитного ребёнка, моего сына, которого я должен буду в тщетной надежде заслонить собою от невзгод всего мира. И глубинная, из недр души поднявшаяся жалость к нему, несуществующему, охватила меня. И эта жалость соединилась во мне с неодолимой, острейшей, чисто физической потребностью ощущать себя отцом.
Я представил себе, как принесу ему однажды… нет, не торт… почему-то представился мне большой арбуз, от которого засияют восторгом глаза мальчика, и маленькое, тихое, но счастье согреет меня.
Счастье?
– Нет в жизни счастья,– грустно сказал я Назарову, внимая весеннему ликованию природы.– Такую наколку себе блатные часто делают. И ещё: не забуду мать родную. Вот и мне сейчас это самое как раз впору. На одной руке и на другой.
– Счастье?
– Счастье. Да вот просто хотя бы: тихий покой и уют. Я бы теперь и на том угомонился.
– Всего-то?
– И того ведь нет.
– И не должно быть,– слишком жестоко сказал он.– Наша душа послана в этот мир на испытание, а мы всё ждём какого-то комфорта, и прежде всего для тела даже. Не бессмысленно ли?
Не помню уже точно, что именно и как говорил Назаров, – всё смешалось в моём сознании: и его слова, и мои мысли, вызванные его словами. То мне кажется, будто он говорил, а я вовсе и не думал ничего, но порою уверяю я себя, что всё то мои собственные домыслы:
– Мы почему-то заранее решили – почему? хочется, и всё,– что мир создан лишь для нашего благополучия. Да и благополучия-то для тела прежде всего – вот чего мы ждём. А коли для души того же хотим – так ещё то страшнее. Потом мы увидели, что устройство мира не слишком-то подходит для такой цели. Но вместо того, чтобы догадаться, что цель понята нами неверно, мы бьёмся над тем, чтобы приспособить мир к этой ошибочно понятой нами цели. А ничего и не выходит. Но мы упрямо, вместо того, чтобы устроять нашего внутреннего человека, мы крушим и стараемся переделать и перекорёжить мир окружающий, и отчаиваемся в том, и пытаемся урвать у внешнего мира хоть что-то, чтобы ублаготворить себя. А глупо: не теряем ли мы лишь время понапрасну? Да и зачем устраивать именно то, что исчезнет? При этом какие-то шустрые умы из надуманной идеи несовершенства мира сделали вывод об абсурдности самой идеи Творца. Но мир-то совершенен. Только для своей цели, а не для навязанной ему нами, нашим недомыслием. И вся жизнь наша от неверно сознаваемого смысла бытия коверкается нами. А чтобы окончательно заглушить голос духовной нашей сущности, лукавый подсунул нам много искусных забав. Мы и забавляемся. Потому что это очень подходит к тому, как мы понимаем смысл нашего существования. Удовольствие. Несмотря ни на что – удовольствие. Переступая через что угодно. Отвергая всё. Всё, кроме этого кумира нашего – наслаждения.
– А не в том ли источник бед наших, что появляются порою шальные головы, вроде твоей?– возразил я на сей монолог.– Появляются вроде твоей головы шальные, в которых зарождаются столь диковинные мысли. И других мутят.
– Ну, у многих к тому иммунитет устойчивый. За всех бояться не стоит,– усмешливо возразил он.
– Вот жену твою, насколько я знаю, подобные идеи не тревожат, и она-то как раз благоденствует. А тебе, дураку, одни заботы. Даже, как я слышал, на алименты подала, проявив восхитительнейшее остроумие.
Об истории с алиментами мне рассказала Тамара Казакова, с возмущением рассказала, аж кипело в ней всё, пока рассказывала. История и впрямь в своём роде восхитительная. Бывшая сашина жена подала на него в суд, требуя алименты на содержание сына, который и без того жил не у неё.
«А если, говорит, будешь отказываться, я его у тебя и вправду заберу, суд в этом вопросе всегда на стороне матери, а ты тем более дочь уморил, тебе и вообще веры не будет». И не для того грозилась она отобрать сына, чтобы он жил с ней, а просто из мести – мальчика она в интернат сдать собиралась, и зная характер бывшего мужа, так прямо его о том и предуведомила.
К слову сказать, Тамара сообщила мне, что журнала с моей статьёй она нигде не могла сыскать (я для того с нею и встречался) – стало быть, не прохлопал это дело Рост. Но то уж теперь дело десятое.
– Вот ты, умник,– не отставал я от Назарова,– как же ты ей по харе её наглой не смазал? Что теперь делать будешь?
Он виновато улыбнулся, кротко сказал:
– Буду платить.
– За что платить! Помилуйте!
– Да ведь во всех случаях платить. Заберёт к себе – платить, не заберёт – тоже платить придётся. Но не в приют же его сдавать.
– На таких дураках, как ты, просто грех не ездить.
Он пожал плечами.
А ведь и впрямь баба его со всех сторон обложила: в суде его позиция весьма непрочна, а про интернат – она же не дура, чтоб всех оповещать. Заранее никому ничего не скажет.
– Где же ты денег возьмёшь?
– Моя основная профессия ныне: грузчик широкого профиля. С такой квалификацией – да работы не найти!
И за что же его-то так, вот этого, идущего рядом со мною простеца?
Мы шли через поле, приближаясь уже к самой деревне, а в медлительном тёплом воздухе над нами и вокруг нас журчала и струилась песнь жаворонка – и так, кажется, покойно должно бы было быть на душе в этом светлом и радостном мире.
А ведь мальчишка этот, он (Тамара, помнится, говорила), может, и не сын его вовсе, и Саша знает – и ничего. Смогу ли я так? Назаров хотя бы на сомнение имеет право, а у меня и того нет. Впрочем, может, и свой когда появится… Господи, не накажи меня в детях моих… Но способен ли я на такую жертву, как Саша? Но почему жертва? Разве любовь не в радость? Но где же любовь? Ведь не любовь у меня – необходимость. И от всего иного – навсегда отказ. Так ведь и нет его – иного этого. Ничего нет. Отказывайся – не отказывайся – ничего нет, и надеяться не на что. Пора бы угомониться.
Но ведь не создан я для таких обыденных забот. Не будет мне в них покоя.
…Всё-то мы меряем в своей жизни мерками самоутверждения себя в ней. А надо бы – тем мгновением, когда предстанем перед вечностью ответ держать.
Ведь как просто, если задуматься… Не задумываемся. Однако: если задумаешься, то и поймёшь: вздор всё, нет никакой вечности, и глупо отказываться ради химеры хоть от малой доли земной радости, коли выпадает она на долю твою. А там гори всё огнём…
Хотя: я-то уж нахлебался этих радостей земных.
Только башню не успел соорудить, чтобы вскарабкатся и заорать на весь белый свет: Вот я каков!!!
…Тем временем мы уже шли деревней – и как раз мимо того дома, где я поддался когда-то соблазну «мистического» непотребства. Дом стоял мрачно, глухо, пустынно. Окна скрывались за тёмными ставнями. И я не то что не спросил о нём у Назарова, но и виду не подал – будто и знать ничего не знаю, будто и вижу тот угрюмый дом впервые и безразличен он мне вовсе: сидел во мне смешной страх: если я хотя бы чуть дольше, чем нужно, разглядывать стану, то мой спутник тотчас поймёт и догадается обо всём. Нет: вздор: ясновидец он разве?
Я лишь мельком, равнодушно скользнул по позорной своей памяти и тут же излишне суетливо и с нарочитой развязностью понёс совершенную уж околесицу.
XXXI
Но память не давала мне воли, задорила любопытство.
– У меня тут знакомые есть, ты иди, я догоню, зайду на минутку,– сказал я и направился туда, где когда-то отыскивал ненужного мне полузабытого приятеля.
В женщине, стоявшей у крыльца, я сразу узнал Валентину; хотя она стала почти совсем уж седая, но лицом совершенно не изменилась.
– Ой, а я что-то и не помню вас,– ответила она на моё приветствие.– Вы кто же такой будете?
– Да я приходил к вам своего знакомого искал.
– Ой, нет, не помню.
– Вот ещё матушка ваша, Надежда Петровна, кажется…
– Так вон это когда! Уж мать-то три года как на кладбище снесли. И отца похоронили. Я теперь тут одна.
Я покачал головой, как бы выражая сочувствие, но так и не нашёлся, что же надо сказать, приличествующее положению.
– А я вас сразу узнал.
– Ну вот, а я совсем не признала.
– Помните, вы мне ещё про колдунов говорили.
– Ой, колдуны! Никакие они и не колдуны оказались. Они, оказывается, наркоманы были и разврат там у себя устраивали.
– Какой разврат?– боюсь, я покраснел при этих словах.
– А я почём знаю, какой. Свальный грех вроде. Вон Нинка Курозаева родила урода после, а от кого, и сама не знает.
– Как урода?
– Ну слабоумного. Уж вон большой теперь мальчишка, а говорить не может, только мычит и слюни пускает. Уж ей тут говорили все, чтоб сдала его, а она не хочет.
– Всё-таки же свой ребёнок.
– А кому он такой нужен? Идиот и есть идиот. По-моему, усыплять таких надо, чтобы и сами не мучились, и других не мучили. Уколы бы делали какие. А то ведь совсем идиот.
– Надо же!– ничего умнее я и сказать не придумал.
– Вот то-то и оно! Мы уж ей говорили: сдай!– а она ни в какую. А кому он нужен? Вырастет, ещё хуже будет. И у неё теперь вся жизнь загублена. И сама уже как трёхнутая малость. Ей теперь и замуж не выйти: кто её возьмёт с придурком? А ведь он ничего совсем почти не понимает. Вот как есть идиот. Только слюни пускает и мычит. Усыплять таких надо. Уколы какие или таблетки. Что-нибудь уж придумали бы. А то ведь он и сам не живёт и другим жизни не даёт. Уж и бабка их измучилась с ним. Есть, говорят, интернаты такие специальные, так не хочет отдавать. А таких ведь теперь много идиотов нарождается. Молодёжь теперь незнамо как живёт. И пьёт, и наркотики эти. Вот и у нас так же было. А мы, помню, всё гадали: чего они там запираются? А они вон чего. Жрали порошок какой-то и в одурении развратничали. А теперь вот и расхлёбывай – вон он, урод, бегает. Мы уж говорили: раз уж так вышло – сдай. А она упёрлась. И кто отец – неизвестно. Их вон там потом посадили сколько-то человек, да что толку. Этот-то всё равно идиот. Только слюни пускает.
– А с домом что?– сам не знаю зачем спросил я.
– Ничего. Запертый стоит. Хозяин отсидит – вернётся. Вот его бы не сажать, а заставить на ней жениться и ребёнка этого кормить. А то отсидит – и вроде бы уж и не виноват ни в чём. А бабе на всю жизнь крест. И малый вон какой. Кабы ему оттого, что тот сидит, ума бы прибавлялось, так я бы их, моя бы воля, вообще из тюрьмы не выпускала. Пусть бы они там так и сидели, а этот бы выздоравливал. Так нет. Их бы стрелять всех. Жрали бы свои наркотики, если нравится, а других-то зачем вовлекать? Ведь жизнь испортили девке. И ребёнок урод. Мы уж говорили ей: сдай ты его. А она: нет и нет.
– И почему же она так?– задал я ещё один безсмысленный вопрос.
– Кто её знает. Тоже трёхнутая стала после наркотиков этих. Упёрлась и всё тут. А по-моему, таких вот, которые уроды, усыплять надо. Ведь он совсем ничего не понимает. Идиот, он и есть идиот. А она говорит: их там бьют и не кормят. И не ухаживают за ними. Что под себя делают, говорит, то и едят. Так ведь они всё равно ничего не понимают. Его хоть лупи, хоть не лупи, они, мне кажется, и не чувствуют ничего совсем. А уж лучше бы их, конечно, усыплять. Чего с ними маяться-то? Ведь всё равно они не люди. И вылечить их нельзя. А она всю свою жизнь себе поломала. Убивать таких надо, кто вот до этого доводит. А то он отсидит своё, уж и выйдет скоро, а на ребёнка ему, что он такой, наплевать. Ему что ли мыкаться-то? Он своё дело сделал. А она страдай теперь. И сдавать не хочет. Тоже на неё псих нашёл. Да теперь все вообще ненормальные. Я вон когда по телевизору смотрю, всё думаю: совсем уж все рехнулись что ли? Вон говорили на днях: столько бомб понаделали, что по нескольку раз всех поубивать можно, кто на земле живёт. И ещё делают.
– Да вот сокращать вроде собираются.
– Как же! Тратились-тратились, а теперь выбрасывать? Да это ладно, тут уж только бы сразу, чтоб не мучиться. А вон в Библии, бабка Анюта говорила, написано, что так будет, что живые мёртвым завидовать начнут. Я вот сижу и думаю: и впрямь позавидуешь порой. Такая жизнь, что и глаза бы не глядели, что творится. И газеты хоть не читай, и не смотри ничего. Хоть ложись да помирай: чего творится везде.
– Ну,– робко возразил я,– всё-таки живём, ничего.
– Мы-то живём. А сколько всего вокруг! Вон Нинка – это жизнь что ли? Ладно – родила. Так был бы хоть нормальный. А то мычит да слюни пускает.
«Боже! Боже! Не накажи меня в детях моих!»
Я вспомнил, как у деда, в соседней деревне, куда мы ходили в магазин, жил вот такой же идиот. Ему выгородили специальный загончик в углу палисадника, и он целыми днями стоял там, держась за штакетник и тупо раскачиваясь из стороны в сторону – а когда мы проходили мимо, он рычал и страшно выл на нас, а всё лицо его было измазано слюнями и соплями, которые беспрерывно текли у него из носу. Я до глубокой внутренней дрожи боялся его, ибо не понимал, что же он за существо: не зверь и не человек. Даже дикий зверь был понятен мне (хотя бы по сказкам), волк и лев были опасны, но понятны. Рычащий же кретин вызывал в детском сознании моём несдержимый ужас. И я тянул взрослых обойти далеко стороной это леденящее меня ужасом существо.
Что может быть непереносимее для человека, чем рождение такого ребёнка? Господи, не накажи меня в детях моих!
Но вдруг этот маленький идиотик и есть мой сын?! Кого я там мял в угаре дикой оргии – кто скажет? Нет, не может быть: я же не глотал той отравы.
Но я же сотворил всё своими руками… Боже, пощади меня!
А вдруг и тот, кто ещё не родился, появится на свет таким же уродом: ведь так всё неустойчиво в нашем мире. Как знать: в каком состоянии был зачат он, этот готовящийся придти в мир человек?
Мне стало страшно, по-настоящему страшно. Страх разливался холодом по всему телу, и я физически ощущал этот холод, от которого всё во мне становилось чужим, так что трудно стало поднять руку, сделать шаг.
«Господи! Помилуй меня, грешного! Не накажи меня в детях моих!»
Так я и шёл обратно с ледяной тяжестью во всём теле – мимо того хмурого пустынного дома, и за глухими его ставнями будто таилась непостижимая тайна, узнать которую никому не дано.
И потом, сидя за столом, возле которого ласково хлопотала милая старушка с добрыми глазами, я вспоминал почему-то её славословную молитву (Слава Тебе! Слава Тебе!– всё звучало в моей памяти) и с отчаянием думал, что нет во мне той силы, чтобы после всех бед и тягот вот так же восславить от сердца… ну, не Бога, хотя бы просто жизнь. Да что сила – права-то у меня нет на то.
– Зачем я сюда приехал? Не знаешь?– спросил я у Назарова.– А я вот знаю. Лихо мне, Саша, душа болит.
– Так надо.
– Мерси-с, – хмыкнул я.– Утешил… Лучше я вот что: домой поеду.
Он не возражал.
Я шёл лесною дорогой и твердил про себя: … и внуки нас похоронят… и станем жить, и так до гроба рука с рукой дойдём мы оба… и внуки нас похоронят… и внуки нас похоронят…
И слышалась мне сквозь весь лесной гам тишайшая тишина, которая проникала всюду и завладевала всем властно.
XXXII
Тишина. Тихая тишина охватывала меня, когда в детстве – после неуёмного городского шума оказывался я на деревенской воле. И всякий звук, раздававшийся здесь, только вторил ей, тишине,– подчинённый ею, он растворялся в ней, не мешая мне проникаться её покоем.
Тишина начиналась для меня с того момента, когда затихал вдали шум уходящей электрички, а мы с мамой и бабушкой, выйдя на окраину небольшого уездного городка, оказывались вскоре на просёлочной дороге, тянувшейся то полем, то лесом, то вновь полем, берегом речки, задами трёх деревенек, над которыми горланили неугомонные петухи. Вот эти петушиные песни и соединились для меня навсегда с ощущением покойной и уютной тишины: такою глубокою она представлялась мне тогда, а петухи своим криком лишь подтверждали её необъятность.
Идти было далеко, вёрст десять – мы шли долго, не раз отдыхали, опять трогались в путь – и радостна была для меня та дорога, сближавшая меня с пространством родной земли. Теперь уж, несомненно, никогда не испытать мне того свежего отрадного чувства, с которым погружался я когда-то в тишину этого пространства. Тишина земли вовсе не была пустою, она звучала – и лаем собак, коровьим мычанием, птичьим гомоном и шумом леса. Над полем журчали невидимые жаворонки. Я старался, но никак не удавалось мне их разглядеть.
А то вдруг раскудахтается где-то ошалевшая курица: издалека слышна всегда её клокочущая брань – то ли на нелёгкую куриную долю, то ли на надоедливых товарок своих, то ли на супруга, всегда отвечавшего ей грозным окриком.
Дорога неторопливо уходит в даль, и даль эта прекрасна, и мне всегда хотелось и добраться быстрее до места, но и идти долго-долго, растягивая радостное счастья приближения дали, счастье узнавания родных мест. Даль как будто втягивает меня в себя, но не даётся мне, всё манит и манит, то раскрываясь вся на просторе, то прячась за пологим подъёмом.
За зиму я успеваю отвыкнуть от деревенского простора, от знакомого, но теперь уже как будто немножко чужого мне дедовского дома – всё предстоит обвыкать заново, сживаясь с его покойным уютом. И какой удивительный запах стоял в том доме! Ласковый запах жилого тепла. А возле дома – забываемый за долгую зиму аромат свежей травы, листвы, сырой земли, чистоты светлого воздуха.
Нас встречает дед, уже седой, но ещё бодрый и сильный. Пока в доме разбирается поклажа, устраивается порядок в долго пустовавших комнатах, готовится еда – я обегаю палисадник по плотной утоптанной дорожке, заглядываю в огород, в сад (там ещё пусто: приезжали мы всегда рано, с первой зеленью), потом иду на деревню, встречаю кого-нибудь из знакомых мне взрослых, веду с ними важные разговоры о житье-бытье, о том, что вот снова приехал и что давно бы пора.
…А дело уже к вечеру. Вот уже солнце коснулось края дальнего леса. Я сижу под нашими большими липами на задах, и вокруг всё та же тишина. Вдруг начинает накрапывать дождичек, и непонятно мне, откуда он мог взяться: только маленькое облачко висит в темнеющем небе, на котором уже высыпали почти все звёзды, и лишь самые мелкие ждут полной темноты. Ветерок ли колышет листья, то ли шлёпает по ним накрапывающий дождик, но липы тихо шумят над головою – и я растворяюсь в тишине их вечернего шелеста.
Но совсем по-иному звучит утренняя тишина, неизменно начинающаяся для меня криком петуха за стеной, жёстким, как выстрел, хлопаньем пастушьего кнута и мычанием коров, выгоняемых на деревенскую улицу. И так не хочется просыпаться и вставать, а петух всё орёт и орёт, оголтелый, и солнце пробивается сквозь занавешенное окно, и гремит посуда в соседней комнате, и стучит во дворе дедов топор. И вот я уже за калиткой, и тропкою, протоптанной среди густой лапчатки и спорыша отправляюсь к своим деревенским друзьям – и всё окрестное приволье становится нашим. И лишь одна лёгкая печаль порою ненадолго овладевала мною тогда: сожаление о недоступности дальних далей, открывающихся то с пригорка за деревенским оврагом, то с опушки леса, то со старой колокольни, куда забирались мы, рискуя сломать шею, оступившись на неверных перекладинах её ветхих лестниц. Но рядом с печалью жила и надежда: когда-нибудь одолеть дальние пути и изведать радость постижения незнаемого.
А время струится незаметно. Проходит май с его частыми холодами и ненастьями (май: коню сена давай, а сам на печку полезай,– приговаривает бабушка, подкладывая поленья в огонь), комариный июнь со светлыми ночами и тёплыми запахами всеобщего цветенья – и вот уже природа являет себя во всей летней силе, мощная и изобильная. Густота зелени лесов и лугов ещё не обнаруживает в себе признаков увядания и иссыхания. Запахи трав, нагретой хвои, сильной листвы будоражат и влекут в себя. Воздух звенит обилием насекомых; порхают и красуются бабочки, стремительно проносится стрекоза, назойливо докучают оводы и слепни. Над полем трепещет какой-то запоздалый одинокий жаворонок. От разноцветья и разнотравья шалеют глаза. Немилосердно томит зноем.
Случается: к вечеру небо незаметно сереет, начинает погромыхивать издалека – брызнул дождичек, но тут же перестал – а на светло-сером небе прорезаются молнии и гремит сильнее. Опять заморосило и вновь перестало. Кажется: дождя уже не будет, гроза минует стороной, но и не понятно, откуда и куда она движется, – гремит то с одной, то с другой стороны, а по всему небу пятнами проглядывает ясная голубизна. Вдруг окончательно темнеет, дождь начинает сыпать крупными каплями – и внезапно обрушивается на землю ливень такой густоты и силы, что заслоняет горизонт над полем. Эхо от грома могучими валами перекатывается над лесом. И теперь уже кажется, что ливень никогда и не кончится вовсе. Вот застучал по крыше град, хлынуло ещё мощнее. Но перекрывая хлёст воды, трещат без умолку по всему лугу кузнечики в густой траве. И уже сверкает в разводьях туч солнце, и последние нити слабеющего дождя тянутся в его весёлых лучах. Всё сияет. Скоро над полями и лугом возникают и густеют белёсые комья тумана. Гром перекатывается где-то далеко-далеко, и совсем не страшен теперь и даже вызывает в душе какую-то жалость к себе, слабому и безобидному.
И опять тишина, тишина.
Сочно звучит коса, врезаясь в густую траву на лесной поляне,– и нет ничего духовитее вянущего чабреца в охапке подсыхающей кошенины. Я перебираюсь спать на сеновал, и всю ночь над самым почти моим ухом добродушно жуёт жвачку дремлющая в своём закуте корова. И тихо, тихо в ночи.
А ночи всё больше выстывают, по утрам уже нередок зябкий туман – но жаркое солнце быстро сгоняет его отовсюду и всё настойчивее высушивает траву, листву, рассыпает пылью зачерствевшую землю. Пышно красуются на тёмной ботве соцветия картофеля. А что за запах у этих цветов и ботвы! Я ещё мал, она с головой укрывает меня, когда я скорчившись, прячусь среди грядок, осторожно выглядывая из густых зарослей. Есть что-то острое и волнующее в этом состоянии – чувствовать себя скрытым от всего мира, затаившимся, никому и ничему не доступным. На лужайке за картошкой барственно разрослись репейники, всюду желтеет пижма, пылают луговые васильки. И здесь моё укрывище. Я прячусь в траве, почему-то не скошенной, и заворожённо слежу, как в длинное облако, растянувшееся по горизонту, опускается красно-багровое солнце.
А дни медленно тускнеют. Засентябрило, хотя и август ещё. Выйдешь на крыльцо – что это? Дождь – не дождь, а какой-то крупный туман или мельчайшая изморось? Всюду серо, серым-серо. Всё становится волглым, промозглым от холода и сырости, в которой вязнут и без того тихие звуки. Тишина ещё заметнее стихает. Только капает вода с крыши в подставленные корыто и вёдра (бабушка готовится к стирке). Промокшая курица со свалившимся набок гребешком обречённо пьёт из лужицы, запрокидывая голову, потом долго стоит с осоловелым видом посреди дорожки. Серый, зеленоватый, голубоватый местами туман закрывает половину поля и дальний лес. Идущие по деревне осторожно выбирают, куда ступить, обходя лужи.
Думаешь: ну вот, конец лету. Но нет. За пасмурным августом наступает вдруг такой ясный и тёплый сентябрь, что уж и не знаешь: то ли лето не хочет уходить, то ли осени лень начинаться.
Но тишина всё глубже и шире.
Бабушка с дедом копают картошку и ссыпают её на пол в затенённой горнице (чтобы не позеленела – объясняют мне). И я таскаю по несколько картошин в маленьком ведёрочке. В горнице стоит особый запах сохнущей картошки – для меня это запах осени, как и запах палого дубового листа в прозрачных октябрьских лесах: его терпкость не спутаешь ни с каким другим листом, в изобилии устилающим всё лесное пространство.
Листья шуршат под ногами, берёзы тихо шумят в вершинах жалкими остатками листвы. Их белые стволы контрастно рисуются на зелени невысоких ёлок. Но особая живописность – в богатейших оттенками цветовых пятнах зарослей орешника, ещё вовсе не облетевшего. И тут же краснеющие клёны – вот где подлинная эстетическая самодостаточность цвета, сказал бы я теперь – но тогда просто вбирал в себя цветовое многообразие мира.
И надо всем – грустная осенняя тишина.
На небо, будто невзначай, набегают прозрачные тучки, принимается мелкий и редкий дождичек – как будто лишь робко примеривается и опасается даже поморосить от души. Но влажный густой запах всё явственнее тянется от леса. Тучи – ниже, сплошнее, серее. И облетела уже вся листва на деревьях. Лишь кое-где желтеют остатки ярких пятен – на зелёном хвойном и чёрном фоне готового к зиме леса.
Холодный ветер, мелкий, но уже не робкий дождик. И на душе так же мелко, холодно и серо. И бесприютно.
Пора отправляться в Москву. Я уже жду отъезда, я уже скучаю по городской жизни. Но и расставаться с волею – тоже грустно.
В последний день мы с мамой совершаем обряд прощания с деревней, лесом, с полями.
Мы идём к лесу, к оврагу – и я кричу:
– До свидания, лес! До свидания, речка!
Надо бы ещё:
– До свиданья, тишина! Прощай.
XXXIII
И вот дошёл до меня неясный слушок. Что Рост заболел. Смертельно. Каюсь, поначалу весть эта тайно меня согрела. Потом собрался я и вечный вопрос себе задать: ну и что? и зачем же нужна была вся та убийственная суета? всё отравляющая суета…
Собрался, да раздумал вопрошать: пусть сам себя спрашивает – его срок настал.
Хотя: потешить себя он всё-таки успел. Не в пример моему. Однако то всё уже в прошлом. Не странно ли: что прошло – уже как бы и бессмысленно. А что остаётся? Смутная тоска воспоминаний. Но не станет тебя – и она исчезнет.
А потом, в конце всех концов – или полнейшее ничто, или кому-то вечное блаженство, другим же…
Тут как ошарашило меня: невозможно то блаженство ни для кого!
………………………………………………………………………….
– Вот теперь на самый страшный вопрос ответ дай!
Я пребывал в каком-то исступлении, и увидел, что в его глазах и впрямь порождён мною страх.
– Вот ты праведник,– со смехом сказал я (мне всё смеяться хотелось), – и последуешь в Царствие Небесное…
Он вздохнул сокрушённо и взглянул на меня с такой тоской, что я увидел сразу: он тяготится чем-то, что лежит и на его душе.
– Хорошо,– возразил я,– пусть не ты, пусть будет условно… я не про то. Ты или другой… Но коли праведник, так ведь должен любить меня, как самого себя, иначе какая тут праведность – так ведь в заповедях?
– Так.
– А я вот грешник, и гореть мне в геене.
Он смотрел на меня с великою тоскою.
– И вот ты,– продолжал я со злобным смехом,– находясь там, в вечном блаженстве пребывая, как же ты сможешь блаженствовать, если я, любимый тобою… а не любить меня ты не можешь, мы уже договорились, ты бы тогда и в рай не попал… так как же ты сможешь в раю, когда я-то муки невыразимые принимаю, а ты знаешь про то! Тут ведь и для тебя уже рай не в рай будет. Вот чего я знать хочу. Концы с концами-то не сходятся.
Он посмотрел на меня и сказал тихо и твёрдо:
– Я не знаю ответа на твой вопрос.
– Кто же знает?
– Наверное, никто. Никому не дано знать тайны Божией.
– Конечно: вечные уловки ваши! Чуть что: нельзя. Мол, там качественно иное, там тайна, нам не открытая, там критерии иные.
– Но если так?
– Кто знает: как? Пусть бы и так. Но я опять на том не остановлюсь. Пусть даже мне будет дано прощение свыше и место в раю предложено. Но мне надо, чтобы я сам себя простил. Иначе мне покоя не будет. Прощу ли я себя – сам-то прощу ли? Вот и тю-тю райское блаженство. Для всех вас. Ха-ха-ха!
– Но это гордыня,– сказал он с состраданием в голосе.– Как же ты себя хочешь над Ним поставить? Не принять Его милосердия? Что же ты себя мучаешь так?
– А мне дана свобода воли,– торжествовал я.– Значит, и в прощении себе самому я ни от кого не завишу, я свободен. Свободен ведь?
– Свободен.
– Стало быть, никто мне тут не указ. Вот как!– я как безумный был, и смеялся.– В гордыне, говоришь, погряз? Тем более. Все вы от меня теперь зависите: пусть хоть все прощение получат, а я, погрязший, себя не прощу! И не видеть вам никому райского блаженства: так и будете сидеть и меня вечно оплакивать. А я ведь ещё и не верю ни во что вдобавок, так что тем более меня прощать некому, кроме самого себя.
– Оттого и не хочешь принять Его прощения, что не веришь.
– Да что принимать-то? Ведь меня еще не прощал никто,– усмехнулся я угрюмо.– Мы тут шкуру неубитого медведя делим.
Но я чувствовал, что что-то значительное начинается во мне. И чтобы не спугнуть это новое, только зарождающееся – я знал это – нужно уйти, остаться одному.
Он не удерживал меня.
Что же за мука эта! Как избыть тяготу, давящую меня?
Я знал теперь, что несу в себе вину перед всеми, и ею соединён с миром неразрывно, и жизнью должен искупать её. Хватит ли сил моих на то?
Впереди у меня долгий путь сквозь сомнения, отчаяние. И обретения.
Обрету ли я прощение в душе моей?
И нет тому сроков и пределов.
Это была последняя вспышка моего неверия.
То, что я считаю важнейшим для себя, случилось со мною вскоре, неожиданно и вдруг. Так массивную гору незаметно подмывают подземные ручейки, большие и малые, и она рушится внезапно. Все события, какие я вспомнил о своей жизни, и были теми ручейками и потоками, обрушившими моё безбожие.
Рост умер. Похоронили его с велией престижностью. Я на кладбище пошёл, но не хотел никому на глаза попадаться, и оказался у могилы, когда уже все разошлись. Захотелось хоть в малом позлорадствовать: ты вот там, а я живой – и плюнуть на твою могилу могу. Сколько ещё грязи из души предстоит вычерпать!
Смотрю: гора венков и цветов, и портрет фотографический большой: Рост – и улыбается так ясно.
И понял я, понял вдруг, что виноват перед ним, за все свои мысли чёрные виноват беспредельно. И сказал ему, как живому… «Прости меня, Рост,– сказал я, глядя в его улыбающиеся глаза.– Прости меня. Я был не лучше тебя, даже гаже. Если ты и виноват, то только в том, что выпало тебе самому. А за своё я сам в ответе – никто больше».
Ведь я только и делал, что виноватых вокруг выискивал. И в себя по-настоящему заглянуть боялся. Даже и заглядывал, и видел как будто всё, а мужества не хватало жестокую правду себе сказать. Теперь могу.
Вижу: меня вела воля Того, Кто надо мной и над всеми. (Рост той воле только следовал.) А я не понимал.
Господи, дай мне, недостойному, радоваться о Тебе, а что мне для того потребно – Тебе лучше ведомо.
Да будет воля Твоя.
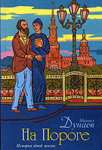
Комментировать