Оглавление
«Метафизика Лермонтова» написана в том же духе, как и «Метафизика Пушкина», но в иных тонах. Судьба баловала Пушкина, но потом расправилась с ним, преждевременно оборвав жизненную нить. Лермонтова она не баловала и дала более короткий жизненный путь. Лермонтов стал лицом к лицу с мировым и человеческим злом и не дрогнул, разоблачив его в самом корне. Христианский эстетико-метафизический логицизм выражен у Лермонтова местами более конкретно, чем у Пушкина, но в полном согласии с ним. Метафизика Лермонтова есть христианский конкретный религиозный идеал-реализм, как и у Пушкина, но Лермонтов внёс свои черты. Реализм Л. Толстого, Глеба Успенского и других представителей «золотого века русской литературы» носит местами характер натурализма. Такого гармонического слияния искусства, эстетики с религиозной метафизикой, как у Пушкина и Лермонтова, мир не видал и, может быть, не увидит. Поэтому оба они чужды Западу, всё ещё духовно питающемуся загнивающим демонским гумано-антропизмом.
Некоторые главы общего характера, как «Профетизм» и «Серафизм», изложены в сокращённом виде, во избежание повторений.
Загадка Лермонтова
Нет, не зато тебя я полюбил,
Что ты поэт и полновластный гений,
Но за тоску, за этот страстный пыл
Ни с кем не разделяемых мучений,
За то, что ты нечеловеком был.
Бальмонт, «К Лермонтову».
Лермонтов, его личность, жизнь, творчество и судьба — одна из величайших загадок человечества, всемирной истории, времён и культур. В Лермонтове воплотилась вся русская стихия, то глубокая и тихая, как воды Китежа, то мятежная и бурная, как волны Индийского океана. Пушкин был предельно-ясный, Лермонтов был мрачный и углублённо сосредоточенный. Это было бунтарство в благородном смысле, осмысленное и героическое. У Лермонтова был «железный стих, облитый горечью и злостью». Злость к тиранам и их приспешникам, горечь и любовь к народу. Невзрачный подросток, сирота, бабушкин внук, студент, юнкер, гвардеец и пехотинец, работал над собой и своими произведениями. Днём размахивал шашкой в молниеносных схватках с горцами, рубил головы, а в свободное время или ночью писал в казарменных условиях. Вечный изгнанник, странник, часто не имеющий своего угла, окружённый сворой врагов и завистников, следивших за каждым словом или строкой, готовивших ему смерть под прикрытием закона.
Как, среди общественно-политической, литературной и философской разноголосицы 20-30-х годов, декабризма, сентиментализма, романтизма, индивидуализма, гегелианства, после Пушкина, — нашёл Лермонтов своё место? Величайшие сатирики всех времён, Ювенал, Петроний, Лукиан, Свифт, Франсуа Рабле поблекли, стушевались… перед одним стихотворением: «Смерть поэта». Это был не только вызов, но и социальный диагноз: вырождение антинародных, рабовладельческих верхов. Эту тему подхватила вся русская литература после Лермонтова. Тургенев со своими уездными «гамлетами» («Гамлет Щигровского уезда») и «лишними людьми». Все эти Чулкатурины, Рудины, Литвиновы, Неждановы, которые в решительные минуты жизни теряют самообладание и впадают в нерешительность. Некрасов со своими «рыцарями на час», Гончаров со своей «обломовщиной», Островский с самодурами и семейным гнётом, губящим лучшие, чистые русские души, Салтыков-Щедрин со своими «губернскими» и уездными дрязгами.
Для Лермонтова жизнь была «миллион терзаний», как у Чацкого. Чацкий хотел искать «оскорблённому чувству уголок». Лермонтов всю свою короткую жизнь, с детских лет, искал такой уголок и не нашёл. Он искал «свободы и покоя», каких в природе и жизни нет. И он нашёл их в ранней смерти. Лермонтов бросил вызов судьбе, завистливой и тиранической Эймармене, а та послала ему в ответ двух фуриозных женщин, Эринний-Эйменид, в лице гр. Нессельроде в столице и ген. Мерлини в Пятигорске.
Неудивительно, что поэт-философ и метафизик видел в жизни, временами, «пустую и глупую шутку». Это частично согласуется с христианским пессимизмом: «Мир во зле лежит», по словам ап. Иоанна. Этот пессимизм, растущий из тяжкого жизненного опыта, не имеет ничего общего с философским пессимизмом какого-нибудь Шопенгауэра или Эдуарда ф. Гартмана, одержимых чёрной жёлчью. А разве это не «шутка» — совращение райского человека плодом с древа познания и обещанием: «будете, как боги». Хитрая, злая и далеко рассчитанная «шутка». Сам Лермонтов неоднократно в своей короткой жизни шутил. Последняя его «шутка» с Мартыновым стоила ему жизни.
Гениальное стихотворение Бальмонта открывает частично загадку Лермонтова. Лермонтов «не разделил» ни с кем своих мучений, потому что был «не человеком». Не человек, вызывающий страх и отчуждение, и преследование, окружённый толпою человекообразных, искавших его гибели. Загадка Лермонтова — он был не от мира сего, как и Христос, его апостолы и ветхозаветные пророки, Гонимый в мире странник, избранник Божий. Об избранниках сказал сам избранник:
«Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их.
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них».
Для мира созданы «ликующие, праздно болтающие и умывающие руки в крови», по Некрасову, которые охотятся за избранниками. Лермонтов, как и Пушкин, умер пророческой смертью. Освобождение русского народа в манифесте 19-го февраля 1861-го года было подготовлено кровью Грибоедова, Пушкина и Лермонтова.
Идеи и комплексы. Основной, господствующей и подавляющей идеей для Лермонтова и его выдающихся современников был декабризм в его широком понимании. Не только, как социально-политическое и государственное преобразование отсталой страны, с ликвидацией рабовладельческого, царско-жандармского режима, но и общекультурное, с ликвидацией «не культуры» в смысле Пушкина или «немытой России» в смысле Лермонтова. Декабрьское движение продолжалось и после подавления восстания и ликвидации верхушки, и участие Лермонтова в деятельности «Кружка шестнадцати» подтверждает активность подпольных кружков.
Был ли Лермонтов подвержен западному гуманизму, возвышающему человеческое и пренебрегающему божественным? Нет, у него пушкинизм, интеллектуальный и моральный, как противовес гуманизму. Неуравновешенный, одержимый псевдо-Софией, «философ» Владимир Соловьев опозорил только самого себя, приписав Лермонтову ницшеанство до Ницше. Печоринщина у Лермонтова — это только модный антропоцентризм, создающий пустоту вокруг себя и отчуждающий окружающих. Можно думать, что и в Лермонтове было что-то печоринское, как у Пушкина — онегинское. Но Печорин, как автопортрет Лермонтова — это преувеличение. Лермонтов показал внутреннюю пустоту печоринского гуманистического антропоцентризма, граничащего с бесчеловечностью.
Другая западная идея — титанизм, прометеизм в концепциях Гёте и Байрона, демонизм и сатанизм обоих, как культурно-исторический фактор, как вершина гуманизма. Лермонтов подхватил эту идею Запада, изменил до неузнаваемости. Он не продолжает, не развивает западные образы Мильтона, Клопштока, Гёте, Байрона, а разоблачает и развенчивает. Виктор Гюго и Альфред де Виньи выдвинули теософскую идею спасения Сатаны. Лермонтов начал с этого, но кончил иначе. В этом была одна из сторон пророческой миссии Лермонтова.
Гуманизм — это сатанинская гордыня, но в человеческом аспекте, в виде байроновского индивидуализма и демонизма. Лермонтов имел наследственные наслоения этого индивидуализма в своей мятежной душе. Он боролся с ними и преодолел их частично в своём вынужденном изгнании, в ссылке на Кавказ. Здесь, хоть и частично, Лермонтов осуществил свой аскетический идеал отрешения и уединения, затронутый им в неоконченных восточных повестях. И у Пушкина, ссылка в село Михайловское была отрешением от столичной суеты, от «вихря света». Ни тому, ни другому не удалось довести до конца свой пророчески-аскетический путь.
Другим определяющим жизненным фактором были комплексы. Есть комплексы врождённые и приобретенные, спасительные и гибельные. Спасительные и благотворные, как воздействие Духа Святого: милосердие, великодушие, мягкость и незлобивость, смирение и кротость. И гибельные, мизерабельные: гордость, зависть, ненависть, вражда и месть, ревность и злопамятство, тщеславие и страсть. Лермонтов — мальчик, сирота, рос без материнской ласки и был, буквально, раздираем между любовью к отцу и любовью к бабушке, ставшей его ангелом-хранителем. Он был разлучён с отцом, алкоголиком, не внушавшем никому доверия, не богатым мелкопоместным дворянином. Сам сын, Лермонтов, в одном из своих стихотворений, пишет об отце:
«О мой отец! где ты? Где мне найти
Твой гордый дух, бродящий в небесах».
(Ст. стр. 203, 1831 г.).
И в другом месте
«Ужасная судьба отца и сына
Жить разно и в разлуке умереть».
(Стр. 208),
«Хотели угасить в душе» ребёнка «огонь божественной любви» (к отцу), калечили ребёнка. Снег не веселит его сердце, как «одежда хладная» покрывает могилу «позабытый бесценный прах отца» (ст. «Прекрасны вы поля земли родной», стр. 198, 1831 г.). И ещё признание
«Не мне судить;
Ты светом осуждён?
Но что такое свет» (т. ж.).
Эпитафия отцу:
«Ты сам на свете был гоним,
Ты в людях только зло изведал…
Но понимаем был одним».
(1832 г., стр. 262).
Таким он и остался в памяти сына на всю его жизнь. Терзала мысль, что он сам был причиной смерти отца, видел отца, как живого, одинокого, страдающего от разлуки с сыном.
Но он любил отца, тяготел к нему, но встречал сопротивление бабушки, которая ревновала его к отцу. Таков родительский и отцовский комплекс. Мальчик, юноша, взрослый Лермонтов, был перед разрушительной дилеммой: любимый и любящий отец, или любящая, но ревнующая бабушка. Это терзание длилось всю жизнь Лермонтова и настроило его поэтическую лиру скорбными мотивами.
Не последнюю роль играл и комплекс неполноценности. Лермонтов был мал ростом, некрасив и имел кривые ноги, результат детского рахита, большую голову, сутулые плечи. Он поражал всех своим врождённым тяжёлым взглядом и вызывал неприязнь и отчуждение. Можно считать классическим описание того впечатления, которое произвёл Лермонтов на В. И. Анненкову, во время посещения в госпитале: «Должна признаться, он мне совсем не понравился. У него был злой и угрюмый вид, небольшие чёрные глаза сверкали мрачным огнем, взгляд был таким же недобрым, как и улыбка. Он был мал ростом, коренаст и некрасив, но не так изысканно и очаровательно некрасив, как Пушкин, а некрасив очень грубо и несколько неблагородно»[1]. Такое впечатление производил он и на других. Лермонтов не мог не замечать такого отношения к себе со стороны женщин и мужчин. Это вызывало раннее отчуждение от окружающих, неприязнь к окружающим и недоброжелательство.
В. И. Анненкова продолжает: «Он приехал с Кавказа… выражение его лица не изменилось — тот же мрачный взгляд, та же язвительная улыбка… У него было болезненное самолюбие, которое причиняло ему живейшие страдания. Я думаю, что он не мог успокоиться оттого, что не был красив, пленителен, элегантен. Это составляло его несчастие. Душа поэта плохо чувствовала себя в коренастой фигуре карлика»[2]. Ираклий Андроников, автор ценного исследования о Лермонтове, отмечает, что это — не единственный случай; с людьми, ему неизвестными, которые пытались проникнуть в его внутренний мир, Лермонтов не только не искал контакта — напротив: был резок, замкнут, насторожен, мнителен[3].
А в груди кипели гигантские силы, искавшие творческого выхода в юношеских стихах и позднее, в шедеврах лирического искусства. Лермонтов являл классический пример того, как портится характер человека под влиянием окружающей семейной и общественной среды.
Особенно был чувствителен Лермонтов к неудачам в любви. В стих. «Ночь», юношеского цикла:
«Как мог я не любить тот взор?
Презренья женского кинжал
Меня пронзил… но нет — с тех пор
Я всё любил — я всё страдал».
(1831 года).
Отсюда — эгоцентризм, рефлексия, самоанализ, аутизм, носился с собой. И бесконечный мрачный лиризм всего стихотворного цикла 1828-1836 гг. За эти любовные и прочие неудачи Лермонтов мстил окружающим озлоблением, неприязнью, презрением, издевательством и насмешками. Байроновский комплекс изгнанничества, конфликта с обществом, родиной.
Комплекс отчужденности, поддерживаемый вечной ссылкой на Кавказ, находит выражение в исключительном по силе лирическом излиянии:
«Тучки небесные, вечные странники,
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы будто как я же изгнанники
С милого севера в сторону южную».
С отчуждённостью и изгнанием связаны и боевые комплексы, связанные с профессией боевого офицера, участника Кавказской войны. Перед бойцами горцами дилемма — смерть или победа, свобода или рабство. Витает смерть, над полуживыми трупами витают орлы и коршуны. И тут же рядом мирная жизнь, любовь рядом со смертью. Потому и любовь здесь особенная, всепоглощающая, привязанность сильнее… Это — в восточных повестях. Какие очаровательные женские фигуры! Эти образы останутся навсегда в русской поэзии. Трогательные любовные истории в разгаре войны у патриархальных горских народов, нетронутых цивилизацией. Здесь частично у Лермонтова руссоизм. Боевые схватки для Лермонтова — «трагический балет» (ст. «Валерик»).
Поэтическая фантазия переплеталась с суровой действительностью, с жуткими, бесчеловечными батальными картинами, беспощадной резней, кровь течёт рекою и невозможно зачерпнуть воды, чтобы утолить жажду. А наедине с собой комплекс уступает место размышлению:
«Жалкий человек!» «Чего он хочет?..
Небо ясно; Под небом места много всем;
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он… Зачем?»
(Ст. «Валерик»).
А вот и Гарун, в нём зашевелилось что-то человеческое. Резня и кровь чужды ему и отталкивают. Он ищет и у отца это человеческое, но напрасно. «А ты отомстил?» — был первый вопрос отца.
В сословном обществе и государстве, где всё сводилось к великосветским традициям и высокой родословной, Лермонтов козырял своим шотландским происхождением или испанским, от Лерма, портрет коего написал в красках, для пущей важности.
Яд, убийца, кинжал, затаённый выстрел, роковые встречи, мгновенные развязки, кровь — таковы атрибуты чёрной, нездоровой романтики, которую юноша Лермонтов измерил глубиною своего юношеского сердца. Господствовавшему в душе мальчика комплексу воздаяния и мщения всему и всем за детские невзгоды отвечала жизнь и нравы горцев, вся жизнь коих вращается вокруг кровной мести. Всё, что Лермонтов, уже взрослый и офицер, видел вокруг себя и слышал, говорило о мести. Горцы-черкесы, чеченцы, кабардинцы, стали героями его первых поэм. Внешний облик их также возбуждал мрачное воображение Лермонтова.
Густые брови, взгляд орлиный,
Ресницы длинны и черны,
И блещет белый ряд зубов,
Как брызги пены у брегов.
(Измаил-Бей).
Лютая ненависть не сходит с выражения их лиц.
…И блистали
Как лезвие кровавой стали
Глаза его — и в этот миг
Душа и ад — всё было в них (т. ж.).
Сила этой злобы и ненависти неотразима. А улыбка…
Ничто, ничто, смертельный яд
Перед улыбкою подобной (т. ж.).
Лермонтов не уступает своему великому учителю Байрону в этических и фольклорных приметах. «Ужели отдыхает мщение» или «уста, привыкшие к проклятиям». Мщение узаконено.
…Есть на небе мститель,
А на земле ещё другой.
(Измаил-Бей).
Черкес, ради мщения готов забыть всё.
Нет, за единый мщенья час,
Клянусь, я не взял бы Вселенной!
(Хаджи Абрек).
Неразделённая любовь — очень частый мотив в лирике Лермонтова и в его драмах: «Люди и страсти» и «Странный человек». Можно удивляться богатому жизненному и сердечному опыту юноши-поэта.
Очень восприимчивый от природы, Лермонтов болезненно воспринимал все воздействия нездоровой среды. И формулировал в своей чудесной элегии «Тучки небесные». Здесь и «судьбы решение, зависть тайная и злоба открытая, друзей клевета ядовитая». Разве это не напоминает травлю Пушкина? Встаёт вековечный вопрос, не получающий разрешения. Почему русский гений попадает в уродливую среду, не дающую ему необходимого покоя для творчества. Лежит ли это в русском характере или среде. Или русский человек — самый завистливый и самый предательски-активный. Почему в русской критико-литературной сфере преобладают Булгарины и Сенковские, или академические бездарности, как Спасович, Веселовский и др? Кто ответит на этот вопрос?
Мистерия крови. Лермонтов говорит о своём кровном родстве с. Кавказом:
«От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный».
(«Аул Бастунджи»).
В лермонтовской «мистерии крови» играли значительную роль и рыцарские пережитки его отдалённых, нерусских предков.
В крови — тайна. Первый завет, Ветхий, был утверждён на крови. Моисей сказал: «это-кровь Завета, который заповедал нам Бог». Так же окропил кровью и скинию, и все сосуды; нарушение закона очищается кровью; и без пролития крови не бывает прощения» (Ап. Павел, Послание к Евр. 18— 22). Кровь в Новом Завете: Кровь Христа очищает и искупляет (т. ж. 9, 12-14).
Кровь у евреев есть носитель души, деятель жизни. В крови находится жизненная сила. Кровь переходит в сознание, определяет (детерминирует) его. Флюиды: вода, жёлтая и чёрная желчь, поступая в кровь, обуславливают темперамент. Есть ценное, потрясающее признание юноши Лермонтова:
«Я счастлив! — тайный яд течёт в моей крови, Жестокая болезнь мне смертью угрожает».(Ст. 1831 г.).
У него есть желание улететь к предкам, в пустой замок, где заржавленный меч и арфа шотландская, струну коей хотел бы он задеть. И дальше:
«Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чужих снегов;
Я здесь был рождён, но не здешний душой.
О! Зачем я не ворон степной.
(Ст. «Желание»).
Пристрастие поэта к кровавым сценам, с каким хладнокровием пишет:
«Блеснула шашка. Раз и два,
И покатилась голова».
Улыбка злобная у убийцы,
«Ничто, ничто смертельный яд
Перед улыбкою подобной».
(Измаил-Бей).
Продолжительная, неравная борьба с северным гигантом, Россией, развязала все хищнические инстинкты горцев. Кавказская война продолжалась 60 лет. У горцев отнимали дедовские и отцовские земельные наделы, коренное население было загнано в горы, через непроходимые горные ущелья… И кровная месть! В кавказских повестях дана мистерия злой человеческой крови, пережитая поэтом в личных схватках. Отдельные штрихи из разных стихотворений дополняют картину. «Уста, привыкшие к проклятьям»… «Моё дыханье радость губит. Щадить мне власти не дано»… «Живёт добычей вся семья. Украсть, отнять — им всё равно»… «И ненависть безмерна, как любовь».
Прекрасной иллюстрацией к умонастроению юного и зрелого поэта является письмо к Бахметевой:
Я жить хочу! Хочу печали
Любви и счастию на зло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман.
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Лермонтов носил в себе океан самых противоречивых чувств, желаний и стремлений. Его мятежная душа, как «белый парус» носилась по океану, ища попеременно то бури, то покоя.
Юношеское творчество
Вдохновение. Юношеские стихотворения Лермонтова не вошли в первые издания его сочинений. Они дают обширный автобиографический материал, картину роста гения, его достижений, верований и надежды, и его заблуждений и ошибок. Они частично раскрывают загадку Лермонтова, дают ключ к его жизни и творчеству. Первые же шаги ещё никому не известного юноши должны поразить исследователя. С первых же росчерков пера встаёт лермонтовский титанизм, богатырская фигура, что-то нечеловеческое или сверхчеловеческое. Эти ранние стихи охватывают период от 1829-го до 1833-го годов.
Первая же и основная тема всякой лирики — вдохновение, когда поэт сам для себя становится загадкой. Лермонтов не «поёт» и не «бряцает на лире вдохновенной», но он не свободен от некоторых классических условностей. Он не зовёт на помощь Аполлона, не приносит ему «священных жертв» как Пушкин. Он получает вдохновение от Пана, который является ему «в лёгком хмелю, со стаканом и свирелью» и «учит петь» («Пан», 1829 г.). Два раза упоминает он свою «музу кроткую»; у Пушкина муза шаловливая. Муза сходит со святой горы (Геликон) по его мольбе. Поэт знает силу своего взгляда и страшится спугнуть кроткую свою вдохновительницу:
«И муза кротких вдохновений
Страшится неземных очей» («Мой демон», 1829 г.)
Говорит о вдохновении в ст. «Молитва» (1829 г.).
Вдохновение спасает его от «мелочных сует», от жизненной прозы, от полудетских тревог и волнений. Но, жар вдохновения временами ему невмоготу и тогда он просит,
«От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец освобожусь» (т. ж.).
Он ищет вдохновения в любви, но любовь изменяет и обманывает и настраивает его лиру на минорный лад.
Любовь. В примечании к стих. «Кавказ» Лермонтов говорит, что знал любовь, когда ему было 10 лет. Вторая любовь была в 12 лет, в бытность его на Кавказе. Лермонтов был не менее влюбчив, чем Пушкин, но он был менее удачлив. Пушкин в неудачах не грустил и не томился. Он следовал своему герою Онегину: «изменят, рад был отдохнуть». У Лермонтова любовь оставляет долгий след. Любовь к Н. Ф. Ивановой была для него «счастьем рая для демона, изгнанника небес» (ст. «Измученный тоскою», 1832 г.).
Стихи, посвящённые женщинам у него серьёзны, нет фривольности, нет и афродизии (сексуальности) в его любовной лирике. У него только намёк на «науку страсти нежной». В стих «М. А. Щербатовой» дана замечательная характеристика женщины. Он полон тревоги, когда замечает легкомыслие в той, которую любит. Он предвидит всё и предрекает ей слёзы, тоску и клевету вокруг неё «коварное гонение толпы». Но он и сам в любви непостоянен и может отвергнуть любовь ради вдохновения (ст. «Я не унижусь», 1832 г.).
Он встречает на пути своём соблазны красоты, но «взгляд другой в моём уме запечатлелся». Это — его первая любовь, его обманувшая. «Не привлекай меня красой». Не в пример другим, он может сказать, что был счастлив (ст. «Романс»). Ему известны «восторги и ласки любви» («Тамара», 1841 г.), но и «любви безумное томление» («Любовь мертвеца», 1841).
Извечный мотив, любовь и измена, занимал поэта. Этот мотив встречается в ранних юношеских поэмах «Джулио», «Литвинке» и других. Ему хорошо знакомы измены женщин. В 1827 году, в деревне Ефремовке (имение отца в Тульской губ.) он узнал любовь, ему было тогда 12 лет. Любовь изменила, но вновь напрашивалась (ст. «К гению», 1829 г.). Стихотворение «К***» обращено к Сушковой, поэт говорит о «нежной и пламенной любви» своей, всё приносил ей в жертву, «польстив своею любовью», а она изменила ему. Но она не должна томиться раскаянием. И он не проклинает её: «Бог с тобою!»
В стих. «Стансы» говорит о сердечной пустоте. После насмешек Е. Сушковой, потерял покой. Она обратила в прах его мечты. Но в сердце шепчет ему чудный глас, что он не может любить другую… И рисует портрет Сушковой. И в сердце своём хранит её образ.
Что принесла поэту другая любовь? Стих. «1831-го июня 11 дня» обращено уже к Н. Ф. Ивановой «И ты, мой ангел, ты со мною не умрешь:
Моя любовь тебя отдаёт бессмертной жизни вновь».
Тяжёлое, полное страданий и любовных мук стих. «Видение» тоже посвящено Н. Ф. Ивановой. В стих. «К Н. И.», тоже посвящённом Ивановой,
«Зови надежду сновиденьем,
Неправду истиной зови,
Но верь хвалам и увереньям,
Но верь, о верь моей любви».
Здесь — разгадка любовной тоски и муки Лермонтова, преследовавших его всю его жизнь. В стих. «К другу» он не хочет открыть ему, кто она. Это долго оставалось тайной, пока Ир. Андроников не расшифровал инициалы письма. И эта тоска осталась на всю жизнь, определила всю жизнь, быть может, послужила причиной его отчаяния и ранней смерти. Женский лик, холодный, как лёд, в стих. «Первая любовь». В ст. «К***», обращённом к Н. Ф. Ивановой, он говорит о мщении. Он хотел себя уверить, что не любит её (ст. «К себе»). Вышло так, что он хотел «измерить неизмеримое, дать предел безбрежной любви». Пренебрежение любовью ему вновь доказало её могущество. Он убедился, что нельзя побеждать влечение души, что цепь, опутавшая его, несокрушима (т. ж., 1830 г.). Но её черты являются ему в сновиденье. Он в состоянии перенести все мучения «глубоких дум и сердечных ран», но не её обман.
В стих. «Ночь» дана, как будто, тайна размолвки с Ивановой.
«И речь моя ум твой встревожит» (1830 г.). Поэт пытался выразить перед ней в стихах свои «мечты неясные» и увидел, как «в него вперился спокойный чистый взор её изумлённый». Она приняла это, «сказав, что болен разум мой, желаньем вздорным ослеплённый». Она приревновала поэта к его «мечтам», приняв их за болезнь ума. И это отшатнуло её. Поэт влюбился в куклу, как в опере Оффенбаха «Сказки Гофмана». В этом — все бедствия его жизни, разочарование и тоска. Но и разгадав её, он не отвернулся от неё. Может быть, отталкивала его мрачная внешность, наморщенное чело, со следами любовных страданий. Может быть, отпугивал он и своим голосом, в котором звучала тоска и скорбь. Пушкин брал своим весёлым нравом, находчивостью и своим африканским темпераментом. Он в совершенстве изучил «науку страсти нежной» по методам Овидия Назона, им воспетого. Пушкин отплатил своею жизнью, попав в орбиту своей «мадонны», земного идеала. Человеческий эрос Лермонтова трагичен от начала до конца. Он разоблачил низменность человеческого эроса, смешанного со страстью, и даёт, как пророк, предпосылки эроса небесного. «Стремление к тайному» у пророка Лермонтова не вяжется с земною любовью. Лермонтов познал суетность земной любви, в противовес Пушкину. И… ценное признание:
«Никто, никто не усладил
В изгнанье сем тоски мятежной!
Любить? — три раза я любил,
Любил три раза безнадежно».
(Сб. Том I, стр. 152).
Любовь с тоской, таков жребий Лермонтова. Аура пророка и привлекает и отталкивает. Привлекает силой и напряжением, отталкивает несокрушимостью и суровостью.
Разочарование не покидает поэта («И скучно и грустно»). Вечно-Женственное изменило поэту-пророку. Данте возвёл объект своей земной любви в небесный идеал. У Лермонтова и Байрона, у Гёте этого нет. Они все — слишком земные. Пушкин — фальшивый идеал его слишком земной «мадонны». У Лермонтова было только «видение», оставшееся мимолётным.
Были и «обманы любви»,
«Нет, не тебя так пылко я люблю,
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою».
(Т. I, стр. 78).
Ощущение гибели, а жизнь продолжается. Гибель души, сердца и ума… Единственное, быть может, признание в мировой лирике. Земные радости его не веселят.
«Везде утехи есть толпе простонародной,
Но тот, на ком лежит уныния печать,
Кто юный потерял лета златые,
Того не могут услаждать
Ни дружба, ни любовь, ни песни боевые».
(К П-ну, соученику).
Вопрос: «возможно ли любить?» Коварство дев:
«Страшусь, в объятья деву заключить,
Живую душу ядом отравить
И показать, что сердце у меня
Есть жертвенник, сгоревший от огня». (Ст. «1830 г. июля 15»).
Он уже «не терпит коварных дев» и «не доверяет им» (К Д-ву, стр. 89).
Многоопытный в любви поэт приходит к неутешительному выводу: «Любить? На время не стоит труда, А вечно любить невозможно». (И скучно и грустно…)
Тоска. Любовная тоска Лермонтова имеет множество оттенков. Холодная и «немая» тоска, когда играют и любовью и тоской,
«Не играй моей тоской,
И холодной и немой».
Дальше — о «поверженной деве», он ищет в глазах её, в изменившихся чертах, искру муки, угрызения и не находит, чтобы «спокоить мщение» (ст. «К***»). Исчезают слёзы, упоение и пустая, нескладная мечта. Он любит мрак уединения. «На нём печать оставил рок» (т. ж.).
Пояснения в стих. «Два сокола». Здесь и ненависть к миру и людям безжалостным. Но больше всех достаётся девам, с их смехом над тоскою милого. И тирания отцов над детьми. Девы веселятся «мукой слёз правдивых»,
«И у ног самолюбивых
Гибнут юноши толпой» (т. ж.).
Отвечает другой сокол, возненавидевший изменчивость людей. У юношей — ноша обманов, у стариков — воспоминания ядовитые. Можно забыть гордость прекрасной девы, но измену девы страстной — нет. Это — «нож для сердца вековой».
Поэт «носит в себе отказ и месть». Он «закоренел» в своей любви. Признаётся, что у него «порывы дум живых», но ему «милее страдания земные». Заключительный аккорд любовной тоски — во вступлении к поэме «Ангел смерти», посвящённой А. М. Верещагиной:
«Я дни мои влачу, тоскуя,
И в сердце образ твой храню,
Но об одном тебя прошу я
Будь ангел смерти для меня.
Явись мне в грозный час страданья.
И поцелуй пусть будет твой
Залогом близкого свиданья
В стране любви, стране другой».
(1828 г.).
Воспоминания детства вызывают тоску,
«Но… для чего старалися они
Так отравить ребяческие дни?»
(Ст. «1830 г. июля 15-го»).
Он боится Москвы, потому что «боится объятий». Он знает, что производит невыгодное впечатление на окружающих
«Тоска блуждает на моём челе.
Я холоден и горд.
И даже злым толпе кажуся».
(Ст. «1831 г. июня 11 дня»).
Клянётся, что он таков, как о нём думают. Готов всем простить, не злиться, не мстить, не презирать. И Пушкин знал «печаль минувших дней», но не культивировал в себе печаль.
«И опять безумно упиваюся
Ядом прежних дней».
(Ст. «Звуки», т. I, стр. 231).
За тоской следует «порыв отчаяния» в жизни скоротечной (ст. «Романс», 1829 г., стр. 215). И потом признание, как будто бросающее некоторый свет. Причина холодной и немой тоски, которая жмёт сердце — дева, у которой нет искры муки и угрызения (ст. «К***», 1822 г.). Чувствует себя, как лук согбенный с порванной тетивою, без дружбы, без надежд, без дум, без сил… и бледнее луны (ст. 1830 г., стр. 152-153).
Тоска влечёт его к смерти:
«Пора уснуть последним сном,
Довольно в мире пожил я;
Обманут жизнью был во всём,
И ненавидя и любя».
(Ст. стр. 210).
Переводит ст. Томаса Мура «Вечерний выстрел» и желает умереть. Он это и сделал, когда вызвал дуэль с Мартыновым. Через год, 1830 году, советует не грустить, не тосковать, потому что всё пройдёт. И неожиданно, он теперь от счастья устал и теперь никого не любит (1832 г., т. I, стр. 273).
Разочарование и пессимизм. Желания, любовь, а внутри пустота, радость муки… всё ничтожно. Страсти исчезают при слове рассудка. А жизнь — такая пустая и глупая шутка. Чаша жизни: «мы пьём из чаши бытия с закрытыми глазами», омочив её слезами. Но перед смертью чаша кажется пустой, потому что напиток в ней был — мечта, и она не наша (ст. «Чаша жизни», стр. 194). Молил о счастии… и дождался, но «стало тягостно от счастья» (ст. «Как в ночь», т. I, стр. 263).
Но рядом с разочарованием — у него — христианская надежда, в виде птички, которую он звал своей надеждой. Она поёт только ночью, когда уснёт земля (ст. «Надежда», 1831, стр. 190). В стих. «Исповедь»
«Что время лечит от страданья,
Что мир для счастья сотворён,
Что добродетель не названье
И жизнь поболее, чем сон».
(Стр. 190).
Поэт — не абсолютный пессимист, несмотря на то, что современный ему мир носит печать проклятья, «где полны ядом все объятья, где счастья без обмана нет» (ст. 1831, стр. 172). Нет «бедный свет не достоин презренья», хотя есть минута сновиденья, а смерть — звон порванной струны. Несмотря на обманы дружбы и измены в любви. Не следует бросать всё в мире, можно и счастье найти. Есть розы и на земном пути, есть утехи в толпе простонародной. Но, если на ком «уныния печать», того не усладят «ни дружба, ни любовь… ни песни боевые) (ст. «К П-ну», 1829 г.).
Одиночество и отчуждённость. Поэт был одинок в семье, об этом свидетельствует его родственник Шан-Гирей в, своих воспоминаниях[4]. Но и в период его успеха и признания звучат ноты одиночества. «И скучно и грустно. И некому руку подать». Нельзя лучше передать тему одиночества и оторванности, как в стихотворении «Дубовый листок» (стр. 77). Оторвался и не может найти пристанища, всеми отвергнут. Никто не будет горевать о смерти поэта, а будут веселиться (звучит пророчески). Страшны оковы жизни, которые он влачит в одиночестве. Годы уходят «будто сны» (ст. «Одиночество», стр. 130).
«Делить веселье все готовы;
Никто не хочет грусть делить» (т. ж.).
И сам избегает людей. Из за дуэли с Барантом был под арестом. Своему заключению он посвящает 3 стихотворения: «Соседка», «Узник» и «Пленный рыцарь». Воспринимает тюремное заключение, как изгнание. Ему мерещится освобождение, бегство из тюрьмы, но непременно в союзе или заговоре с черноокой».
Даже любовь не красит его жизнь,
«Я тем живу, что смерть другим.
Живу, как неба властелин
В прекрасном мире, но один».
Потрясающее по силе, глубине и простоте стихотворение «Завещание» посвящено покинутости и бездомности,
«… Да что! моей судьбой
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен».
Нередко люди бранили его за то, что он прощал им то, чего они сами ему не простили бы (ст. т. I, стр. 164). И начал карать его рок, и не было ему надежд. И явился он тогда людям с холодным, сумрачным челом. И тогда его встречали с радостным лицом. Разлад с окружающим миром выражен в посвящении к поэме «Аул Бастунджи»:
«Моей души не понял мир.
Ему души не надо.
Мрак её глубокий,
Как вечности таинственную тьму,
Ничьё живое не проникает око».
В душе поэта живут воспоминанья о далёкой, но святой земле. И ничто не убьёт этих воспоминаний, ни свет, ни шум земной.
Жажда славы. Юноша-поэт не жаждет славы, она не пленяет его, он «не любит славы дым» (ст. «Портреты», стр. 92), не склонен «к славе громкой, сердце греет лишь любовь» (ст. «К. друзьям», стр. 91-92). Он поёт в тиши дубравы, не зная жажды славы» (ст. «Пан», стр. 106, 1829 г.). Его пожелание ребёнку,
«Пускай не знает он до срока
Ни мук любви, ни славы жадных дум».
А в стих. «Элегия» говорит, что искал наслаждения, славу и похвал (стр. 112). Ищет славы (ст. «Слава», стр. 243),«… желал громкой славы» (стр. 281).
Душа усталая. Разочарованность, пессимизм, отчуждённость от мира и семейного круга ведут к своеобразной усталости души. Не последнюю роль играет и «жар страстей», который «иссушает душу». Здесь говорит собственный жизненный опыт. Поэт прошёл как будто жизненный путь Пушкина и убедился в ничтожестве страстей, не оставляющих следа (признание Пушкина), он спрашивает «Что такое страсти?», давая понять их гибельность и ничтожество. Он сознает внутреннюю бессодержательность своих переживаний
«В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, всё там ничтожно?…»
(«И скучно, и грустно»).
Вот перед ним жизнь умершего друга Одоевского, его обманутые надежды, горькие сожаления и думы. И от них не остаётся следа, и горький вывод: «И свет не пощадил, и Бог не спас!» (Памяти Одоевского).
В стих. «Не верь себе», навеянном Барбье, те же мотивы: недоверие к себе, отказ от вдохновения, отказ от звуков простых и сладких. Толпе нет дела до страданий и волнений поэта. А вдохновение — это «бред больной души» или «раздражение пленной мысли», то есть цепь бесплодных спекуляций. «Больная душа» — это сам поэт. Отчаяние диктует ему дерзкое стихотворение «Благодарность». Это шедевр мировой поэзии, несмотря на его негативный характер. Это — образец сведения счетов с Богом, на Которого переносятся все жизненные невзгоды, удары, гонения судьбы и превратности. Это — следы духовной аберрации, свойственной многим. Это спекулятивный зуд, толкающий многих на незрелые мысли. В неоконченной поэме «Литвинка» есть детальный анализ:
«Есть сумерки души, несчастья след,
Когда ни мрака в ней, ни света нет.
Она сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна ей и смерть не страшна».
Душа усталая — это не рисовка, не пережиток байроновщины, а подлинное жизнеощущение. «Больная душа» — повторяется в «Валерике». Там же и спекулятивизм,
«И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет».
Автопортрет. Может быть, ни один другой поэт не занимался так в стихах своей особой, как Лермонтов. Что это — самовлюблённость или модный в его время самоанализ, рефлексия, или напускной байронизм. Вот его автопортрет:
«Тоска блуждает на моём челе.
Я холоден и горд;
И даже злым толпе кажуся».
(Ст. «1831 г. 11 дня», стр. 175).
Вот и другой портрет:
«Взгляни на бледный цвет лица.
На нём ты видишь след страстей
Так рано обуявших жизнь мою».
(«К***», к Н. Ф. Ивановой).
То же в стих. «Портрет»: холодный взор, не вовсе мёртвый, не совсем живой, хоть удивляет других и не нравится им (стр. 211).
В повести «Джулио»: бледное чело, которое изрыли не труды; на нём — следы раскаяния и мук (т. 2, стр. 164, 1830 г.). Он сравнивает себя с другими, он видел много людей ничтожных, душа коих менее жила, чем обещает вид его чела (ст. «Портрет»). Прямого ответа нет, юношеская скрытность. Отсюда его «любовь к уединению», где он «укрывался весь в себя», чтобы не вызывать людское сожаление. Дальше — ценное признание автобиографическое, «Но пылкий, но суровый нрав Меня грызут от колыбели».(«К Н. Ф… вой», т. 1, стр. 121).Здесь — наследственная отягощённость, мистерия крови. Поэт любит «быть с друзьями», проводить с ними время, не склонен к славе, сердце греет лишь любовь и звук лиры волнует ему кровь. Но «средь веселья… душа на сердце лежит». Внутренняя настороженность, рефлексия и самоанализ не дают ему покоя в обществе друзей (ст. «К друзьям», стр. 91, 1829 г.). И — обычный припев, он не нашёл друзей (стр. 181). Печальный юношеский жизненный баланс:
«В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит».
(Ст. «К***», стр. 270).
Поэт силится сам разобраться
«Есть сумерки души во цвете лет,
Меж радостью и горем полусвет;
Жмёт сердце безотчётная тоска.
Жизнь ненавистна, но и смерть тяжка».
(Джулио, стр. 176).
Может быть, в любви найдёт он отраду и утешение? Этот соблазн очень велик, но и здесь колебания и сомнения. Он «страшится» заключить в объятия деву, чтобы не отравить ядом своим её «живую душу» (ст. «1830 г. июля 15-го»). Он пытался выразить мечты свои и та задумалась… И изменила ему, вышла замуж за другого.
Может быть, его спасёт влечение к неземному, к небесному, к идеалу Вечно-Женственного? Нет, он «взлелеян на вдохновении, с деятельной и пылкою душой». Он «не пленён небесной красотою» и ищет «земного упокоения». Он знает, что не удостоен счастья, скрывает имя той, которая причинила ему невыносимые страдания. Но он носит в себе месть, «как вор в дуброве», который не кается в своих грехах и действует своим «ножом кровавым». Есть у него и стремление к высокому «в порыве дум живых», но ему «милее страдания земные». Он к ним привык и не оставит, их. Какой-то авто-мазохизм, самобичевание. И он один «влачит дни свои тоскуя» (ст. «К другу» [Дурнову], стр. 111). Что это? Западный нарост, сродство с Байроном?
А что это за «великое земное?» Ответ характерен, не столько для Лермонтова, сколько для эпохи:
«Сверши с успехом злое дело —
Велик; не удалось — злодей.
Таков Наполеон».
Это роднит его с Байроном, европейским эго-гуманизмом, индивидуализмом, сверх человечеством Гёте, Ницше и Штирнера.
Не то у Пушкина, у него был идеал мадонны, влечение к небесному. Пушкин земной и небесный. Лермонтов хочет показать, что он только земной. Но он отмечает свою русскость,
«Мы дети севера, как здешние растенья,
Цветём недолго, быстро увядаем…
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша.
Так недолго Её однообразное теченье…
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует…»
(Ст. «Монолог», стр. ИЗ).
И в «Молитве» говорит он о земности своей,
«Мрак земли могильной
С её страстями я люблю». (Стр. 117).
Но ему всё — таки «тесно в мире земном» и молится он в «звуках громких песен».
Тогда понятен кавказский руссоизм поэта, его идеализация Кавказа. Он признаётся, что любит Кавказ (ст. «Кавказ», стр. 119). Поэтому он и избрал, как свой идеал, не русскую женщину, как Пушкин, а кавказскую, Тамару. Он «тоскует по горам Кавказа». И… там видел он «пару божественных глаз», и «сердце лепечет, воспомня тот взор». Здесь разгадка Тамары.
После окончания «Демона», Лермонтов написал, как послесловие:
«Не для ангелов и рая Всесильным Богом сотворён;
Но для чего живу, страдая,
Про это знает больше Он.
Как демон злой я зла избранник,
Как демон с гордою душой,
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой».
(Ст. т. 1, стр. 210).
И в жизни он «испытал лишь зло» (К Н. Ф… вой», стр. 121). Таков внутренний автопортрет поэта.
Характер. На характер налагает отпечаток темперамент, у Лермонтова — холеризм и меланхолизм. Впечатляемость, возбудимость и раздражительность с неукротимой энергией. Это был характер, в котором все личные жизненные невзгоды оставляют неизгладимый след. Характер, наследственно отягощённый. Он вёл свой род, то от шотландцев, то от испанцев. Хотел ли он этим гордиться перед друзьями и сослуживцами? Это происхождение оставило неизгладимые следы. Хотя он и говорит о своей русскости, «Нет, я не Байрон, я другой… с русскою душой». Это был западный, рыцарский характер и многие черты русского быта и характера были ему чужды. Он как будто обвёл вокруг себя круг и болезненно реагировал на все попытки подойти к кругу и перешагнуть его. Женщины чувствовали этот холод и отшатывались от него. Он пугал своим мрачным видом… И гордость.
«Ни перед кем я не преклонил колена.
То гордости была б измена».
(«Стансы», стр. 206).
А рядом Печоринщина:
«Любовь невинная не льстит душе моей,
Ищу измен и новых чувствований,
Которые живят хоть колкостью своей
Мне кровь, угасшую от грусти,
От страданий, от преждевременных страстей».
(«Элегия», 112).
Характер, полный противоречий и юношески-невыдержанный.
Аутизм (самость). От греческого аутос или автос, означает «сам» или «сам один». Отсюда автономность, автокефалия, автаркия (самостоятельность, самодовольствие, самоудовлетворённость). Аутист считает себя центром всего существующего. Начинается это с отчуждённости, оторванности от всего окружающего. Вначале — это горестное состояние, чувство одиночества. С предельной силою и художественностью это изображено в стих. «Дубовый листок» и «И скучно и грустно». Отчуждённость становится привычной и принимает другие формы. Начинается с признания
«Любил в начале жизни я
Угрюмое уединение,
Где укрывался весь в себя,
Бояся грусть не утая,
Будить людское сожаление».
(«Н. Ф. Ив…», стр. 121).
Один из спутников аутизма — гордость, скрытность. Поэт не требует внимания к «грустному образу своей души», он привык не открывать свои желания («В альбом», перевод с Байрона, т. 1, стр. 368). «Узнал людей и дружеский обман», в 16 лет. Стал подозрителен («1830 г. июля 15-го», стр. 132).
Меняется отношение к людям. На балу, при шумном веселии окружающих поэт переносится в своё детство. Но и здесь кончается тоскою. Он «любит свою мечту». Он просиживает долгие часы в таком состоянии, и вдруг, опомнившись, глядя на окружающее веселье, начинает злиться за то, что «спугнули» его мечту, и ему хочется смутить весёлость их.
Поэт сам создаёт себе мир, мир иной,
«В уме моём я создал мир иной
И образов иных существование».
(«Русская мелодия», 1829 г.).
Но стоит явиться буре, как «рушится неверное создание».
Аутистическая отчуждённость поддерживается отношением окружающих.
«Нередко люди и бранили
И мучили меня за то,
Что часто им прощал и то,
Чего б они мне не простили.
И начал рок меня томить,
Карал безвинно и за дело.
Я снова меж людей явился
С холодным, сумрачным челом».
(1830 г, стр. 164).
Автобиография в стихах. Тяжёлое детство, без матери, разлука с отцом, ложится тяжёлым бременем на юное сознание, вызывает недоумение,
«…но для чего старалися они
Так отравить ребяческие дни?»
(1830 год. Июля 15).
Его окружает клевета, вне семьи, непонятная, не имеющая оснований. «И что молва кричит о мне… Боюсь!» Читают в его лице, или вернее, пытаются прочесть, но читают в его чувствах. Он клянётся, что не имеет злобы против них, ни презрения, ни мести.
У него неисполнимые желания, его тянет на Запад, «где цветут поля предков» и «в замке покоится их прах». Он —• потомок отважных бойцов («Желание», стр. 184). Он примиряется с ядовитой злобой врагов (Врагов у юноши, не родственники ли это, из фамилии Столыпиных; злоба на наследника). И здесь он примиряется с положением,
«Нас рассудит Бог и преданья людей». («Из Паткуля», 210).
Потомки разберутся в этом.
Он хочет слёз, ему тягостны веселья звуки, страданиями окутана грудь (перевод «Еврейской мелодии» Байрона, стр. 298). И грустный вывод:
«Моё грядущее в тумане,
Былое полно мук и зла».
Упрёк Творцу, который прекословил надеждам юности его, дал ему чашу добра и зла. Что ему оставалось? «Измерить будущность свою обширностью души своей», «удушить святыни голос» и «выжать из сердца слёзы» («Н. Ф. И…», стр. 301-302). Боялся, не утаив грусть, вызвать «людское сожаление к себе». И рано полюбил «угрюмое уединение», где «укрывался весь в себя» («1830 г.», стр. 121). Что ему остаётся?
«Мечтание злое грусть лелеет
В душе неопытной моей».
(«Весна», стр. 123, 1830 г.).
Среди мечтаний мелькают воспоминания о «гнусных деяниях жизни».
Жизнь была «обманом во всём», одинаково «ненавидя и любя», таков итог жизни в 1831 г. И в том же году, на 17-м году жизни, открывает себя,
«Источник страсти есть во мне
Великий и чудесный
Песок серебряный на дне,
Поверхность лик небесный».
(Ст. на стр. 239, 1831 г.).
Но он уже не одинок, он любит, отчуждённость от среды увеличивается, не умеет жить среди людей, не имеет ни времени, ни охоты, делить с ними шум и мелкие их заботы, потому что «любовь его сердце заняла». А в 1832 году уже резигнация, любовь обманула:
«В сердце разбитом есть тайная келья,
Где чёрные мысли живут…
Слеза по щеке огневая катится…»
(«Романс», 252, 1832 г.).
Он увидел всё своё ничтожество, перестал проклинать отца и мать, всех людей и искал только прощения от людей («Ночь 1). Опять печальные воспоминания, мрачные видения, макабризм (пляска мертвецов), «таинства гробов», гибель земли и звёзд, апокалиптические образы (ст. 123, 143), грусть и тоска (ст. «Элегия», стр. 144). И там же… «Рано свет узнал».
И только родство с Кавказом примиряет его с действительностью. Он просит у Кавказа отцовского благословения, посвящая ему свой «стих небрежный». Ощущает в своей крови жар и «порыв мятежный» бурь кавказских.
«Я сердцем твой, — всегда и всюду твой!»
Фатум и фортуна. Юношеские стихи Лермонтова — дневник фата— листа, хорошо разбирающегося в своей судьбе, Лермонтов — личность фатальная, отмеченная судьбой, он знает об этом.
«Моя мать — злая кручина,
Отцом же была мне судьбина».
(«Воля», 196).
Он знает, что его ожидает и всю свою короткую жизнь находится в ожидании. Тревоги, неурядицы, неудачи в любви, всё это ему знакомо, и он читает в своём настоящем и будущем, как в открытой книге. И в его юношеских стихах — мартиролог всей его жизни.
«Сей жизни мрачное начало,
Какой же должен быть конец?»
(Ст. «К***», 159).
Человек с уязвлённым сердцем, он знает свой конец, будет «безжизненно холодным мертвецом» и будет зарыт в землю чужими руками. Разве это — не предсказание?
Он бросается в бой, не щадит себя, как будто испытывает судьбу. Но нет, судьба щадит, предназначая ему другой конец.
«И начал рок меня томить
Карал безвинно и за дело».
(«1830 г.», 164).
Если за дело, то частично понятно, но «дело» остаётся в тайне. А сколько в жизни таких, которые замешаны в «деле» и остаются безнаказанными. Он дерзок, не сдержан, насмешлив, как будто ищет ссор. Но до развязки не доходит. Пред ним расступаются, уступают дорогу, но злятся, завидуют, ненавидят и клевещут. Женщины боятся его, как будто чутьём предугадывают, читают на его всегда мрачном челе. Им интересуются, испытывают, но не любят. Нет, такой, как Лермонтов не может дать счастья, он увлечён «мечтою», будет искать всю жизнь, слишком загадочен. То слишком горяч, то холоден. То любит, то ненавидит, не разберёшь его… Его глубокие и возвышенные идеи пугают и отталкивают женщин.
«Судьба» запрещает ему «искать отрады» в устах и взглядах дев («И июля», 231). Он видит сон, читает, как в книге и находит свой «жребий, написанный кровавыми словами»… Его вернули на землю, он заглядывает в свою могилу: гнилой труп, куски синего мяса, роились насекомые и поедали труп («Стансы», 238)… И опять признание,
«Я много сделал зла, но больше перенёс,
Пускай, виновен я пред гордыми врагами,
Пускай отмстят; в душе, клянуся небесами,
Я не злодей, судьба губитель мой».
(«Из Андрэ Шенье», 1831 г.).
Принимает судьбу, но иногда хочется ему роптать, проклинать отца и мать, но у него есть силы переносить мучение («Песня», 242).
Поэт слышит голоса, что не будет счастлив, что не суждено ему блаженство («Вечер», 245-246). И презирает судьбу и мир (т. ж.). «Ужасный жребий» его достоин девичьих слёз. Но встречает только недоверие и издевательство. И он рвётся в бой, чтобы остановить томление. («Стансы»).
У поэта — обострённое чувство судьбы и фатума, он фаталист. Он хорошо взвесил свою судьбу вплоть до мельчайших подробностей, оттенков и уклонов. Он — пророк-ясновидец, верен пророческому призванию, которое имеет один исход — «казнь» в пушкинском смысле. Он готовит свою смерть, без колебаний и страха, в твёрдой уверенности, что там, в загробной жизни найдёт, «покой и свободу».
«Я не снесу стыдом сплетаемый венец
И сам себе сыщу безвременный конец».
(Ст. «К***», 248).
Здесь нет ничего общего с ницшевским: «Если тебе не удалась жизнь, то знай, что удастся смерть». Пророк выполнил свою миссию и смиряется перед роком, знает, что ему готов венец от Бога.
Капризная, ветреная и двуличная фортуна, щедро рассыпающая свои дары одним и лишая других, преподнесла Лермонтову двух немецких жандармов в генеральских эполетах, двух дуэлянтов, француза, Баранта и русского Мартынова, и двух женщин-фурий с иностранными именами, гр. Нессельроде и генеральшу Мерлини.
Фортуна-счастье или богиня счастья, изображалась на шаре или на колесе. Уподоблялась Немезиде, богине мщения. Символ изменчивости, непостоянства, настроения и каприза. Текучесть жизни, взлёты и стремительное падение вниз приписывались ей. Жизненные успехи и неуспехи — также. О ней писали Плиний и Гораций, писал и христианский писатель Боэций, для которого, как и его предшественников — это символ легкомыслия, коварства, измены, неопределенности и пристрастия. Спасение от её козней — надежда, помощью которой можно противостоять ей и нейтрализовать её удары.
В эпоху Ренессанса неизвестный автор написал латинские стихи Carmina bигапа, посвящённые фортуне, а современный композитор Карл Орфф переложил их на музыку. Петрарка посвятил ей стихи, предостерегает от увлечения и преданности ей, разоблачает её противоречивую, двойственность и предательскую ласковость. Гёте говорил, что фортуна всегда присутствует. Художники изображали её. Голландец Гольциус на колесе, держащей в правой руке чашу, а в левой — лоскуты. Альбрехт Дюрер — в позе танцовщицы на колесе. Историческая иллюстрация — судьба несчастной Гекубы, жены троянского царя Приама. То счастливая мать героя Гектора, красавца Париса, простоватого Троила, ветреной Крессиды и пророчествующей Кассандры, то злосчастная, видевшая смерть своих детей, престарелого мужа, гибель Трои и крушение царства.
Фортуна оставила неизгладимые черты на мрачном челе Лермонтова и всякий, кто умел их прочесть, отталкивался от него.
Жизненные невзгоды наложили сильный отпечаток на духовно-душевный облик Лермонтова, о чём свидетельствует юношеское стихотворение «Стансы».
Мгновенно пробежав умом
Всю цепь того, что было прежде,
Я не жалею о былом:
Оно меня не усладило.
Как настоящее, оно
Страстями бурными облито.
И вьюгой зла обнесено,
Как снегом крест в степи забытой.
Ответа на любовь мою
Напрасно жажду я душою,
И если о любви пою —
Она была моей мечтою.
Как метеор в вечерней мгле,
Она очам моим блеснула.
И бывши всё мне на земле,
Как всё земное, обмануло.
(Дата 1831 г.).
Жизнь, как обман. А потом, жизнь, как пустая и глупая шутка. И вся жизнь стала протестом, стоившим жизни.
Чудесное и поэзия ужасов. С детских лет искал чудесного, любил «обольщения света». Мгновения эти были, полны мук, «населял таинственные сны этими мгновениями». (Из письма к Н. Ф. Ивановой). Отсюда — влияние немецкой и французской поэзии ужасов. В стих. «Баллада» — еврейка и её любовник, оба убиты невидимой рукой (1832 г.). В стих. «Гость» — является мертвец, убитый на войне, на свадьбу своей возлюбленной, ему изменившей и влечёт её с собою (1832 г., стр. 253). «Морская царевна», «Любовь мертвеца» — названия говорят сами за себя. В стих. «Ночь» — видит скелеты прошлых лет, «стоящие унылою толпою» (1831 г.). И меж ними скелет, обладавший «моею душой». Передает все детали гниения своего трупа. В стих. «Смерть» — могила, труп, черви (1831 г., 235).
Литературные предшественники и современники Демона
Своеобразная литературная Люцифериана, свод литературно-метафизических концепций о падшем, злом духе в мировой литературе. Таково первое впечатление. Она является в некотором смысле отражением эпохи и духовного облика писателя или поэта. Первым, давшим образ дьявола в европейской литературе, был Мильтон. Он изобразил его в духе гуманизма позднего Ренессанса и либертинажного Барок. У него черт местами очеловечен, но всегда в духе гуманизма, с гуманистической претензией на самобытие и свободолюбие, с протестом против деспотизма.
Иоган Мильтон (1608-1674) Потерянный рай, Москва, 1894.
Но сначала — о самом Мильтоне. Он был пуританин, противник государственной англиканской церкви, и секретарь вождя английской революции, Оливера Кромвеля. Кстати, современные английские историки относятся более критически к личности Оливера Кромвеля, снижают его исторический ореол. Революционный деспотизм его был хуже монархического деспотизма благородного короля Карла 1-го.
Сатана Мильтона тоже революционер и потому очень словоохотлив. Его речи и тирады напоминают парламентские речи в нижней палате. Пафос английской революции и английского пуризма. А депутаты — его спутники в падении. Речи его сделали бы честь французам Мирабо и Робеспьеру, заменившему Бастилью гильотиной. Странно, что он ведёт себя как подсудный и произносит в свою пользу защитительную речь. Основная тема — месть и восстановление справедливости. Открыто говорится о низложении тирана — Всевышнего.
Затем — гуманистическая тема о само спасении: «Мы будем искать спасения в нас самих, нашими усилиями, в пустыне, но независимо. Суровая свобода для нас дороже, чем ярмо уютного служения».
Вражда, противодействие, борьба, жажда мести, вечный заговор — таковы чувства в этом царстве зла. Яркими красками изображён сатанинский энтузиазм в замыслах о штурме неба. Вельзевул — первый после Сатаны падший ангел, которому поклонялись в Палестине. Ему говорит Сатана: «Я не раскаиваюсь, я не переменюсь никогда, хотя мой внешний блеск и изменился (откровенно!) Ничто не переменилось во мне, ничто не уничтожит во мне этого высокого презрения, происшедшего от создания оскорблённого величия. Ничто не поколеблет непреклонного духа, сделавшего меня соперником Всемогущего. Именно это и побудило меня поспорить с сильнейшим и увлечь в ужасную борьбу многие силы вооружённых духов, которые имели смелость отвернуться от Него».
Он заметил смущение в рядах преданных ему бесов и говорит дальше Вельзевулу: «Не всё ещё потеряно, нам осталась непреклонная воля, непреодолимая злоба и неустрашимость. Этой славы (!!) не вымучит у меня ни Его гнев, ни Его могущество… Итак, если согласно определению судьбы (?), небесные существа не могут погибнуть, и так как мы по оружию не слабее, как показал нам опыт, мы стали далеко опытнее и предупредительнее, то мы можем с полной надеждой в успехе вести вечную и непримиримую войну против нашего великого врага, силою или коварством (!!)»
Но сам падший ангел терзался глубокой скорбью и отчаянием. Вельзевул не разделяет его надежд на победу. Сатана отказывается от делания добра и находит наслаждение в делании зла.
Бог дал им стать на ноги и дал им приют вместо неба, а Сатана думал, что они спаслись собственной силой (10-14). Поэтому он упорствует. «Лучше царствовать в аду, чем служить на небе» (15). Все они блистали богоподобной красотой, несравненно выше человеческой, были властителями, некогда восседали на блистающих небесных престолах. А теперь они не оставили следов своих в истории неба, навсегда изглажены из книги жизни. Они ещё не получили новых имён, данных им детьми Евы. Они почитались за богов многими народами (18).
Первый из них Молох (известный в Ветхом Завете), страшный царь, забрызганный кровью жертвенных детей. Ему поклонялись в Раввафе, Аргове и Васане. Обманом настроил он Соломона воздвигнуть ему храм против храма Божия на позорном холме, названном Тафебр.
Красота, величие, влияние и власть светозарных ангелов — всё это в прошлом. Они утратили покой и блаженство, и теперь терзаются сомнениями, страхом и тревогой за своё будущее. Верховодитель их Сатана оказывается глупее и недальновиднее своих подчинённых. Чем он утешает своих собратьев? «Князья, владыки, воины! Вы цвет неба утраченного. Могут ли до такой степени отупеть вечные духи?» (17). Это не только утешение для других, но и самоутешение.
На чём основана эта сатанинская доктрина вечности падшего духа? Пояснение следует; Бог не может уничтожить его, Сатану, потому что он — частица Бога. Здесь приходит на помощь теософическая теория эманации. Бог не творит мир и одуховлённую тварь, а излучает из себя. Из этих излучений Бога возникает всё то, что называется творением, которое есть частица Божества.
Европа времён Мильтона была наводнена западно-восточной теософистикой. В самой Англии Роджер Бэкон, в Германии Корнелий Агриппа, Валентин Вейгель и Яков Бёме, который пользовался большим влиянием в Англии. Байрон в «Манфреде» повторяет эту сентенцию дьявола: «Если наша сущность божественна, то она не исчезнет». Так думает каждый иогист и европейский махатмист.
Поражает тупоумие главы падших ангелов в концепции Мильтона. Он.называет Бога всемогущим и в то же время пытается бороться с Ним. Он верит и надеется, и в то же время одержим отчаянием. Ката статическая двойственность и помрачение рассудка.
Мильтон был религиозный человек. Его образ Сатаны мало чем отличается от библейской традиции. Ему нужно было показать слабые стороны своего необычного героя, глубину его падения, его ложную веру и надежду. Словесные излияния его — это исповедь, в которой мотивы поражения чередуются с мотивами сомнительной победы. Очень впечатляюще его мизерное существование после падения, пострадали его величие, красота и лучезарность. Ряды его нестройны, есть отпадшие, но не порвавшие с ним. Его жизненный путь — от неба и рая — к аду и меж воздушному пространству. Отсюда — минорные ноты в его исповеди.
Произведение Мильтона — одно из грандиознейших в мировой литературе. О художественных достоинствах трудно судить по переводу. Это мировая трагедия в её первоистоках, история падения человека — второй акт трагедии. Падение ангела, как совершившийся акт, первый акт.
Вся эпическая поэма есть profession de foi слепого поэта, написанное под диктовку автора.
Иоганн Готтлиб Клопшток. Мессиада, пер. С. Писарева, СПБ, 1868 г.
Клопшток (1724-1803), сын набожных родителей, получил религиозное воспитание, был религиозен. Чтил Мильтона, Шекспира и Ричардсона. В своём главном произведении «Мессиада» испытал влияние Иоганна Вильгельма Петерсена, написавшего поэму «Ураниас» в 1820-м году. Это — евангелический теолог, потом пиэтист, порвавший с официальной церковью. Тема и план даны философом Лейбницем, неисправимым деистом. Основная тема — спасение всего и всех, включая и Сатану, всеобщий апокатастасис (восстановление всех, апокатастасис пантон). Поэма Клопштока направлена против пиетизма и скептицизма «Просвещения».
Клопшток дружил с Гёте. Его высоко ценили Гёте и Шиллер, заслуги его в немецкой литературе велики и общепризнаны. Главное действующее лицо поэмы — Мессия-Христос, как показывает само название поэмы. Он даёт и тип Сатаны, приблизительно в духе Мильтона. Христос представляет разум, а Сатана — страсти. Сатана также словоохотлив и красноречив. Он называет себя королём мира, божеством свободных духов, более достойных, чем «небесные певцы» (ангелы). Христа, как Спасителя он не признаёт, и не верит, что Мария могла родить бессмертного человека. Вот облик и умонастроение Сатаны:
Блуждая в пространстве, дух злобой кипел:
Созданья Творца своего созерцая:
Великую цепь беспредельных миров,
Где было всё близко, знакомо ему
Когда-то, за тысячи тысяч веков,
Когда Громовержец его сотворил,
В сиянье чудном лучей неземных…
Хотя и теперь он дышал ещё ими,
Но образ его изменился с тех пор,
И чужд он эфирному блеску небес,
Угрюм стал он, мрачен и полон разврата.
Кометы и звёзды проходят там мимо,
Но мрачного духа не видят они.
И страшен ему стал их блеск лучезарный.
Мрачный и злобный, несётся он в «подземную пропасть»,
Промчался в воротах он в смрадном тумане
И сел на высокий проклятия трон.
Поэт обращается к своей музе, как и в начале своей поэмы, называя её «светлой душой»:
Тебе всё доступно, о муза Сиона,
Ты видишь свободно всю адскую пропасть,
Открой, о муза, теперь предо мною
Всю адскую бездну…
Начинается представление всех духов ада. Вот является первый дух Азрамелех, ненавистный, лукавый и злобный, более хитрый, чем сам Сатана. В его «развращённой душе немолчно кипели» зависть, злоба к властителю ада. Он хочет вытеснить Сатану с адского трона. Потом появляется воинственный и свирепый Молох «с высоких волканов», где жилище его. Он окружил себя цепью громадных гор, чтобы защитить себя и ад.
Является мрачный Белиил, который хочет изменить «страну проклятия» в лучший мир, подобно тем чудным мирам, которые так дивно создал Бог. Потом выходит «из шумящих стремнин», из свирепого моря и кипящих волн, дух витающий в «мёртвых водах» Магог. Безумно проклинает он Творца. Там был и безумный владыка бесов Гог. Он был выше и безумнее всех. Он говорит о своём плане, который должен посрамить имя Иеговы.
Все злые, адские духи согласны в том, что всё в мире — лишь сон, что сама жизнь есть обманчивый сон. Ничтожество тления заменит её (индуизм и буддизм).
Внизу подле трона, задумчив и угрюм сидел Абдиил— Аббадона. Он думал о своём грозном будущем, содрогаясь от страха… в безнадёжной тоске. Он вспоминал то блаженное время, когда был чист и невинен душою, был другом великого, который старался его спасти.
Так душою мучился дух Аббадона,
Из глаз его горькие слёзы лилися.
Аббадона выступил с речью против Сатаны, говорил о своей ненависти к нему, называл его отступником и осуждал за стремление убить Искупителя мира — Христа.
Ему отвечал Адрамелех, называл его трусом, а отступивших от Бога называл богами. Аббадона увидел ангела Оббадона и «жгучие слёзы из глаз покатились». Ему уже не страшны Сатана и Адрамелех, он хочет покинуть царство проклятия. Просит ангела заступиться за него перед Богом и дать возможность видеть Христа-Искупителя. Ангел отвечает, что ему не дано право заступаться за него, Аббадона.
Чело Сатаны искажено громом. Увидев воскресшего Христа, он лежал без чувств. Архангел Гавриил говорит ему, что изгнанник должен понять, что борьба конечного духа с Бесконечным есть вечная мука. Сатана с шумом обрушивается со скалы в подземную пропасть. Ангелы смерти влекут осуждённых, Аббадона стоит с поникшим взором. Он просит Христа о смерти. Все ангелы смерти обращают свой взор на Судию. Аббадонна получает прощение и покой блаженства, встречается с ангелом Абдиилом.
У Клопштока есть гениальные строки о слезах. Херувим выливает на землю две чаши: одну со слезами, а другую с кровью, и говорит Богу: «Ты каждую каплю считаешь» — прямой ответ на наветы Ивана Карамазова Достоевского о «детских слезах»; Достоевский не читал Клопштока! «Одна слеза там равняется миру».
Слёзы блаженства, последние слёзы,
Польются из глаз их, и песнь торжества
Сольётся со звуками трубы в один гимн…
Слезами увлажился взор Гавриила,
И полны блаженства, он чувствует их,
Те слёзы святые небесного мира.
«Небесные слёзы» сияют и во взорах избранников Божиих, которым даёт Он «наследие света».
Влияние Петерсена на Клопштока было очень ограничено, это был только творческий импульс. Клопшток ближе к Мильтону. В отличие от Петерсена, спасается только один падший ангел Аббадона, а не все, как у Петерсена. Клопшток отмечает непримиримость и неисправимость падших духов, их непоколебимость и решимость бороться до конца. Нет у них единодушия. Есть и такие, которые злее Сатаны, его соперники, стремящиеся свергнуть Сатану и заменить его.
Клопшток встретил почти единодушное признание на своей родине. Гегель сравнивает его с Гомером, но относится критически с точки зрения эстетики. Кант ставил его выше Гомера с точки зрения моральной идеи. Исследователь Платен ставил его рядом с Гёте. Клопшток оказал сильное влияние на юношескую поэзию Шиллера. Высоко ценили его и романтики братья Шлегели.
Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832) Фауст. Ч. 1, Москва, 1951.
Гёте внёс существенное изменение в литературную демонологию или сатанологию. Он взял в качестве второго героя своей трагедии не главаря тёмных сил, как его предшественники, Мильтон и Клопшток, а беса средней руки, но значительно натасканного в своей бесовской профессии. Мефистофель Гёте — настоящий профессионал, он является по первому зову и готов служить. На заклинание чёрного мага доктора Фауста является щетинистый пудель, из которого выходит Мефистофель в одежде странствующего студента. Но завязка трагедии происходит на небе, в споре между Богом и Мефистофелем за душу главного героя Фауста. Оставим на совести Гёте снисходительный тон Бога в разговоре с портом и развязный тон беса Мефистофеля в беседе с Богом. Мефистофель начинает с критики творения, отмечает бедственное положение человека, живущего «скот скотом». И напрасно Бог поместил в человека искру свою. Человек так жалок, что он, Мефистофель, щадит его. Но Богу важно одно, что человек служит Богу, вот как этот раб его, Фауст. Мефистофель предлагает пари и уверен в победе. Получает от Бога разрешение на полную свободу действий. Фауст «вырвется из тупика чутьём, по собственной охоте».
Бог разрешает Мефистофелю являться к себе «без стесненья», так как был всегда менее Ему в тягость, как «плут и весельчак». Мефистофель доволен и отмечает «прекрасную черту у старика» — так человечно думать о черте. Перед Мефистофелем стоит задача: расшевелить застой Фауста, вертеться перед ним, томить и беспокоить его, и «раздражать своей горячкой».
Вышедший из пуделя и «запарившийся» Мефистофель представляет себя Фаусту. Он часть той силы, что без числа
Творит добро, всему желая зла.
Это не ново, это — древний манихеизм, который был в моде во времена Гёте и имеет своих адептов и в настоящее время. Саморазоблачение Мефистофеля продолжается в более откровенном тоне:
Я дух, всегда привыкший отрицать.
И с основаньем: ничего не надо.
Нет в мире вещи, стоящей пощады.
Творение не годится никуда.
Итак, я то, что ваша мысль связала
С понятьем разрушенья, зла, вреда.
Творение представляется в извращённом, теософическом аспекте, свет произошёл из мрака, есть порождение тьмы ночной, но хочет занять его место. Но напрасно, свет не сладит с мраком и исчезнет, когда мир разрушится.
Фаусту жизнь в тягость, он хочет умереть, проклинает соблазны высоких чувств и их дурман. Проклинает самомнение человека, весь мир обманчивых явлений, семейную жизнь, жену, детей, хозяйство. Здоровье и упадок сил, упоение любовью. А «до иного света» ему, Фаусту дела нет. Мефистофель обещает ему «дать то, чего не видел свет». Сделка заключена и подкреплена «долговой распиской».
Чёртово воздействие дает себя знать, Фауст страдает мегаломанией, чувствует себя почти Мессией, собирается облагодетельствовать человечество, взять на себя всё «бремя роковое», все беды человеческие. Этот лже-мессианизм был в моде во времена Гёте, нашёл себе место и в философии.
В ответ на предупреждение Мефистофеля, что только Богу доступна вселенная во всём объеме, осатанелый Фауст бросает: «А я осилю всё». В ответ на это Мефистофель острит и бросает своё знаменитое.
Ты то, что представляешь собою…
Ты — это только ты, не что иное.
В этот момент является студент, ученик Фауста. Фаусту теперь не до ученика, но Мефистофель берётся заменить его и встречает ученика в длинной одежде Фауста. Первый его урок — презирать мощь человека, разум. Потом начинает критиковать философию, которая занимается только тем, что «обездушивает» явления жизни, не умея вникнуть в суть, издевается над метафизикой. В юморе Мефистофель неподражаем, издевается над юриспруденцией, богословием, медициной. Но и бес бывает иногда искренен
Теория, мой друг, седоволоса,
А древо жизни зелено всегда.
В ответ на просьбу студента написать автограф в альбом, следует змеиное: «Eritis sicut Deus.» А на прощание,
Змеи, моей прабабушки, следуй изреченью,
Подобье Божье все утратив в заключенье!
Так случилось с Фаустом.
Маргарита, первая жертва омоложённого Фауста, «воплощение небесной красоты», умнее и прозорливее очертелого Фауста. Она догадывается, что у Фауста не совсем благополучно с верой в Бога. На её прямой вопрос Фауст даёт уклончивый ответ. Ей не нравится Мефистофель, «его коварный, острый взор», насмешливость и хитрость, презрение к людям. И главное,
Что он любви вовек не ведал.
Фауст потрясён: «о, чуткость ангельских догадок!»
Фауст сидит один в лесной пещере. Выражает свою признательность «пресветлому духу» (Духу Земли) за всё то, что получил от него: пользование всей природой, видит перед собой «череду живых существ», как своих братьев, зверей, кустарник и траву. Даёт ему заглянуть внутрь себя, как в книгу, увидать тайны и «тьмы чудес». Но одного не хватает ему, совершенства. Гёте выдает тайну своего любимого героя Фауста. Он обладает всем, кроме личного совершенства, такова тайна магии! Да ещё к тому же — низкий спутник.
Является Мефистофель, начинается перебранка с низким спутником, нарушившим лесное уединение. Мефистофель напоминает Фаусту о своих заслугах: Он спас своего господина от «философского угара», от самоубийства, дал ему возможность «промечтать шесть дней творения», а теперь видит его уединившимся, вместо того, чтобы действовать. И напоминает ему о Гретхен. Перебранка продолжается, Фауста называют глупцом и дурачиной.
Валентин, брат Гретхен, убит в неравной схватке с обоими, Фаустом и Мефистофелем, Гретхен покинута, мать её умерла от капель Фауста. Фауст улетает, держась за камзол Мефистофеля, в Вальпургиеву ночь на шабаш ведьм в Брокене, чтобы развлечься. Здесь и царь Мамон на своём престоле, и Уриан, князь мракобесья, отряд смердящих козлов и всадниц, старушка Баубо на «супоросой хрюшке», и за ней кавалькада чертовок, ведьм и леших. Спешка и давка невероятная. Фауст и его друг-проводник с трудом протискиваются через эту разношёрстную толпу.
Опять размолвка, Мефистофелю хочется уединиться и издали наблюдать толпу, а Фауст стремится подойти ближе, чтобы хорошенько разглядеть и запомнить. Раздаётся дикая, нестройная музыка (как современная музыка, шабаш 20-го века!). Попадаются навстречу генерал, министр, разбогатевший делец, писатель. Тут и ведьма-старьевщица, торгующая орудиями убийства. Фауст в восторге от всего этого, только его тут не хватало. А вот и Лилит, первая жена Адама (теософическая отсебятина), губящая подростков.
Фауст начинает танцевать с красавицей, а Мефистофель — со старухой, которая видит его копыта. Фауст оставляет красавицу, потому что у неё выскакивает мышь изо рта. И вдруг, Фауст останавливается, ошеломлённый видением… Он видит Гретхен, несчастный вид и облик кроткий, с колодками на ногах, белую, бледную, и… на белой шейке красный шов, как от секиры. Мефистофель говорит, что это — Медуза, обезглавленная Персеем, и тянет Фауста в театр, где будет показана свадьба Оберона с Титанией.
Пасмурный день, поле. Фауст в отчаянии, несчастная Маргарита в тюрьме, под замком, как преступница, осуждённая на муки, но непорочная. А он, бесстыжий, Мефистофель, скрывший от него всё и теперь дико вращающий своими дьявольскими белками, увеселяющий его, Фауста, чтобы Маргарита погибла без помощи. Фаусту не остаётся ничего, как вновь обратиться к «великому духу». Потом начинается дикая перебранка с Мефистофелем, взаимные упрёки. Фауст не скупится на оскорбления, просит «духа» вернуть Мефистофеля в его прежний собачий вид, чтобы иметь возможность топтать его ногами. Мефистофель отвечает вполне резонно, зачем якшаться с такими, как он, Мефистофель. Кто к кому привязался, «мы к тебе или ты к нам?» Фауст ставит ультиматум: «спаси её или берегись!»
Следует потрясающая сцена в тюрьме, одна из самых потрясающих в мировой литературе. Маргарита отказывается бежать, вспоминает отравленную мать, убитого брата и ребенка, просит похоронить и её рядом с ними.
Я покоряюсь Божьему суду.
И начинает молиться,
Спаси меня, Отец мой в вышине!
Вы ангелы вокруг меня забытой,
Святой стеной станьте мне в защиту!
Фауст уходит и слышит из тюрьмы замирающий голос Маргариты: «Генрих! Генрих!» Она осуждена на муки, говорит Мефистофель. А с неба слышен голос: «Спасена!»
Гёте пришла гениальная мысль соединить человека с чертом при жизни. Это — амикошонство человека с чертом, пожизненная дружба и сотрудничество. Черто-человек Мефистофель и человеко-черт Фауст. По свидетельству современников и исследователей прообразом Мефистофеля послужили Гердер и Мерк с их сарказмами. Мерк покончил самоубийством. Ставит ли Гёте проблему сублимации черта в обществе с человеком? Похоже на это. Нам кажется, что произошло обратное, демонизация человека Фауста и Гёте любуется своим героем.
Это ничего, что черт лакей, а человек Фауст господин. Лакей умнее и хитрее господина. Повторяется ситуация героев комедий Бомарше, «Севильский цирюльник», «Безумный день». Цирюльник умнее своего богатого и знатного клиента графа Альмавива. Фауст уступает в спорах Мефистофелю или молчит. Лакей Мефистофель не уважает своего барина, но это неважно для Фауста, ему нужны услуги Мефистофеля, владеющего ключами магии и исполняющего все его желания.
Не понятным остаётся спасение демонизированного Фауста, который не порывает с чертом до самой своей смерти. Фауст забывает, что он принадлежит не себе, а черту. Он слышал голос с неба, что Гретхен спасена, и конечно спасёт и его. А самому ему беспокоиться нечего. Всё идёт своим чередом. В прологе «Фауста» Бог, беседуя с чертом, говорит о Фаусте, как верном слуге своём. Здесь мудрость изменяет Гёте и он не чувствует неувязки. Здесь огромная дисгармония гениального творения Гёте, не замеченная ни автором, ни его критиками. Неустойчивость эстетико-метафизических концепций Гёте. Гёте хотел показать всесилие или всемогущество Вечно-Женственного, и ошибся, преувеличил его. Спасение демонического — вне сферы влияния Вечно — женственного. И это показал Лермонтов в своём «Демоне».
Бог создал человека и мир по образу своему и подобию. Если дьявол стремится к сатанизации Бытия, к переустройству по своему образу и подобию, то западный человек стремится к гуманизации, очеловечению Бытия. Черт в обществе человека Фауста становится почти человеком. Но о сатанизации человека нет в «Фаусте» и речи. Сам Фауст этого не замечает, не замечает и Гёте, неисправимый гуманист.
Может быть, незаметно для себя Гёте разоблачил зло, а с ним манихейский гуманизм? Но есть и более радикальный способ, изобретенный на Востоке, стать «по ту сторону добра и зла». Так назвал и Ницше одну из своих книг. Это нивелирование добра и зла есть позорная капитуляция Европы перед Азией. Лермонтов решительно против этого и Демон у него — не вульгарный бес. Ему зло наскучило, и он стремится к добру. Но чтобы идти к добру, нужно дойти до Источника Добра. Этот путь Демону заказан.
«Фауст» Гёте вызвал в Германии несколько подражаний, у Ленау, Граббе и Шамиссо. В художественном отношении выше других «Фауст» Ленау, который строже к Фаусту, чем Гёте. Фауст проклинает свою тварность. Перед смертью Фауст признаётся, что отринул от себя всё Божественное и природное, сосредоточившись в самом себе (гуманизм!). Он говорит о себе: «Какое заблуждение! Моё я — пустое и тёмное, скудное, и обволакивает меня, как гроб. В столбняке моего самострастия бросил меня дьявол живого в бездну погибели».
Гёте не было дела до Люцифера-Сатаны, как у его предшественников. Маг имеет дело не с ним, главным, а с подсобным. Встреча Фауста с Духом Земли показала, что и он Фаусту не по плечу. Тогда пришёл на помощь Мефистофель, посланный Духом Земли. Тем самым Гёте снизил сатанинскую тему. Люциферизм его предшественников, Мильтона и Клоп— штока, не интересовал его. Мефистофель — не господин, а слуга. Только Соломон имел дело с Сатаной в своей магической практике. Но Дух Земли не оставляет Фауста и он, Фауст всё время чувствует его помощь.
Байрон выправил своего учителя Гёте. Но его Люцифер — застывший, окаменевший во зле, истукан.
Джордж Гордон Ноэль Байрон (1788-1824) Каин. Москва, 1953.
Трагедия «Каин» носит название мистерии. Это звучит иронически, на что Байрон был большой мастер. Есть простое совращение человека Каина, после совращения человека Адама. В самом начале трагедии-мистерии, в сцене 1-й, Каин представлен готовым богоотступником, и притом в самый торжественный момент, во время славословия Богу и жертвоприношения. Все члены семьи, отец, мать, брат и две сестры слились в общей хвале Творцу, радости и любви. Каин одинок в родной семье, несмотря на любовь и преданность сестры и жены Ады. Как сын вкусивших с древа познания, он человек рассудка, а не сердца; за трудом землепашца и в часы досуга он мыслит. И вот плод его мышления: «Змей не солгал! Было древо познания и древо жизни». И то, и другое — благо. Нужно было бы соединить их, и не было бы зла. Каин становится жертвой того же соблазна, как и его родители.
«Мрачный» и «хмурый» Каин остаётся один. Он жертва греховной рефлексии.
Трагедия Байрона «Каин» — одно из грандиознейших по замыслу произведений мировой литературы. Названа она мистерией, что может вызвать недоумение. Мистерия есть таинство. Можно ли называть таинством совращение человека, наследственно-отягощённого и терзаемого недоуменными вопросами, теснейшим образом связанными с земным существованием человека. «Мистерия» кончается падением второго человека Каина, после падения первого человека Адама.
Завязка трагедии — в самый торжественный момент, когда вся семья собирается за молитвой и жертвоприношением, отец, мать, брат и две сестры. Один только Каин держится в стороне, не считает нужным молиться, предпочитает молчать и ни о чём не просит. Не считает нужным благодарить. «А жизнь? спрашивает отец». — А разве я не умру? Ответ вполне резонен, он знает об этом со слов родителей, знает всю историю падения.
Таковы «животрепещущие» вопросы, которые задаёт каждый мыслящий и не мыслящий человек. Может быть, задают и другие, брат и сестры Каина, но не высказывают. Прозорливая мать Ева догадывается, это действует «плод ветви, запретной для падения», то есть видит действие вкушённого запретного плода. У Адама вырывается упрёк: «Зачем взрастил Ты, Боже, древо знания». Виновато древо, а может и Бог, взрастивший древо. Так думает Каин и у него готов упрёк родителям, почему они не вкусили с древа жизни. Тогда можно было бы «бороться с Богом». Каин «богохульствует, вторит змею» — замечает отец.
Каин — законченный богоборец. Читатель в недоумении, Байрон немного поспешил. Мать признаётся, что и она так грешила до рождения Каина. Каин хочет остаться один, все уходят. Недоуменные вопросы терзают его сильнее. Жить, чтобы трудиться, отвечать за грех отца, утратившего рай, когда он ещё не родился. Он не искал рождения. Почему отец послушал жену и змея и почему это прекрасное древо среди рая, для соблазна? И от кого всё это? От Него… Миллионы людей задавали себе и задают эти вопросы, не находя ответа, или отвечают так, как и Каин. Как понять, что первородный грех наследственен, переходит на всё потомство, и что каждый должен принять на себя долю искупления.
Ищущее сердце, ищущий ум, ожесточаются, не находя ответа. Так создается почва для богохульства, богоотступничества и богоборчества. Плод познания действует, как яд, лишающий человека покоя и радости жизни. Он вызывает сомнение, из которого рождается ложное знание, не дающее ответа на главные вопросы. Байрон — тонкий психолог, сам прошедший школу познания-сомнения. И он предельно точен, когда в мистерии к одинокому, страждущему Каину является дух-властитель, из сострадания к «праху», то есть земно жителю Каину. Совращение рядится в тогу сострадания — здесь первая ложь явившегося Люцифера.
Да, он проник в мысли Каина. Но Каин ошибается, он не умрёт, а будет жить. Каину жизнь противна, но он не может преодолеть жажду жизни, как и сам пессимист, Байрон, и все пессимисты. Из дальнейшего краткого диалога следует, что Каин уподобится «могучим духам» будет вечно жить. Счастлив? На это следует категорический ответ: «нет!» Люциферу приходится открывать Каину свою тайну. Он пожелал заменить Творца, и всё творение было бы иное, то есть все стали бы подобны ему. Следует нечто подобное исповеди, где всё поставлено вверх ногами. Могучий Тиран сам несчастлив, создаёт, чтобы потом разрушить, одинок, а если создаст Он сына, то будет он в жертву принесён. Он клевещет, потому и назван он дьяволом.
Каин поражён этими «откровениями» дьявола и признаётся, что и ему приходили те же мысли. Решено, он присоединяется к духам. Ему обещано, он станет богом. Всё дело в борьбе и «самоутверждении».
Байрон находился под сильным влиянием английской критики Библии.
И был склонен к буквальному толкованию событий, изложенных в Библии.
Люцифер лжёт, что он всё знает и обещает «просветить» и Каина, с условием, что падши на землю, поклонится ему. Совсем как в искушении Христа. Каин отказывается, он не «склонял лба» и перед отцовским Богом. И здесь Люцифер-дьявол изрекает великую истину: «не чтущий Бога чтит тем самым его, дьявола».
Является Ада, поддаётся очарованию незнакомца. Возникает спор о том, что лучше, любовь или знание. Люцифер называет себя властителем земли. Познание есть скорбь. Ада видит соблазнителя насквозь: Любовь ему чужда. (То же говорит Фаусту Гретхен о Мефистофеле). Отрицая веру в Бога, Люцифер требует от Каина веры в себя.
Начинается быстрое и короткое путешествие Каина с Люцифером по звёздным сферам, царству смерти и погибших миров, из коих Бог создаёт новые, и тут же тени мощных созданий, превосходящих ангелов и людей. Это люди прежних эпох (циклов). Мимоходом Каин узнаёт, что страдание вечно и муки вечны. Каин увлечён зрелищем красоты «невиданного эфира», «прекрасных богов» и их творений. Наконец они летят к царству смерти. Ужас овладевает Каином и он готов всё проклясть. Его привлекает зрелище громадного змея, не он ли прельстил мать. Следует признание, что это он, Люцифер, прельстил всех жён и сынов, и сам он, Каин — «сын греха» и потому преступен, сын скорби потому страдает. Но всё это ещё рай, в сравнении с тем, что Каину предстоит.
Каин разочарован, такого ли знания ждал он. Прав был Бог, запретивший отцу вкушение с древа познания. Ответ Люцифера готов: «но незнание зла не ограждает от зла». А красота отвечает Каин и перечисляет: красота земли, его сестра, все звёзды неба, синь ночи, мгла сумерек, восход солнца, закат, лесная тень, листва, напевы птичьи, как гимн любви, сливающийся с гимном херувимов. И всё это для него ничто в сравнении с красотой Ады. Когда он видит её, то не нужно ему ни неба, ни земли. Но можно заранее предвидеть ответ: всё это бренность и обман. И почему скорбит Каин, если он владеет такою красотой?
Каин взбудоражен «откровениями» Люцифера: для чего живёт он, Каин, почему несчастен его высокий собеседник Люцифер и даже сам Творец. И разрушение не может быть отрадой. Если Бог всемогущ, то откуда зло, если Он — добро? С таким вопросом обращался Каин и к отцу, и получил ответ: зло есть единственный путь к добру. Каин находит это «странным». И в самом деле! Адам согрешил, совершил зло, чтобы способствовать добру, и за своё «доброе» дело, за служение добру изгнан из рая, наказан. Нет, приписывать Адаму манихейско-масонскую догму о необходимости зла для совершения добра — большая натяжка. Нет, и Каин не согласен,
не странно ль,
Что с противоположной стороны,
Столь страшной, благо действует.
Нет, это не есть изобретение Адама. Смущённый Каин спрашивает, любит ли его высокий собеседник кого-нибудь. На вопрос Люцифер отвечает вопросом, любит ли Бог, любит ли Каин. Если он, Каин прельщён красотой, то должен знать, красота, как и всё, не вечно.
Каин хочет видеть обитель Бога и Люцифера, но получает ответ, что желание его преждевременно. Каин не может понять, почему два великих духа не действуют согласно. Здесь Люцифер проговорился, он борется за власть. Каин приходит к убеждению, что всё то знание, которое получил он от Люцифера — суетно и показывает полное ничтожество его, Каина. И получает от него ответ:
Итог познаний человека
В том, что он ничто.
Каин, наконец, понял, с кем имеет дело.
Дух надменный!
Ты горд, но есть и над тобой, над гордым,
Владыка.
Нет! Он правит, Он победитель, но не властелин. Всё пред Ним простёрлось, но не он Люцифер, который борется.
Продолжительный диалог Люцифера с Каином написан с большим художественным и диалектическим напряжением. Совратитель 1/3 всех ангелов и первых людей принуждён пустить в ход всю свою дьявольскую изобретательность. С Каином ему труднее, у Каина — опыт его родителей и рассудительность. Все свои черты Люцифер-дьявол переносит на Бога: тиранию, самовластие, одиночество, неудовлетворённость творением и склонность к разрушению. Каин подавлен силою, исходящей от него, пленён его величием и неукротимой энергией. Ему не нравится только его гордость и пренебрежительное отношение к человеку вообще.
Байрон, как сын своего века, оставляет Люциферу лазейку, необходимость зла для торжества добра.
Акт третий, местность близ рая, Каин и Ада одни, с ребёнком, который внушает умиление обоим. Ада замечает, что надменный дух усилил тоску Каина, внушил ему чужие мысли. Ада умнее Каина, примиряется с действительностью и готова принести себя в жертву для искупления. Каин злится, повторяет свои затасканные упрёки.
Приходит Авель, готовятся к жертвоприношению. Авель замечает изменения в Каине после большого путешествия по сферам,
В твоих глазах сверкает странный блеск,
В твоём лице пылает странный пламень,
В твоих речах таится странный отзвук…
Твоя душа под гнётом Опасных чар.
Жертвоприношение, Каин убивает Авеля. Собирается вся семья и Ева проклинает Каина, и открывает тайну. Каин рождён от змея.
В гениальной «мистерии» Байрону удалось дать цельный, законченный и внушительный образ Люцифера, значительно превосходящий все образы его предшественников, включая и Гёте. Это полное и всестороннее разоблачение падшего ангела, вернее саморазоблачение. Он ,видимо, доволен, что нашёл слушателя человека, который родственен ему по духу, слушает его со вниманием и интересом, хотя и не всегда соглашается с ним. Это — первый разговор дьявола с человеком. Беседа с первым человеком Адамом не удалась. Адам отвергнул его и обратился к Богу.
Мистерия кончается демонским наваждением, демонизацией человека. Каин даёт начало новому, демонизированному человечеству. Что не удалось с Адамом, Евой и их детьми, удалое с Каином. Демонопоэз человека — потрясающий исторический факт, фатальный в судьбах всего человечества.
Каин — моральный урод, эгоист, он занят только собой. У него нет родственных чувств к родителям, брату Авелю. Он отмежёвывается от своих родителей, потому что они согрешили. Будь он на их месте, сделал бы то же самое, так как он более падок на соблазн, как показала история его совращения. Ему чуждо покаяние, потому он считает себя жертвой греха родителей. Он отвергает молитву и жертвоприношения, так как ему чужда проблема искупления. Основные проблемы Бытия он пытается решать своею упадочнической рефлексией, но безуспешно. Тут приходит ему на помощь верховный черт, но ему от этого не легче. В роли совратителя Каина выступает не змей, а сам властитель тёмной силы.
Нельзя отожествлять Байрона с его героями, он достаточно объективен. Байрон — сын и выразитель своей эпохи, своего времени. Революционный пафос, либерализм и радикализм, пессимизм, индивидуализм и мировая скорбь, руссоизм и ирония, нашли художественное оформление в его произведениях. Можно найти следы влияния антиклерикального направления Вольтера, английского и прочего деизма, английской критики Библии, но говорить о люциферизме и «богоборческом пафосе» в произведениях Байрона не приходится. Когда он говорит о Боге, то всегда как верующий, например в «Эпитафии самому себе — Всесильный Бог» (стр. 391). В письме от 29-1-1821 г. он пишет: «постился, неуклонно и набожно». Подавал всегда милостыню. 13-1-1824 году он спасся от погони, вырвался с судном из турецкого плена. Своё спасение он приписывал св. Дионисию Затонскому и образу Мадонны на скале близ Кефалонии.
Многие черты роднят Байрона с Лермонтовым, его неудачная любовь к Анне Чоуорт, которая вышла замуж за другого в 1805 году. Пишет о своём «гордом духе», о мучениях, о скуке. И
Червь точит грудь, и только горе
Мне суждено.
(Стих. «В день моего тридцатишестилетия», стр. 5).
И
Могила — здесь, перед тобой.
На вольной воле, в чистом поле
Найдёшь покой (т. ж.).
Альфред де Виньи (1797-1863). Элоа. 1823[5].
Два англичанина писали о Сатане-Люцифере, Мильтон и Байрон. В промежутке, два немца, Клопшток и Гёте. Но у Гёте — не первоисточник зла и совратитель человека, а его жизненный спутник, помощник и временами слуга. Под конец — два француза, Альфред де Виньи и Виктор Гюго, но с новой версией. Дьявол пытается расстаться со своей профессией сеятеля зла и спастись с помощью человека или ангела.
Эта версия имеет корень в индо-европейской теософской догме о спасении всего и всех, с переходом в Ничто. Спасаются дьявол и его присные, сатанистки Блаватская и Безант, с их осатанелыми Махатмами, сеющими плевелы на добрую ниву Христа-Спасителя.
Теософско-масонская версия в литературе берёт начало от Альфреда де Виньи, написавшего свою мистическую поэму «Элоа» в 1823 году.
Реабилитация Люцифера начинается с общих рассуждений о привлекательности, вкрадчивости, склонности и ответном женском сострадании и преданности. Дело начинается с чуда в Вифании. Христос, смотря на умершего Лазаря, заплакал. Серафимы собрали Его слёзы в алмазную урну и положили у ног Вечного. Дух Святый дал душу и жизнь новому существу. Из чаши поднялась форма белая и увеличивающаяся. И голос один произнёс: «Элоа». Появляется ангел и говорит: «Это я!»
И она ходит к Богу, как женщина к храму. Красота девичья в чертах, серебряные крылья на бледном платье. Это — женщина, очаровательный ангел. О ней говорил архангел Гавриил. Херувимы и Серафимы, Троны и Добродетели, Господства, Стража и все ангелы склонили перед ней головы. И Девы, её сёстры, в кортеже, как вокруг луны.
Однажды обитатели бессмертной Империи собрались, чтобы наставлять её. «Элоа, бодрствуй, ангел может пасть. И самый прекрасный — теперь не среди нас. Он звался «тот, кто несёт свет», Люцифер, утренняя звезда. Он вносил всюду любовь и жизнь. «Красота его не имела себе равной. Лучистый диамант был на его лбу, среди золотых волос было солнце. Но в настоящее время он — без диадемы. Он горюет, стонет, что его никто не любит. И что мрак преступления отягощает его глаза. Что он не может говорить языком неба. В его словах есть смерть. Своим взглядом он иссушает всё, что видит. Не ощущает ни добра, ни зла. Небо, которое он населял, теперь дрожит при одном его имени».
Впервые в мировой поэзии новый облик падшего ангела. Не трафаретный, торжествующий и самоуверенный, горделивый и непреклонный, борющийся с небом. Не ослеплённый своею властью и могуществом, и неукротимый в творении зла. Слепой в своём мета схематизме (извращении в своей сущности). Нет, напротив, он в полном сознании того, что с ним произошло.
Другие черты дополняют его новый облик. Ни один ангел не может рассказать его истории. Ни один святой не может произнести его имя. Он проклят Богом. Это было событие, потрясшее небо. На ледяных губах его застыла печаль. Мысль его занята несчастьем. Опущенное чело краснело, а на ресницах — блестящая слеза.
Чудеса неба померкли для него, все прелести, исходившие от Бога, звуки арф рая, блестящие живые колесницы, доспехи Господа, серафические кадила, золото небесных куполов, звезды, падавшие с перстов Бога, всё стало докучливо для него. Но вот, священные песни потрясают его мечты, начинается «спектакль» Господа, созывающего духов. Открывается величие Бога, появляются херувимы, ясли и восточные маги-волхвы, семья в пустыне, славословие пастухов.
Элоа покидает божественное представление… Её тянет в «темноту», чтобы помечтать на свободе. Её преследует «образ», как во сне. Она испытывает боль и среди ночных грёз показывался ей несчастный Ангел, который молил её издали. Спрашивал, какие сокровища ей предложить и какою ценою была бы возращена ему вечная жизнь. И объяснял ей, почему его взор не обращается к Архангелам и Серафимам. Элоа заявляет, что не нуждается в утешении его и уходит.
Она уходит в «нижние небеса» и думает, что видит новые небеса, не видя бездны. Это был Хаос и дева Элоа отдыхала там без страха. Ни один чистый дух или Серафим не спускался сюда, где начинался ад. Пугались нечистого воздуха. Здесь обитали демоны, с бледными лбами, неясными чертами, с бесцветными крыльями, с красными от слёз глазами, с чёрными ногами. Вот почему ангелы не заходили сюда.
Так кончается 1-я песнь поэмы. Песнь 2-я начинается с обольщения. Является незнакомый молодой человек, в красной одежде, чёрные волосы в повязке, как корона, с белыми крыльями. Обувь в диамантах, золотой скипетр, как король. Неспокойный взгляд опущен, глаза очаровывающие. Голос сладкий и глубокий, с печальным акцентом.
Он говорит деве Элоа, «дочери Бога»: «Откуда ты, прекрасный Архангел. Но будь осторожна с ревнивым Богом, твоим наставником. Это из-за любви я несчастен и осуждён. О, целомудренная красота! Пришла ты бороться со мной, или оправдать? Ты спустилась с неба, которое послало мне молнию. Но и ты, прекрасный ангел, пришедший свыше, против меня».
Соблазнитель продолжал тихо:
«Я тот, которого любят, но не знают.
На человеке я основал моё царство огня.
Я — в желаньях сердец, в мечтах души,
В связях тела, таинственных приманках,
В сокровищах крови, во взглядах очей, в сновиденьях
супругов
Я тайный король тайных любвей, соединяю сердца, разрываю
связи.
Я взял у Творца Его слабое творение
И мы разделяем природу.
Я даю вожделение вечеров и добро мистерии
И вот перед твоим взором дело Злодея».
И этот Злодей есть утешитель, который плачет над рабами, прячет их, даёт им забвение. Краска покрывает его лицо с нечистым взглядом, ресницы покрывают глаза лазоревые. Начинаются его «откровения» о жизни ангелов, о своей деятельности и красивые описания сфер и обиталищ. Элоа слушала внимательно и решила: «Я твоя!»
Он продолжал:
«Будь со мной, будь моей сестрой, ты принадлежишь мне. Я заслужил тебя и давно тебя люблю. Ты явилась мне, как молодая Звезда. Ты та, которую я всегда искал. И царица, которую ждёт мой одинокий трон. Твоё присутствие показало мне, что и я могу любить.
Глаза твои искали моих, но когда ты родилась, я узнал тебя среди других творений. Я плакал, обойдя всю вселенную, искал тебя всюду в дуновении воздуха, в лучах луны, в звёздах на небе, в радуге, чувствовал аромат твоего полёта. Напрасно расспрашивал я шары пространства, хоры звёзд чистых. Я покрывал их лучи, чтобы привлечь твои взоры, трогал золотые струны небесной лиры. Но ты не слышала, не видела меня. Я спускался на землю и ходил за тенями тех людей, где ты родилась.
Я думал найти тебя, протежирующую невинность, у качающейся колыбели спящего ребенка, освежающей его губы своим дыханием. Но возвращаясь в свою обитель, я плакал, как здесь, стонал, до того часа, когда звук какого-то тона меня потрясал, заставляя дрожать, как священника, слушающего речь Бога своего…»
Он говорил. И как молодая королева, которая розовеет от удовольствия при имени своего суверена и делает грациозный жест, или бросает на него взгляд, Элоа, подняв покрывало с головы, даёт ему повод говорить. Спускается к нему, склоняется и с гордостью созерцает своего возлюбленного.
Следуют бесконечные сравнения, которые могут наскучить и охладить, очарование всех объектов природы. Элоа резонно отвечает:
«Вы красивы, вы добры, вне сомнения. Подобно тому, как душа исходит из неба в святой одежде, и мы видим её вечную красу. Но почему ваши дискурсы внушают мне страх. Почему на челе вашем отпечаток боли. Как могли вы сойти со святой обители? И как вы меня любите, не любя Бога?»
Смущённый взгляд, скромность, сопровождали эти слова. Они падали так же сладко и чисто, как снег зимою. Пока она говорила, крылья её пробуждали день.
Архангел пугался, взор его темнел, думал о том, что на исходе веков придётся предстать перед Господом. И что взгляд Бога уничтожит его. Он вспомнил всё, что пережил во время искушения Иисуса в пустыне. Он дрожал, на сердце пылал ад. Точно покрывало пало на его крылья. И он хотел бежать. Так, предаваясь воспоминаниям, проклятый Ангел поникнул своей гордой шевелюрой и подумал: «печальна любовь греха, гордость, гигантские мысли знания!» И продолжал:
«Будь проклят момент, когда я вздумал измерить Бога! Я сказал тогда прощай по простоте сердца. Я дрожал пред Тобою, но всегда обожал! Но я менее преступен, так как ещё люблю Тебя. Но Ты не вернёшься в мою грудь заклеймённую. Я не могу понять невинность, я страдаю. И дух не в состоянии больше подняться к доблести тех дней мира, дней небесных. Цветы в руках моих, лучи на голове моей. Я улыбаюсь, я был… Может, буду я ещё любим!»
После этих сердечных излияний, похожих на исповедь, соблазнитель был сам почти очарован, забыл свой метод и свою жертву. И сердце его на мгновение отдыхало от преступления. Он тихо повторял, опираясь лбом на руки.
«О, если б я знал вас, слёзы людские».
И может быть, если бы дева могла слышать, если бы небесная рука могла коснуться его! Кто знает, может быть, зло перестало бы существовать.
Дева видела адскую конвульсивную боль, удивляясь и дрожа: подняла глаза свои, подняла крылья серебряные. Он увидел, что она готова бежать к Свету Небесному. Начал сомневаться в силе своей, метался, как тигр, смотрел на жертву неба. Дева не видела таких слёз и остановилась. Он плакал горько, как человек изгнанный, как вдова над заколотым сыном. Он рыдал беспрерывно.
Она начинает плакать. «Что я вам сделала? Что с вами? Вот я…
«Ты хочешь бежать от меня, и может быть, навсегда. Как ты меня наказала, узнав меня».
— Я хотела бы остаться, но Господь ждёт меня. Я хочу говорить с Ним для вас. Он слушает нас. Что же мне делать. Скажите, нужно ли мне остаться?»
«Да, спустись до меня, так как я не могу подняться».
— Покинуть небо?»
«Ничего, если ты меня любишь. Тронь мою руку и смешается для нас зло и добро… Мы соединим наши души».
— Я люблю тебя и сойду! Но что скажут небеса?»
В этот момент прошёл мимо них в воздухе, вдали от их глаз, один из небесных хоров и можно было слышать слова, повторяемые ангелами: «Слава во вселенной, во все времена, Тому, Который приносит Себя в жертву для других!» Небеса точно говорили. Это было слишком для неё. Ещё два раза подняв свои неверные веки, гуляя взглядом, она искала небеса, но не видала их больше. Ангелы Хаоса пошли черпать миры, проходя со страхом в их глубоких равнинах, исполняя поручения Бога. Они увидели падение облаков огня.
«Куда ведёте вы меня, прекрасный Ангел». — Приходи всегда!
«Как печален ваш вид! И какие тёмные размышления! Разве не Элоа поднимает твою цепь? Я верю, что спасла тебя!»
«Нет, это я тебя увлекаю».
— Если мы соединены, то всё равно где».
«Я отбиваю мою рабыню и держу мою жертву».
— Ты казался таким хорошим. О! Что я сделала?»
«Преступление!»
— Стал ли ты более счастливым, по крайней мере, доволен ли ты».
«Более печален, чем всегда!»
— Кто же ты?»
«Сатана!»[6]
Альфред де Виньи внёс новые черты в духовно-душевный облик Сатаны. Это уже не самодовольный и самовлюблённый отщепенец-тиран. У него могут быть сомнения и колебания, но он неукротим и готов вести борьбу до конца, до победы. В мистической поэме де Виньи «Элоа» он представлен задумчивым, рассудительным, сознает своё падение, со всеми вытекающими последствиями. Он вспоминает все подробности своего падения, он несчастен и не знает, как себе помочь. В опустошённом сознании и самосознании падшего Ангела нет места раскаянию и покаянию, и он ищет окольных путей. Он ослеплён духовно, надолго, навсегда. Он ещё более беспомощен, чем падший человек, у которого есть ещё искорка веры и надежды, и проблески любви. Опустошённый дух и осквернённая душа…
Он встречает «дочь Бога», женского Ангела Элоа. При созерцании её небесной красоты пробуждается у падшего Ангела любовь. Он полон надежд, молит и плачет, но демонская чувственность берёт верх и дело кончается падением. О спасении нет и намёка.
Мистически одарённый, автор нескольких мистических поэм на библейские темы, де Виньи — человек набожный, религиозный и избежал преувеличений и искажений. Концепция «спасённого Сатаны» чужда ему. И ему удалось дать художественную интерпретацию падения в раю. Он оказал сильное влияние на Лермонтова и Виктора Гюго.
Виктор Гюго (1802-1885). Конец Сатаны (1854-1860)[7].
Это он, Гюго, автор концепции «спасённого Сатаны (Satan sauvé)». Гюго испытал сильное влияние своего молодого друга Альфреда де Виньи. Его поэма под феноменальным и претенциозным заглавием «Конец Сатаны» его молодого друга Альфреда де Виньи. Его поэма под феноменальным и претенциозным заглавием «Конец Сатаны» начата значительно позже, в 1854 году и прервана в 1860 г., осталась неоконченной. За этот период Гюго испытал множество сторонних влияний, наложивших специфический отпечаток на работу над поэмой. Почти одновременно начинает Гюго свою поэму «Бог».
Гюго исходит из правильного положения, что зло не абсолютно, значит, предвидится его конец. Ад не вечен. Гюго не допускает существование врага или соперника Бога. Сатана — отверженный (miserable), как Жан Вальжан (герой романа «Отверженные»).
Идёт описание падения Сатаны. Он пал от удара грома в бездну и около него лежат перья его крыльев. Лежит он ногами вверх, к небу, молчаливый и печальный. Он крикнул: «смерть!», зацепился за скалу и остановился. И кто-то сверху крикнул: «Падай, проклятый». А кругом были солнца. Он ждал тысячу лет, со взором, обращённым к звёздам. Рассмеялся, стал монстром, ангел в нём умер. И он почувствовал скуку[8].
«Ну, хорошо!» — вскричал Сатана, «я ещё могу видеть. Я буду тёмным небом. Думает ли Он, что я буду рыдать у его дверей. Я Его ненавижу, ненавижу день, лазурь, луч, запахи».
Облик Сатаны как будто выдержан и не противоречит традиции. Ненависть к Творцу переходит на всё творение. Но появляются новые факторы. Известный оккультист, каббалист и маг Элифас Леви (он же аббё Констан),современник Гюго, внушает ему идею Свободы, как дочери Сатаны. Странным образом она же и дочь Бога (аналогия с Элоа Альфр. де Виньи) Сатана меняет свою позицию, он уже кричит: «Я не ненавижу Тебя!»
Он содрогнулся и сказал: «ад». Всё исчезло перед ним. Он бежал, летал, кричал: «Золотая звезда, брат, подожди меня, не оставляй меня одного». Звезда казалась ему искрой, он вошёл в универсальную тень.
Тоска вздувала его ноздри, дуновение вышло из его груди. Он увидал чудовищный хаос. Полный ужаса, он начал вопить: «Иегова, Иегова!» А по ночам слышны его возгласы: «Я Его люблю, я люблю Бога! Кончено, я Архангел с блестящим челом, я был завистлив. В этом — моё преступление. Я Его люблю… и сброшен в бездну. Я осуждён!»
Таков Сатана скорбящий, почти кающийся.
Перечисляются страшные потрясения на небе и на земле, вызванное преступлениями человека. Зло поднялось от человека вплоть до Бога. И Бог сказал: «Всё заполнено». Заглянул в свою книгу, всё было разрушено. Появляется фантом, гигант, несущий бурю и говорит: «Хаос, возьми этот мир!»
Увидя Сатану спящим, Изис (Изида) вскричала: «Он спит, я страдаю одна. О, я его ненавижу!»
Сатана продолжает жаловаться: здесь могила, там хаос, над головой моей темнота. Всё пусто… Он признаёт все свои преступления и рыдает. Сознаёт, что сущность Бога — любовь, что Бог есть сердце мира. И он обращается прямо к Богу:
«Ты хорош, Боже, даже когда ты ударил меня.
Но я в отчаянии, я сын без отца.
Нет, я не ненавижу Тебя!»
И вдруг, как откровение:
«Сатана, ты можешь сказать: «я буду жить”. Сатана умер, возродись, о Небесный Люцифер! Иди, встань!»
И все, современники, друзья и поклонники Гюго, Виньи, Сумэ, Анфантен, Прудон, Эскиро, Элифас Леви, Жорж Занд и сам автор «Конца Сатаны» повторяли один антифон: «Сатана умер, возродись, небесный Люцифер!» Гюго считал своё призвание завершённым: спасённый Гюго, спасённое человечество, спасенный Сатана[9]. Сатана становится символом человечества (гуманизация сатанизма рядом с сатанизацией гуманизма).
Несколько чёрточек из характера, творчества и жизни Гюго. В 1855 г. Гюго хочет писать «Satan pardonné». Гюго — деист, не принимает божественности Христа и ставит его во главе группы магов. Прервав работу над романом «Отверженные», он объявил, что хочет соперничать с Данте и Мильтоном, начиная поэмы «Бог» и «Конец Сатаны». Он уже не соперничал с Шекспиром, Эсхилом и равнялся с Гомером. Но вместо мифов у него личные созерцания, которые он соединил в цикле стихотворений под названием «Созерцание». Он страдает бессонницей и появляется другой цикл стихов, с соответствующим названием. Он хочет созерцать два луча на голове Архангела (Сатаны), но видит два козлиных рога. Свои откровения он пополняет спиритическими сеансами со своей любимой дочерью Леопольдиной, которая соединяется с ангелом Свободы.
Поэт ставил себе миссию продолжения дела Христа и пропаганды нового Евангелия. И Иисус, говоривший с ним посредством стола, утвердил его в этой миссии. Автор «Созерцаний» утверждал, что придёт день, когда Бог не сможет отличить Белиала (демона) от Христа.
Французские критики и комментаторы утверждали, что в процессе реабилитации Сатаны романтическая утопия колебалась в две стороны: реабилитация через любовь (Виньи, Лермонтов!) и через свободу. Гюго якобы отражает обе стороны. Сказывается влияние исторических событий, драма Кальвара и французская революция 1789 г. Если Бог принимает консеквентность революции, то Сатана спасён.
Комментаторы[10] говорят об отсутствии меры у Гюго и объясняют его образом жизни и творчества. Гюго обрёк себя на изгнание на пустынный остров, что делало его последователем апостола Иоанна на острове Патмос. Соседство с диким морем, созерцание ночного неба, ежедневная практика поэзии, обращение к говорящим таблицам, вызывало у Гюго состояние экзальтации и поддерживало его в претензии на пророчество и ясновидение.
Нельзя себе представить произведение более бессвязное и сумбурное, чем «Конец Сатаны» Гюго. Здесь фигурируют все персонажи Ветхого и Нового Завета, вавилонянин Немврод, пророки, Изида и Лилит, дочь Свободы. Предоставляется слово и Иисусу Христу, но Его высказывания бесцветны и не согласуются с евангельским духом.
Жорж Занд встретила «романтическую утопию» Гюго восторженно. «Это бесконечный прогресс, совершение времён, победа добра над злом через кротость и набожность. Это дверь ада, снятая с петель, осуждённым надежда, слепым свет. Уничтожение расплаты кровью и страданием, по понятиям настоящего Евангелия, ломка инквизиционных тюрем, опрокидывание политических эшафотов. Это восстановление Сатаны есть усмирение, кончается его единственное (!) преступление. Романтизм не терпит вечного осуждения, и Сатана, проклятый и отягощённый всеми грехами мира, становится привлекательной фигурой. Он — денди, красота и красивая гордость».
Не приходится сомневаться, что если бы Ж. Санд встретила его, то расцеловала бы. Некоторые идут дальше (из масонского лагеря) и делают из Сатаны жертву, и из титула проклятого делают титул оклеветанного.
Бодлер согласен с Занд, утверждает священный характер всякого восстания, революции. Царство Сатаны перестает быть эрой разорения, становится священной эрой.
Итак, корруптор, растлитель, развратитель превращается в благодетеля, Сатана — брат Прометея, филантроп. Он хотел дать человеку счастье вопреки Богу и подвергся каре. Можно не только жалеть его, но и желать спасти его. Это движение поддерживалось романтическим антиклерикализмом, полемика продолжалась в философии истории и теодицее. Значительную роль сыграл и во Франции орден иллюминатов, враждебный христианству. «Партизаны» прогресса утверждали конец ада. Либертинаж, антиклерикализм, теософщина, переделка церкви на просвещенческий лад — вот корни поэмы Гюго «Конец Сатаны».
Адепты Сатаны кровно заинтересованы в спасении Сатаны, тогда будут спасены и они. А пока, в ожидании момента, они могут продолжать свои чёрные дела: совращать верующих и кружиться в свистопляске.
Демон
Списки поэмы. Поэма «Демон» носит название восточной повести. Были основания к тому, действие происходит на Кавказе и связано с определённым местом. Поэма связана с местной легендой и фольклором. О происхождении поэмы известно, что она начата в 1829-м году. Первые наброски сделаны ещё в пансионе, переработка — 1831-м году и снова переделана в юнкерской школе в 1834-м году. По свидетельству товарища Лермонтова А. М. Меринского окончательно отделанный текст поэмы был привезен Лермонтовым с Кавказа в 1838-м году. Есть основания предполагать, что Лермонтов был всё ещё недоволен и переделывал до самой своей смерти.
Исследовательница Т. Иванова[11] утверждает, что Лермонтов работал над поэмой 10 лет и переделывал её не четыре раза, а больше. Есть свидетельство родственника поэта, Шан-гирея, что после зимы 1838-1839-го г. «Демон» не переделывался[12]. Известна авторизованная копия поэмы, подаренная поэтом любимой женщине — Варваре Александровне Лопухиной, с виньеткой автора. Рукою поэта сделана надпись «Демон, 1838 года сентября 8 дня». Это так называемый лопухинский список. В нём, по утверждению Т. Ивановой, есть новые варианты отдельных глав, с иной трактовкой старых сюжетов. Автор считает, что эти разноречия не так существенны[13]. Среди этих списков есть один, имеющий новую развязку. По фамилии владельца этого списка, родственника Лермонтова, А. И. Философова, он (этот список) назван «философовским»[14]. С этого списка поэма была напечатана Философовым в Германии, Карлсруэ. Внешне она не имеет ничего общего с лопухинским списком. Дата — 13 сентября 1841 года. Отмечается противоречивость обоих списков. Автор отмечает, что Философов внёс значительные изменения в текст[15]. Все дальнейшие издания были философовского типа. Тщательная работа автора приводит к выводу, что единственно подлинной редакцией является лопухинская 8-го сентября 1838 г. Эта редакция положена в основание настоящей главы о Демоне.
И Ир. Андроников держится того же мнения, что окончательная редакция завершена 4-го декабря 1838 г. Это — седьмая редакция и разошлась по России в сотнях списков и стала известна современникам. Это и есть окончательная редакция «Демона», потому что новые исправления сделаны из цензурных соображений. Такова восьмая редакция 1841 г. Лермонтов внёс и существеннейшие художественные дополнения.
Седьмая редакция написана по возвращении из Грузии. Начата поэма в четырнадцатилетнем возрасте, когда Лермонтов учился в университетском благородном пансионе..
В первом своём очерке поэма ничем почти не отличается от других его юношеских произведений: «Кавказский пленник», «Корсар», «Джулио», «Азраил», «Каллы». Эти неоконченные и заброшенные произведения имеют важное автобиографическое значение. По ним можно восстановить духовный облик юноши Лермонтова. Герои этих поэм — духовные дети Демона. Сюда можно отнести и героев более зрелых и художественно-законченных произведений: Боярина Оршу, Арсения, Измаил-Бея, Хажды — Абрека и др. Одна черта связывает их: ненависть с детских лет, как бы всосанная с молоком матери, война и мщение. Это — опустошённые души, по терминологии Лермонтова.
Лермонтов получил большое и разнообразное литературное наследие о Демоне, хотя и под другими именами, но внёс новые черты с самого начала и до конца. Он назвал свою большую поэму «восточной повестью» потому что действие происходит на Кавказе. И ещё потому, что восточная легенда считает Демона соблазнителем девушек, как и в случае Тамары, героини повести. Лермонтов даёт герою повести имя нарицательное, избегая библейских наименований, как у западных писателей-предшественников. К тому же его герой сильно отличается от библейского прообраза и литературных предшественников.
Поэма «Демон» есть самое задушевное произведение Лермонтова, он вложил в своё произведение весь свой проникновенный гений, дал яркую, непревзойдённую картину демонской сущности. Здесь поэт метафизик сказал последнее слово, дал один из величайших шедевров мировой поэзии.
Лермонтов начал писать свою поэму в 15-летнем возрасте и писал чуть ли не до последних своих дней, по свидетельству всех специалистов-исследователей. Многократно исправлял и переделывал, вставлял новые строфы. Находил ли Лермонтов в себе самом те черты демонии, которые он приписывал своему высокому герою, как праотцу демонии? Это — не традиционный демон мировой литературы.
Падший дух. Несколькими гениальными чертами даёт поэт полный портрет Демона:
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землёй.
Печаль… свойственна ли она ангелу, летающему над землей. Для ангела, его состояние — радость, наполняющая всё его существо. Но и ангелу свойственна печаль, ангелу-хранителю, когда охраняемый им человек грешит и земная аура наполняется следами человеческих грехов. Тогда печаль есть то, что ещё соединяет небо с землёй, ангела с человеком.
Следующие два слова первой строки вносят ясность, Демон Лермонтова есть «дух изгнания». Он «блуждает в пустыне мира» (строфа 2). Блуждает, не находит себе приюта, или ему нечего делать. Отвержен он… Кем? Ответ ясен, духовным Отцом своим, связь с Которым потеряна навеки. Ему остаётся одно — блуждать, но и здесь он не знает покоя
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой.
Воспоминания о лучших днях, когда был он в «жилище света» и «блистал, как чистый херувим». Всё мироздание, все небесные сферы со светилами любили поменяться с ним
Улыбкой ласковой привета.
Он следил за кочующими караванами светил,
Он верил и любил Счастливый первенец творенья!
Вера и любовь — это ангельские, херувимские качества. И он — первый ангел, Светоносец, у престола Господня! Злоба и сомненья были ему чужды. Ум был свободен от «унылых рядов», от бесплодных спекуляций.
Демон, падший ангел, как будто искренен, во многом признаётся, но скрывает самое главное. Как всё случилось и с чего началось. Одно только воспоминание об этом жжёт его, как адским пламенем, вызывает ярость, которая жжёт его хуже адского пламени.
Преступная мечта его осуществилась полностью, он стал властелином земли, вытеснив первозданного, подлинного властелина Адама, которого он победил хитростью. Землю, творение Божие, называет ничтожностью, потому потерял, что потерял своё ангельское ясновидение. Какая ошибка, обман! И потому он ненавидит теперь землю. Он «сеет зло», не получая от этого наслаждения, сеет для развлечения но… И зло наскучило ему (т. ж.).
Чтобы отвлечься от тяжких терзающих дум, «изгнанник рая» летает над Кавказом. Следует великолепное описание красот природы, Казбек, «как грань алмаза», вечные снега, чернеющая трещина с излучистым Дарьялом, Терек, прыгающий, как львица, с косматой гривой на хребте. «Глаголу вод» его внимали горный зверь и птица. Золотые облака провожали его на север. А скалы точно склонялись головой. Башни замков стояли, как сторожевые великаны,
И дик и чуден был вокруг
Весь Божий мир…
Какое же впечатление производит красота природы, Божьего мира, на бесприютного, падшего ангела. Ничего, кроме «зависти холодной» в «груди изгнанника холодной», которая лишена эстетического чувства. Ему знакомы и другие красоты, Багдад, Тегеран и Хамадан, Сирия с Дамаском.
Бесчувствие и равнодушие сменяются другими, адскими чувствами,
И всё, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел (ст. 4).
Как будто потерян и критерий гармонии и симфонии миров и их объектов. Потеряно и ощущение времени, когда
Вослед за веком век блуждал,
Как за минутою минута.
Демон Лермонтова лишён ореола величия Первого Ангела, Светоносца-Эосфора-Люцифера, как у западных поэтов, предшественников Лермонтова, включая его современника Байрона. Он превосходит светом всех подвластных ему чинов и сотрудников, голос его приводит в трепет всех чертей и чертенят Гоголя, партикулярного черта Достоевского. И везде он является без свиты и окружения. Так у Лермонтова.
У него сонмы таких же падших, как и он, чернее, мрачнее и злее, чем они. И зло доставляет им радость и наслаждение, не в пример ему. Он блуждает в сферах небесных без цели, видит обломки былых миров, тени умерших и их славу в чистых делах и ад…, его будущее пристанище, где страждут и томятся мириады совращённых и обманутых им, проклинающих его. И кипит он от злобы и бешенства. Ему не остаётся ничего другого, как презрение к творению, которое сам он испортил.
Встреча с Тамарой. Духовный облик падшего Первого-ангела готов, сделан он кистью великого художника, владеющего, пером и кистью, величайшего психолога русской литературы. Поэт-художник переносит читателя в земную сферу. Вот дом в горах, с башней, со ступенями в скалах, по которым спускается и подымается с водой Тамара, юная героиня и виновница торжества в доме. Готовится свадьба, большой пир в ожидании жениха. На кровле дома веселятся невеста и подруги. Дается портрет Тамары в движеньях танца, лёгкость и необыкновенная грация движений, сравнение с полётом птицы. Влажный взор из-под завистливой ресницы, чёрная бровь и… скольжение божественной ножки… Детское веселье и улыбка, с которой не сравнится сияние луча луны по влаге зыбкой. Это как будто антитезы, противоположности, печальный и вечно-задумчивый Демон, не находящий себе покоя, и веселящаяся, беззаботная Тамара.
Око Тамары, превосходящее все гаремные прелести, стан, непривычный для брызжущего гаремного фонтана и волосы. Нет, Восток не видал такой красоты и совершенства.
И, неожиданно, переход к Демону. А что, если бы он, Демон, пролетая мимо, увидал бы эти светлые черты, милую простоту движений и стройность Тамары?
…прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б — и вздохнул (8).
Здесь завязка всей поэмы. Демон увидел бы простоту и невинность первозданного ангельского бытия, утраченную им навсегда и безвозвратно.
«И Демон видел»… Случилось с ним нечто необычное, почувствовал «неизъяснимое волнение». Пустыня его души наполнилась благодатным звуком
И вновь постигнул он святыню Любви, добра и красоты!… (9)
Что-то непривычное, отдалённое, забытое, но такое свежее и животворное. Являются мечты о прежнем счастье, «новая грусть» становится знакомой, новое чувство вдруг «заговорило родным когда-то языком». Что это? «То был ли признак возрождения?» спрашивает он самого себя. И
Найти в уме своём не мог…
Он слов коварных искушенья
Это — настоящее чудо, чудо с падшим духом, дьяволом.
Нет, это только видимость, обман или самообман. Тамара горюет, плачет и слышит «волшебный голос» ещё неизвестного соблазнителя, пускающего в ход всё своё дон-жуанское красноречие. Здесь и небесный свет, ласкающий «бесплотный взор» убитого жениха и райские напевы. Слагает строфы о небесных сферах, о гармонии и… безучастности к земным горестям человека.
Тамара ещё не успевает прийти в себя от горя, как слышит неумолчные серенады своего титулованного соблазнителя, который не забывает о чувствах, пережитых им при первой встрече с Тамарой. Его голос, его напевы и наветы смущают её, пробуждают в ней ещё неиспытанный восторг и чувственность. Она очарована его неземной красотой, но смущена, это — не ангел-хранитель-небожитель, но и «не ада дух ужасный». Этот обманчивый образ, похожий на «вечер ясный», ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет, смущал её.
Портрет Демона. Для полного портрета Демона нужны библейские, данные. Власть его над землею и миром достигнута и общепризнана. Он — князь мира сего и князь земли. Но этого ему не достаточно, он хочет стать верховным владыкой бытия и творения, но встречает непреодолимые препятствия. Отсюда его безграничная злоба на всё и на всех. К тому же он терзается мыслью, что власть его не вечна и что ему придёт позорный конец. Он ищет опоры, он мечется. Он соблазнил человека, чтобы найти себе опору. Он надоумил змея, змей — только его орудие. За змеем стоял он, как организатор и свидетель. Он начал с Адама, но дело приняло другой оборот, неожиданный. Адам и Ева отвергли его, примирились с Богом и служили Ему, приносили искупительные жертвы, жили трудом и ждали обещанного Спасителя от первородного греха, Мессию, который «сотрёт главу Змею» и восстановит первозданного человека во всём его величии и силе. Этот заклеймённый враг рода человеческого сделал вторую попытку. Он соблазнил, привлёк к себе Каина, навсегда. Он показал ему царства, миры в их красоте и гармонии, открыл ему тайны. Каин — первый маг, волшебник, Фауст, неразлучный с чертом. С Каином культура человеческая превращается в цивилизацию, когда всё служит земным потребностям и интересам человека. Он же толкнул Каина к человекоубийству, убийству брата Авеля. Каинизм утвердился на земле, размножился и стал главной опорой дьявола на земле. Полная картина их взаимоотношений, Каина и Люцифера, дана в мистерии Байрона «Каин».
Третья попытка «Князя мира» со Христом в пустыне не удалась. Это было первое крупное его поражение. И он был сброшен с неба, по свидетельству Христа.
Он тормошит человека, не оставляет его в покое. Создаёт тысячи соблазнов, расставляет сети и ловит, как «глупых дроздов». Смущает всех верующих, отнимает надежду и вместо любви сеет злобу и ненависть. Совращает великих отшельников, аскетов, пустынников и подвижников, монахов и монахинь, стоящих у порога святости. И из них вырастают основатели сект и ересей. Всех преступлений его не перечесть.
Лермонтов даёт портрет Демона, непревзойдённый в мировой демонической поэзии. Первая его встреча с Тамарой; он пришлец туманный и немой, блистает красою неземной. Играет он прекрасно, как великий артист.
И взор его так грустно на неё смотрел,
Как будто он о ней жалел.
Он не чужд человеческих чувств, включая и жалость к своей будущей жертве. Или небесная красота юной монахини Тамары его смутила, на время конечно. Ангелоподобный, но не ангел, как её божественный хранитель, он был без венца. Но это не смущает неопытную монахиню Тамару, это первый её подвижнический опыт. Но
То не был и ада дух ужасный,
Порочный мученик — о нет.
Облик его остаётся для Тамары неразгаданным, может быть это видение?
Он был похож на вечер ясный,
Ни день, ни ночь — ни мрак, ни свет.
Эта двойственность, это двуличие пришельца — гениальный штрих на палитре художника Лермонтова.
Но нет, он — реальность, она слышит его речь в монастыре во время моления.
Сияет лампада «грешницы младой». Сердце её полно «думою преступной» и «недоступно восторгам чистым». Весь мир, вся природа для неё — «предлог мучений». Она падает перед иконой, плачет, рыдает ночью, тревожа путников. Сидит у окна, как Татьяна, смотрит вдаль прилежным оком и целый день ждёт. Второе действие трагедии Тамары. Он является теперь ей с глазами полными печали и с «чудной нежностью речей». Тамара хочет молиться, а сердце молится ему. Утомленная непосильной борьбой, она мечется в постели, как Татьяна.
Пылают грудь её и плечи, туман в очах,
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах.
Здесь опять что-то лермонтовское, человеческие черты у Демона. Он прилетает и колеблется, не решается нарушить святыню мирного приюта. Казалось, хотел оставить он умысел жестокий. Снаружи раздаются звуки песни и игра на чингуре. Песня была нежная, как будто сложенная на небе. И Демону кажется, что ангел прилетел и пропел ему о былом, чтобы усладить его мучение.
Будучи отцом борьбы, Демон сам становится жертвой жестокой борьбы с самим собой. В нём борется прошлое с настоящим. Он не может забыть своё светлое прошлое и даже не хочет забыть. Но он связан с настоящим, со злом мира. Очень красноречиво говорит он о бесстрастии небесных светил и облаков, об их космической гармонии. Но это бесстрастие ему недоступно, сам он полон страстей и смущает людей. Смущает «мечтой», то коварной, то «пророческой и странной», но всегда неотразимой. Печальные я странные сны тревожат Тамару от его наваждений.
Он сковывает души, люди теряют способность молиться.
…Я не могу
Молиться.
Гибельной отравой
Мой ум слабеющий объят,
говорит преследуемая им Тамара.
Эта чудовищная двойственность характерна для Демона. Вместо восторгов и страданий земных, он предлагает страданья неземные, нечеловеческие и вечные. Тогда человек уподобляется ему, Демону. Он может демонизировать человека и Тамара должна стать его жертвой. Чего же стоит тогда венец «гордого познания» и гордой свободы, которую даёт Демон обманутым им людям? Венец его обещаний Тамаре
Я дам тебе всё, всё земное.
Только-то? А. если человеку наскучит всё земное, как наскучило ему самому, Демону. И захочет небесного. Что ему или ей золотые венцы, чертоги из бирюзы и янтаря. Здесь он не может дать ничего другого. Здесь кончается его царство. Тогда приходит ангел-хранитель и уносит душу к небесному, несмотря на все усилия Демона удержать душу. Он отступает перед ангелом в бессильной ярости.
И проклял Демон побеждённый
Мечты безумные свои.
Он тогда жалок и ничтожен, теряет остатки своего очарования. Злобный взгляд, неподвижное лицо, от которого веет могильным холодом,
Исчезни мрачный дух сомнения, говорит ему ангел, унося душу Тамары. Дело его — сеять зло без наслаждения, таков Демон, слегка облагороженный Лермонтовым. И он не встречает сопротивления «искусству своему», которое состоит в том, чтобы бесславить всё благородное. Он залил в людях пламень чистой веры, а теперь, у изголовья Тамары, хочет веровать добру. Когда-то и он, «Демон» верил и любил». Он наделён нечеловеческими чертами, его прикосновение обжигает.
Он жёг печатью роковой
Всё то, к чему ни прикасался.
Всё трепещет перед ним,
…От его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Его слеза единственная, тяжёлая, насквозь прожигает камень.
Он лишён обычных, безобразных атрибутов мелких бесов:
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик, о нет!
Он полон своеобразной красоты. Пришлец туманный и немой
Красой блистает неземной.
Но что-то странное просвечивает в его красоте. Она и манит и отталкивает, внушает беспокойство и страх, рождает недоверие и сомнение. Это не ангельская красота, потому что
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
На гордом челе его — только следы небесного огня. Поэт разрешает наше недоумение словами:
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.
Но голос у него волшебный и «чудно новый», рассеивающий сомнения Тамары. От одного его присутствия пылают у Тамары плечи и грудь, нет сил дышать, и туман в очах. Поражает мысль Тамары полными печали глазами и чудной нежностью речей. Он умеет наложить печать гордыни на смиренное сердце монахини Тамары.
Он бережно хранит воспоминание о былом блаженстве,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним.
Давно уж нет этого приветствия: «Прежнего собрата не узнавало ни одно». Он отвергнут прежними друзьями, как изменник и предатель. Луч божественного света, играющий на челе ангелов, его прежних собратьев, ослепляет его «нечистый взор».
Как понять душевно-телесные, плотские эмоции Демона, бывшего ангела, его человеческую страсть? Примеры тому есть в библейском тексте:
«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии (ангелы) увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал» (Быт., гл. 6, 1-2). И они стали рождать им (т. ж. 5).
И произошло великое развращение на земле, которое привело к потопу (т. ж.). Бесплотный ангел обрёл человеческое тело, оделся в плоть. То же произошло с главою всех ангелов. Таков и Демон, отелесённый бывший ангел. Библейские сведения подтверждают это:
«Как упал ты с неба, денница, сын зари!!! А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой… Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Видящие всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства» (Ис. 14:12-14).
Ещё одна черта Демона — он дух познания и сомнения в лермонтовской интерпретации. Он ищет познания, тайн Божиих, чтобы сравняться с Ним. Он попадает на ложный путь, познание вызывает в нём сомнение, из которого рождается познание, но другое, автономное познание. То, что формулировал Августин: «сомневаюсь — познаю» (dubito — cogito), усвоенное Декартом. Кстати, сомнительное познание и познавательное сомнение легли в основу новой, европейской философии Декарта, Локка, Юма, Канта, Фихте и др. Человек повторяет путь, пройденный Демоном.
Искушение. «Дух лукавый» продолжает терзать Тамару, и она решается на героический шаг, идти в монастырь, где защитит её Спаситель. Идёт прекрасное описание монастыря, ущелий и окрестных гор, с хорами поющих птиц, и шумом ключей, со звучным гласом колоколов, видом Казбека. Но сердце Тамары смущено и недоступно восторгам чистым. Она плачет, её рыдание смущает прохожих. И кто-то ей шепчет: «Он придёт!»
Испытав «невыразимое смятение» от первой речи Демона, печаль, испуг, восторга пыл, все чувства кипели в ней. Она, чувствует всю силу его соблазна на расстоянии, его гипноз и внушение парализуют разум, прерывают молитву. У него — огромный опыт в совращении. Количество его жертв неисчислимо. Он знает раздобрелую Венеру, апокалиптическую Вавилонскую Блудницу, метафизическую Лилит, лунно-бледную Астрату, кровожадную Гекату, требовавшую человеческих жертвоприношений, и авантюрную Царицу Ночи из «Волшебной флейты» Моцарта. Он им изменяет, они отвечают ему тем же. Но он всегда желателен. У него высокий ранг, внушительное имя, почти неограниченная власть на земле, в земных и планетных сферах. Голос его то громоподобен, то музыкален и звучит, как рапсодия или ноктюрн. Испытал все акценты, градусы и модусы любви. Любви? Нет, только вожделение и физиология любви.
Он не честолюбив, как полулегендарный испанский гранд Дон Жуан, хорошо владеющий шпагой и с первого же удара отправляющий на тот свет своего противника. Не ведёт списка своих жертв, и Лепорелло ему не нужен. Отец сладострастия и жестокости, он сверхчеловек и прообраз всех сверхчеловеков. Сверхчеловек Лермонтов как будто очарован им, то настроен критически и разоблачает его.
А теперь Тамара! Совершенное творение и избранница небес, невеста Христова, воплощение красоты, смутившей тысячи ангелов, упавших на грешную и скорбную землю. Для природы Тамары Лермонтов нашёл четверостишие, равного которому нет во всей мировой поэзии:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их.
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них.
Такова тончайшая эфирность Тамары и её внемирность. Ангел, сошедший из высших сфер в женском теле. Богоборческий пафос его принимает другое выражение. Вырвать из рук Творца его совершенное творение, овладеть им, в назидание всех прошлых и грядущих генераций.
Смущая Тамару-монахиню на расстоянии, он решается, наконец, посетить её. Он у двери обители, но не решается нарушить «святыню мирного приюта». Может быть, уйти, и он бродит задумчив. Что-то человеческое проглядывает в падшем ангеле. Но окно её озарено лампадой и… раздаётся музыка небесная, песня ангела-хранителя, звуки лились, как слёзы
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена.
Ах, это поёт ангел, слетевший сюда, чтобы усладить его мучение. Постигнув тайну любви в первый раз, Демон хочет в страхе удалиться. Даже тяжёлая слеза катится из его померкших глаз. Демон входит, «готовый для любви», на этот раз для подлинной любви, ещё не испытанной… И видит ангела, херувима, прикрывающего крылом монахиню, хранителя «грешницы прекрасной». Луч божественного света от ангела только раздражает Демона, и он показывает свою подлинную природу.
Злой дух коварно усмехнулся;
Зарделся ревностию взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
Ангел явился поздно, по начертанию свыше. Тамара уже не смиренная монахиня. На сердце её, «полное гордыни» наложена печать Демона. Родовая гордость просыпается в душе Тамары.
Исповедь. Начинается оправдательная речь Демона, похожая на исповедь. Всю силу несравненного гения своего вложил Лермонтов в любовные признания своего необыкновенного героя. Какая тонкая авто характеристика Демона! Это он, который смущал её, чью грусть она смутно отгадывала, чей образ видела во сне. А дальше, кто же он? Откровенность его изумительна и должна потрясти Тамару.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы… (10).
Казалось бы, монахиня Тамара должна отшатнуться, молиться и осенить себя крестом, призвать на помощь ангела своего хранителя. Демон не дает ей опомниться. Он играет на её религиозных чувствах. Он приносит ей для умиления свою «молитву тихую любви» и свои первые слёзы. Только бы выслушала она его из сожаления. Она может возвратить его добру и небесам одним только. словом своим. И тогда он, покрытый «святым покровом любви», предстал бы «там», Как новый ангел в блеске новом (10).
Лишь только увидя её, он возненавидел и бессмертие, и власть свою и позавидовал «неполной радости земной». Он не представляет жизнь без Тамары! Два потрясающих открытия: в бескровном сердце «затеплился луч нежданный» и зашевелилась грусть на дне старинной раны. К чему тогда ему вечность и бесконечность владений его. От откровений Демона рождается у Тамары смутная надежда на другой жизненный жребий, но она приходит в себя, не доверяет «духу лукавому» и «врагу». Обращается к Творцу, но не может молиться, ум её немеет, объят гибельной отравой. Но женская натура берёт верх. Вопрос
Скажи, зачем меня ты любишь!
Прототип и архетип всех потенциальных и актуальных дон-жуанов, владеющий в совершенстве даром совращения и обольщения. Он красноречив более Демосфена и Цицерона и всяких Мирабо, Робеспьеров и Дантонов. Изворотлив, как софисты Протагор, Критон и Горгий. Любит ли он Тамару или это мимолётная страсть крылатого дон-жуана, прославленного в восточных легендах о совращении девиц.
Нет, есть и искренние ноты в его признаниях, нечто, ему дотоле незнакомое и неиспытанное. Какая-то двойственность есть в нём, открытая Лермонтовым. Что это, пробуждение духа после многотысячелетней адской летаргии?
Зачем он любит Тамару? На прямой вопрос её он даёт прямой ответ, он не знает. Но вот его дела, он полон новой жизни, снял с преступной головы венец терновый (!), всё былое бросил в прах.
Мой рай, мой ад в твоих глазах.
Люблю тебя не здешней страстью,
Как полюбить не можешь ты.
Он говорит о своей сверхчеловеческой любви. Затем идёт новое, третье, более потрясающее откровение:
В душе моей с начала мира,
Твой образ был напечатлён,
Передо мной носился он.
В пустынях вечного эфира.
Сладкое имя её, Тамары, звучало ему в дни блаженства; ему в раю только её, Тамары, недоставало. Эта запоздалая романтика о первозданном сродстве душ нужна для того, чтобы смутить воображение бедной Тамары.
Демон чувствует в себе прилив какого-то обновления, может быть в первый раз, движение в своём окаменевшем ангельском сердце («Возьму у вас сердце каменное и дам вам сердце платяное» — говорит Бог Израилю). Может быть, он чувствует проблески света и тепла в своём сердце. В его словесных излияниях звучат искренние ноты. Можно ли так искренне и красиво лгать? Тамара начинает верить ему; женская доверчивость, знакомая ещё с согрешения Евы, протянувшей руку к запретному плоду.
Соблазн Тамары — не первый у Демона в реестре его женских «любвей». Тысячи совращений не спасли Демона и принесли ему разочарования. Может быть Тамара — первая, которая потрясла всё его демонское существо. Может быть только в ней, в первый раз, он испытал всю полноту женского очарования, небесные черты в земной женщине? Лермонтов вложил много поэтических усилий и его художественный женский портрет — один из сильнейших в мировой литературе.
На горе Тамары, потерявшей жениха, он развёртывает своё демонское красноречие. Нет — такого красноречия, какое Лермонтов вложил в уста Демона, мир не слыхал. Слышен лживый дифирамб райскому блаженству убитого жениха. Небесный свет теперь ласкает Бесплотный взор его очей…
Он слышит райские напевы.
Он вложил в своё волшебное нашёптывание всё своё былое архангельское красноречие, звучавшее когда-то, как серафическое славословие Богу.
Странно… давно забытые чувства, казалось потерянные навсегда, пробуждаются в нём. Что-то живёт в нём еще настоящей жизнью, тлеет, как искра под слоем тысячелетнего пепла. «То был ли признак возрождения?» Он теряется в догадках, ясность ума изменила ему. Но демонская природа делает своё. В тиши бессонных ночей Тамара слышит его «волшебный голос». Это даже не простой человеческий голос утешения. Нет, в нём проявляется его всегдашняя природа. Соблазн, вот основной тон его утешения.
Одинокая в своём безутешном горе, Тамара не только слышит его чарующий голос, но и видит его во всём неземном, но и не-небесном блеске. Это — не ангел-хранитель, которого она тоже видела и знает, что-то среднее, «ни ночь, ни день, ни мрак, ни свет». И слова его — не утешение. И в монастыре её сердце бьётся от «беззаконной мечты». И «дума преступная не оставляет её», даже во время молитвы и богослужения.
Тамара слушает очарованная, ей хочется верить, но ‘святое сомнение не покидает её. То сомнение, которое спасало всех монахов, отшельников, пустынников и подвижников от всех наветов тёмной силы. Демон должен наконец дать ответ на вопрос, кто же он. Следует новая исповедь, чарующая по своей искренности, прямоте и откровенности. Это мог написать только Лермонтов, пожизненный страдалец и раб своих неутолимых страстей, бездомный скиталец. Это — итог всей жизни самого Лермонтова. За Демона говорит Лермонтов и за Лермонтова говорит Демон. Величайшее чудо поэтического и метафизического творчества. Демон — страдалец — это концепция одного только Лермонтова. И человек с демонскими мучениями, исповедание жизни в демонском аспекте.
Дано место и Божьему проклятию, Его всеведению и возмездию. Вся жизнь падшей твари есть только горькое томление, одинаково и в наслаждении и страдании. Не ждать похвал за зло и награду за добро. Вечная борьба без торжества и примирения. Жить только для себя, какая скука. Всегда жалеть (кого?) и не иметь никаких желаний. Всё знать видеть, всё чувствовать только для того, чтобы всё презирать! С момента Божьего проклятия навеки остыли жаркие объятия природы. Видеть «брачное убранство» давно знакомых светил, но быть отверженным ими. Оставалось одно, звать себе подобных и встречать только злобные лица… Отвергнут прежними друзьями. Мир стал глух и нем для его молений. Как повреждённая ладья без парусов и без руля плыть по вольной прихоти теченья. Бродить, как отрывок тучи грозовой.
Демоно-человеческие излияния словесные вдруг неожиданно прерываются жутким, чисто демонским признанием. Он учил людей греху, бесчестил всё благородное, хулил всё прекрасное. И «пламень чистой веры» легко навек залил в них. Но только глупцы да лицемеры поддались его злым наветам. Какой удар по всем лжеучителям, отнимающим у людей веру.
Но злобы мрачные забавы
Не долго нравилися мне!
Неожиданная пауза в его лирических признаниях, черта необычная в наших представлениях о Демоне. Зло бывает временами противно и самому родоначальнику зла!
Он предается развлечениям, чтобы заглушить тяжкие воспоминания. Борется с ураганом, подымает прах, одетый молнией и туманом. Мчится в облаках, чтобы в «толпе стихий» заглушить «сердечный ропот» и спастись от «думы неизбежный»
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди, что их труд?
Они прошли, они пройдут… (10).
И у грешника-человека есть надежда, его ждёт правый суд (!). Он (Бог) хоть и осудит, но простит. Какие золотые евангельские слова на устах Демона-клеветника, каким знает его Священное Писание и за это называет его дьяволом, что и означает клеветник. Может быть это — только лесть, для усыпления внимания наивной Тамары?
И дальше. Его печали, как и ему самому, не предвидится конца. И она, печаль его, не «вздремнёт в могиле», как у обыкновенного смертного. То ластится она, как змей, то жжёт и плещет, как пламень; то давит мысль, как камень. Как «несокрушимый мавзолей» надежд погибших и страстей. Любвеобильное сердце Тамары откликается на это беспросветное страдание таинственного собеседника, но и сомнение не покидает её: а если это лукавство и обман. Она удивляется его выбору, просит пощады, требует клятвы и обета отречения от «злых стяжаний». От кого?
Эта клятва должна окончательно убедить Тамару, рассеять все её сомнения и бросить в объятия очарованного соблазнителя.
Возрождение духа? Ещё при первой, случайной встрече с Тамарой, перед её свадьбой, во время беспечного веселия и танца, с Демоном происходит нечто непривычное. На мгновение неизъяснимое волнение, пустыню его души наполняет благодатный звук
И вновь постигнул он святыню Любви, добра и красоты!…
Но ведь это — пробуждение духа от одного взгляда на женскую красоту! Но мы верим волшебнику слова и стиха Лермонтову, великому психологу. Созерцание совершенного творения Божьего может пробудить помрачённый дух. И ещё, Демон любовался и перед ним «катились» забытые мечты о прежнем счастье, как звезда катится за звездой цепью длинной. Он стал знаком с «новой грустью». Чувство, застывшее в нём, заговорило новым языком.
То был ли признак возрожденья?.
Этот вопрос задаём и мы. Мы начинаем почти верить этому основоположнику греха и зла. Но умудрённая восточной мудростью Тамара не даёт себя обмануть. «Меня терзает дух лукавый неотразимою мечтой», говорит она и идёт в монастырь, наивно мечтая, что там он, таинственный гость, оставит её в покое.
Демон выдерживает жестокую борьбу. Он долго не смеет нарушить «святыню мирного приюта» монастыря. Была минута, когда он, казалось, готов был оставить «умысел жестокий». Стоит задумчив у высокой стены, бродит, но от его шагов «лист без ветра трепещет». Но, окно её озарено лампадой. Она ждёт!
Под звуки чьей-то песни за стенами монастыря Демон постигнул в первый раз «тоску любви, её томление». Объятый каким-то ему непонятным страхом, он хочет удалиться, И, чудо! из померкших глаз Слеза тяжёлая катится…
И поныне возле кельи той виден камень, прожжённый слезою жаркой. Он входит, любить готовый, с душой, открытой для добра, мыслит о начале новой для него жизни. И вдруг, встречает херувима, хранителя «грешницы прекрасной». С блистающим челом, с улыбкой ясной, ангел приосеняет жертву крылом. И пытается прогнать порочного Демона.
Этого было достаточно, чтобы от духовного пробуждения Демона не осталось следа. Он коварно усмехается, взгляд его рдеет ревностью и в душе просыпается яд старинной ненависти. И вдобавок хвастается, что он успел наложить свою печать гордыни на сердце Тамары.
Начинается диалог с Тамарой, где она требует от него прямого ответа. Он принуждён начать с правды, чтобы открыть ей свои планы. Начинается убийственная само характеристика, проведенная с большим искусством и точностью, не жалея самых мрачных красок. Кто он? Он тот, которому она внимала в ночной тишине, чью грусть смутно отгадала и чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес и зло природы (10).
Какого познания и какой свободы? Конечно богопротивной и богоотверженной. Свободы только для себя и рабства для всех прочих.
Нельзя себе представить ничего красноречивее, чем признание Демона в любви. Здесь и тихое умиление в «молитве любви», и первое земное мучение, и первые слёзы. Ищет сожаления беспомощной Тамары, молит выслушать его. Она может возвратить его «добру и небесам» одним своим словом. Одетый святым покровом любви её, он может предстать «там», «как новый ангел в блеске новом». Он любит её, он — её раб, и у её ног.
Само характеристика кончается его самоотречением от всех его прежних прерогатив. Он возненавидел «тайно» и бессмертие, и власть свою и позавидовал «неполной радости земной». Нет, жить только с нею, и тогда
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей.
Он полон жизни новой и готов на беспримерные жертвы.
Тамара должна быть оглушена, ослеплена такой сверх земной перспективой стать спасительницей величайшего и могущественнейшего грешника. Может быть это — от Божественного произволения? Может быть, её ждут тяжкие мучения и страдания для искупления его грехов? Она полна жалости к «страдальцу», слушает его с «тайной отрадой», но страх перед обманом парализует все её добрые порывы и все «женские мечты». И она требует от него «роковой клятвы».
Демон стоит перед последней альтернативой. Быть или не быть? Здесь и клятва творением, и позором преступления и торжеством вечной правды, горькой мукой падения, свиданием и разлукой с нею. Следует: судьба братьев подвластных, мечи ангелов бесстрастных, небо и ад, последний взгляд и первая слеза Тамары, дыхание и волна её шёлковых кудрей, отречение от мести и гордых дум. Не останется и яда коварной лести.
Центральный пункт всей поэмы и демонских откровений:
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Он единственный, который постиг и оценил её, Тамару, избрал её своей святыней и кладёт всю свою власть к ее ногам.
Примирительная и покаянная клятва кончается самым неожиданным образом:
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик (!!!).
Дуализм добра и зла не преодолён, злоба не изжита, не преодолена. Он, может, говорит от имени злобы, но не от имени добра. Тамара, подавленная дьявольской элоквенцией, не замечает ляпсуса своего соблазнителя. Он проговорился, сам того не замечая. Внимание Тамары затуманивается, воля почти парализована, ум помрачён «откровениями» и она попадает в объятия Демона. Роковой, но спасительный поцелуй. Она умирает неосквернённая. И только сторож полуночный слышит «двух уст созвучное лобзание» и слабый стон. Один из ангелов святых несёт в объятиях святых душу Тамары, умывая своими слезами след «проступка и страданья». Издалека доносятся звуки рая.
Отец сладострастия и жестокости, Демон вложил в свой поцелуй всю силу своей демонской страсти. Она прошла сквозь сердце Тамары, как невидимый нож. Демон просчитался. Первозданная архангельская мудрость изменила ему. На всякого мудреца довольно простоты.
Какие блага сулит Демон Тамаре за её любовь? Она попадёт в надзвездные края, станет царицей мира и его первой подругой. Он сорвёт с восточной звезды (Венеры) венец златой и даст своей красавице; Тамара станет второй Венерой. Последует полный мета схематизм (извращение) новой небо жительницы.
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты.
То есть полностью уподобится владыке земли и ада. Безразличие к земным, человеческим горестям и страданиям. Где только минутная любовь, волненье крови, разлука и соблазн новой красоты, усталость и скука, своенравие мечты. Не назначено ей судьбой молча увянуть в тесном круге грубости, быть рабой, среди притворных друзей и врагов. Её ждут иные восторги, иное страдание (всё— таки! какое, адское?)
Что же может дать он ей? «Пучину гордого познанья, толпу служебных духов, прислужниц лёгких и волшебных. Дальше идут косметические тонкости, полночная роса цветов, ароматы. Чертоги из бирюзы и янтаря…
Соблазн велик, Тамара в полном замешательстве. Он пользуется этим, чтобы запечатлеть поцелуй, который должен навсегда соединить его с жертвой.
Примирение? Демон хочет примириться… с небом. Не с Богом, а с небом. Небо — ангелы, примирение не по адресу. Нет прямого обращения к Отцу, нет раскаяния, а как равный с равным, через посредничество монахини Тамары. Он оставляет за собой лукаво приобретенное царство, устранив законного владетеля Адама, украв у него земной трон. Он не передаёт царство над землею Богу, чтобы вновь получить его после раскаяния. В своей защитительной речи перед Тамарой он два раза упоминает Бога, но вскользь. Демон избирает для своего спасения не прямой, а окольный путь для примирения. Здесь — не только хитрость, вероломство и коварство, но и недомыслие павшего архангела.
Хочет веровать добру. Значит, не веровал, пренебрегал добром или зло выдавал за добро. Не сознаёт своей греховности и огромной ответственности за причинённое зло. Он пал и увлёк человека, у него — двойная ответственность. Что это, узость демонского сознания или это — лукавство, которое занимает третье место после греха и беззакония. «Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих»!
«Хочу любить». Можно ли представить любящим Сатану Мильтона и Клопштока, Мефистофеля Гёте и Люцифера Байрона? Любовь, даже несовершенная, человеческая, не от мира сего, несмотря на земность человека. Сладострастие, доведенное до адских глубин, вальпургизм, Клеопатра и грузинская царица Тамара-Дарья, жившая в глубоких теснинах Дарьяла. Можно было бы поверить Демону Лермонтова, его любви к Тамаре, если бы не его скрытая тенденция демонизации Тамары-монахини, о которой уже была речь.
Разоблачение. Лермонтов в лице Демона дал квинт-эссенцию демонизма, величайший синтез инфернализма в его высшем аспекте. Это не служилый бес, даже не из министров, а сам Князь тьмы, на челе которого ещё заметны следы его былой чистой славы. Лермонтов изобразил его такими чертами, которым по силе, яркости и лаконичности, нет равных в мировой литературе. Лермонтов как будто породнился со своим демоном-искусителем и жизненным спутником, долго и упорно работая над поэмой «Демон». Так может показаться только поверхностному взгляду.
Лермонтов как будто разоблачает одну из тайн Демона. Может быть, в нём тлеет ещё искорка, общая для человека и ангела. Может, он не весь демонизирован? Может быть, вслед за первой искоркой засветятся и другие: добра и любви? Эти вопросы мучают Демона не меньше, чем Тамару. Если Лермонтов не отвечает прямо на эти вопросы, которые он ставит перед своей героиней Тамарой, то отвечает прямо на этот основной вопрос. Нет, Демон неисправим, зло переделало всю его духовную природу и подавляет в нём искорку добра, если она ещё тлеет в нём. Демон проговаривается: «Любви, как злобе, верь, Тамара»… Зло рядом с любовью.
Лермонтов разоблачил демонский фаустизм Гёте. После пожизненного амикошонства с бесом Мефистофелем Фауст «спасается», сам ни разу не обнаружив признаков раскаяния и обращения, и умирает чуть ли не в объятиях своего друга и лакея Мефистофеля.
Лермонтов показал трагизм человеческого падения, начатого в раю и протекающего на наших глазах. Когда Лермонтов писал последние строки своего «Демона», участь его была решена. Его недруги и палачи, царь, жандармы, заговорщики и женщины-фурии, все были слугами Демона— дьявола, мстили за него.
Смертность поцелуя Демона, в который он вложил всю свою демонскую силу — это последний, гениальный заключительный штрих Лермонтова. Никто из писавших о злом духе не изобразил его кающимся, примирённым, готовым к любви и добру. Это сделал один Лермонтов. Сила демонских чар внушает благонамеренному читателю ужас. Ведь Тамара не первая и не последняя. Первое впечатление Тамары от Демона не обмануло её:
Меня терзает дух лукавый,
Сиял он тихо, как звезда, манил.
Спасение? Лермонтов находит искренние ноты в признаниях Демона, который как будто отказался от отрицания творения Божия, если нашёл в нём Тамару. Эта искра добра не в состоянии победить или покрыть адский пламень зла. Тамару хоронят, душа её уносится ангелом на небо, в рай, навсегда потерянный для Демона. Он предстал во всей демонской своей злобе и ненависти, со смертельным адским блеском в глазах.
Она любила и страдала
И рай открылся для любви.
А для него, Демона — ад «без упованья и любви». Он заблудился, попал в собственные тенёта. Не личное обращение, а через посредника. Слишком человеческое, судебно разбирательное решение, когда за преступника говорит его адвокат. За ни в чём неповинного Дмитрия Карамазова говорит его адвокат Фетюкович. За Демона будет говорить невинная девушка, монахиня, не судебной речью, а самопожертвованием, с нарушением монашеского обета. Невеста Небесного Жениха Христа готова стать любовницей Демона, дополнить список его бесчисленных любовниц, с фантастической целью спасти его и привлечь к добру.
Примирение с небом означает укрепление власти и царства, признание и соглашение равного с равным, разграничение сфер влияния. Он не ставит условий примирения, это есть укрепление status quo. Что это — наивность, самообман? И никакой ответственности за гибель миллионов и миллиардов на протяжении тысячелетий. А ад? Кто и как его ликвидирует? А если появится новая Тамара?
Эти вопросы остаются открытыми. Их будут разрешать дети Демона и его представители на земле, теософы и антропософы. Зло испарится само собой, как пар в земной атмосфере, не давая осадков. Всё зависит от того, будет ли ему принадлежать Тамара.
Предшественники Демона. Поэмы «Азраил» и «Ангел смерти» можно рассматривать, как прелюдии к «Демону».
Любовь ангела смерти к Аде и любовь Азраила к «деве». Азраил жалуется, что ему надоела профессия ангела смерти и молит: «Боже, Боже, хотя бы мог я не любить!» Он осуждён Богом, жалуется на пустоту души, осуждён на мучение. Всё исчезает, миры и народы, но дух его не знает гибели, и он живёт один среди мертвецов. Он «любит всё мгновенное» и деву. Надменное сердце его, полное огня, но есть в нём «любви святой залог». Он говорит деве о себе: «изгнанник, существо сильное и побеждённое».
Но он любит её. На вопрос, кто он, ангел или демон, отвечает: «ни то, ни другое». Люди жалки, но он хотел бы сменить своё вечное существование на мгновенную искру жизни человеческой, чтобы иметь надежду когда -нибудь позабыть, что он жил и мыслил. Забвение — вот счастье человека, чего нет у него, Азраила.
Дева уходит от Азраила, чтобы выйти замуж. На это Азраил говорит: «Вот женщина! Она обнимает одного, а отдаёт сердце другому» (1831 г.).
Рассказ Азраила — это история падших ангелов-архетипов. Бессмертное существо и любовь к смертной женщине. У самого Лермонтова — такая -же трансцендентная тоска и печаль. Тогда становится понятной перманентная тоска Лермонтова, преследовавшая его всю жизнь, ангелоподобная.
Герои кавказских поэм Лермонтова уходят из этой жизни не примирёнными, с чувствами злобы, мщения и ненависти. Хаджи Абрек и Каллы — убийцы не по влечению, а по суровому, жестокому долгу.
Эти герои ранних, юношеских поэм Лермонтова — провозвестники Демона. Они все точно слились, чтобы дать универсальный образ Демона. Мятежная душа юного поэта пришла к этому образу, родоначальнику зла и преступления. В генеалогии зла указана и её связь со знанием. Познание, как зло — это изобретение Демона и, может быть главная причина его падения. Разменявшись на мелочи, этот тип живёт во всех кавказских поэмах, в «Боярыне Орше», «Литвинке» (Арсений), в Арбенине, Печорине и др. «Демон» Лермонтова есть синтетический, демоно-человеческий образ, общий для всей одухотворённой падшей твари.
Первоисточники. Близорукая и тенденциозная русская академическая литературная критика в лице Веселовского, Спасовича, Котляревского и других, утверждала, что «Демон» Лермонтова есть подражание западным образцам, в особенности Байрону. Некоторые историки литературы отмечали также влияние Томаса Мура и Альфреда де Виньи. В таком случае нужно считать, что все они, включая и Байрона, находились под влиянием основоположника демонской литературы, Мильтона. Необходимо также отметить, что образ Демона Лермонтова не имеет ничего общего с Люцифером в мистерии Байрона «Каин», кроме того, что оба они — падшие ангелы.
Все эти кабинетные измышления о заимствовании у западных романтиков, о кавказской экзотике и «литературной олеографии» опровергнуты тщательными исследованиями известного Ираклия Андроникова[16]. Он говорит в своей книге «Лермонтов», что кавказский материал в «Демоне» — не экзотическое обрамление в стиле традиционных «восточных повестей» романтиков, а органическое претворение непосредственных переживаний и наблюдений, благодаря которым прежние сюжеты приобрели новое качество. Решающее влияние оказали на Лермонтова кавказские и, прежде всего, грузинские народные предания, легенды и песни, знакомство с бытом и нравами новой для него страны.
По старой легенде, в изложении И. Андроникова, в верховьях Арагвы, на дне глубокого ущелья, при спуске с Гуд— горы в Чертову долину, жила в бедной сакле красавица грузинка Нино. Все любовались красотой девушки, и влюбился в неё древний горный дух Гуда и захотел сделаться смертным. Но девушка полюбила другого, своего юного, соседа Сосико. Ревнивый Гуда начал мстить. Кончилось тем, что он засыпал саклю влюблённых огромной снежной лавиной и погубил их обоих.
Имя своё получил злой дух Гуда от Гуд-горы, а гора — от ущелья Гуда. Лермонтов знал легенду о любви Гуда и был знаком с местностью, на что есть указание в «Герое нашего времени», в рассказе «Бэла». И потому перенёс действие «Демона» на берега Арагвы. Первоначальная редакция повести была изменена. Монахиня превратилась в красавицу Тамару, дочь старого князя Гудала. Появился и жених Тамары — «властитель Синодала»[17].
Лермонтов использовал и другую легенду о горном духе Гуда. В изложении П. А. Висковатова, первого биографа Лермонтова, в восьмидесятых годах прошлого века были видны развалины монастыря, о котором рассказывали окрестные жители; говорили о духе, который разрушил монастырь громовой стрелой, рассердившись на монахинь. Висковатов утверждал, что эту местность и имел в виду Лермонтов, когда описывал обитель, в которую Гудал отвёл свою дочь[18].
В дальнейшем изложении И. Андроников приводит содержание грузинских народных песен, где поётся о Духе, о свадьбе, об ожидающей невесте и убитом женихе, и полагает, что Лермонтов был знаком с содержанием этих песен[19].
Первым, внесшим существенные изменения в концепцию Сатаны после Мильтона, Клопштока, не говоря о Гёте, был старший современник Лермонтова Альфред де-Виньи. В его поэме «Элоа» Сатана несчастен, печален и даже плачет. Он настолько отягощен и подавлен своей изменой Отцу и Творцу, что не решается сам обратиться в Нему, а ищет посредника в тварном существе, в небесной деве Элоа, дочери Бога. Он красноречив, но демонская сущность берёт верх, и дело кончается совращением небесной девы, и от раскаяния не остаётся и следа. Повторяется история Евы в раю. То же и у Лермонтова, но дева земная, Тамара, хотя и с небесными чертами.
Демон Лермонтова монументален и грандиозен, не в пример Сатане де Виньи, который велик только в совращении, и неподражаем. Исповедь Демона местами поражает искренностью. Но он не успел, Тамара умирает в его объятьях. Совращение не удалось в решительный момент, всё ограничилось поцелуем. Лермонтов не вмещает совращения Тамары. Смерть Тамары от поцелуя свидетельствует о неисчерпаемой и неисправимой демонии соблазнителя. Он остаётся самим собою.
Лермонтов и его герой. Некоторые современные исследователи, в своих содержательных книгах о Лермонтове, впадают, в другую крайность. Исследователь С. В. Иванов пишет о «резкой богоборческой строфе» в «Демоне»:
Презрительным окинул оком Творенье Бога своего.
Автор ссылается на Белинского, который был в восторге от Демона Лермонтова, который есть «царь немой и гордый», сиявший «волшебно-сладкой красотою»[20]. Исследователь А. В. Фёдоров говорит о «богоборческом пафосе» у Лермонтова в его раннем периоде и в «Демоне»: «с небом гордая вражда». И здесь, у автора, ссылка на Белинского[21]. Лермонтову приписывается и проблема «оправдания зла». Автор видит богоборчество и в ранних стихотворениях Лермонтова: «Ночь I» и «Ночь II», где он, Лермонтов, идёт «дальше Байрона», у которого — только мысль о безнадёжности судьбы человека и человечества, с бесцельности жизни и жестокой бессмысленности конца.
О пессимизме Байрона много писалось. Юный поэт Лермонтов испытал сильное влияние Байрона. Под влиянием семейных и прочих неурядиц, жизненных невзгод, Лермонтов, в порыве отчаяния и беспомощности, мог написать строки, которые могли и могут казаться богоборческими. Но среди юношеских стихов Лермонтова есть много таких, где он обращается к Богу с верой и надеждой. Приписывать Лермонтову богоборческие выпады его героя Демона — это означает приписывать автору все черты и высказывания его героя. Это значит смешивать Мильтона и Клопштока с их героями, Сатаной и Вельзевулом, а Байрона с Люцифером. Или смешивать Лермонтова с Печориным, Измаил-Беем и др.
Лермонтов разоблачил своего Демона. Он неисправим, как и Сатана де-Виньи, и не сознаёт этого. Элоа выносит смертоносный поцелуй Сатаны, потому что она бессмертна, а Тамара не выносит, потому что она смертная. Спасение не удаётся обоим героям, потому что любовь у них переходит в страсть. Любовь имеет спасительную и искупительную силу, а страсть — нет. Страсть есть демонский комплекс, доказательство — смерть Тамары от демонского поцелуя. Нет метаморфозы у Демона. Потому что нет любви, или есть только в начале. Смертельный поцелуй разоблачает Демона.
У Лермонтова — древне-церковная концепция страсти, как катастатического (падшего) продукта двух сил души. У первозданного, безгрешного существа это — любовь. Любовь и страсть не только не синонимы, а противоположности. У много страстного Пушкина — любовь к Карамзиной, которой он посвятил «акафист». У Лермонтова — Лопухина, которой он передал законченный список своего «Демона».
Лермонтову удалось дать полный и законченный портрет Демона. А зло не исчезнет одним порывом сатанинского обращения. Нужен Божественный Спаситель и Искупитель. Иначе исчезает духовный закон воздаяния: «Мне отмщение и Аз воздам!» Иначе нет справедливости, и воцаряется произвол.
Если и небесная любовь не спасает Сатану, то остаётся один выход, он спасает сам себя, без любовной интриги. Таков Сатана в смысле Виктора Гюго. Само спасение, без посредничества, одним только восклицанием-признанием: «Нет, я не ненавижу Тебя!» Он знает, что сущность Бога — любовь и потому обращается к Богу: «Ты хорош, Боже!» А по ночам слышны его возгласы: «Я Его люблю, Я люблю Бога!»
Никаких пояснений не нужно, спасён Сатана, спасены и Виктор Гюго, Жорж Санд, Бодлер, все функционеры тайных лож, справители чёрных месс и клуб гашишистов.
Опустошённая душа. «Отверженный», блуждает он «в пустыне мира». Однообразие и скука томят его, минута за минутой бегут века его владычества над ничтожной землей. Презрительным оком окидывает он «творение Бога своего». Почему? Потому что он не сумел внести ничего от себя в мир. Напротив, он испортил его, загрязнил, помрачил, внёс дисгармонию и стихийную борьбу. Он изменил мир по своему образу и подобию, и только теперь увидел горькие плоды.
Он равнодушен к красоте природы.
Состояние бессмертного Демона мало чем отличается от состояния смертного человека. Та же грусть и тоска, с тою лишь разницей, что у человека эти чувства неопределённы, человек забыл своё былое райское состояние, а Демон его помнит и хранит. Эти неземные тоска и грусть, без предела и конца не кончаются со смертью и не завершаются в загробном освобождении, где нет «болезни, печали и воздыхания». Страдания его бесконечны и он хочет осчастливить Тамару этим неземным страданием. Что это, издевательство или ляпсус, указывающий на замешательство многоречивого демона.
Его печали и страдания нет конца,
Моя ж печаль бессменно тут
И ей конца, как мне, не будет,
И не вздремнуть в могиле ей!
Все тяготы, бедствия, труды и лишения людские — ничто перед одной минутой его «непризнанных мучений».
Можно верить этим «откровениям» Демона Лермонтова, как отражениям сверхчеловеческой тоски и страданий самого Лермонтова. Демон поведал их смертной женщине Тамаре, а Тамара вдохновила Лермонтова, как загробная душа — анима.
Неразделённая, сверхчеловеческая тоска, бес похвальное зло и не вознаграждаемое добро, и вечная борьба без торжества и примирения, эти признания поражают нас. Без похвалы зло — это понятно, а не вознаграждаемое добро… О каком добре Демона здесь речь? Если он старается «все возненавидеть и презирать» в этом, им исковерканном мире, Он потерял критерий добра и зла, потому что отпал от Истины. Он разоблачён навсегда Христом: «не устоял в истине».
Тамара говорит ему:
Твои слова огонь и яд.
Огонь по жилам пробегает.
И сам Демон полон яда. При встрече с ангелом
…И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Смертельный яд его лобзания», проникая в грудь Тамары, убивает её. Своим ядом он отравляет всё живое на земле.
Что же может он дать человеку? Тамаре он говорит:
Тебя иное ждёт страданье,
Иных восторгов глубина.
Художественная концепция «Демона» грандиозна по замыслу и гениальна по выполнению. Лермонтов взял не простого смертного героя, на подобие Онегина, Печорина или сверхчеловека на подобие Манфреда, а самого Демона, то— есть первичный прообраз, который лежит в основе всех Онегиных, Печориных, Арбениных и героев его кавказских повестей.
Известный исследователь, Ираклий Андроников[22], следуя современной ему моде, даёт искажённый образ Демона. Он пишет: «Наделённый исполинской силой страсти и несокрушимой волей, воплотившей в себе идею свободы и отрицания существующего порядка, «познания жадный». Как раз обратное, наделённый исполинской страстью не может быть свободным. Демон — раб своих страстей. Отрицая существующий строй, он ухудшил этот строй, соблазнив и человека. Познания жадный, он закрыл себе доступ к Божественной тайне и обозлился. А какой порядок он ввёл в своём царстве? Он — самый грубый тиран. «Лермонтовский Демон воспринимался людьми 40-х годов, как символ личности свободной, гордой, сомневающейся, мыслящей, непокорной». О «свободной личности» Демона была уже речь. А почему «гордой?» Чем могла гордиться тварь перед своим Творцом или перед себе подобными, хотя бы и подчинёнными? Гордость — это уже извращение, потеря чувства меры, самовозвеличение, переоценка самого себя в сравнении с другими. Мыслящий и непокорный… Да, это удачно сказано. Демон анархист для себя и тиран для других. «С небом гордая вражда», выражение Белинского, заматерелого атеиста. «Белинский назвал Демона «демоном движения, вечного обновления, вечного возрождения». Какого, демонизацией и осатанением всего сущего? Появлением Печориных и Арбениных, Фаустов и Манфредов, высокопоставленных палачей Пушкина и Лермонтова? И дальше: «Демон — не первоисточник зла. Он порождение зла и неизбежно становится его носителем». Всё— таки, становится носителем? Это звучит, наивно, есть противоречие самому себе.
Исследователь не задаёт вопроса, почему Демон Лермонтова стремится к примирению с небом, хочет веровать добру и ищет помощи и заступничества монахини Тамары. А кончает тем, что пытается соблазнить Тамару и убивает её своим поцелуем. Хочет завладеть её душою, пытается бороться с ангелом.
Теософистика. Возрождение и спасение Демона — это теософское, индоевропейское изобретение; досужая спекуляция демоно-одержимых оккультистов.
Нужна личная инициатива Демона, его личное непосредственное обращение к Богу. И не в своём падшем величии и прерогативах, а в смирении, в сложении с себя нечистым путём завоёванной власти.
Чем объяснить эту трогательную заботу убогих теософских душ о Демоне-дьяволе? В основе лежит злостная теософская концепция о «спасении всех», значит и Демона. Это моральный квиетизм, индифферентизм, или «по ту сторону добра и зла». А как же справедливость? А как те «детские слёзы», о которых так инфернально красноречиво говорит Достоевский, устами своего героя Ивана Карамазова. Зачем стремиться к добру? «Избегай зла и твори добро» — зачем? Любите врага, но не сказано, любите черта.
Дьявол-Демон соблазнил человека и влечёт его к себе, в ад. Человек хочет возблагодарить его за это и заботится о его спасении. Трагедия человека превращается в теософскую трагикомедию, с главным актёром Демоном. Ведь не случайно же индусский Люцифер-Демон Шива занимает место рядом с другими верховными божествами, Брамой и Вишну, и почитается больше, чем первые два.
Почему ни одна теософская дама не возьмёт на себя часть Кармы Демона? Во-первых, буддийский кодекс не признает кармических займов, Карма должна быть изжита лично. Во— вторых, всех теософских дам не хватит для искупления Кармы теософского батьки Демона. Теософское узколобие ставит перед Демоном непосильную задачу, искупить свою Карму самому. Нет, не всё благополучно в буддо-теософской калькуляции.
Кто может счесть все преступления дьявола и где найти такую искупительную силу для покрытия содеянного им зла? Кто может искупить зло в целом, с момента его возникновения до наших дней? Этого не смогут все Блаватские и Махатмы, гималайские и цейлонские братья. К тому же все отягощены в достаточной степени. А дьявол — не один, их легионы. Нет такой силы ни на земле, ни на теософском небе, которая могла бы искупить дьявола и его присных. Христос Бог явился на землю, чтобы спасти человека от зла, а не для спасения зла. Пусть зло само заботится о своём спасении. Путь для спасения всем открыт, нужно прямое обращение и покаяние. Историй не знает такого случая, чтобы Эосфор-Люцифер обратился. Спасение без обращения и покаяния — чертовское изобретение теософистов.
Про сатанинская скорбь теософистики и антропософистики, жалость к бедному черту, который пал для всех, для своих поклонников, не имеет пределов. Если бы у дьявола было бы человеческое сердце, то оно разорвалось бы на части.
Почему теософист так скорбит о своём батьке-черте? Потому что он кровно связан с ним. Тень Эосфора падает и на него, он — плоть от плоти и кровь от крови дьявола. Он — семя дьявола «врага человека», сеющего плевелы среди пшеницы, по евангельскому рассказу. Если спасается изобретатель зла Люцифер-Эосфор, то всё мировое зло рассеивается, как дым. Универсальный и неумолимый закон Кармы теряет силу перед дьяволом и на время аннулируется. Почему «владетель Кармы» так милостив к виновнику греха и зла? Какой Махатма ответит на этот вопрос?
Маленькая иллюстрация про-сатанинского узколобия, антропософ Рудольф Штейнер построил в Швейцарии дом и назвал его «Гётеанум» в память Гёте. В этом здании были две статуи, Христа и Сатаны, который протягивает руку ко Христу, как бы прося прощения или спасения у Христа. Здание было сожжено, очевидно, заядлыми сатанистами.
Учение о спасении всех в конце мирового цикла имеет корни в индуизме и буддизме. Когда все «спасаются» и Карма исчерпана, божество Брама проглатывает своё творение и погружается в сон. Брама просыпается через миллионы лет, вновь творит, и всё начинается сначала. Спасение всех — необходимое условие дурной бесконечности индуизма и буддизма.
Не успел человек спасти самого себя, а уже хочет спасти черта. Нет, не дано человеку спасти черта. В этом — величайшая метафизическая заслуга Лермонтова.
Теософщина знает средство для спасения, вернее для само спасения человека — перевоплощение. Для простого смертного рассчитано 15.000 перевоплощений, так исчерпывается Карма, сумма всей греховности человека. Но ещё нет точного расчета для Демона-дьявола. Ещё ни одной теософской тётке не приходило в голову сделать такой расчёт, слишком высокий ранг. Блаватская и Р. Штейнер просто сняли этот вопрос.
Но… человек жалеет бедного черта и хочет ему помочь. Существует группа, которая пытается снять с черта тяжесть необоснованных обвинений, нужно освободить клеветника (дьявола) от клеветы. Неизвестно, чувствует ли он себя легче от этого. Преступления превращаются в благодеяния. Такова вершина человеческой подлости и злонамеренности, эквилибристика падшего человеческого духа. Вопреки утверждению Христа: «Он есть человекоубийца искони и не устоял в истине».
После эпохи «Просвещения», когда работали фокусники Сен Жермен и Калиостро, теософщина прочно вошла во французскую художественную литературу в лице Виктора Гюго и Альфреда де Виньи. Для милого всякому теософскому сердцу Демона должно быть исключение. Он нуждается в искуплении. Искупление Демона другим или другими, а не им самим, противоречит теософской теории Кармы, как закона воздаяния. Карма должна быть изжита лично. Заместительство? за какие дела, за какие заслуги? В ожидании заместителя Демон будет продолжать свои любовные и не любовные приключения. Не показывает ли это духовную импотенцию Демона?
Лермонтов и Тамара
Идеал. Пушкин — в Татьяне, Лермонтов — в Тамаре, нашли завершение своих художественных и эстетико-метафизических исканий и мечтаний, имея реальные и исторические образцы. Реальная Татьяна умерла ещё при жизни Пушкина. Реальная и историческая Тамара умерла, быть может, за несколько столетий до Лермонтова.
Пушкин и Татьяна, Лермонтов и Тамара, — это не случайность. Ни один из героев или героинь Пушкина не характерен так для понимания духовного облика Пушкина, как Татьяна. То же и в отношении Лермонтова и Тамары. Как образ Татьяны является ключом к творчеству Пушкина, так и Тамара является ключом к сокровенным глубинам духа Лермонтова.
Пушкину и Лермонтову, двум величайшим русским гениям, трагически и преждевременно закончившим свои жизни «посчастливилось». Они оба нашли свою живую поэтическую мечту. Чтобы увидеть небо жизни, нужно умереть. Данте не идёт в счёт.
Коренное расхождение между Пушкиным и Лермонтовым — в оценке женских образов. Следуя своей сверх гениальной интуиции, Пушкин не называет деревенскую Татьяну Ларину красавицей, ставя её рядом с сестрой её Ольгой. Потому что ему нужно было показать красоту души Татьяны и это удалось ему полностью. Латентная (скрытая) красота Татьяны получает завершение в столице, Петербурге, в замужней княгине Татьяне, царице интеллектуальной элиты столицы. Перед этой красотой склонился Онегин, в первый раз в своей многоопытной жизни. Этот метаморфоз Татьяны — одна из самых потрясающих страниц пушкинского абсолютного творчества.
Тамара — красавица с первого взгляда, воплощение женской лёгкости и грации, что особенно заметно во всех движениях, и особенно в танце. Строфа, посвящённая первому впечатлению от Тамары — один из перлов любовной лирики Лермонтова. Душевно-духовная красота Тамары появляется впоследствии, в её героическом решении остаться верной убитому жениху Синодалу (Цинандалу). Монахиня Тамара выражает сублимированную красоту, очаровавшую Демона. Есть некоторая аналогия у Татьяны, то же самоотречение. Она продолжает любить Онегина, но отвергает его домогательства, роняющие честь. Татьяну влечёт и к земному, это видно по её письму Онегину. Она готова стать верной женою и матерью. Не небесная только, она и земная. Оба начала соединены в ней гармонически.
Тамара стоит перед большим соблазном, перед демонической силой, влекущей мечтой и гипнозом.
Письмо Татьяны есть шедевр женского объяснения в любви. Признания Демона — вершина мужского любовного красноречия. Письмо Татьяны — язык женского сердца, переложенный на язык ума… Признания Демона — язык мужского ума, переложенный на язык сердца.
Тамара. Пушкин имел перед собой образ живой Татьяны, держал в руках её письмо и переводил. Лермонтову и здесь не посчастливилось, он имел облик полулегендарной, полуисторической Тамары, дополнив его впечатлениями современными. Пушкин написал: «как я люблю Татьяну милую мою!» Лермонтов мог сказать то же про свою Тамару. Татьяна пережила в романах и отвергла западный идеал в лице Онегина (в последней сцене). Тамара пережила его в лице Демона, приняв и отвергнув его пассивно, с помощью и вмешательством Высшей Силы. Лермонтов преодолевает свой демонизм и байронизм, всю западную культуру, через Тамару. Пушкин сбросил с себя онегинский байронизм, гётеанство и шекспиризм через образ Татьяны.
Пушкин взял за идеал русскую женщину, как самую активную в мире. Идеал Лермонтова — восточная женщина в лице жемчужины Кавказа — Тамары. Татьяна развенчивает Онегина в последней сцене. В порыве раздражения и запальчивости она не замечает искренности Онегина. Тамара, ценою своей жизни, разоблачает демонические черты любви, Несмотря на «неблаговидные» импульсы в любви обоих, Онегина и Демона, можно не сомневаться в их любви. Может быть, есть примесь тщеславия, гордости и некоторого дон-жуанства у обоих, с примесью богоборчества у Демона. Тамара не замечает демонических вспышек в любовных излияниях Демона:
В любви, как в злобе, верь Тамара,
Я неизменен и велик.
Что ощутила Тамара в признаниях Демона? То же, что и Ева в раю, в наветах змея и того же Демона: очарование лжи и обмана, перед искренностью и простатою истины. Головокружительное «нет» («нет, не умрёте») рядом с мудрым и простым «да».
Разгадка Тамары — в стих. «Кавказ». Три раза пишет Лермонтов: «люблю я Кавказ». Страна титана Прометея (Амирани у грузин) и Медеи, золотого руна. Земля, которая взрастила драконовы зубы, которая хранит следы афинского героя Язона. Страна великой, полулегендарной царицы Тамары. Где небо задевают Эльбрус и Казбек, а облака прижимаются к ним, как к родной груди. Лермонтов сроднился с Кавказом с детства, и он сказал, что кто был на Кавказе, тот становится поэтом.
Нет, прав Лермонтов, что избрал Тамару, как выразительницу своего религиозного, эстетико-метафизического идеала. Он был на Кавказе в первый раз летом 1825 года. И видел там «пару божественных глаз». И запечатлел их на всю свою жизнь.
Тамара — это молочно-белое лицо и чёрное обрамление волос. Чёрные глаза, брови и «шелковые ресницы». Глаза, просверливающие насквозь каждого встречного, проникающие до сердца… При гневе — мрачный, чёрный пламень. При улыбке — сияние райской Евы. Такого ока «не целовал властитель Персии златой и ни единый царь земной». Восторженный поэт клянётся, и мы верим ему. «Влажный взор» её блестит во время танца. А улыбка! Луч луны едва ль сравнится с той улыбкой. А в танце
Грудь подымается высоко;
Уста бледнеют и дрожат,
И жадной страсти полон взгляд,
Как страсть палящий и глубокий.
(Лопухинский список, 1838 г.).
Голос — звон хрусталя, чарующий, как у С. Виельгорской. В повести «Штосс» — Лермонтов даёт образ воздушной красавицы: «Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного; никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни. То было существо земное… то не был также пустой и ложный призрак, потому что в неясных чертах дышала страсть, бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда».
Всё это есть в Тамаре, но с большей акцентуацией и проникновенностью. Фигура, стан, лёгкость, грация и изящество. Идеал земно-небесной красоты, всё женское воплотилось в ней. Но Демон видел много таких, черноглазых и черноволосых. Он был частым гостем на Востоке, и в монастырях у дев уединённых. Он — знаток, но такой как Тамара ещё не встречал, для него она — «ангел земной».
Что нашёл ещё Демон в Тамаре? Невинность, чистоту, непосредственность. И земность, тронутую падением, с чертами неизгладимой скорби, печатью забот и тревог. То — есть то же, что и у него самого, исключая райскую безмятежность. Частично он увидел в Тамаре свой портрет, зафиксированный тысячелетиями. Разница в том, что падший человек смертен, а он, падший ангел бессмертен и скорбь его вечна и бессмертна. Состояние былой чистоты осталось только в воспоминаниях.
Неземной красоте Тамары соответствует и неземная красота души и духа. Говорит ангел о Тамаре:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них (16).
Тамара — в числе избранниц, небо жительница на земле, земная гостья небесной природы. И потому она — страдалица, несёт крест свой на земле.
Она — райское существо ещё будучи здесь, на земле.
Её душа была из тех,
Которых жизнь — одно мгновенье
Невыносимого мучения,
Недосягаемых утех (т. ж.).
Она «искупила свои сомнения жестокой ценой».
Даже своим затуманенным взором разгадал Демон эти черты в Тамаре. Тамара пробудила в нём воспоминания, древние, как мир, и «давно уснувшие чувства». В ней нашёл он черты и следы своего светлого, архангельского прошлого. Зашевелилась надежда, как блеснул на мгновение свет возрождения и обновления. Он забыл свою «печаль», свою «свободу», свое «познание и сомнение», всю длинную лестницу своего падения от архангельского света к мраку ада. Неужели в нём зашевелилась искра, дремавшая под покровом мрака. Он увидел подлинную жизнь в чертах и движениях Тамары, как будто в первый раз видел смертную женщину.
Тамара напомнила Демону о «прежних братиях». На это есть намёк:
И были все её движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так полны милой простоты,
Что если б Демон пролетая,
В то время на неё взглянул…
Он отвернулся б — и вздохнул.
Поэма «Демон» остаётся в русской критике не оценённой. Её считают характерной для духовного облика самого Лермонтова, придают ей автобиографическое значение, то есть субъективное. Это справедливо только наполовину. Тамару дополняет духовный облик Лермонтова. Он провёл образ Демона через свою православную душу, через православную душу своей героини Тамары. Тамара — объективная сторона, в ней — объективный смысл одного из величайших произведений мировой литературы. Идеал Тамары у Лермонтова и её победа — это оружие против очертелого гуманизма Запада.
Для соблазна монахини Тамары Демон сосредоточил все свои сверхчеловеческие силы, следы своего былого архи стратегического величия, светозарности, и демоническую силу слова и соблазна. Демонские стрелы пронзили насквозь её девичье неопытное сердце, сила гипноза обезоружила её. Молитва застыла на побледневших устах. Ангел хранитель покинул её, потому что она одна должна бороться с прельщением. Таков закон духовной природы.
Мечтою смущает Демон людей, мечтою коварной, «то пророческой» и странной, но всегда неотразимой. Мечта лишает человека покоя, мира и гармонии, есть враг концентрации (сосредоточения), собирания ума и сердца, этих аскетических добродетелей. «Мечтою взволнованную грусть» может успокоить молитва. Мечта — это стихия Демона. Печальные и странные сны тревожат Тамару, переводят её в мир призраков. Она не может молиться. Её ум слабеющий «объят гибельной отравой».
Мечтою смущает Демон и его слуги и опытных в духовном искусе аскетов и подвижников. Молодая монахиня Тамара ещё не прошла эту суровую школу,
Ты видишь, я тоскую,
Ты видишь женские мечты.
Были у Тамары и другие мотивы. Она любит не ката статического (падшего) ангела, а метастатического (восстановленного). Она требует подвига от Демона, подвига отречения.
Клянися мне… от злых стяжаний
Отречься ныне дай обет (10).
Клятва кончается новым оглушительным признанием в любви и головокружительными обещаниями. Тамара колеблется, но ещё не решается. Здесь были и личные мотивы: женское тщеславие и гордость, родовая и личная. Не обошлось и без демонского гипноза: он «наложил печать свою» на гордое сердце Тамары. Были и другие, неличные мотивы. Она хочет спасти своею любовью Демона, это неземное существо, основоположника зла и великого «страдальца», и тем самым спасти мир от зла. Она слышит искренние ноты в его признаниях и клятве. Женское сердце не ошиблось.
Вначале Тамара не доверяет Демону, она хорошо знает, с кем имеет дело, слышит чуждые ей мотивы в его красноречивых тирадах. Он хочет «примириться», но не говорит о Боге. Хочет «веровать добру». Неужели он не обманывается, не сознает того, что дело, за которое он взялся, соблазн монахини, не есть добро, а самое доподлинное зло? Трудно верить такой наивности со стороны искушённого во зле Демона-дьявола.
В первых очерках «Демона» конец представлен иначе. Монахиня, жертва Демона, умирая от огненного поцелуя Демона, попадает в ад, как грешница. Лермонтов тогда ещё не оценил значения любви, её искупительной роли. В последнем, окончательном списке «Демона» эта тема раскрыта полностью. Ангел говорит о Тамаре
Она любила и страдала
И рай открылся для любви.
Мотив гётевской Гретхен, спасающей Фауста. Демон ищет искупления и примирения через женскую, земную, человеческую любовь. Другой, подлинный путь — через жертву, богочеловеческий путь Христа. Но Демон хочет быть искупленным другим, дав взамен лишь свою земную, почти человеческую любовь. Здесь — его безграничный эгоизм, отрешиться от своего Я он неспособен. Он даёт двусмысленную клятву и демонские обещания. «Гордый дух» терпит поражение. Здесь — разрыв Лермонтова с Байроном.
У падшего ангела нет чувства греховности, поэтому нет и прямого обращения. Этим падший ангел отличается от падшего человека. А без обращения нет спасения.
Любовь Тамары стала тем пробным объектом, о который споткнулся и упал Демон, чтобы больше не подняться. Тамара — лицо провиденциальное. Отныне исчезнут всякие попытки самостоятельного, автохтонного возвышения и возрождения тёмной силы. В этом — огромная духовная и моральная сила лермонтовской Тамары. Тамара действует в сверх космической и сверхчеловеческой сфере, несмотря на кажущееся падение. И смерть её — провиденциальная, она искупила свой грех, как Гретхен в «Фаусте». Если бы не смерть Тамары, заколебались бы сферы космические и земные. Демонская сила была вновь введена в свои рамки. Татьяна Пушкина в конце романа — это идеально-реальная, небесно-земная, сублимированная красота. У Тамары Лермонтова сублимация начинается в монастыре и получает завершение в объятиях ангела, несущего её душу на небо. Красота Татьяны расцветает после испытаний и страданий. Красота Тамары — законченная и расцветшая в ожидании жениха и свадьбы. Тайна чар Тамары,
Если б Демон на неё взглянул,
То прежних братьев вспоминая,
Он отвернулся б и вздохнул.
Когда же он увидел её лицом к лицу, то обманулся,
…была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена.
Эта земная небесность или небесная земность Тамары превосходит всё, что знает мировая поэзия о женской красоте. Даже её голос нежный производит на Демона неотразимое впечатление. Ему даже показалось, что ангел захотел повидаться с ним, «забытым другом», чтобы «усладить» его мученье.
Красота Тамары тронула даже холодное сердце Демона, не знавшее трепета любви и страха.
Неясный трепет ожиданья,
Страх неизвестности немой.
Гордая душа просыпается от вечного холода и сна. Почему? Разве не видел он в сверх земных сферах неземной красоты? Тайна неотразимого впечатления Тамары на Демона в том, что она напомнила ему о «небесных братьях».
Предшественницы Тамары. Идеал Лермонтова — восточная женщина. «Создание земли и рая», глаза горящие, как уголья. Их описание — в каждой поэме. Вот, Зара из «Измаил-Бея»:
Кто прелести небес иль даже след
Небесного, рассеянный лучами
В улыбке уст, в движенье чёрных глаз,
Всё, что так дружно с первыми мечтами,
Всё, что встречается в жизни только раз,
Не отличит от красоты ничтожной,
От красоты земной, нередко ложной (25).
И дальше
Нежна — как пери молодая,
Сознание земли и рая.
Разве трудно угадать в ней будущую Тамару? Зара из «Аула Бастунджи» — более земная. Верна своему старому мужу Акбулату и убита молодым Селином. Её портрет:
Казалось, вся она была слита,
Как гурии, из сумрака и света;
Белей и чище ранних облаков
Являлась грудь, поднявшая покров;
Черны глаза и серны молодой,
Но у неё глаза чернее были;
Сквозь тень ресниц, исполнены душой,
Они блаженством сердцу говорили!
Дальше идёт — высокий стан, искусно перетянутый, змеиные косы, оплетенные золотою тесьмою, мрамор плеч, белеющий и с «жилкой голубою». И сравнение с южным, румяным золотым плодом, обрызганным душистою росою.
Она была прекрасна в этот миг,
Прекрасна вольной, дикой простотою.
Дикость и простота, близость к природе — другая черта красоты.
Образ красавицы гречанки Заиры, с её исповедью султану Ахмеду и её гибель, из стих. «Две невольницы». Султан Ахмед готов всё бросить, власть и богатство
За поцелуя звук единый
И за один твой страстный взгляд.
Заира признаётся в верности своей прежней любви и нелюбви к султану, за что её и утопили (написано в 1830 г.).
Лейла из «Хаджи Абрека». Ада в «Ангеле» смерти:
Она резва, как лань степная,
Мила, как цвет душистый рая;
Всё страстно в ней: и грудь и стан,
Глаза — два солнца южных стран.
Устремляет на друга большие чёрные глаза. Для таких очей можно пожертвовать и славой («Азраил»).
Бэла, из «Героя нашего времени» — одна из очаровательнейших женских фигур не только русской, но и мировой поэзии. Казалось, вся кавказская, полувосточная, полуазиатская природа, воплотилась в Бэле, во всей её простоте, патриархальности и непосредственности. Её диалоги с Печориным — гениальные психологические штрихи Лермонтова, величайшего знатока женщин. И она становится жертвой озверевшего горца Казбича. Эта смерть провиденциальная, как и смерть Тамары, для лиц не от мира сего, для людей «лучшего эфира». Они — небожители на земле, им нет места на грешной земле. Они обречены на раннюю и жестокую смерть.
Вечно-Женственное. Вечно-Женственное — гениальная эстетико— философская и религиозно-метафизическая концепция Гёте. Начало ей положил Данте. Его Беатриче была не только земным идеалом, но и водительница его по небесным сферам, как небо жительница. Это — начало вдохновляющее, небесно-земной идеал поэта. А для поэтов-пророков, как Пушкин и Лермонтов, она, как пророчица Сивилла Кумская, провозвестница Логоса-Христа. В греческой античности она — девственная богиня Афина— Паллада, покровительница философов, мантинейская жрица Диотима, вдохновительница и учительница Сократа. Богиня Артемида (Диана) Эфесская, покровительница всех посвящённых её храма, в числе коих был и Гераклит Эфесский, написавший рукопись о Логосе. Закончив свою рукопись, Гераклит положил её у подножия статуи богини Артемиды.
У Гёте о Вечно-Женственном — последние строки в конце 2-й части «Фауста»: «Вечно-Женственное влечёт нас вверх». Кто же эта влекущая вверх у Гёте? В небесном аспекте это — Дева Мария, Mater gloriosa, Мать прославленная. Она говорит той, которая «прежде называлась Гретхен»
За мной в возвышенные сферы
Последуй! Поли любви и веры,
Пойдёт он вслед, узнав тебя!
Речь идёт о том, кто был Фаустом. На земном плане — это Гретхен для Гёте и его героя Фауста, ставшая «воплощением небесной красоты».
Пушкин посвятил небесному идеалу «Деве Марии» стих. «Жил на свете рыцарь бедный». Лермонтов молился ей: «Я, Матерь Божья ныне с молитвой» и просил заступничества. У обоих, Пушкина и Лермонтова, Вечно-Женственное в земном аспекте — это идеал. У Пушкина — «Татьяны милый идеал». Искупление Татьяны — в страдании и преданности долгу. Искупление Тамары — в страдании, любви и смерти:
«Она любила и страдала
И рай открылся для любви».
На земном плане Вечно-Женственное, как душа-анима, устремляется к Вечно-Деятельному (Мужественному), к духу-анимус. Для сублимированной монашеской любви Вечно— Деятельное — это Небесный Жених-Христос. Тамара как будто нашла Вечно-Деятельное, дух-анимус, в лице Демона, но это был обман. Она нашла в небесном посреднике, ангеле-хранителе, ценою смерти.
Татьяна перевоспитала Онегина, сделала его другим человеком в столице. Круг её жизненных интересов был шире семейных и супружеских, она стала Петербургской Аспазией. И осталась верна себе.
Тамара носила в своём уме и сердце замысел спасения великого духа. Ей мерещился, может быть трон «царицы мира» со спасённым шефом падших ангелов. Тамара как будто изменила пострижению и клятве, и соединилась с ангелом своим только после смерти. Что преобладало в ней, желание спасти ангело-подобного возлюбленного, или влечение к нечеловеческой силе и красоте. Эту силу чувствовала она в нечеловеческом голосе и нечеловеческом взгляде. Но он чувствует и любит, как человек, утратив свой ангельский критерий божественной красоты.
В лице своей героини Тамары Лермонтов показал силу Вечно-Женственного, покорившую такого опытного женолюба, как Демон. В искренности любви его не приходится сомневаться.
Лермонтов исходит из концепции Данте, Гёте и Пушкина об обновлении через Вечно-Женственное, духа-анимус через душу-анима, и в этом — подлинное счастье.
Лермонтов расширил проблему Вечно-Женственного, он говорит и о спасении. Дело шло о спасении величайшего из падших и его искуплении. Нет, отвечает Лермонтов, Вечно — Женственное не идёт так далеко, ему положены пределы земные и человеческие. Гретхен спасает чёрного мага и демоно-одержимого Фауста. Тамара не спасла Демона и, может быть, ухудшила его положение. Вечно -Женственное действенно только в сфере человеческой и земной. Спасение падшего ангела и его искупление — вне сферы Вечно-Женственного. Тамара и Демон поверили этому и ошиблись. И поплатились оба. Лермонтов указал, с исключительной христианской глубиною, на контуры христианской сотериологии (учения о спасении). Он показал с исключительной наглядностью, что дело спасения и искупления недоступно самой твари, без участья Творца. Спасение через плод женщины Евы было предсказано самим Богом тотчас после грехопадения, ещё до изгнания из рая.
Как легко потерять рай и как трудно его вновь обрести. Трудно для человека и для падшего ангела, но не трудно для Бога. Бог сделал это через Сына, для спасения человека. Сделает ли Он это для падшего Ангела? Нет на земле силы, которая могла бы спасти и искупить духа зла.
Лермонтов нанёс сокрушительный удар чертизму и демонизму, показав несостоятельность всех теософских измышлений и спекуляций о спасении Дьявола. В этом — его особое положение в отношении к Западу. Его героический вклад в духовную культуру человечества.
У подножья Гуд-горы, в Кайшаурской долине, есть селение Квашети, где есть зелёная впадина, носящая название «Чертовой долины», где лежат обломки гранитных скал, по преданию разбросанных разгневанным злым духом Гуда, полюбившим красавицу, жившую в этих местах… Развалины крепости, остатки крепостной стены, основания башен, развалины церкви, ступени разрушенной лестницы… Стоит часовня без крыши, сложенная из плоского шифера. Внизу селение Хатис-Сопели. Внизу Арагва.
Часовня, иконы там были. Жених Тамары, властитель Синодала, спешит на брачный пир, не помолился и убит. Всё ясно, эти места и описал Лермонтов в «Демоне». Автор[23] ссылается на «Географию Грузии» В. Батонишвили, где упоминается монастырь «Всех Святых», упразднённый в 18-м веке. Лермонтов изобразил средневековую крепость.
Тамара и Татьяна
Покажи нам черты сверх земной красоты, Мы полюбим её и поймём.
Бальмонт, «Избраннику».
Тамара Гудал и Татьяна Ларина… Княгиня Татьяна и княжна Тамара, невеста князя Синодала (Цинандала). Обе — на вершине общественной лестницы, но такие простые и непосредственные. Тамара и Татьяна — уникальные воплощения Вечно-Женственного Севера и Юга. Обе — жертвы неудачной любви. Татьяна отвергнута Онегиным, а Тамара стоит перед мёртвым телом жениха. Подлинная любовь приходит один раз и обе, Тамара и Татьяна, остаются верными ей.
Татьяна сублимирована в жестоких испытаниях любви и в своей жертве. Тамара — в монастырском отрешении и уединении. Онегин и Демон поражены двумя женскими образами, Татьяны в шуме и блеске столичного бала, и Тамары — в уединённых горах Кавказа. Эти антитезы характеризуют их творцов, Пушкина и Лермонтова.
Татьяна стояла перед человеческим испытанием в сцене объяснения с Онегиным, и выдержала его. А Тамара стояла перед сверхчеловеческим, архи-демонским испытанием. И здесь — коренная разница между творцами обоих образов, Пушкина и Лермонтова. Лермонтов не легко перешагнул через грани, разделяющие человеческое от демонского, со свойственной ему твёрдостью, решимостью и бескомпромиссностью. Он разоблачил и человеческое и демонское, заплатив за это преждевременной смертью. Он победил не только свою демонию, но и демонию вообще. И здесь Лермонтов — одна из самых героических фигур в истории мировой культуры.
Пушкин легко рассчитался со своим демоном, в стих. «Демон», благодаря гармоничности своей натуры. Лермонтов, сильно отягощённый от природы и среды, вёл долгую борьбу со своим демоном.
Может быть Татьяна — русская стойкость, а Тамара — южный темперамент, не изжитый монашеской аскезой? Тамару терзает «дух лукавый», так говорит она суровому отцу. Она — «жертва злой отравы», которая действует и в монастырской келье. Сколько великих подвижников и подвижниц стали жертвой этой отравы.
В них, можно без преувеличения сказать, весь Пушкин и Лермонтов. Пушкин избрал в качестве идеала, души-анима, европейскую, русскую женщину, не изменив своей русскости. Лермонтов избрал женщину восточную. Это дело не только вкуса, но и личной эстетической интуиции. Может быть, Лермонтов находился под впечатлением восточных легенд о Демоне, соблазняющем девушек. Или под впечатлением красоты и женственности восточных женщин, виденных им на Кавказе. Среди ослепительной кавказской природы, под сенью Эльбруса и Казбека, овеянных легендами, женская красота так же ослепляет, как и природа. Сверх чуткий Лермонтов вместил в себе целиком душу-анима Тамары во всём её блеске и очаровании.
Пушкин изобразил женский танец в театре, на балете. Кажется, вот вернётся поэт домой и напишет сонет или терцину о быстрых ножках. Нет, его восклицание «о, ножки, ножки» достаточно и полностью передают очарование.
У Лермонтова пляшет сама героиня Тамара, и «по ковру скользит, плывёт её божественная ножка». Божественная… Да, как Божье творенье, передающее красоту творения. Видеть в отдельных чертах творения божественные черты — это прерогатива поэта-пророка, открывающего завесу творения нам, рядовым людям, слепым или полуслепым. Может быть под знойным небом и среди ослепительной природы чёрные глаза блестят ярче и гибкость стана более наглядна. Красота природы гармонирует с красотой Тамары.
Сравнение улыбки Тамары с лучом луны — не в пользу луны. Строфа (7), посвящённая красоте Тамары, один из перлов мировой поэзии. И здесь у выдержанного Лермонтова есть упоминание о первозданной райской красоте, которую сменила не-райская земная. Лермонтов был далёк от концепции небесной женской красоты. Ему чужд идеал земной мадонны. Он весь земной, хтонический, или внушает себе это.
В Татьяне природа и дух соединились в гармонии. Природа дала форму и внешность, силу жизни и экспрессию. Дух дал полноту и глубину чувства, любовь, преданность и верность, волю и решимость. Тамара более природна, родилась на Кавказе. Татьяна родилась среди блеклой и умеренной части восточной Европы. В Татьяне было сильно личное и индивидуальное, в Тамаре — родовое и семейное.
Татьяна в семье родной
Казалось девочкой чужой.
Татьяна училась жизни по книгам, а Тамара — по родовым традициям, не испытала никаких книжных влияний. Татьяна тоже росла в широком кругу сословных традиций и помещичьего быта, но ей был открыт доступ во все сферы провинциальной и столичной жизни. Тамара росла в горах, в замкнутой семейной обстановке, среди родственников близких и отдалённых. Любовь и замужество могли принести ей счастье, но и рабство в чужой семье, о чём намекает Лермонтов, ревниво следящий за каждым шагом, за каждой мыслью своей героини. Окрики властного мужа, ревнующая сына к невестке свекровь, сёстры мужа. Кому это знать лучше, как не Тамаре.
Татьяна испытала чудовищное наслоение западного книжного сентименто-романтизма и была близка к полному исковерканию богатой русской души. Участь Татьяны — честная, но суровая отповедь анимуса — Онегина. Татьяна пришла в себя от любовного чада сенто-романтизма. Участь Тамары — хвалебный гимн любви падшего анимуса-Демона. Тамара становится жертвой хитросплетённого демонского лукавства, смешанного с искренностью.
Татьяна спасается силою всепобеждающей воли русской женщины и покоряется судьбе. Тамара умирает от смертельного поцелуя Демона и спасается силою Божественного промысла, заступничеством Богоматери и щитом своего ангела-хранителя. Хоть и отравленная адским поцелуем, Тамара спасается.
Перед Лермонтовым стояла трудная эстетико-метафизическая задача — дать свою, восточную душевно-телесную грацию женскую, воспетую лучшими поэтами-певцами Запада и Востока, Гёте, Байроном, Гафизом и др., воплотить в одном живом образе Тамары. И это ему удалось. Художник Врубель пытался зафиксировать это в своей известной картине — рисунке танцующей Тамары, и в других рисунках. Но это ему не удалось. Более удачны две картины художника Зичи: момент нашёптывания Демона над изголовьем Тамары и момент объятия и поцелуя. Но ни один русский художник не зафиксировал на полотне образ просветлённой Татьяны. Для этого нужно быть Рафаэлем или Сандро Ботичелли. Нет и образа сублимированной монахини Тамары, просветлённой в самоотречении, молитвах и постах. Пушкину с Татьяной это удалось и это — величайшее достижение мировой мистической поэзии. Лермонтов даже не пытается это сделать. Серафист Лермонтов всё— таки слишком земной. Небесный идеал ему чужд. Пушкин осуществил идеал в земном образе. В чём же он?
Всё тихо, просто было в ней.
Это — богоподобная простота человека, творимая в докучливой земной жизни, предел достижений человека. Татьяна, не декольтированная и не вальсирующая, представлена в вихре столичного света, под шум музыки и танца. И где – ни будь в уголке группа столичной элиты, где каждый ловит взгляд Татьяны и прислушивается к её голосу. Тамара в тиши горного монастыря-крепости, связанная монашеским обетом, прислушивается, затаив дыхание, к голосу влюблённого в неё Демона, от которого веет нечеловеческой силой. Онегин не узнаёт в незнакомой ему княгине-генеральше Татьяну. Демон с новым восторгом смотрит на сублимированную монахиню Тамару и видит в её облике небесные черты, так хорошо ему памятные в архангельские его времена.
Обе, Татьяна и Тамара, реальны и историчны. Пушкин даёт это понять в конце романа, когда говорит о той, с которой «образован Татьяны милый идеал». Находки Ираклия Андроникова показали это в отношении Тамары.
Пушкин показал рассудительность и мудрость русской женщины в лице Татьяны. Лермонтов — непосредственность, наивность и восторженность женщины Востока. Тамара уже одарена христианской добродетелью «различения духов», узнаёт в своём поклоннике злого духа и отвергает его. Соблазн принимает новые формы, слышатся искренние ноты в признаниях и мольба о спасении…
У Тамары — не просто рецидив любви, пробуждение раненного сердца. Примешивается и жалость к «страдальцу», и желание помочь и спасти.
А их «анимусы», Татьяны и Тамары, Онегин и Демон? Человек и великий дух, хоть и падший. Онегин — романический идеал, принявший реальные формы соседа-помещика, воплощение всего притягательного в мужчине. Красота, мужская грация и голос, то сильный, то мягкий, проникающий в душу. Воплощение всего героического в мужчине. Это был для Татьяны синтетический образ, монолитный, из героических образов литературы. «Это он», все-человек и все — мужчина! Одним взглядом, одним словом, он пробудил все дремлющие в Татьяне силы.
Татьяна поняла свою ошибку, после строго-мягкой отповеди Онегина, после знакомства с кругом его интересов, посетив жилище Онегина. Это был полупустой отпрыск 20-х годов. Но очарование осталось. Демоническое в Онегине: гарольдовщина, маска индивидуализма, непобедимый эгоизм. Месть Ленскому, стоившая жизни искреннему другу. Это — уроды дворянско-помещичьей, рабовладельческой России, под модной маской. Настоящий, подлинный, возрождённый Онегин — в его письме Татьяне.
А перед Тамарой был не эстетный сосед-помещик, в модной Гарольдовской полумаске, а сам великий Архетип архангельской красоты и величия, силы, мудрости. Речистый, как 5 Демосфенов, 10 Цицеронов и 15 Гортензиев. Вооружённый непреодолимой силой демонского прельщения и соблазна. С чарующим голосом, в котором слышались и властные ноты, покоряющие женские сердца. Он апеллирует к человеческому, женскому состраданию, честолюбию и кастовой гордости. Не последнюю роль сыграла и сила страсти Демона.
Татьяна прошла через искус, тяжёлый девичий опыт. Тамара — через смерть любимого жениха. Отвергнутая любовь Татьяны и неразделённая любовь Тамары. Обе остаются верными. Тамара — несмотря на насильственные объятия и смертельный поцелуй Демона. Полюбила ли она Демона? На это нет прямых указаний. Если и была любовь, то она была жертвенная. Тамара имела заступника в лице своего ангела. Она «любила и страдала», и потому оправдана.
Татьяна остаётся верной мужу, а Тамара — убитому жениху. Это — не мещанская, салонная мораль. И не автономная, свободная мораль, к которой склонялся и Белинский. Это — мораль христианская. Лермонтов порывает с гуманистическим автономизмом и следует пушкинизму. Гуманистическое свободонравие и лёгкость нравов рядятся в тогу передовитости и считают верность отжившим пережитком. Тамара принимает удар судьбы, как жребий свыше, идёт в монастырь. Её зовёт к себе Христос. Русские гении — за верность, которая ровняет человека ангелу. Поэт пророк Лермонтов влечётся к серафизму. Ангел приносит душу человека на землю для томления и страдания.
И долго на свете томилась она
Желаньем чудным полна.
Но душа не удовлетворяется «скучными песнями земли», в ней остаётся отзвук райской песни ангела. Ангел уносит душу многострадальной Тамары на небо.
Есть у Лермонтова и другой чарующий образ души-анима. Это — Нина в драме «Маскарад». Арбенин говорит о своей жене
Как агнец Божий на заклание
Мной к алтарю она приведена…
Я в душу мёртвую свою
Взглянул… и увидал, что я её люблю…
Я вижу, что Творец тебя в вознагражденье
С своих небес послал ко мне.
Княжна Мери — неудачница, потому что позволила Печорину вовлечь себя в курортную интригу. Ей не удается пробудить духовные силы Печорина, закоренелого эгоиста, победить его демонию.
Демония
Демон в архаическом смысле означает дух, не обязательно злой дух, а дух вообще. Таков известный, классический демон Сократа, который проявляется, как внутренний голос. В древней философской школе стоиков намечается разграничение, появляется учение о добром духе, Агатодемон, и злом духе. Агатодемон полностью соответствует библейскому представлению о Боге. В христианской концепции демон, злой дух, есть падший ангел, извращённый в падении, мета схематизированный дух.
Человеческая демония имеет два аспекта: Первый — это демонская одержимость, вселение злого духа в человека. В евангельском понимании это — бесноватый. Христос исцелял бесноватых, изгоняя из них злых духов, демонов, бесов. В одном случае целая группа бесов была изгнана и вселилась в стадо, которое бросилось в воду и утонуло. Бес-демон может покинуть человека, но может вернуться и привести с собою других. «Сей род изгоняется молитвой и постом», сказал Христос. Он изгнал из Марии Магдалины семь бесов. Сатана вошёл в Иуду.
Демония в смысле одержимости в религиозном понимании, стала объектом научного рассмотрения и изучения в современной психиатрии. По Мауэргоферу это выражается в шизоидии, в основе которой лежит эффективность. В философии демония изучена Остеррайхом и Ясперс, в теологии рассмотрена П. Тиллих и Р. Пфейфер. Одержимость ведёт к раздвоению личности, душевной болезни.
Второй аспект человеческой демонии — это уподобление демону, не есть непременно состояние одержимости, извращение характера, нарушение равновесия в человеке. Это — «шизоидно-демонический характер», главными особенностями коего являются: замкнутость, асоциальность, склонность к противоречивости. Затем идут: духовная извращённость, раздвоение личности, самоутверждение, раздражительность, мизантропия (человеконенавистничество), прожигание жизни вплоть до саморазрушения. Философ Ясперс говорит ещё о демоническом миросозерцании и демонической философии.
Вообще, всякий подчёркнутый индивидуализм подозрителен на демонизм, когда перевес оказывается не в сторону личности, а в сторону индивидуальности. Другая характерная черта демонии — гедонизм и гедопатия, склонность к чувственным наслаждениям. Сатанический аспект гедонизма находит своё художественное выражение у Гёте в «Вальпургиевой ночи» с неподражаемой силой. Мировая литература даёт инфернальные (адские), демонические типы людей: чета Макбет, Ричард 3-й, Яго у Шекспира, Дон Жуан, Иудушка в романе Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» и в «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова и некоторые герои Достоевского. Но исключительное место в литературном демонизме занимает Байрон. Его герои — демонические натуры. Это обусловливается и личным демонизмом самого Байрона. Одной из задач поэзии Пушкина было разоблачение демонского типа от всякой романтики. Лермонтов взялся разоблачить самого Демона и справился с этой задачей с несравненной гениальностью в поэме «Демон».
Гений может стать объектом демонского наваждения и жертвой его, если у него есть некоторое расположение к этому в повышенной эффективности. Байрон, Гёте, Виктор Гюго и др. стали жертвой западно-демонического гуманизма, возвышающего человека и игнорирующего божественное. Герои Байрона — сам Байрон в различном облике, включая Манфреда и Каина. Гёте поселился на время вблизи горы Брокен, где, по народному преданию, происходили шабаши ведьм. Гёте хотел испытать на себе магические влияния. У него, по -видимому, ничего из этого не вышло, и он воплотил демонический магизм в докторе Фаусте.
Основной стержень всякой демонии, человеческой и ангельской, — гордость, с припевом: «будете, как боги», бог равенство и автотеосия (само обожествление). В обычных человеческих условиях демония есть одержимость какою-нибудь всепоглощающей страстью. Кроме гордости, зависть, ненависть, ревность, гнев, сребролюбие. Классическим примером являются герои трагедий Пушкина. Скупой рыцарь — сребролюбие, Сальери — зависть, Дон Жуан — сластолюбие, в «Пире во время чумы» — отчаяние; в «Русалке» — ревность.
Человек теряет свой человеческий облик, становится рабом страсти, все другие жизненные интересы отступают на задний план. Обеднение личности, потеря образа Божия и демонский внешний облик.
Пушкин расстался со своим демоном, в стих. «Демон» и дал его полную характеристику, непревзойдённую в мировой поэзии. Лермонтову это было труднее, он как будто породнился со своим демоном, долго и упорно работая над своим «Демоном». Его характеристика демона в стих. «Мой демон»: Собранье зол его стихия;
Носясь меж тёмных облаков..,
Он любит бури роковые
И пену рек и шум дубров;
Он любит пасмурные очи,
Туманы, бледную луну,
Улыбку горькие и очи,
Безвестные слезам и сну.
(Стр. 251).
Такова мятежная природа демона, находить удовлетворение в буре, разрушении и дисгармонии природы и мира. В «Сказке для детей» изображена встреча Лермонтова со своим демоном.
Был ли это «сам великий Сатана»
Иль мелкий бес из самых нечиновных,
Которых помощь людям так нужна
Для тайных дел семейных и любовных
Но я так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений.
Поэт иронизирует над своим героем «сказки». Придаёт ему человеческие черты. Это — продукт его творческой интуиции, полностью согласующейся с библейской письменной традицией.
Второй демонический, загадочный образ «Ангела смерти», его двойственность. Этот неумолимый носитель смерти знал таинственные речи,
Он взором утешать умел,
И бурные смирял он страсти,
Было у него во власти
Больную душу как ни будь
На миг надеждой обмануть.
(Т. 2, 216)
Но ему доступны человеческие чувства: жалость, готовность помочь. Он оживляет умирающую Аду, жалея отшельника Зораима. Но, неблагодарный Зораим бросает Аду, спешит в бой, одержимый жаждой крови, чтобы испить из «чаши славы, хотя б в ней был смертный яд». Его томит мысль о «ничтожестве». Его влекут: «труба войны и звон мечей» (одержимость страстью!). Дальше идёт описание битвы и сам поэт захлёбывается от восторга (стр. 224). Но… это «пустая и надменная мечта». Теперь все боятся встречи с ним.
И главного своего героя, Демона с большой буквы, наделяет Лермонтов человеческими чертами: желание примирения, вера в добро. Живы «воспоминания лучших дней». Демон печален, воспоминания о светлых днях его невинного состояния не дают ему покоя. У него появляется желание вернуть прежнее состояние. Всё это — новость в мировой литературной Люцифериане.
Личный демон Лермонтова, интимный портрет коего дан в стих. «Мой демон» (по аналогии с «Демоном» Пушкина) сильно отличается от демона Пушкина. Он «уныл и мрачен», не внушает доверия, презрел чистую любовь и отвергает моления. Равнодушно видит кровь, звук высоких ощущений он давит голосом страстей (как это похоже на героев Лермонтова). Муза кротких вдохновений страшится его очей.
Замечательна и «Жена Севера» — портрет женского демона, от взгляда которой умирали люди.
Каждый человек имеет своего демона и чем значительнее личность, тем сильнее её демон. У некоторых дело доходит до демонской одержимости. История христианской церкви знает много таких случаев, среди отшельников, пустынников и подвижников. Таковы были все основатели христианских сект.
Гоголь внёс всю малороссийскую чертовщину в русскую литературу. Можно удивляться, как Пушкин восхищался рассказами Гоголя, который сам стал жертвой демонии. Достоевский вырос литературно под сильным влиянием Гоголя и углубил его литературный демонизм. Гоголь и Достоевский надолго отравили духовную атмосферу России. Неудивителен теперь успех Достоевского в западной Европе и Америке. Это — признак духовного распада западных культур. Потрясающие примеры в искусстве. Современная живопись напоминает работы умалишенных, обитателей психиатрических больниц. Современная музыка — это сплошной танец ведьм. Не будем называть имён. Достоевский изучал научную психиатрию, чтобы быть точным в своей романической психопатологии. Не лечил свою эпилепсию, потому что черпал вдохновение в своей эпилептической ауре. «Серебряный век русской литературы» — это сплошная демония в поэзии и прозе.
Герои всех неоконченных повестей Лермонтова: «Боярина Орши», «Литвинки» и всех кавказских повестей, Хаджи Абрек, Каллы, Измаил-Бей и др… Всю свою жизнь Лермонтов носился с этими образами, вынашивал их в уме и сердце, и выпустил их на вольный воздух, в своих чуть пушкинских, чуть байроновских строфах. Ими любовались, их разглядывали с интересом и любопытством, но никто не понял и не испугался. Один лишь Владимир Соловьёв увидел и испугался. Страх и тоска его были пророческими. Мыслитель испугался за Россию, отверг мир героев чёрной романтики, но он отверг у русского гения Лермонтова, без которого блеск и глубина русской культуры были бы неполными. В душе гениального юноши Лермонтова были и рай и ад. Мыслитель увидел только ад. Можно ли осуждать мыслителя за его духовную слепоту? Чёрные видения Лермонтова были пророческими:
«Придёт России чёрный год».
Демонические герои Лермонтова уходят из этой жизни не примирёнными. Они и в загробном мире живут теми же чувствами мщения, злобы и ненависти, Хаджи Абрек, Каллы и др. — убийцы не по влечению, а по суровому и жестокому долгу. Они должны, этого требует обычай, нравы и вековая традиция. Они несут до конца свой жребий. Нашёлся один с человеческими чувствами и сердцем, Гарун. А что его ожидало, что он нашёл среди своих? Презрение, отчуждение, даже среди родных. «А ты отомстил?» — был первый вопрос.
Потрясающее свидетельство Лермонтова о себе:
«Как демон мой, я зла избранник,
Как демон с гордою душой,
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой.
(Стр. 210).
И в начале того же стих.
Я не для ангелов и рая
Всесильным Богом сотворён.
Да, странник был он, он не с беспечной душой, был и с гордой душой, но не зла избранник, и не чужой для небес. Что это? затуманенное самосознание, вызванное отчаянием и жизненными невзгодами, или байроновский налёт, «Гарольдов плащ» и маска, модная со времён Пушкина. А пророческое самосознание и призвание, а молитва, с обращением к Богу, Богоматери, а созерцание Божества в природе в стих. «Когда волнуется желтеющая», в религиозных объектах, как в «Ветке Палестины». Личная демония поэта — общечеловеческого свойства, увеличенная уродливым воспитанием, жизненной обстановкой, уродливым социально-политическим строем и характером. С этой точки зрения демоничны: и Арбенин из «Маскарада», и Вадим, и царица Тамара, разыгрывающая из себя запоздалую Клеопатру, и все герои кавказских и русских повестей.
Юноша-поэт был под сильнейшим демонским наваждением и прельщением. Об этом говорит он сам с исключительной выразительностью:
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ.
Меж иных видений,
Как царь немой и гордый он сиял,
Такой волшебной, сладкой красотой,
Что душа тоскою сжималася
И этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет…
Но я, расставшись с прочими мечтами,
И от него отделался стихами.
(Т. 2-й, 1839-1840 гг.).
Образ Демона преследовал поэта всю его жизнь, но и от него он отделался стихами. Не только отделался сам, но и оставил неизгладимый след навеки.
У Печорина — явные черты демонии: чудовищный, всепоглощающий эгоцентризм и неразборчивость в средствах, вплоть до преступления. У него демонская аффективность в виде чрезмерной возбудимости, раздражительности, гнева и всегдашняя готовность к мести. И всё это не оставляет никакого следа на его совести. Его воспоминания — это самолюбование, а не упрёки совести или сожаления о совершившемся. Он не владеет собою, реактивность его не имеет границ. Он весь во власти своих страстей и влечений.
А вот Арбенин. Демонические черты выступают у него резче. Он, как и Печорин, любит говорить о себе. Он рад всякому случаю «привесть кровь в волнение» и «наполнить ум и грудь тревогою». Он никому не был обязан в жизни, а если кому и платил добром, то ради пользы для себя. Он любил, но и страдал, но больше ненавидел. Дни юности отравлены волнением и вызывают теперь отвращение. Он чувствует в жизни своей «печать проклятия» и замкнулся в себе, отвернулся «для чувств и счастья». И даже теперь, когда он подлинно счастлив, любим и любит. Тогда мир представляется ему прекрасным, с души «слетела чёрствая кора» и он воскрес для жизни и добра. Но и теперь, когда он чувствует себя возрождённым, является «опять какой-то дух враждебный» и «уносит» его «в бурю прежних дней», стирает с памяти его светлый взор и волшебный голос Нины. Тогда он опять молчалив, суров и угрюм, боится осквернить жену прикосновением. Нина встревожена, он пытается её успокоить, хочет забыть своё тревожное прошлое.
Я вижу, что Творец тебя в вознаграждение
С своих небес послал ко мне.
Но случай с пропажей браслета вызывает старые забытые бури. Он «страшен» в своей ревности, Нина «отскакивает» от него в сторону. За дикой ревностью следует гнев. Аффекты следуют один за другим. Он уже думает о мести и не скрывает этого, прощается со своим «небесным и земным раем». Ни малейшего доверия к когда-то любимой жене. Он не доверяет всем уверениям, клятве Нины, потому что судит всех по себе.
Отравленная жена, умирающая на его глазах, ищет «искры доброты» в душе опытного и закоренелого изверга и не находит, ищет спасения, смотрит ему в глаза и… видит в них только смерть.
Конец демонского наваждения — безумие или самоубийство, но Лермонтов оставляет этот вопрос открытым.
Индивидуализм. Преддверие демонии — индивидуализм. А индивидуализм есть претензия человека на высший ранг и на большую независимость. Предпосылки к тому были в гуманистической тенденции всей западной культуры. Байрону выпало на долю быть выразителем этой новейшей стадии гуманизма. Байронизм прошёл по всей Европе, как буря, как смерч, оставив глубокие следы. В то время, когда в Германии были Гёте, Шиллер и Гейне, во Франции Гюго, Мюссе, Барбье и др., а в России Пушкин и Лермонтов. В байронизме было очарование непреодолимое. В байроновском индивидуализме было обаяние сильной личности, не знающей преград, ни земных, ни небесных. Ломающей, сметающей всё на своём пути и топчущей святыню.
Индивидуализм у Байрона — это, прежде всего, Каин, который бросает вызов небу, критикует мировой распорядок, порывает с родителями, убивает брата, встречается с падшим ангелом Люцифером и получает от него инструкции. Идеологическая основа каинизма-байронизма: почему должен он страдать, трудиться в поте лица в виде наказания, если согрешил не он, а его родители, а его в то время ещё не было на свете. Это — отказ от родового принципа, родовой преемственности. Протест Каина становится протестом ради протеста, руководящим принципом. Дьявол обретает в нём союзника, помощника и слугу. Подчинение Богу и родителям заменено подчинением и рабством дьяволу. Каин вынужден странствовать, и даёт начало новому, мятежному человечеству, с печатью на лбу. Судьба Каина — это судьба всего мятежного гуманизма-индивидуализма — печать отверженности и рабство дьяволу.
Байрон испытал сильное влияние Гёте. Но у Гёте человек и черт разъединены, хотя и действуют совместно и согласно. Мефисто-Фауст или Фауст-Мефисто. У Байрона это одно, демоническая одержимость человека, внутренний черт, как паразит, живущий в человеке. Мефисто не нужен, он может даже мешать. И внутренний демон может дать сверхчеловеческую и сверх земную опору. Ведь то же и на востоке, в Йоге. Но там — демон в виде змея Кунда. Здесь, в Европе демоно— человек, а там — змее-человек.
Вульгарный, подражательный индивидуализм-байронизм выражается в самовозвеличении, самолюбовании, самохвальстве и самоудовлетворении. В нём есть патологические черты нарцизма или нарциссизма (самолюбовании в колодце), ставшего в наше время объектом клинической психиатрии. Фауст, Манфред, Каин, демоно-человеки, заняли всю авансцену литературы. А потом и помельче у Гюго, Альфреда де Виньи, Гоголя и Достоевского.
Можно полагать, что индивидуализм есть конечный пункт западного атеистического гуманизма. На наших глазах он кончается дегуманизацией, обезличением человека, с переходом в бесчеловечность, бестиализм, деградация человека в хищника. Деградированный хищник, презирая породившую его среду, не прочь завладеть ею, сделать своею «собственностью» как у индивидуалиста Штирнера. Это — прямая измена индивидуалистическому принципу отчуждения и одиночества. Индивидуалист — отщепенец своей родины и ищет пристанища на чужбине. Он должен развлекаться и снимать чадру с восточных красавиц.
У индивидуалиста Ницще иначе, у него есть зороастровский идеал сверхчеловека. «Человек есть то, что нужно преодолеть» — таков лейтмотив его «Заратустры». Ницше сознавал бессилие повседневного человека. Внешне и в своих писаниях он как будто свободен от демонии, не зовёт никого на помощь. Таков Ницше писатель. Интимный Ницше мало и вовсе не известен читающей публике, даже ярым поклонникам и последователям. Ницше и его интимный друг, композитор Рихард Вагнер, увлекались дионисизмом и дионисической медитацией. Во время одного из сеансов в одиночку явился Ницше субъект сурового вида, с бородой и в чалме и сказал: «Ты должен создать новую религию». С новой религией не удалось, но Ницше написал книгу «Анти христианин». Вагнер вышел сухим из воды, но вся музыка его есть сплошной дионисизм в тевтонской интерпретации. Его «Парсифаль», как «праздничное сценическое представление», есть суррогат религии. Ницше сошёл с ума.
Личный индивидуализм, теоретический и практический, становится порою невыносимым. Тогда индивидуалист ищет выхода в преждевременной смерти. Байрон нашёл её в Греции, а Лермонтов на дуэли. Яд индивидуализма глубоко сидел в Лермонтове. Он не успел изжить его полностью и пал его жертвой. Но творчество его спасено верой и молитвой, бабушкиным религиозным воспитанием, его народностью и преданностью русским религиозным и церковным традициям.
Личный индивидуализм Байрона уживался рядом с мировою скорбью, скорбью за человечество — такова раздвоённость западного гуманизма. Но в «Манфреде» Байрон показал полное идеологическое банкротство индивидуализма и в этом — огромная метафизическая заслуга Байрона. Нужно отдать справедливость и Гёте, его Фауст— банкрот, со всеми оккультно-магическими тонкостями.
Печорин
Онегин — это русский денди лондонский, «москвич в Гарольдовом плаще», плюс немножко Мальмот и чуточку Адольф. О демоническом байронизме его говорить не приходится. Печорин — это акклиматизированный на Кавказе русский офицер из привилегированного класса, в черкесской чохе. У него есть что-то от онегинского шарма, врождённая грация, аристократическая внешность и манеры.
Название романа «Герой нашего времени» звучит не только, как «злая ирония», как отмечает Лермонтов в конце «Журнала Печорина», но и как предостережение. Вот каков герой, хочет сказать автор, покоритель женских сердец и их губитель. Он — почти сродни героям вульгарных романов и плоских мелодрам. Он губит или не щадит Бэлу, Мери и Веру, даёт только призрак мимолётного счастья, «без сожаления и участья», как Демон. Он мелко демоничен, но достаточно силён, как и многие герои лермонтовских поэм и трагедий. Он только модификация Дон Жуана, но действует не намеренно, а под влиянием случая.
Чем берёт такой герой не только лермонтовского, но и всякого другого времени? Прежде всего, внешность, смесь русского с кавказским. Черкеска, облегающая стройную фигуру, широкие к кистям и откидные рукава чухи, колеблемые при малейшем движении и ловко поправляемые рукою… Плотно облегающие ноги чувеки, туго обтянутая осиная талия, за которую всегда боишься, что она переломится. Если прибавить к этому повелительные нотки в голосе, привыкшем командовать во взводе или сотне, то картина будет полной.
Герой нашего времени Лермонтова — это тридцатые годы, когда байронизм прочно вошёл в обиход России и Европы, приелся и вульгаризировался, показав в Печорине своё подлинное лицо. Это — следующий этап за пушкинской галереей с кавказским пленником и мрачным Алеко. Уже не отщепенец, не беглец из общества, с сомнительным прошлым, не исключающим преступление, а завсегдатай столичного и курортного общества, где дамы и девицы, в промежутках между курсами лечения, танцуют, флиртуют, влюбляются и разочаровываются.
Потом пойдут люди 40-х годов, тургеневские герои, Рудины, Лаврецкие, Литвиновы и Неждановы, без занятий и профессий. Потом придут герои Гончарова, Обломов, Адуев, Райский; после Печоринщины — Обломовщина.
Печорин выигрывает рядом с Грушницким, он более легок и находчив, более опытен в амурных делах, умеет использовать ситуацию, создать романтическую атмосферу вокруг себя и женщин. Он человек минуты, не умеет во время остановиться, менее всего считается с последствиями. Грушницкий убит, разбито сердце Мери, Вера неожиданно уезжает, а он скачет на лошади за поездом, ложится у трупа павшей лошади и рыдает. Какая чудовищная коллизия силы и беспомощности. Он сеет вокруг себя ненависть, злобу, отчаяние и смерть.
Роман-автобиография Печорина ведётся в первом лице, но в лермонтовской обработке. Печорин искренен, правдив, не скрывает ни одного неблаговидного события из своей жизни. Неприятное впечатление производят его некоторая само рисовка, самолюбование и самокопательство в душе. Поэтический фольклор и картины природы — в лермонтовской транскрипции. Идейно находится Печорин на высшем уровне своей эпохи. О «философии» Печорина будет речь впереди.
Печорин владеет собою, он невозмутим. Когда ему напоминают о погибшей Бэле, он только чуть-чуть бледнеет и отворачивается. Когда Максим Максимыч хотел утешить его после смерти Бэлы, он поднял голову и засмеялся. У бедного Максим Максимыча мороз пробежал по коже от этого смеха, и он пошёл заказывать гроб. Он дразнит Азамата, брата Бэлы, лошадью Казбича и ему привозят связанную по рукам и ногам Бэлу. На упрёки Максим Максимыча он находит быстрый ответ: «Да когда она мне нравится?…» Решимость, он готов идти на пулю или шашку. Он дрожит и Максим Максимычу кажется, что сделает то, чем угрожал. И ещё одна жертва, убит старик, отец Бэлы.
Печорин о себе: у него несчастный характер. С детства избалован матушкой (Лермонтов — бабушкой). Воспитание ли сделало его таким или Бог таким его создал, что если он — причина несчастья других, то и сам он не менее несчастлив. Здесь можно ему верить. Он — продукт уродливой дворянско-помещичьей культуры, калечившей целые поколения людей на протяжении столетий.
И дальше: «глупец я, или злодей, не знаю, но то верно, что я также достоин сожаления, может быть больше, чем она. Во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне всё мало. К печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать» (здесь не только Печорин, но и Лермонтов, и Байрон)… И совсем по лермонтовски: — «авось где — нибудь умру по дороге». Максим Максимыч вставляет своё замечание: теперь много таких, говорящих то же самое, это —«разочарование» (!) Как все люди, начав с высших слоёв общества, спустились к низшим, которые его донашивают. И это всё от англичан… И в «Евгении Онегине»: «подобно английскому сплину, короче русская хандра, им овладела понемногу».
Дневник Печорина напоминает исповедь, он беспощаден к себе, открывает все свои пороки. И всё это густо сплетено самоанализом и рефлексией, модной болезнью времени, «у меня врождёная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий». Присутствие энтузиаста обдаёт его холодом, а присутствие флегматика может сделать его страстным мечтателем. И ещё: зависть к успеху другого у женщин.
Образец его рефлексии: «заметьте, любезный доктор (Вернер), без дураков было бы на свете очень скучно». Можно было бы прибавить от себя к этому: без «умных», вроде Печорина, было бы ещё скучнее, но спокойнее… Да, себя он считает умным. Потому он с доктором не спорит. Печальное им обоим смешно, а смешное грустно. И равнодушие ко всем, кроме себя. Доктор Вернер подтверждает, что у него, Печорина, большая сообразительность. Он предсказывает, что Грушницкий будет жертвой. Печорин злопамятен, говорит об этом сам. Он отвлекает от княжны Мери столпившихся вокруг неё кавалеров тем, что рассказывает анекдоты «умные до глупости», чтобы оставить княжну одну. На реакцию княжны он готовит ей месть. И злит заодно Грушницкого. И наслаждается «восхитительным» бешенством княжны. Он не только азартный игрок, но и комедиант.
Самоанализ пробуждает в нём психолога. Само психология идёт рядом с психологией женщин. Всё своё свободное время он тратит на самокопательство, логизирует и психологизирует. Берется наставлять Грушницкого, чтобы овладеть его доверием, и… «тут то я буду наслаждаться!» Что это — демонизм? Ему ничего не стоит вызвать слёзы у замужней женщины, бывшей любовницы Веры. «Лицо её выражало глубокое молчание, голос задрожал». И опять рефлексия: «может быть». — подумал я: «ты оттого-то меня любила: радости забываются, а печаль — никогда»…
Он садист и мазохист. Даёт Вере возможность познакомиться с княгиней Лиговской, а сам волочится за княжной, чтобы отвлечь от Веры внимание её мужа. И доволен: «Весело!» Да, ему весело… Неожиданный переход к самолюбованию, чувствует себя денди в черкесском костюме, с оружием, меховой шапкой, ноговицами. Долго изучал горскую посадку. Может быть, он и лезгинку лихо танцует?
На всякий случай «заготовлены» у него фразы; какая работа над самим собой и на что она направлена. Да, теперь он занят психологией Мери. Он специалист по игре женских глаз и улавливает их намёки. Если княжна объявит ему войну, он будет «беспощаден». Ещё до дуэли с Грушницким он дуэлирует с неопытными девушками. Ценное признание: у него мелкие слабости и дурные слабости. Но чувствует в себе «силы необъятные», и… тратит их на мелкие и недостойные дрязги.
Можно было бы поставить точку на этих лирических излияниях курортного и салонного льва в горской Черкесске. Но нет, самообнажение мелкого дон жуана идёт дальше и характерно для безвременья дворянско-помещичьей рабовладельческой России, плетущейся в хвосте «культурного» Запада. Следует весьма своеобразная «философия жизни» распоясавшегося представителя «высшего» класса, философия рабовладельца: «Какое необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души». Он чувствует в себе «жадность всепоглощающую». И первое его удовольствие — «подчинить своей воле всё, что его окружает», возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха. И ещё: «быть для кого ни будь (всё равно, для кого) причиной страданий и радостей», не имея на это никакого положительного права. Не самая ли это сладкая пища нашей гордости?»
Здесь нет надобности ссылаться на иноземную, байроническую гордость. Это может быть своё родное, культивированное в уродливых условиях российской действительности, чванство. Кабацкое часто: «ино дело пьянство, ино дело чванство». Разница небольшая. Философия гордости принимает иной аспект, следует вопрос, что такое счастье. Ответ: «насыщенная гордость». Для рабовладельца и обладателя «душ» это вполне естественно и, может быть даже логично. Счастье в том, чтобы «быть могущественнее всех на свете».
И тогда он нашёл бы в себе «бесконечные источники любви». Какой самообман! Здесь исповедник Печорин просто глуп, плохой психолог и философ. Он стал бы азиатским деспотом.
Дальнейшие само откровения Печорина — как у Люцифера, в «Каине» Байрона. «Зло порождает зло; первое страдание даёт понятие о удовольствии мучить других». Здесь — другая черта демонизма. Философия зла в духе Гегеля, идея должна перейти в действие или действительность. Идея даёт форму, а эта форма даёт действие (на скорую руку взято из платонизма). И дальше за Печорина говорит Гегель: «Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие». Но у Гегеля есть и другое: Абсолютный Дух открывает себя, или иначе, обретает сознание в светлой голове Георга Фридриха Вильгельма Гегеля, то — есть в мозговых извилинах Гегеля. Читатель романа может вздохнуть свободно, кроме демонской гордости и полноты власти есть ещё правосудие Божие.
За философией следует педагогика, разговоры о воспитании. Как рождается дурной характер? «Да, какова моя участь с детства? Все читали на моём лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они явились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я чувствовал себя выше, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я готов был любить весь мир — никто меня не понял: и я научился ненавидеть… Лучшие мои чувства, боясь насмешек, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду, мне не верили: я начал обманывать». Стал искусен в науках, в науке жизни, видел счастье других, и тогда родилось отчаяние… «я сделался нравственным калекой». Но это не мешало ему хорошо изучить людей, и особенно женщин. «Я всё это знаю наизусть — вот что скучно». Скучно — вот лермонтовский мотив: «И скучно и грустно». Можно не сомневаться в том, что подобное уродливое воспитание получил и сам Лермонтов, и ему, воспитанию, обязан он неровностями своего характера.
Нужно сделать какие-то теоретические выводы и практические, осмыслить своё поведение, найти своё место в обществе. Неужели же его единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? Судьба всегда приводила его к «развязке чужих драм». И он всегда разыгрывал роль палача и предателя. Несмотря на эту ясность самосознания, он не может отказаться от роли палача и предателя. Низменные желания и страсти берут верх. И он доволен собою и ведёт дальше свою игру. «Необъятные силы», которыми он гордится, идут на удовлетворение демонских страстей.
Другая его специальность — женская психология, которая изучается теоретически-практически. Он экспериментирует душами девиц и замужних женщин, честью таких же, как он, задевает их самолюбие и ведёт к гибели. Он мог написать диссертацию на тему женской психологии, для нас наставления юнцов в «науке страсти нежной», которую воспел Назон. Нет, систематическая работа ему чужда. Копательство в собственной голове и сердце — это другое дело. Его единственный вывод — алогичность и анти логичность всех женщин, вместе взятых. Но и в этом нет ничего нового. «Мне дурно!» — проговорила она. И — «я быстро наклонился к ней, обвил рукою гибкую талию». О! он знает цену словам и прикосновениям. Он мелкий дон жуан, прошедший школу. Только нет у него своего Лепорелло, который регистрировал бы его победы над женщинами. «Она проведёт ночь без сна и будет плакать. Эта мысль доставляет необъятное наслаждение… есть минуты, когда я понимаю Вампира (с большой буквы). А ещё слыву добрым малым и добиваюсь этого названия».
Кто он, выходец из сумасшедшего дома? Или «злая ирония», карикатура? Нет, он живой портрет эпохи… Может быть это — преувеличение, само упоение или рисовка. Если даже это так наполовину или четверть, то и того достаточно. Это — человеческая демония, демонское извращение и вырождение. И рядом — чистые перчатки, и вычищенные сапоги, свеже накрахмаленные воротнички. Если правда всё то, что говорит он о своём воспитании, то встаёт чудовищная картина состояния общества и семьи того времени.
«Ядовитая злость» наполняет его душу, за что его ненавидят так люди. Какая жуткая, чудовищная дезориентация в себе и других. Критикуя других, он жалеет и щадит себя, и все его само признания не стоят гроша. Думать о дуэли с Грушницким, о нелепых и злонамеренных условиях её? Нет, ему всё равно. «Что ж? Умереть, так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уже скучно». Здесь опять что-то сходное, лермонтовское в Печорине и печоринское в Лермонтове. Портрет имеет сходство с художником. И мотив тот же: «И скучно, и грустно… а жизнь такая пустая и глупая шутка». Да, можно превратить свою и чужую жизнь в пустую шутку. Существует ли какая цель в жизни каждого, кто родится? После такой трагической дилеммы, жить или умереть, — гамлетовская рефлексия. Верно было ему «высокое назначение», но не открыл это назначение, увлёкшись приманками страстей пустых и неблагодарных.
Увлечённый собственным красноречием, он продолжает свои откровения, которые становятся скучными для всякого слушателя. Он играл только роль топора в руках судьбы. Как орудие казни упадал на головы обречённых жертв, часто без злобы, всегда без сожаления… От таких признаний делается читателю не по себе. Что это, пережитки западного гуманизма и чертизма, вырождающийся байронизм и мефистофелизм? Любовь, но он, по собственному признанию любил только себя. И опять вопрос, стоит ли для этого жить.
Смотрит на себя в зеркало, рисуется, доволен собой, после бессонной ночи перед дуэлью… Думая о близкой возможной смерти, признаётся: из жизненной бури он вынес только несколько идей и — ни одного чувства. Давно уже живёт не сердцем, а головою… Результат пожизненной рефлексии и дешёвого гамлетизма. На дуэли говорит доктору, своему секунданту: «Какое вам дело (дело касается заговора секундантов Грушницкого). Может быть я хочу быть убитым». Убивает Грушницкого и проводит свой адский план. Ожидающий выстрела должен стать на краю бездны, чтобы в случае ранения упасть вниз.
Письмо уехавшей Веры дополняет интроверзный (внутренний) портрет Печорина: «В твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное. В твоём голосе, что бы ты не говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; ничей взор не обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не может быть так несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном». Можно подумать, что письмо это написал сам Печорин, но нет, Вера спешит, за нею приехали.
Очарованный этим признанием Веры, Печорин вскакивает на своего Черкеса и мчится за поездом, уносящим навсегда Веру. Это похоже на мелодраму, если бы не было подписи Лермонтова.
С легкой руки Гончарова и его критика Добролюбова установилось понятие Обломовщины. Почему не говорить о Печоринщине, Печорин также типичен, как Обломов. Лермонтов лично отдал дань Печоринщине. И у Пушкина есть общее с его героем Онегиным, но Онегин не типичен, не зауряден. Если он затевает интрижку с Ольгой на балу у Лариных, то от злобы на Ленского, а не для развлечения. Ленский ввёл его в круг провинциальных Петушковых и Фляновых, с которыми он порвал; дал выход своему гневу.
Как носитель Вечно-Деятельного (Мужественного), Печорин неудачник, как и после него тургеневские и гончаровские герои. Он — первое звено в цепи банкротов-неудачников, зарегистрированных в статье Н. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous». Это — герои Тургенева, Рудин, Шубин, Берсенев и Нежданов, герои Гончарова: Обломов и Райский. Миссия Вечно-Деятельного им не удаётся, благодаря внутренней опустошённости и раздвоённости, принесенной из Запада, наследственной и кастовой бездеятельности и беспомощности. Когда нужно было дать в русском романе деятельный тип, то у Гоголя это был грек Костанжогло, у Тургенева — болгарин Инсаров, у Гончарова — немец Штольц.
Онегин на целую голову выше их всех, этой плеяды уездных «гамлетов» и «лишних людей». Он берёт не только своей внешностью, но и своей интроверзной силой, может быть ещё нереализованной полностью. Печорин, в сравнении с Онегиным, только «ирония» или карикатура Вечно-Деятельного. Это профессиональный волокита, душегуб, дон жуан против воли. В любви он — странник, переходит от одной к другой. И здесь — его личная драма. Если и любит, то от скуки. Провинциализм его заел, время проходит между казармой или боевыми стычками, игрой в карты и курортным флиртом. Он опасен, авантюрен, создаёт рискованные ситуации, как с фаталистом Буличем, груб с ним, прямолинеен и жесток.
Параллель между Онегиным и Печориным поучительна для ориентировки в плеяде «русской интеллигенции» — в концепции Овсянико-Кульковского. Только одно десятилетие отделяет Онегина от Печорина, а какая деградация русского передового слоя. Онегин работает над собой, уединяется в деревне, в своём поместье, много читает, занимается и научными дисциплинами, политической экономией и разбирается в хозяйственной конъюнктуре народов. Его друг, Пушкин приводит целый реестр прочитанных им книг. Он — передовой человек, облегчает участь своих крестьян. Не считается с отсталой средой, игнорирует её. Несчастье с Ленским, единственным другом, потрясает его и способствует духовному пробуждению.
Онегин пробуждает душу-анима героической Татьяны, усыплённую сентиментально-романтическими романами и жизненной прозой. Он уклоняется от ответственности, порывая с Татьяной, за что потом жестоко расплачивается.
Жизненный путь Печорина усеян разбитыми женскими сердцами, слезами их и отчаянием. Бэла умирает от ножа озверевшего горца, Вера бежит от него, а Мери кончает: «Я ненавижу вас». Только после драматической развязки в комнате Мери он убеждается, что у него «нет и капли любви к бедной Мери».
Печоринщина — это плоский антропоцентризм, самовлюблённость, эготизм по Байрону, создающий вокруг себя пустоту, отчуждённость и серию любовных драм.
В русской исследовательской литературе о Лермонтове намечается склонность к преувеличению значения образа Печорина, как типичного представителя эпохи 30-х годов.
С. В. Фёдоров[24]1 пишет, что Печорин, человек сильной воли и одарённый, не боится вступить в конфликт с обществом. Но бесцельность, бездеятельность, пустота, фальшь и интриги убивают даже в сильном человеке все его незаурядные задатки, всё хорошее, светлое и радостное. Печорин убеждается, что в самодержавной, крепостнической действительности нет места ни уму, ни таланту. Порочный круг самодержавно-крепостнического строя сомкнулся вокруг Печорина, он силится разорвать его, но выхода не находит. Автор говорит о массовом появлении Печориных. Тина пустого тщеславного, лицемерного светского общества затягивает Печорина, губит его задатки, превращает в чёрствого индивидуалиста. Печорин сам понимает, что деятельность его никчёмна. Печорин жалуется, что судьба всегда приводила его к развязке чужих драм. Печорин — борец по натуре, но принуждён к безделью и потому ему скучно. Он страдает от невозможности найти действительное применение своим могучим силам. Автор заканчивает свой печоринский очерк утверждением, что Белинский придерживался приблизительно той же точки зрения.
Можно на это ответить, что Печорин слишком индивидуален и своеобразен, он — не тип, а болезнь эпохи. Он — жертва уродливого воспитания и уродливой дворянско-помещичьей семейной и общественной обстановки. Не выдерживает никакой психологической критики утверждение автора, что фальшивая обстановка убивает в человеке все его незаурядные задатки. Печорину нет места в современном ему обществе только потому, что он несносен своим интриганством, озлобленностью и эгоизмом. Он асоциален, не считается ни с обществом, ни с отдельными лицами из окружающей его среды. Он эгоист и себялюб. Когда он попадает в затруднительное положение, то сваливает всё на судьбу. У него нет никакой силы воли, он раб своих чудовищных страстей, которым он приносит в жертву благополучие других. Незаурядные личности всегда находили применение своим силам даже в уродливой самодержавной обстановке. Иначе не было бы Белинского, Радищева, Панаева, Краевского и др.
Л. Гинзбург считает Печорина байроновским героем. Согласно с Белинским видит в Печорине совершенное выражение страданий и противоречий своего поколения[25]. Необъятные силы, которые чувствует в себе Печорин, скрыты под маской цинизма и равнодушия. Но маска не была бы маской, если бы за ней не скрывалась истинная сущность человека[26]. Печорин показан в ослеплении и ограниченности эгоцентризма[27]. Печорин — это демон в быту, демонический характер, введенный в рамки психологических норм[28]. Для Шевырёва, цитирует автор, Печорин — пигмей зла, исчадие реализма[29]. Для Белинского Печорин был совершенным выражением страданий и противоречий своего поколения.
Лермонтов и культура
Гуманизм. Поэт-пророк Пушкин — учитель поэта-пророка Лермонтова, стоявшего на высоте своего учителя. Он также одарён, бесстрашен и идёт на смерть. Примечательно, что они не встречались друг с другом при жизни. Лермонтов, как и Пушкин, наделён пророческим даром, потусторонним зрением и слухом, владеет внутренним, эндиатетическим словом и умеет в совершенстве передать во внешнем, профорическом слове, музыке слов и ритмов.
В «Метафизике Пушкина» отмечены основные черты западного гуманизма и его русского антипода — пушкинизма. Лермонтов и здесь следует за Пушкиным, вносит новые черты в характеристику западного гуманизма. И это — не просто человечность или человеческость. Гуманус и гуманум в латинской концепции — это сложнее, чем человеческость. Это — демония, помесь человека с демоном. Это — пневмопсихический, духовно-душевный ублюдок, бастард, противоестественная смесь. Предельное выражение получает это у Гёте, Байрона, отчасти у Шекспира. Пушкин разоблачил всех троих.
Разгадка этой чудовищной двойственности — в библейской истории. Первый человек Адам породнился частично с демоном после своего стремительного и сокрушительного падения. Последствия остались и в потомстве. Один из величайших христианских мистиков и ясновидцев, Макарий Великий (Египетский) говорит, что в момент падения вошла в человека «некая скверна» или «жало греха», как частица дьявола, и пребывает в человеке, «как некая душа в душе человека». Это двоедушие человека отмечает и прозорливец Гёте. Его герой Фауст говорит о себе в беседе с учеником Вагнером:
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Одна, как страсть любви пылка
И жадно льнёт к земле всецело,
Другая вся за облака
Так и рванулась бы из тела.
Человек не перестал быть богоносцем, Бог не покинул человека, оставил в нём свою искру в виде внутрисердечного Логоса-Христа и свой образ в «правом сердце». А в «левом сердце» поселилась демонская «скверна». И с тех пор два начала, Божеское и дьявольское борятся в человеческом сердце. Так пишут все древне-церковные писатели. Достоевский заимствовал это, не указав источника. И с тех пор, кто писал и пишет о Достоевском, считают это изобретением Достоевского.
Демония в человеке, демонская сущность гуманизма, как культурно-исторического феномена — такова метафизическая и мета психическая проблема гуманизма вообще. В одном из самых совершенных произведений своих, в поэме «Цыганы», Пушкин разоблачил гуманизм у упрощенца-руссоиста Алеко:
Оставь нас, гордый человек…
Ты для себя лишь хочешь воли.
Гордыня и «своя воля» — это сущность демонизированного гуманизма Запада. Это — эгоцентризм или эготизм, по Байрону. Это — аутизм (самость), как клиническая форма у знаменитого швейцарского психиатра Блейлера.
Гуманизм не есть специфически европейское явление. Это было у всех культурных народов древности, египтян, вавилонян, персов, палестинских и мало-азиатских народов, греков и римлян. Это есть вырождение культуры в цивилизацию, когда культура становится самоцелью. В культуре ведущую роль играют духовные водители, пророки, посвящённые, адепты. А в цивилизации ведущая роль переходит к интеллигентщине, к интеллектуальной элите народа. Религия извращается и вытесняется оккультизмом и философией. Живой уцелевший образец — Индия с её Маха-Раджами, Маха — риши, Маха-Чоханами и Махатмами, то есть «великими» мира сего.
В центре гуманистической псевдо-религии и псевдо-философии — человек, который присваивает себе все прерогативы Бога. Это означает закат народов, исчезание с исторической сцены. Закат гуманистической Европы предсказан и предвиден Шпенглером в его нашумевшей книге «Закат Европы».
Гуманистическим потугам в Европе дано громкое название «Ренессанса», которое есть возрождение «человеческого, слишком человеческого». У человека Ренессанса потеряна мерка божественная и осталась мерка человеческая. Ренессансный гуманизм ещё не знает своего духовного родства с чертом, это пришло значительно позже.
Что такое культура? Гёте определяет её, как Урфеномен, первозданное явление, есть реализация духовных возможностей.
Много путаницы связано со словом гуманизм. Происхождение — от латинского «гомо», — что означает человек, и «гуманус», что означает человеческий, в отличие от животного. Это означало также отличие от звериного, хищнического. Или бережное отношение к человеку другому, снисхождение к человеческому достоинству. В религиозной концепции это любовь к ближнему. Таков гуманизм этический, общечеловеческий.
На рубеже двух эпох, между средневековьем и новым временем, появляется гуманизм философский, как реакция на средне-вековое миросозерцание и древне-церковное христианство, с их приматом (первенством) Божественного над человеческим. Христос говорит ап. Петру: «Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16:23). И в другом месте сказано: «Вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти своё предание» (Мк. 7:9). Это повторяет и ап. Павел.
Вот подлинный корень гуманизма, онтическая фальсификация, подмена божеского человеческим, с вытеснением божественного. Европейский гуманизм возник в 15-16 веках и связан с «Ренессансом», который в корне своём был ренессансом древнего софистического гуманизма Протагора с его «человек есть мера всех вещей». Платон, адепт Логос-религии Сократа, ответил на это: «Нет, Бог есть мера всех вещей». Оголтелый софистический гуманизм был отвергнут и Аристотелем.
Ренессансный гуманизм исходит из положения, что в средние века человеческое было в загоне, человек был угнетён и осуждён на духовное рабство. Характерно, что рядом, в византийском культурном обиходе, не было никаких тенденций к гуманизму. Основателем западного гуманизма и теоретиком является Пико делла Мирандола (1463-1494). Он принадлежал к кругу Лоренцо Великолепного. Под влиянием Марсилио Фичино он стремился к освобождению от древнехристианского мировоззрения. Обучал греческому, еврейскому и арабскому языкам. Стремился к эклектическому синтезу, куда вошли Платон, Аристотель с их арабскими комментаторами, неоплатоник Плотин, еврейская Каббала, а из местных Альберт Великий и Дунс Скотт. Это был первый синкретист Европы, представитель сборной философии.
Мирандола исходил из древней концепции, человек есть Микрокосм, включает в себе весь мир, в нём заложены все возможности. Соответственно всем ступеням Бытия человек может сам решать всё, что касается животного, человеческого и небесного, сам всемирный образователь (ваятель). Мирандола пригласил в Рим всех учёных мира тогдашнего для обсуждения 900 выставленных им тезисов. Собрание было запрещено папой, а сам он сослан. Перед самой своей смертью он был обращён Савонароллой к строгому христианству.
С точки зрения последовательного гуманизма всё Бытие и Бог зависят от человеческого усмотрения. На эту точку зрения стал в философии Кант, а за ним Фихте и Гегель. Л. Фейербах упростил эту формулировку, объявив Бога объективированной сущностью человека. Но на помощь философии пришла суррогатная мистика Эккарта, арабский философ Аверроэс и его европейский комментатор Зигер.
Были и попытки создания гуманистической религии, где объектом поклонения становится человек. Фейербах не довёл свой проект до конца. Огюст Конт пытался создать позитивистическую религию, где объектом поклонения становится человечество в лице «Высшего существа», Grand Etre». Конт составил во всех подробностях культ и катехизис новой религии[30]. Перед смертью он покаялся, отказался от своей религии и умер, как христианин. Фейербах стал материалистом.
Гуманизм в самовозвеличении человека переходит в антропоцентризм. Центр Бытия сосредоточивается в человеке, создаётся новый, искусственный центр. Философский антропоцентризм есть атеизм и акосмизм, Бог и мир переносятся в человека. Кант сравнивал себя с Коперником, совершил коперниковский переворот. Всё вращается вокруг человека, как вокруг солнца Бытия.
Одна из крупнейших фигур западного гуманизма и антропоцентризма — доминиканец Эккарт (1260-1327). Был под сильным влиянием неоплатонизма, еврейского философа Маймонида и араба Аверроэса. Творец спекулятивной теологии, оказал сильное влияние на Лютера. Вся так называемая идеалистическая философия Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля есть лишь вновь-открытие Эккарта, который был осуждён при папе Иоанне 22-м, покаялся и молился уже настоящему Богу.
Гуманизм есть торжество софистики над Сократом, через две тысячи лет, в «просвещённой» и духовно-обедневшей Европе. Вместо аполлоно-сократовского «Познай самого себя» стало: почти самого себя, поклоняйся самому себе, как богу, поставь себя в центре всего, сделай себя средоточием мира и жизни. Фридрих Ницше выступил с решительным протестом против «человека» и человеческого, выродившегося на почве гуманистической традиции в «слишком человеческое», но его, Ницще, «сверхчеловек» есть лишь оголённый человек, сбрасывающий с себя все «путы» культуры: религию, мораль, право, церковь, семью, государство, общество, готовящий к тому же могилу западному либерализму, этой гордости гуманистической культуры. Сверхчеловечество в смысле Ницше означает конец Европы, рецидив Азии Чингис-Хана, Батыя, Тамерлана, Омара, Баязета и Магомета 2-го, самоутверждение человека в наиболее отталкивающей форме.
Закрылись за человеком райские двери, и осталось на долю человеку одно лишь «малое земное утешение», как говорит Исаак Сирин. Вместо Знания, Мудрости и Блаженства — наука, философия и искусство, вместо созерцания Слова— Логоса внутри и Бога-Отца во вне — чувственное созерцание внешнего, призрачного одеяния вещей, то есть «человеческое, слишком человеческое». Вместо восторга мистического единения — «греховная сладость сердца», по Исааку. В своей юношеской поэме «Адонис и Венера» Шекспир развенчивает средневековой аскетический идеал «нелюбящих весталок и себялюбивых монахинь». Кристофор Марло в «Тамерлане» говорит «Я думаю, что небесное наслаждение не может сравниться с царственною радостью на земле». Фальстаф воплощает ликующую плоть Ренессанса, освобождённую от пут средневекового аскетического идеала.
Просвещение 18-го века было Ренессансом в новой форме. Человек и человеческое вновь в центре внимания, Человек через свое творчество достигает особого ранга в виде второго Бога и ставит себя вместо Него. Неудивительно, что мир теряет свой образ и форму, становится видимостью и иллюзией, а Бытие переходит в Ничто. Божественное уступает место человеческому, подвергается искажению, вплоть до полного исчезновения. Гуманисты обретают новое обличие, это «либертены» (libertin) всех сортов, во главе с Вольтером, этим отцов всякого либертинажа, включая либерти— наж духовный (libertinage desprit). Философский деизм уживается рядом с материалистическим атеизмом. Вольтер изобрёл новую формулу для полу атеизма Запада: «Если бы не было Бога, то нужно было бы Его изобрести». Бог есть логическая и социально-политическая необходимость, а Кант добавил к этому, что Бог есть ещё необходимость моральная. Бог у Канта есть Gott als ob, «как бы», то есть видимость. Подвергается искажению и функция человеческого разума, он становится немощным, бессильным. Кант отрицает интеллектуальное созерцание, созерцательную способность ума, способность созерцать идеи и Идею Идей, Бога. Основною добродетелью разума признается сомнение, скепсис, и через сомнение и незнание человек приходит к знанию — старое положение Декарта и Августина. Волна атеизма, захватившая всю интеллектуальную жизнь Запада, испугала Вольтера. Он пишет специальный труд против атеизма. По-видимому, сам Вольтер находился под сильнейшим впечатлением атеизма Эпикура, величайшего атеиста древности, он неоднократно возвращается к этой теме. Но ни у одного из писателей не найти столько кощунства и богохульства, как у Вольтера. Он говорит, что атеизм является опасным чудовищем в руках правителей, но деистический полу атеизм философа является не менее опасным чудовищем, так как ведёт к всеобщему интеллектуальному и моральному разложению. Деистический Бог-Творец, устранивший себя от участия в дальнейшей судьбе мира, только подтверждает гуманистический тезис о самостоятельности мира и человека, и о человеке, как единственно-ответственном и активном в мировом процессе.
Ренессансный пантеизм (Джордано Бруно) предоставляет гуманистическому антропоцентризму новые аргументы. Бог — только в природе; и в человеке, как вершине природы, Он достигает Своего максимального проявления. Человек становится центром природы и всего Бытия. Эксцентризм (выражение Св. Климента Александрийского), то есть отпадение человека от Центра-Бога, после грехопадения, привело к созданию нового, искусственного, ложного центра, к пара центризму, который на Западе находит свое полное выражение в гуманизме. Материя обладает разумом и мыслью, а душа есть одно из проявлений материи и она не бессмертна, а разделяет участь всех материальных вещей. Отсюда — пышный расцвет материализма в течении всего 18-го и 19-го веков. Совесть, мораль — это естественный закон, заложенный в сердцах всех людей. Воля Божья проявляется. в природе, природа — апостол всех религий и хранилище естественного закона. Англичанин Юм, французы Вольтер и Дидро провозглашают новую «естественную религию», которая должна заменить все другие, народные и мировые религии. Это — философская религия, религия разума, в которой нет догматов, нет откровения, таинств и культа. Это — единая универсальная религия, самая древняя из всех. В основе её лежит мораль, которая есть «субститут религии», а добродетель извлекается разумом из законов природы, так как человек рождается добрым. Адепты новой религии продолжают свою разлагательную антирелигиозную и антихристианскую работу. Десятки английских исследователей занимаются критикой христианской догматики, Библии и библейского текста, с отрицанием чудес. Появляется теория о легендарности и мифичности библейских фактов.
Вольтер пишет первую рационалистическую биографию Иисуса Христа и находит впоследствии подражателей в лице Прудона, Эрнеста Ренана и Давида Фридриха Штрауса. В настойчивости, неутомимости и упорстве в пропаганде новой «естественной» религии Вольтер превзошёл всех.
Гуманистическая «теория эволюции» берёт свое начало от Вольтера и становится господствующей в 19-ом и в начале 20-го века.
Гуманистический разум сам придумывает и ставит себе ограничения, сознается в своем бессилии и… отрицает всё то, чего он не понимает, навязывает свое миропонимание, свой миропорядок, свои законы и… не замечает этого чудовищного противоречия. Он изолирует себя от всего бытия. У Канта между теоретическим и практическим разумом — пропасть. Теоретический разум отказывается от вечных ценностей: Бога, души и свободы, а практический «постулирует», то есть требует их, не может без них обойтись, и тем самым раздвоение человека доходит до крайних пределов. Хотя разум и признает «вещь в себе», как единственную форму Бытия, но познать её не может, и всё Бытие повисает в воздухе. Не только внешний мир, но и мир внутренний, «вещей в себе» оказывается иллюзией, и агностицизм переходит в нигилизм. Этот идеал-иллюзионизм и идеал-нигилизм получает свое дальнейшее развитие у Фихте и Гегеля. У Фихте единственная «вещь в себе» — это «Я» — субъект, который силою своего воображения создает объект, «Не Я», то есть мир, которое (Не Я) есть иллюзия, Майя в индуизме, и весь творческий мировой процесс есть безначальная игра
«Я» с иллюзией, совсем как в индуизме. Это «Я» — не божественный, а человеческий принцип, но не отдельный, индивидуальный человек, а некий Человек в целом, некий Человек-Архетип, который вытесняет Бога и становится на Его место. Абсолютный Дух Гегеля — это не Божественный Дух, он носит все черты человека и приходит к самопознанию, пройдя все ступени человеческого развития. Вся «Феноменология Духа» Гегеля есть в сущности Kinderpsychologie , психология ребёнка. Дух проходит через все стадии ощущения, восприятия, мышления и спекуляций, пока не достигает полного самопознания и самосознания в светлой голове Георга Фридриха Вильгельма Гегеля. Гегель пытался создать религию «идеализма», то есть религию разума, в которой все религиозные представления вытеснены предельно-очерченными философскими понятиями. Таким образом, гуманистический антропоцентризм получает в германской идеалистической философии свое полное развитие.
Параллельно с этим процессом самовозвеличения человека шёл другой, обратный процесс. Руссо подверг уничтожающей критике всю современную ему культуру, плод многостолетних гуманистических усилий «Возрождения» и «Просвещения». Несмотря на суровость, решительность и радикализм этой критики, она не коснулась самого корня этой культуры, то есть гуманизма.
Напротив, гуманистические принципы: «свободу» и самоутверждение человека Руссо возвёл на их высшую ступень. Человек по-прежнему превыше всего и в центре всего, но человек естественный, освобождённый от всех наслоений культуры. Мораль, семья, право, собственность, государство, были объявлены случайными, искусственными и гибельными наслоениями. Возврат к природе должен спасти человечество от всех бед, восстановить нарушенное равновесие и порядок. Природа — единственный уголок бытия, нетронутый культурой, и человек добр от природы. Руссо восстановил древний, стоический принцип «жить по природе» (ката фисин зин)[31]. Но можно ли говорить о чистой и здоровой природе в смысле Руссо? Нет, природа изменилась так же, как и человек, после его падения. Она также инфицирована, одержима и больна, как и человек. Демонизм проник и в природу, силы природы, «субстанциальные деятели» по Лосскому, стали демоническими. Героиня романа «Новая Элоиза» Юлия называет своего возлюбленного Сен-Пре «искусственным человеком» (письмо 4, в 1-ой части) и это звучит, как глубокий упрёк. Искание естественного человека в его гармонии с природой стало одним из мотивов начала 20-го века. Влияние Руссо во всех областях духовной культуры Европы было подавляющее. В натурализме Руссо есть глубокая антихристианская тенденция, которая сродни той же тенденции «Ренессанса» и «Просвещения». Руссоизм вырос на почве «Просвещения» и стал его завершением. Последовательный руссоизм означает движение вспять, к дохристианским и доисторическим временам, с натуралистическим культом и натуралистической мистикой, с примесью демонизма, как например в сибирском и среднеазиатском шаманстве. Руссо стал духовным отцом французской революции и всякой революции вообще, с попыткой массового возврата к «естественному» состоянию. Натурализм Руссо и его последователей только усилил кризис гуманизма, и чувствительнее и болезненнее всех отозвался на этот кризис Байрон, величайший из поэтов «мировой скорби». Не помог и синтез руссоизма с романтикой в поэмах Байрона.
Автотеосия (самообожение) имеет свое более «солидное» обоснование у Людвига Фейербаха. Бог — не вне человека, а в самом человеке. Бог есть объективированная сущность человека, перенос внутренней сущности человека наружу. Поклоняться и молиться Богу — это всё равно, что молиться самому себе. Кант выразил это проще и откровеннее: «Бог не вне меня, а во мне, Он — только лишь моя мысль»[32] «Мир имеет основу в самом себе», говорит Фейербах, а следовательно и человек. В своих «Лекциях о сущности религии» в 1848 г. в Гейдельберге он сказал: «Цель моих сочинений— сделать человека из теолога антропологом, из кандидата потустороннего мира сделать учеником этого мира».
Антропоцентризм должен был привести к эгоцентризму в виде индивидуализма Макса Штирнера и Ницше. У Штирнера мерилом всего становится «Я сам», или «не человек». «Я сам, мои интересы, моя собственность — вот подлинное и реальное, что есть в человеке». Это «Я» Штирнера есть оголённый человек без духа, без идеалов, без культуры, и, конечно, без морали. Своего «не— человека» Штирнер противополагает «абстрактному человеку» историков, философов, теологов, либералов и гуманистов (!). «Не-человек» призван бороться с обществом, государством, церковью, чтобы утвердить свою личность и власть. Сверхчеловек Ницше — это близнец «не-человека» Штирнера, но окружён мистическим ореолом героя, пророка (Заратустры), полубога. Ему «всё позволено», он не останавливается ни перед чем. Ницше нашёл для него подходящее прозвище: «Blonde Bestie», и по своей внутренней сущности он — хищник, Raubtier, человек — животное, сильный зоологический тип, продукт «естественного» гуманистического отбора. Таков идеал деградировавшего в гуманистической культуре человека.
Последовательный антропоцентризм приводит к полной изоляции индивидуума. Если Бог и является единственною сущностью-человека, то нельзя думать, что Он целиком дробится во множественности эмпирических индивидуумов. Божество не может дробиться, Он только во мне, а множественность индивидуумов — это иллюзия. Тысячу лет тому назад это учение получило полное развитие на востоке, в Индии, у Санкары, в его теории Адвайты (не два Бога, а один, который во мне). Этот мистический солипсизм (solum ipse),только я один), который так сродни некоторым мистическим кругам и на Западе, нашёл философское обоснование у индивидуалиста Штирнера. «Я», или «не-человек», рассматривает себя, как «Единственного» и объявляет мир своим «достоянием». Дальнейшее философское развитие получил солипсизм: у Вильгельма Шуппе и Шуберт-Зольдерна.
Кантовский примат практического разума (воли) над теоретическим весьма условен и не обоснован. Разум только терпит капризы воли в виде её «постулатов» и в лице последовательного кантианца Файхингера объявляет их фикциями.
Гуманизм дошёл до опасной точки, когда человек и человеческое уже не удовлетворяет повышенным требованиям антропоцентризма. Большой человек, человек с повышенными силами и возможностями, идущий к «высшей цели, к бесконечному в знании, наслаждении и силе (власти)». Эта триада: знание, наслаждение и власть, остаются в силе и для повышенного гуманизма. Гёте придумал слово, и оно стало крылатым, наложило отпечаток на всю духовную культуру Запада. Это слово — «Сверхчеловек» в прологе к сочинениям Гёте, когда поэт получает от богини (музы) аполлоновское посвящение и завет «познай самого себя». Путями к этому сверх человечеству становятся оккультизм и магия, старые, испытанные пути. Гёте и современная ему Европа имели образцы этого сверх человечества в лице Сен-Жермена и Калиостро. Молодой Гёте изучает сочинения Сведенборга, Каббалу, в Палермо посещает семью Бальзамо (настоящая фамилия Калиостро) и расспрашивает о Калиостро, состоит членом мистического общества иллюминатов и главой Веймарской масонской ложи.
Сверхчеловек чувствует себя выше среднего уровня, выше толпы, которою он не только призван управлять, но может и эксплуатировать её, презирая её в то же время, как рабовладелец презирает своих рабов. Об этом есть намёк в посвящении Гёте, где муза говорит: «уже в мечтах сверхчеловеком став, забыв свой долг, ты мнишь других глупцами». Но этот большой человек оказался только преувеличенным человеком, в котором некоторые человеческие черты гипертрофированы, а другие черты исчезли полностью, как напр.: жалость, сострадание, милосердие и др., стирается подлинно человеческое, человечность, гуманизм без гуманности. История человечества хорошо знает таких «сверхчеловеков» в прошлом, это-титаны, начавшие, как благодетели человечества и кончившие зверской эксплуатацией человека, вызвавшей противодействие олимпийских богов. В титаническом сверх человечестве стирается не только человеческое, но и «Образ Божий в человеке» и приобретается другой, обратный, демонский образ. Фаустизм — манфредизм и есть сверхчеловечество нового образца, на этот раз «просвещенческого», вооружённого оккультно-магическим методом, и как таковое — величайший анахронизм. Оно вызвало подражание у индивидуалистов, это -«не человек» Макса Штирнера, название несомненно более подходящее, чем слово «сверхчеловек».
Гёте и Байрон хорошо знали цену «высшему знанию» и в лице Фауста и Манфреда изображён кризис этого знания. Но не всем дано быть сверхчеловеками, европейский титан остается в одиночестве и, как Фауст, кончает филантропией, или, как Манфред, живёт в обществе духов.
Метафизика гуманизма. Гуманистическая метафизика берёт начало от Декарта и Спинозы, получает иное направление в эмпиризме Гоббса и Локка, в скептицизме Юма, и принимает законченные формы в критическом идеализме Канта. Только идеальное действительно, а реальное не действительно, а есть только видимость, иллюзия, явление. Эту видимость создают чувства и разум. В таком случае человек есть единственный творец мира видимого или ощущаемого. Творение становится прерогативой человека. Здесь — далеко рассчитанный, атеистический гуманизм. Идеальный мир или «вещь в себе» есть человек. Есть ли другая вещь в себе? Кант не останавливается на этом.
Кант последовал за «монопсихизмом» Аверроэса, берётся не человек в отдельности, а человечество в целом. Кант не говорит об этом открыто, а маскируется в понятии «сознания вообще» которое есть общечеловеческое в целом.
А Бог? Бог есть идея во мне, есть, «моя мысль», логическая необходимость, Gott als ob, как будто Бог.
Фауст говорит о себе «Я равен Богу», а в другом месте: «я бог». А Духу Земли говорит: «я от тебя». Прочитав «Этику» полу-пантеиста и полу атеиста Спинозы, Гёте сказал: «Теперь я нашёл себя».
Антропоцентрическое направление началось на Западе в подполье средневековой мистики Эригены и Эккарта.
Антропоцентризм и автономизм развязывают человеку руки, дают полный простор фаустовскому волевому человеку. Нарушается аристотелевское равновесие между «мыслить»[33] и «волить, действовать»[34]. Отсюда — западный волюнтаризм.
В этом своём самоутверждении человек находит самоуслаждение, нечто вроде блаженства, о котором говорит Кант. Не только теоретическое, но практическое самоуслаждение.
В этом самоуслаждении — причина успеха Гаутамы Будды, Санкара, Канта, Гегеля, Шопенгауэра и Ницше.
Западный гуманизм, теоретически и практически, есть продолжение традиции змея: «Будете, как Бог».
Теоретически и мистически гуманизм получил предельное выражение в масонстве, которое отвечало духу времени с его свободомыслием. Из масонов, кроме Вольтера: д’Аламбер, Гельвеций, Мирабо, Бальи, Тара, Бриссо, Кам. Демулен, Кондорсэ, Шенфор, Дантон и король Людовик 18-й. В Германии — Фридрих Великий, Лессинг, Фихте, Гердер, Гёте, Клопшток, и государственные деятели Штейн, Гнейзенау и Шарнгорст.
Масонству, под прикрытием тайны, удалось занять командующие позиции в государственной, общественно-политической и культурной жизни Европы и Америки.
Христианский гуманизм Лермонтова. Поэт-пророк Лермонтов религиозен, как и Пушкин. Митрополит Анастасий в своих книгах о Пушкине назвал его самым правдивым из. русских писателей. Лермонтов — самый религиозный из всех, не исключая и специфическую религиозность Гоголя и Достоевского. С детских лет, в юношеском и зрелом возрасте, Лермонтов был в разладе с окружающей его действительностью и отягощен семейными неурядицами. В тоске, безысходности и отчаянии, у молодого Лермонтова всегда имя Бога на устах и под пером. И это примиряет его со всеми жизненными невзгодами.
Временами он клевещет на Бога, приписывает Ему все свои неудачи, бедствия и невзгоды.
К чему Творец меня готовил
Зачем так грозно прекословил
Надеждам юности моей? (Стр. 234).
И в стих. «Благодарность» он клевещет, приписывая Богу «тайные мучения страстей, горечь слёз, отраву поцелуя», вплоть до клеветы друзей и мести врагов. Эти жалобы — упрёки ценны в том отношении, что имеют автобиографическое значение, характеризуя его душевное настроение.
Но в моменты просветления юный поэт отдаёт себе полный отчёт в том, что есть и доля его личной ответственности в жизненных неурядицах. Бог готовит его к пророческому призванию и даёт ему испить «добро и зла чашу», а Он? «Былое полно мук и зла». Какого зла? Конечно личного, и признается, что «со святыней зло в нём боролось». И он «удушил святыни голос». Трогательно его юношеское смирение,
И пусть меня накажет Тот,
Кто изобрёл мои мучения.
Бог, как «изобретатель мучений», действует, как наставник, верховный руководитель. Как и у ап. Павла, где Бог говорит: «Кого люблю, того и наставляю». Отчуждение от мира ведёт к преданности к Богу:
Я не хочу, чтобы свет узнал
Как я любил, как я страдал
Тому судья лишь Бог да совесть.
Пророческий искус выдержан, смирение остаётся нерушимым.
Я не для ангелов и рая
Всесильным Богом сотворён;
Но для чего живу, страдая,
Про это больше знает Он.
(Стр. 210).
Религиозное сознание поэта диктует ему проблемы справедливости и возмездия, и выводы его — христианские. За неблагодарностью, ропотом и хулою на Бога следует возмездие и гибель. Так наказаны три «гордые пальмы».
В одном из прекраснейших своих стихотворений, «Дубовый листок», с исключительной художественной проникновенностью, Лермонтов развивает проблему одиночества и скитальчества. Листок оторвался от ветки родимой, порвал с материнским лоном и странствует в поисках пристанища. Быть может, это жажда новизны, независимости, приключений, индивидуалистический авантюризм. С религиозной точки зрения это — эксцентризм, отпадание от жизненного центра. Но рядом, со стороны окружающих, как от «чинары высокой», нет ни сочувствия, ни приюта, ни готовности помочь, а только безотчётное самодовольство.
В другом прекрасном стих. «Ветка Палестины» выражено преклонение перед святыней. Сама ветка — «святыни верный часовой», для верующих, для поэта. И другие религиозные объекты
Кивот и крест, символ святой…
Всё полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.
Это был один из тех светлых моментов, когда Лермонтов нашёл «мир и отраду» в созерцании объектов религиозной святыни. Его интересует судьба той пальмы, отросток коей он созерцает. Он переносится мыслью на родину пальмы, где пели песни старины и читали молитву жители Иерусалима (Солима).
Он признается, что любит «мрак земли могильный» с её страстями, но молит Всесильного не обвинять и не карать его
За то, что редко в душу входят
Живых речей Твоих струя;
За то, что в заблужденье бродит
Мой ум далёко от Тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей…
Тогда являются «дикие волненья», и «мир земной ему тесен», и он перестаёт молиться. Но он готов отказаться от вдохновения.
От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К Тебе я снова возвращусь.
(1829 г., стр. 117-118).
Стихотворные молитвы Лермонтова — лучшие образцы его лирики, они заучены нами со школьных лет. Мятежная душа поэта, в трудную минуту жизни находит покой и облегчение, освобождается от непосильного бремени, освобождается от сомненья и воспринимает «силу благодатную»
И верится, и плачется,
И так легко, легко.
Вера и плач, облегчение — живые проявления благодатной силы.
Молитвенное настроение достигает вершины в обращении к Матери Божией, где он молит не за свою «душу пустынную», за душу «странника в свете безродного», но вручает деву невинную. Просит Заступницу тёплую мира холодного даровать ей счастье, добрых спутников, молодость светлую и старость покойную. И чтобы послала ей Богородица «лучшего ангела душу прекрасную» в час расставания с жизнью, к ложу печальному.
Неудачник в любви, как и созвучный ему Байрон, поэт уподобляет себя с «парусом одиноким», который не ищет счастья и не от счастия бежит. Это — в ответ Пушкину, на его сентенцию: «жизнь-счастье», а счастье-любовь.
Пушкин нашёл свое счастье, стоившее ему жизни. Лермонтов искал счастья и не нашёл, и освободил себя от иллюзии земной «мадонны».
Религиозность Лермонтова эзотерическая, внутренняя, как и у Пушкина. Он говорит: «Всемогущий построил дом, сердце человека с чувством правды» (ст. «Мой дом», стр. 234). Религиозность его созерцательная, он созерцает Бога в живых проявлениях природы («Когда волнуется желтеющая нива»).
Гуманизм Запада и его гениев, Шекспира, Гёте и Шиллера, чужд Лермонтову, несмотря на то, что он высоко ценит их, многим им обязан и переводит их. Своеобразной вершины достигает западный гуманизм в творчестве Байрона, который становится кумиром Лермонтова в юношеские годы его творчества. Гуманизм Байрона приобретает черты индивидуализма, где личность уступает место индивидуальности. Герои Байрона чувствуют в себе огромные силы, но не находят им применения в окружающей их среде. Отсюда разочарование и пессимизм, который рядится в тогу «мировой скорби». Но не все же Наполеоны, Кромвели и Робеспьеры. Тогда вся активность индивидуализма выливается в радикализм. Таков сам Байрон, не нашедший себе места на своей родине.
Сильная личность для Лермонтова — не самоцель, самовозвеличение, само упоение и самоудовлетворение, как на Западе. Только в ранних стихотворных повестях есть герои, стремящиеся к победе в бою, защищающие оружием свои прерогативы. Есть и у Лермонтова сильные личности, но они борются со злом и несправедливостью. Сильная личность — купец Калашников, честный боец-победитель. Он борется не только за свою личную честь и честь жены, но за семейные устои вообще и социальную мораль. Он не страшится грозного царя и говорит ему правду. Догадливый царь слышит в ответах Калашникова косвенное осуждение всей его системы опричнины и потому не даёт ему пощады.
Сильная личность и демонизированный, байронизированный Арбенин. В нём пробуждается что-то человеческое, когда он видит горе князя Звездича, проигравшего в карты всё своё состояние. Он сам садится за карты и отыгрывает всю сумму, возвращая её князю. Он победил самого себя, освободился от всех крайностей оголтелого индивидуализма, он находит счастье и покой у Нины, которую «послал ему Творец в награду с небес». Но и теперь «иногда какой-то дух враждебный» уносит его «в бурю прежних дней».
Сильная личность и Печорин, но он искалечен крепостническим барством и всей средой. Он даёт увлечь себя в курортные интриги и всю свою редкую изворотливость и изобретательность тратит на борьбу с заговорщиками.
Наконец, сам основоположник индивидуализма Демон. Он наделён у Лермонтова человеческими чертами. Он любит, как человек, ищет примирения, стремится к добру, но не может победить свой демонизм. Поражение Демона означает крушение всего западного гуманистического идеала, идейное банкротство шекспиризма, гётеанства и байронизма, огромная победа христианского, русского гуманизма Лермонтова.
Лермонтов победил самого себя, он отказался от своей юношеской любовной лирики. Гуманизм Лермонтова — это идеал свободы для всех, а не только для себя, как в западном «культе гениев» и западном чертизме Фауста и Манфреда. Лермонтов покончил с западным чертизмом. Пушкин сделал это в «Сцене из Фауста».
Гуманистический исторический опыт Европы показал воочию, что теоретический, философский и онтический (бытийный) гуманизм кончается дегуманизацией, обесчеловечением человека, его деградацией, озверением. Взяв человека под свою защиту, гуманизм тиранит его, казнит, приносит миллионные жертвы. Шиллеру стало в гуманистической ладье не по себе, а Гёте чувствовал себя, как рыба в воде, в своей стихии. Когда утвердился в Европе тип гуманистического человека, отвергнувшего религию и мораль, Шиллер показал, чего стоит этот человек. Он стал игралищем страстей и вожделений, и чудовищем для окружающих. Гуманизм топит человека в крови. Гёте не понял этого, разочаровавшись в человеке, как таковом. Шиллер искал выхода в эволюционизме, но эволюционизм есть гуманистическая концепция. Чтобы остаться на почве современности и идти в ногу с ней, Шиллер нашёл выход в романтизме.
Крах гётевского гуманизма — в конце трагедии «Фауст», когда, после Вальпургиевой ночи, появляются христианские сотерические и теистические ноты, является Гретхен, Дева Мария, Мария Египетская, сонм ангелов и святых, заступничествующих за Фауста.
Лермонтов и Пушкин
Можно ли и нужно ли считать Лермонтова младшим братом Пушкина по духу? Или они близнецы, равноценные и равнозначные, такие сходные и такие противоположные. И в смысле темпераментов есть сходство и различие. У обоих — сангвинизм, с холеризмом и меланхолизмом. У Пушкина — равновесие темпераментов, у Лермонтова сангвинизм отходит на задний план перед холеризмом и меланхолизмом. У него — повышенная возбудимость, впечатлительность, раздражительность и ответная реактивность Пушкин — более гармоническая натура.
Но он разменял свой дар на архивную работу, когда писал «Историю Пугачева». Он разменивал свой пророческий дар в любовных стихах-признаниях, у ног женщин, знавших себе цену. Как легко переходил Пушкин от альковных встреч к идеальной любви, и обратно, достойно удивления. И не только удивления.
Лермонтов очень рано понял всю мизерность погони за счастьем. Он «три раза любил» и все «три раза неудачно». Неудача Лермонтова с его первой любовью сразу отрезвила молодого поэта. Он увидел, что рядом с любовью есть измена и предательство. За магическим блеском юных девичьих, ангельских взглядов, он разглядел демонический огонь измены и издевательства. Лермонтов излечился от лживых любовных чар и дал идеальный образ Тамары ещё в юношеские годы, оставшись ему верным до конца своих дней.
У Пушкина — расхождение действительности с идеалом, теории (созерцания) и практики. У Лермонтова — нет. Лермонтов отдал дань флирту и волокитству, но Печоринщина его была только жизненным эпизодом ставшего модным молодого поэта, озлобленного непостоянством женских и девичьих сердец. Лермонтов — героический характер, победивший и разбивший железную цепь семейных, наследственных и приобретенных комплексов, мистерию крови. Лермонтов победил и близкие ему по натуре кавказские навыки: природность, кровавый быт и мстительность. Он остался верен христианской заповеди всепрощения, прощает не только своим непостоянным друзьям, но и злейшим врагам и предателям.
Юный Пушкин был предоставлен самому себе, дружил с сестрой, которой читал свои первые стихи. Лермонтов был под семейной опекой, рано стал жертвой семейных неурядиц и семейной тирании. Всю жизнь был в материальной зависимости от деспотической бабушки, и это ухудшало его самочувствие. Пушкин стал рано прислушиваться к голосу своей очаровательной музы в тиши царскосельских парков, творил в полном согласии с нею… Лермонтов вскользь говорит о музе и как будто остаётся ей чуждым. Вдохновителем своим он считал Пана, верховодителя извращённой и демонизированной природы.
Ничего неизвестно, прислушивался ли Лермонтов к голосу внутреннего Логоса, своего «демона» (духа) Сократа, или «гения» латинян. Лермонтов не посвятил или не успел посвятить ни одного стихотворения Христу. Пушкин посвятил Ему два стихотворения: «Мирская власть» и «Подражание ита— лианскому», оба 1836 года.
Зрелый Пушкин нашёл свою музу в… Татьяне.
«И вот она (муза) в саду моём
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках».
(Глава 8, 5, «Евг. Онег.»).
Лермонтов довёл свою прекрасную героиню Тамару до падения. У Пушкина этого нет, идеал не изменил, остался непоколебленным. Правда, Тамара спасена, как спасён и многогрешный Фауст, не заслуживший этого. Есть и другая версия Фауста, «Осуждение Фауста» в гениальной музыкальной драме Берлиоза. Фауст Гёте спасается заступничеством Гретхен, искупившей себя героическою смертью. Заступилась и сама Небесная Заступница, Богоматерь Мария, по мольбе Гретхен. За Тамару заступился ангел, по Божьему произволению. Тамара искупила свой грех смертью.
«Всеведение пророка» — у обоих, Пушкина и Лермонтова. И участь пророческая, оба — жертвы заговора, убиты на дуэли. Способ расправы — усовершенствован, по требованиям времени. Дуэльная пуля вместо древних камней. В обоих случаях действовала одна и та же рука. Нужно было избавиться от неспокойных пророков. Дворянско-помещичий крепостнический, рабовладельческий царь недалеко ушёл от нечестивых и развратных царей ветхозаветных, изменивших своему Богу и поклонявшихся языческому демону Ваал—Фегору (Вельзевулу). Он изменил христианству, поддерживая рабовладельчество, отменённое Христом во всём древнем мире. Как и его предшественники на русском троне, игнорировал христианскую заповедь любви и всеобщего братства во Христе. Закрывал глаза на то, что христиански-крещённый помещик продавал на рынке христиански-крещённую «душу» крестьянина, и обращался с ним хуже, чем со скотом.
Ни Пушкин, ни Лермонтов, не угрожали трону Никса. Мальчик-Лермонтов видел сцены расправы с крестьянами из окна своей детской комнаты и выбегал на двор с криком и плачем. Пушкин писал о «позоре невежества», о диком барстве без чувства и закона, присвоившем себе «труд», и собственность, и время земледельца. Ярём до гроба без надежд… И в конце: рабство, падшее по манию царя.
Пушкин молился,
«Пощусь, молюсь и твёрдо верю,
Что Бог простит мои грехи».
(Ст. К. Л. Давыдову).
И Лермонтов молился и дал непревзойдённые образцы своих молитв. Можно ли представить себе молящимися гордого олимпийца Гёте, или адепта религии свободы Шиллера? Нет, нельзя. Вольтер молился. Построил в Фернее церковь, с надписью: «Богу. Вольтер».
Пушкин совершил сверхчеловеческую работу, воспринял всю западную культуру, отбросив все тлетворные влияния. Лермонтов глубже погрузился в неё, но изжил, как и Пушкин, вернувшись к традиционным русским религиозно-моральным устоям. За Пушкиным — примат в духовной культуре России. Пушкин — первый любимец и ставленник Русского Ангела-Архетипа. За Лермонтовым остаётся звание завершителя пророческой миссии. Лермонтов воспринял все концепты христианского идеал-реализма Пушкина и дал ему законченные формы. В творчестве Лермонтова — преодоление всех западных культурно-исторических влияний, байроновского индивидуализма и сатанизма, гётевского гуманизма-чертизма, шиллеровской восторженности и исторического героизма, теософщины Виктора Гюго и Альфреда де-Виньи.
Жизнь обоих, Пушкина и Лермонтова, была пророческим мученичеством. Оба не хотят жить. Смертельно раненный Пушкин говорит Данзасу, своему секунданту: «Кажется это серьёзно. Послушай, если Арендт найдёт рану смертельной, ты мне это скажешь. Меня не испугаешь. Я жить не хочу». И Лермонтов не хотел жить, напоролся на дуэль.
Женатый Пушкин и холостой Лермонтов, у обоих — одиночество духа-анимуса и неполноценная анима — женщина, неразделённая любовь. Любила ли Наталия Гончарова своего мужа Пушкина? Любила ли Дантеса? Нет, она никого не любила, не одуховлённая душа-анима. Ложный идеал «мадонны». Она не нашла своего духа-анимус.
Лермонтов и Пушкин стояли у порога тайны, когда поэзия и проза черпают из внутреннего откровения. Они готовили гомеровские полотна из русской жизни, Пушкин в поэзии, а Лермонтов в прозе. В конце 1 -ой главы, «Евгения Онегина» есть знаменательные строки:
«И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать
Поэму в песен двадцать пять.
Я думал уж о форме плана,
И как героя назову.
Буря не утихла, а усилилась и унесла поэта из жизни. Лермонтов готовил трилогию из русской жизни. И его унесла буря «немытой России».
Одним из первых высказался о Лермонтове Белинский. Лермонтов назван гениальным поэтом. Белинский отмечает «самобытную, живую мысль, полнокровность и мощь, горделиво владеющая собою, простоту, естественность и оригинальность гения; много индивидуального. Какой избыток сил, разнообразие идей и образов, чувств и картин! Какое сильное слияние энергии и грации, глубины и лёгкости, возвышенности и простоты! Таинство мысли, рождающееся из ощущения. Тут нет лишнего слова… Нет ложных чувств, ошибочных образов, натянутого восторга; всё свободно, без усилия»…[35] Первые опыты Лермонтова пророчат в будущем колоссально великое… Да, кроме Пушкина, у нас ещё никто не начинал такими стихами своё поэтическое поприще»[36]
Советский исследователь С. В. Иванов приводит суждения о Лермонтове русских писателей. Так, Некрасов, ставил Лермонтова рядом с Пушкиным, считая их явлениями в мире поэзии редкими и исключительными. Огарёв называл Лермонтова самым сильным человеком в русской поэзии, не исключая Пушкина. Творчество Лермонтова нашло отражение в поэзии Брюсова и Блока. Блок отмечал, что Лермонтов оказал влияние на Достоевского, Тургенева, Фета, Полонского, Григорьева и современных ему поэтов. Глубочайшую связь свою с Лермонтовым подчёркивал и Лев Толстой. И Салтыков-Щедрин находился под значительным влиянием Лермонтова. Лермонтовское творчество влияло на литературы всех народов России[37].
А. В. Фёдоров отмечает, что вся современная обоим поэтам и позднейшая критика, и историко-литературная наука, связывает их имена[38].
Г. Гинзбург пишет о влиянии Пушкина на Лермонтова «от первых шагов до последних». Лермонтов остаётся учеником Пушкина во многих существеннейших вопросах, например, в своём понимании народности. И Пушкин, и Лермонтов работали в направлении реализма. Лермонтов чувствовал себя наследником Пушкина[39]
Но ещё у современников Лермонтова и в 60-х годах намечается тенденция ставить Лермонтова выше Пушкина. А. В. Фёдоров проводит высказывание Чернышевского: «Лермонтов по достоинству стиха выше Пушкина». Отмечалось также, что Пушкин якобы примирился с окружающей его действительностью, а Лермонтов — нет[40]. Но Чернышевский идёт ещё дальше, ставит Гоголя выше и Пушкина, и Лермонтова, рядом с Шекспиром. Наряду с этим А. Гинзбург отмечает, что в кругу левых западников намечается «тенденция к предпочтению Лермонтова». И Белинский писал Боткину, что «Лермонтов уступит Пушкину в художественности и виртуозности», но «в Лермонтове мы лишились поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина».[41]
Лермонтов и Байрон
Байрон нашёл в Западной Европе значительный отклик и вызвал подражания. В России он нашёл богатую и плодотворную почву. Есть мода и на литературу, на философию. Такой модой был Байрон в России 20-х, 30-х и 40-х годах. С Байроном носились поэты, писатели, журналисты самых различных направлений, критики и обыватели. Среди всех западных влияний на передовую русскую общественность и литературу влияние Байрона было сильнейшим. Байрон был представителем своего времени, эпохи, политической и культурно-исторической ситуации, послереволюционного пессимизма и разочарования, и общественно-политического распутья. Гений Байрона нашёл совершенные поэтические формы для умонастроения и чаяний всех слоев западного общества.
Байрон ввёл новую форму литературного творчества, лиро-эпическую поэму, где повествование чередуется с лирическими отступлениями, которые давали возможность широким спекуляциям о современной Европе, о быте и нравах народов восточной Европы и ближнего Востока. Байрон оказал сильное влияние на величайших русских гениев, Пушкина и Лермонтова. Байроновская лиро поэма привилась в русской поэзии 20-х и 30-х годов.
Влияние на Пушкина было кратковременным. 20-летний Пушкин своим пророческим чутьём уловил сущность байронизма и преодолел его. Изображая байроновских героев русского покроя, Пушкин в своих ранних поэмах разоблачил байроновских героев, показав их гордость, эгоизм, внутреннюю пустоту и беспринципность, само упоение и самолюбование. Им как будто чужды тлетворные наслоения западной цивилизации, они руссоисты, их влечёт к первобытной природе и нравам народов, нетронутых западной цивилизацией. Но всё — временный налёт, увлечение, мода, внешность, но в душе они остаются отпрысками своего века и общества, с его развинченностью и раздвоением.
Байронизм был у Пушкина чуждым элементом, увлечением и… школой. Пушкин остался верен русским традициям. Он различил надуманность, маскировку, где скрывался оголтелый индивидуализм, чудовищный эгоизм и самолюбование. Байронизм — это гуманистическая накипь культуры Европы, ложь, прикрытая высокопарным и лживым пафосом свободы. «Ты для себя лишь хочешь воли» — говорит старик— цыган европеизированному Алеко. Вот и герой «Кавказского пленника», он возвращается из плена на родину, покидая черкешенку, которая любит его и дала ему свободу. Его признание черкешенке звучит фальшиво.
Влияние Байрона на Лермонтова было более сильным, глубоким и продолжительным. Это было духовное родство, может быть, сыграло роль и кровное родство. Лермонтов гордился своим шотландским происхождением, мать Байрона была шотландка. Страстность, патетизм, лиризм, врождённый пессимизм, рефлексия и самоанализ, роднили его с Байроном. И одинаковая внешняя обстановка сыграли свою роль: семейные неурядицы, одиночество и отчуждённость, разочарование, неудачная любовь и озлобленность. Байрон рос без отца, Лермонтов — без отца и без матери. Неудивительно, что Лермонтов всю жизнь, с юношеских лет не расставался с творческим наследием Байрона. Переводил его стихи, избрал эпиграфами к своим произведениям места из опусов Байрона.
У обоих — пристрастие к сильным личностям с авантюрным строем души, неудовлетворённость окружающей средою и суровой действительностью, искание новой жизни. Врождённый авантюризм влечёт их вдаль от родины, в баснословные и сказочные страны Ближнего Востока и Северной Африки, привлекающих следами и остатками древних культур, красотой и грацией восточных женщин.
Герои Байрона и Лермонтова — отщепенцы родины, сильные характеры, изгнанники, любвеобильные, наделённые сверхчеловеческими страстями. Фольклоризм и руссоизм, протест против социально-политического строя, конфликт с обществом — другая черта, их сближающая. Родство характеров и сходство содержания и сюжетов произведений. Незабываемые образы Чайльд Гарольда, Гяура, Корсара, Лары, Шильонского узника. И женские образы Гюльнары, Медоры, Абидосской невесты, Заиры и Мирры из «Сарданапала». — У Лермонтова это Арсений из «Литвинки», Арсений из «Боярина Орши», Мцыри из одноименной повести, и всё герои кавказских повестей, Хаджи Абрек, Измаил-Бей и др. Свобода, воля, разгул диких страстей, кровожадность, кровная месть и горный примитив. Впрочем, эгоистическая свобода, «своя воля», не есть изобретение «гнилого Запада», она имеет корни и своих практиков и на русском Востоке. Она вырождается в семейный и общественный деспотизм у персонажей Островского, у Диких, Кабановых и Тит Титычей. В бюрократический и казённый деспотизм, или рабовладельческий сословный деспотизм. В деспотизм немецко-русских царей.
Лермонтов посвятил Байрону юношеские стихи:
«У нас одна душа, одни и те же муки.
Как он ищу забвенья и свободы,
Как он в ребячестве пылал и я душой.
Любил закат в горах, пенящиеся воды
И бурь земных и бурь небесных вой».
(«К***», стр. 150).
Байрон с жиру бесился, имел средства, был свободен и делал, что хотел. Он мог совершать свои литературно-фольклорные турне по всем странам, знакомиться с народами и следами древних культур. А в своих лирических отступлениях мог давать простор своей рефлексии, иронии и пессимизму. Либеральный радикал Байрон гордился древностью своего рода и своим титулом и носился с планами социальной и политической реорганизации своей родины и всей Европы. Лермонтов был преследуем, бывал под арестом и получил вечную ссылку. Он не хочет «веселья звуков», а хочет слёз (перевод одной из «Еврейских мелодий» Байрона). Любовь — страдание тоже мотив из Байрона (ст. К. Л., подражание Байрону).
Байроновские эквиваленты находит Лермонтов у кавказских горцев, в кавказской природе и в кавказских женских типах. Можно ли говорить о демонизме героев Лермонтова? Весьма условно, у героев его ранних повестей, «Азраил», «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек» и «Измаил-Бей».
Байроновский индивидуализм был духовно сродни Лермонтову. Комплекс отчуждённости от семьи, родных, со воспитанников военной школы и университета, от столичного общества, толкал Лермонтова к Байроновскому индивидуализму. Гордое добровольное одиночество, страстность, авантюрность и искание сильных впечатлений, экзотическая амурность, восточные красавицы под чадрами, с походкой газели. И рядом, романтические разбойники и пираты, заключённые в крепостях и замках, вот кредо и содержание байроновского индивидуализма.
Этот индивидуализм не чужд и противоречий… Здесь одиночка-индивидуалист не выдерживает одиночества, не живёт замкнуто, не удаляется в пустыню, не живёт анахоретом. А ищет сильных ощущений во внешней, и притом экзотической среде; индивидуализм вырождается в приключенчество, в авантюризм-туризм. Бездомный индивидуалист, ищущий пристанища в чужих странах, остаётся типичным европейцем, гурманом, бонвиваном, аристократом и собственником. Если он владеет пером, то может оставить интересные зарисовки, в меру своего таланта. Может дать новые лирические мотивы и новую литературную форму, как это сделал Байрон.
То же и у Лермонтова. Он делал бы то же, что и Байрон, но был привязан к месту. Он презирает и ненавидит светское общество, но с удовольствием проводит вечера на светских балах, с удовольствием принимает комплименты своих явных и тайных врагов. Будирует придворную клику, посещающую балы, вызывает их бешенство… подливает масло в огонь. Лермонтов находится ещё во власти своей «мистерии крови». Боевая обстановка жизни на Кавказе давала ему обильный материал. Он всё ещё находится под воздействием своих комплексов отчуждения, ненависти и злобы.
Пушкин следовал этому по принуждению. Он имел придворное звание камер-юнкера и следовал вкусам жены. Когда он решил порвать со двором и поселиться в деревне, Натали устроила ему дикую сцену.
Лермонтов был достаточно хорошо знаком с Байроном в подлиннике, переводил и подражал, вынашивал его идеи и образы в юношеских стихах. Но у Пушкина он нашёл готовые формы русского байронизма в его поэмах. Кавказская природа и быт давали ему богатый материал.
Частые сравнения Лермонтова с Байроном со стороны современников вызывали протест со стороны поэта в известном стихотворении:
«Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник,
Как он гонимый в мире странник,
Но только с русскою душой».
Русская душа привязывает его к родине, несмотря на горечь отповеди «Прощай, немытая Россия». Патриотизм его выражается иначе, любовь к родине выражена иначе, это — органическая любовь к родной природе, нравам и обычаям: запах спаленной жнивы, обозы, деревенский быт, вплоть до «пляски, топания и свиста» пьяных мужиков (ст. «Родина»), Кто не заучивал наизусть его «Бородино» и «Два великана»?
Лермонтов покончил с байроновским индивидуализмом и демонизмом на высоте своего творчества в «Демоне», и чертизмом Гёте. Чертизм потерял почву и стал только пугалом западной культуры.
Байрон весь в своей эпохе пореволюционного разочарования, отчаяния и пессимизма, устремления к либеральному преобразованию Европы. И Лермонтов связан с эпохой, дал эпохальный роман «Герой нашего времени». Но он — и вне и выше своей эпохи: его несравненная лирика и религиозная метафизика. Гениальный шедевр Байрона — его «Манфред», где он показал идейное банкротство всякой магии и духовную пустоту великого мага. Здесь — разоблачение магии эпохи «Просвещения», связанной с именами гр. де Сен-Жермен, Калиостро и др. Мистерия «Каин» обнаруживает идейное банкротство самого Байрона, когда он повторяет дешёвые спекуляции западной теософщины, выращенной в европейских тайных ложах.
Знакомство Лермонтова с литературным Западом не ограничивалось Байроном. Он был хорошо знаком с немецкой поэзией и драматургией, был под влиянием Шиллера. Переводил Гёте и Гейне, где переводы его лучше оригиналов. Испытал и влияние ходкой в Германии и Франции «поэзии ужасов», Шиллера и Барбье, в юношеских стихах. Это отмечает у Лермонтова известный западный критик Георг Брандес, называя это «революционной романтикой ужасов»[42] Это была юношеская страсть к острым и кровавым сюжетам в «Боярине Орше», «Литвинке» и кавказских повестях.
Алексей Веселовский писал о Лермонтове, в связи с влиянием на него Байрона: «Высшим результатом влияния Байрона была эволюция Лермонтова, как человека и поэта, от судорожного творчества к проникавшемуся красотой и общественной чуткостью художеству последних лет»[43]. Юноша — поэт отмечает своё родство с Байроном:
«Байрона достигнуть я б хотел.
У нас одна душа, одни и те же муки, —
О если бы одинаков был удел!»
(«К***», стр. 150).
Исследователь С. В. Иванов отмечает, что Лермонтова и Байрона объединяло страстное отрицание старого мира, существующего общественного строя. Байрон рисовал образы гордых мятежников, ниспровергающих устои современного ему общества, — поэзия раннего Лермонтова проникнута теми же мотивами. Их привлекала природа не сентиментальная, которую воспевало большинство поэтов начала века, а природа грозная, величественная, блистающая своей дикой красотой, олицетворяющая борьбу и свободу… Прочитанная Лермонтовым биография Байрона очаровала юного поэта, и прежнее увлечение Байроном вылилось в большую любовь к английскому барду. Читая и перечитывая Байрона, Лермонтов с удивлением и радостью находил черты сходства своей жизни и своих мыслей, с биографией и мыслями английского поэта. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет великий человек. Про него, Лермонтова, предсказала старуха бабушке то же самое[44]. С. В. Иванов цитирует стих, поэта:
Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой,
Любил закат в горах, пенящиеся воды
И бурь земных и бурь небесных вой.
Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад — прошедшее ужасно;
Гляжу вперёд — там нет души родной!
Реакционные критики обвиняли поэта в «байронизме», но Белинский и поэт М. Л. Михайлов выступили против[45].
Исследователь А. В. Фёдоров полагает, что Байрон был важен для Лермонтова всеми гранями своего творчества и сохранял своё значение в течение всей его деятельности. Но Лермонтов сознаёт национальное содержание своего избранничества. Отмечается и заимствование из «Гяура» Байрона в конце поэмы «Каллы» и в «Хаджи Абреке» и имя Лейлы. В «Боярине Орше» совпадение эпизодических деталей с «Паризиной» и с «Абидосской Невестой». В «Людях и страстях» черты сходства с «Каином». И дальше: «Признаки связи, черты конгениальности лежат не на поверхности, выражаются не во внешних совпадениях. Связь здесь — глубинная, относящаяся к целым комплексам идей, к философскому содержанию, характеризующему внутренний мир героя». Лермонтова связывает с Байроном и тема свободы и борьба за свободу народа и отдельного человека и общая тема — мотив глубокой неудовлетворённости всем тем, что дает человеку бытие. Затем общая тема добра и зла, пессимизм, мысль об обречённости человека, о глубокой безнадёжности человеческой жизни, о бессмысленности и жестокости конца, который ждёт людей. И наконец — демонизм обоих, Байрона и Лермонтова.
Исследователь Л. Гинзбург пишет о Байроне и его влиянии так. Имя «Лорд Байрон» произносилось с какой-то лихорадочностью. Для социального окружения Лермонтова самый близкий тип романтического самосознания — это трагический индивидуализм Байрона. Но в руках великого поэта этот вновь возрождённый байронизм приобрёл всеобщую значимость, стал специфической формой выражения рефлексии и протеста поколения 30-х годов. Автор приводит разговор между Кюхельбекером и Булгариным, где первый доказывает, что Байрон однообразен, живописец нравственных ужасов, опустошённых душ и сердец раздавленных.
А Грушницкий для Кюхельбекера — это пародия на вульгарный байронизм. После отхода Пушкина от байронизма появляется эпигонство и начинается вульгаризация. С Лермонтова начинается возрождение байронизма.
Русская байроническая лирика начинается с Полежаева, говорит автор. Влияние на Лермонтова сказывается уже в юношеских стихах. Монолог узника в «Исповеди», «Боярине Орше», и позднее в «Мцыри» напоминает монолог монаха в «Гяуре». Усваивая лирику Байрона, Лермонтов должен был сам прокладывать пути. Лирическая автохарактерика Лермонтова напоминает байроновскую, в его «Послании к Августе». Он упорно примеривает свою судьбу к судьбе Байрона. Автор дальше цитирует Дюшена, который писал, что Лермонтову доставляло удовольствие находить сходство между своею жизнью и жизнью Байрона. Чтение Байрона делалось орудием психологического анализа, помогало молодому поэту ясно видеть причины своих душевных переживаний, давало ему острое сознание наиболее интимных его чувств, раскрывало перед ним глубину его души и осветило наиболее скрытые изгибы его внутреннего бытия.
Автор осуждает современников Лермонтова, высоко его ценивших, как И. С. Тургенев и П. Панаев, Е. Растопчина, которые с недоверием относились к его житейскому байронизму. Современники заблуждались.
Для зрелой лирики Лермонтова автор считает, согласно Дюшену, значительным влияние Гюго, Барбье и Гейне. Это заметно в «Ауле Бастунджи», в стих. «Дары Терека», «Спор» и «Разгневанный Дунай».
Высказывания о романтической иронии у Байрона и байронистов русских заслуживают особенного внимания. Следы этой иронии заметны у обоих, Пушкина и Лермонтова. Заслуга обоих — переход от беспочвенного романтизма к реализму идеалистическому.
Печорин, по автору, — характернейший из героев позднего русского байронизма. Впоследствии печоринский тип в русской литературе начинает вырождаться и в жизнь страны вступили иные социальные силы. На месте Печорина появляются тургеневские «лишние люди», возникают попытки разоблачить Печорина. Пародийного Печорина дают Тургенев, Писемский, Авдеев[46].
Философия жизни
Дар. Что такое жизнь? Учёные, мудрецы всех времён и народов, основатели религий, ломали свои многотрудные головы над проблемой жизни. Наука, философия и все древние религии не дают и не дали ответа. Современная биология, как наука о жизни, ищет следов жизни в клеточной структуре, разглядывая её в ультра -микроскоп. Сверх гениальный Пушкин в порыве пророческой интуиции обронил стих, который может вызвать в начале недоумение и неудовольствие даже у самого горячего и преданного поклонника:
Дар напрасный, дар случайный
Жизнь на что ты мне дана.
Это написано в порыве отчаяния от общественно-политической обстановки, жизненных неурядиц, журнальной травли и жандармских давлений. «Не напрасный, не случайный» — был ответ митрополита Филарета, которого Пушкин чтил. Но «дар», как определение жизни, осталось и останется навсегда. Пророк Пушкин нашёл слово.
Жизнь есть дар. Источник жизни — Христос, как Он сам свидетельствует о себе: «Я есмь путь, и истина, и жизнь»: И мы молимся Духу Святому, как «Жизни Подателю». Бог — Творец творит человека из праха земного и «вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). По приказанию Бога вода и земля творят животных, «душу живую» (т. ж. 1, 20-24). В псалме Бог назван «Источником жизни». Вот три источника жизни в христианской концепции, Божественная Троица.
Не напрасный и не случайный дар Божий, а благодатный. Тайна жизни велика, величайшая, и непостижима в ката статических (падших) условиях. Потому человек не ценит жизнь, хулит её, а за одно и Бога-Творца. И все невзгоды, неровности и шероховатости жизни приписывает Богу. Снимает с себя всякую ответственность за искажение жизни. И если бы весь мир, всё человечество, как один человек, пало бы на колени, обратилось бы к Богу с молитвою покаянною, то земля и вся жизнь на ней превратилась бы в рай. И тогда человек понял бы смысл жизни.
Только в исключительных условиях, в молитвенно-медитативной аскезе, при полном отрешении от мира и воздержании, созерцается сам источник жизни Бог, возможно постижение жизни. Но молитвенный опыт угодников Божиих зафиксирован в Творениях Отцов Церкви, Житиях Святых и в древне-церковной аскетической литературе. И у нас есть путь к постижению жизни в её таинственных первоисточниках.
Любовь-счастье. Любовь может стать объектом философской интерпретации, если она связывается со счастьем. Так было у Пушкина. Лермонтов не отстаёт от Пушкина, но интерпретация получает иное направление. Если для Пушкина любовь была забавой, наслаждением, связанным с эстетическим переживанием, то для Лермонтова она стала жизненной драмой. Пушкин был, как известно, счастлив в браке, пока ему не изменил идеал земной мадонны в лице Натали. И за это поплатился жизнью. Так и для него любовь обернулась жизненной драмой. Что это, судьба поэтов-пророков?
Для Лермонтова любовь — сама жизнь, бытие в земном аспекте. Он рано узнал горечь лжи, измены и предательства в любви и тоже поплатился жизнью. Его последним увлечением была младшая дочь генеральши Верзилиной в Пятигорске, которая предпочитала ему Мартынова. Концепция жизни и бытия у Лермонтова шире и глубже концепции любви-счастья.
Три раза любил Лермонтов и все три — неудачно, по его собственному признанию. Его первая любовь — Е. Сушкова, которой он посвятил несколько стихотворений. Она, эта любовь, притворно взволновала его кровь и остудила насмешкой. Её, Сушковой, взор, как «презрения женского кинжал» пронзил его. А он «всё любил и страдал». И он завидует другим. И плод любви — «сердечная пустота». Стих. «Чёрны очи» тоже относится к ней, Сушковой, которую называли «черноокой». В этих очах юный поэт нашёл «и рай, и ад» (стих. т. 1, стр. 171).
В стих. «Смерть», написанном в холерное время
Никто не мог тебя любить, как я,
Так пламенно и чистосердечно.
(Стр. 170).
Он пытается «любовь определить», но не может. Земная, человеческая любовь, как метафизическая проблема, трудно разрешима, и не только для поэта,
Но это страсть сильнейшая — любить
Необходимость мне и я любил
Всем напряжением душевных сил.
(Стих. 1831-го, июня 11, 173).
Поэт обманут, но чары любви остаются и напоминают о себе:
Женский взор! Причину стольких слёз, безумств, тревог… Но в груди всё жив печальный призрак прежних дней.
(Ст. 1831 г., т. ж.).
И на всю жизнь — тяжело раненное любовью сердце,
В глубине моих сердечных ран
Жила любовь, богиня юных дней.
(1831 июня 11 дня, 176).
Вторая любовь, к Н. Ф. Ивановой, была более неудачна. Лермонтов посвятил ей 17 стихотворений.
Лермонтову близок другой аспект любви, любовь, как мука и страдание,
Я всё любил — я всё страдал.
(Ст. «Ночь», 1830 г.)
И ещё первая любовь, к Сушковой, «облита горечью». Мотив любви-страдания роднит его с Байроном (стих. «К Л.», подражание Байрону, который «у ног других» не забывал взоров своей единственной возлюбленной). Она принадлежит другому, и мечты его, Байрона, влекут прочь от земли родной. И Байрон любит «всё одну, одну» (стих. 1831 г.). В посвящении к драме «Люди и страсти» есть свидетельство:
Тобою только вдохновенный
Я строки грустные писал…
Одной тобою жил поэт,
Скрываючи в груди мятежной
Страданья многих, многих лет…
На зло враждующей судьбе.
Рождается любовный пессимизм и начинается едкая рефлексия, которая не вносит покоя в сердце.
Всегда зреет и кипит что-нибудь в уме моём.
(Стр. 179).
И
Есть время — леденеет быстрый ум,
Есть сумерки души, когда предмет желаний мрачен…
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна,
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чём (т. ж. 179).
Зло жизни. Гениально, христиански интуитивно, Лермонтов пришёл к проблеме ответственности человека за мировое зло. Это нельзя выразить
Ни ангельским, ни демонским языком,
В одном всё чисто, в другом всё зло.
Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным, все его мученья
Происходит от того…
(Ст. 1831 г., стр. 180).
Примирённый с жизнью, Лермонтов остаётся не примирённым с окружающей его средой, которая калечит, выращивая таких уродов с демоническими характерами, как Печорин, Арбенин и др. Поэт хочет, чтобы в песнь его «не замешались звуки бытия земного», не хочет вспоминать людей и муки, и этот свет,
Где носит всё печать проклятья,
Где полны яда все объятья,
Где счастья без обмана нет.
(Ст. 1831 г.).
Наряду с этим он говорит о «гармонии вселенной», о красоте природы и пустыни (т. ж., стр. 176).
Любовь поэта в Н. Ф. Ивановой была трагической и изуродовала его духовно, интеллектуально и морально, отвлекла на годы от прямого, пророческого назначения. В прощальном послании «К***», потрясающем по силе, он пишет, что пожертвовал годы её улыбке и глазам, видел в ней надежду юных дней и возненавидел целый мир, чтобы любить её сильней. Он приходит в ужас от мысли, что он отнимал у вдохновения те мгновения, которые протекли у её ног. Он мог быть «убеждён силою духа мыслию небесной, и дал бы миру дар чудесный», заслужив за то бессмертье. Отныне он станет наслаждаться и клясться всем в страсти, со всеми смеяться и безбожно обманывать. Он отдавал ей душу, а она не знала цену такой души. За неё готов был он на битву, на смерть и муку. Можно ли уважать ему теперь женщин, когда ангел ему изменил.
Когда не удалась любовь, оборвалась и жизнь. Поэт всецело предался земной любви и… ошибся. Не есть ли его ранняя смерть коррективом к этому трагическому заблуждению. То же было и с Пушкиным с его неудачной мадонной. Земные мадонны обманывают. Лермонтов искал небесные черты у своих возлюбленных. Он находил их, и убеждался в обмане.
В стих. «Исповедь» поэт ставит метафизическую проблему веры и опыта, их противоречия в жизни. Дилемма: «тёплая вера» и «холодный опыт».
Вера, что поцелуи и улыбки
Людей коварны не всегда,
Что время лечит от страданья,
Что мир для счастья сотворен,
Что добродетель не названье
И жизнь поболее, чем сон.
(Стр. 190).
Чаша жизни. В стих. «Чаша жизни» — метафизика жизни.
Чаша жизни выпивается с закрытыми глазами, омочёнными слезами. Перед смертью упадает с глаз повязка и исчезает всё, что обольщало нас. И
Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был — мечта,
И что она — не наша.
(Ст. 1831 г.).
Здесь есть художественная интерпретация философского идеал-иллюзионизма, которой отдали дань философы Кант, Фихте и Шопенгауер. Мир (и жизнь) есть иллюзия, мое представление. Опровержение этой иллюзии у Лермонтова: горе, отчаяние, страдание, которые реальны. Другой жизненный мотив. Лучше, чем кто либо другой, знал Лермонтов, что жизнь — не счастье и любовь, а трудный жизненный подвиг. И он ищет другое: «пора мне мир увидеть новым». Каким?
Ни счастья, ни славы мне в мире не найти.
Настанет час кровавый и он падёт, и «хитрая вражда»
С улыбкой очернит мой недоцветный гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений.
(Ст. «Не смейся над моей пророческой тоской).
Жизнь — игра. Можно превратить жизнь в игру, играть своею и чужою жизнью. «Что наша жизнь — игра», как в арии Германа из «Пиковой Дамы» Чайковского. Тогда добро и зло — одни мечты. Исчезают все ценности, духовные, интеллектуальные и моральные. «Труд честность — сказки для бабья». Тогда жизнь — перманентная и бесконечная смена личностей: «Сегодня ты, а завтра я».
Можно сделать жизнь азартной игрой и поставить жизнь на карту. Это умели дуэлянты всех старых поколений. Сам Лермонтов играл любовью Сушковой и с другими. Играл с врагами и с ненавистным ему светским обществом, посещая светские балы и будируя своих врагов и ненавистников. Играл и с Мартыновым, и это стоило ему жизни.
Но несравненный, блестящий игрок жизни и с жизнью -— Печорин. Он хорошо начинён модными, современными ему литературно-философскими течениями, байроновским индивидуализмом-эготизмом, канто-гегелевским антропоцентризмом-гуманизмом, где человек есть пуп земли и всей вселенной. Игра Печорина стоит жизни троим, Беле, её отцу и Грушницкому. Игра с другими кончается драматически разрывом с Мери и Верой. Ему всё, равно, убьёт ли он на дуэли, или будет убит. Его мало трогает и гнусная интрига секундантов Грушницкого, не зарядивших его пистолет. И вся его перебранка перед дуэлью с Грушницким и его секундантами есть тщательно взвешенная игра. Он играет с сербом-офицером фаталистом Буличем, играет грубо и жестоко, толкая его на выстрел в висок.
Он готовится к игре с Мери, с Верой, поссорив её с мужем, вызывая её на преждевременный отъезд из курорта. Тихую, мирную курортную жизнь небольшого круга людей, которые лечатся, он превратил в бесконечную и тревожную игру. Единственным выходом из этой недостойной игры была его поездка в Персию, вернувшись из которой он умер. И все его записки, его «Журнал», был для него игрой с самим собой. Он дал своеобразную философию жизни в своих лирических излияниях, особенно в беседе с доктором Вернером, перед дуэлью с Грушницким.
Игрокам в жизни часто везёт, они успевают в жизни, но часто игра кончается драмой. Лермонтов знал это не хуже других.
Жизнь — шутка
А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая шутка.
Да, бывают минуты и дни, когда жизнь представляется шуткой, пустой и глупой. Можно сделать жизнь шуткой и тогда это будет глупой шуткой, и наоборот. И часто в такие моменты, когда жизнь вовсе не похожа на шутку.
Как много на свете людей, которые сами обращают свою жизнь в пустую и глупую шутку. Но это — ещё полбеды… А есть и такие, которые обращают жизнь других в шутку, но не пустую и глупую, а в злую шутку. Разве не злая шутка жизнь коронованного и помазанного Николая I, который ходил на балы в частные квартиры и танцевал. Это был настоящий танец мёртвых, дане макабр, где плясали не мёртвые, а живые с каменными, мёртвыми сердцами.
Но если посмотреть со стороны, то жизни Эдипа и Гамлета похожи на шутку. У Гамлета эту шутку сыграл его дядя, убивший отца Гамлета и захвативший престол. У Эдипа — его родители, отправившие своего единственного сына в изгнание к пастухам. Впрочем, и Наполеон сказал, что от великого до смешного — только один шаг. И от великих зависит, не сделать лишний шаг, чтобы не стать смешным.
Жизнь Лермонтова была пустой и глупой шуткой со стороны других. Жизнь в казармах и столице, похожей на большую казарму. Петербург — самый скучный город в мире, туман, дождь, угрюмые громады домов, и везде Держиморды по углам. А во дворце, похожем на казарму, — главный Держиморда. И вся огромная страна превращена в казарму, военные поселения, Аракчеевщина.
Поэту скучно и в столице, и в боевых схватках на Кавказе, где он рубит головы тем, кого уважает и любит. Горцев, которые ценою жизни отстаивают свои горы, поля и очаги. Скучно и на балу, где как мыши и крысы бегают костюмированные и маскированные, а дочь царя говорит ему колкости. Разве не глупая шутка — расправа с поэтом за дуэль с французиком Гарантом.
Скука и грусть невыносимы в «минуты душевной невзгоды», когда «некому руку подать». Одиночество в минуты душевной невзгоды особенно невыносимо. Душевные невзгоды ведут к сужению поля сознания, исчезают перспективы и внимание сосредоточивается на минутном и мимолётном. Выпадают вечные проблемы и ценности. Наступает, по словам Христа «власть тьмы», помрачается и внутреннее пророческое зрение.
Злые шутники и скоморохи в юбках окружали поэта тесным кольцом и в столице, и далёкой провинции. Злая шутка с поэтом кончилась убийством на дуэли, а шутники потирали руки везде, во дворце, в гостиных и жандармско — полицейских застенках.
Покой и свобода. Философия жизни в поэзии не имеет никаких точек соприкосновения со школьной философией, состоящей из мертвящих схем, не переживающих своих изобретателей. Философия жизни поэта находит отражение в лирике, теснейшим образом связана с жизненными переживаниями. Философская лирика есть вершина творчества таких мастеров слова, как Пушкин и Лермонтов, Гёте, Шиллер, Байрон и др. Философия жизни Лермонтова написана не чернилами, а слезами и кровью, приправленными жёлчью.
Вот у него живой символ, Лермонтов — величайший символист в подлинном смысле — «белеющий парус». Он белеет в тумане голубого моря. Он что-то покинул на родине и чего— то ищет в стране далёкой. Какой интригующий вопрос, не получающий разрешения.
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой.
Казалось бы, какое раздолье для поисков.
Играют волны, ветер свищет,
Мачта гнётся и скрипит.
Чего ищет парус мечтающий и ищущий? Может быть любви? Нет, ответ ясен,
Увы! Он счастия не ищет,
И не от счастия бежит!
Обстановка меняется, и неожиданно,
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой!
Мятежный парус, ищущий во время покоя бурю — это мятежная душа поэта. Мятежный характер, искалеченный с детства воспитанием и семейной обстановкой. На смену семейному и школьному не покою пришёл не покой общественно-политический, ссылка и война.
Двойственность стремлений человека-поэта, и не только поэта. От покоя его влечёт к буре, и обратно. Двойственность природы человека, духовность и душевность. Духовность есть внешний и внутренний покой при полной духовной активности. Душевность непокойна, полна страстей и подвержена демонским влияниям. Стремление к покою и беспокойная жизнь. Досуг на балах под музыку, новые знакомства, страстишки, привязанности, влечения; танцы и встречи с явно враждебными субъектами, вплоть до членов царской фамилии.
Жизнеопытный поэт скоро убеждается в том, что искание покоя в буре есть самообман. Религиозно-пророческая интуиция подсказывает ему, что есть другой, подлинный покой. И покой этот — не сон или забытие во сне, с голосом, шепчущим о любви и нашёптыванием природы. О своей тайне говорит он в стих. «Выхожу один я на дорогу».
Поэт выходит на дорогу один, вдали от городского ночного шума, идёт описание роскоши ночного неба и ощущение покоя всей природы. И, неожиданно: «Пустыня внемлет Богу». Поэт на правильном пути и не покинут Богом. И — звезда говорит с звездой. Природа одушевлена, это говорят ангелы-архетипы звёзд и планет. И этот разговор не нарушает тишины и гармонии природы. И жизнь не кажется уже такой пустой и глупой шуткой. Тишина. Тишина и настороженность ночи с говорящими звёздами очаровывает поэта и умиротворяет душу. Но — опять дисгармония души с окружающей средой. Привычная рефлексия: ждёт ли он чего, жалеет ли о чём. В прошлом нет ничего, достойного сожаления. Так ли это? А порывы вдохновения, а пророческое служение, а его мощный голос, пробудивший всю страну. Но и у пророка бывают порывы отчаяния, теряется вера в себя и свои силы. А впереди беспросветность и томление ожидания.
Торжественность и «чудность» звёздного неба гармонирует со сном земли, «спит земля в сиянии голубом» и этот сон охраняется говорящими ангелами. Кто не испытал этого очарования неба и сна земли в ночном хождении по дороге? «Забыться и заснуть?» Но не всякий сон даёт покой. Сон бывает полон сновидений, тоже беспокойных и мятежных. Поэт знает это на собственном примере. Обманутый и разочарованный поэт, сын своего века тревожного, и обыденщины военной и светской, ищет покоя. Покоя и свободы, потому что без свободы нет покоя, и наоборот. Творческое жизнеощущение поэта противится покою и свободе могилы, несмотря на то, что ему «так больно и так трудно». Не холодный могильный сон, а какой-то полусон, полу бдение, какой-то частичный сон с признаками жизни. Что-то нереальное, фантастическое, неосуществимое,
Чтоб в груди дрожали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь.
Сон, с видимыми признаками жизни в виде дыхания вздымающейся груди и с невидимым дрожанием жизненных сил. Как в обыкновенном сне без сновидений. Отрешённость от мира и жизни, без желаний и сожалений. Нет, есть желание особенное, неосуществимое:
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел;
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.
Поэт замкнут в себе, отрешен от мира и жизни. У него — райские мотивы, вечно — зеленеющий дуб, что возможно в раю, где вечная весна и лето, где нет осени и зимы. А сладкий голос, поющий денно и нощно? Это может быть не женский голос, а ангельский. Ангел — существо бесполое, в нём есть одинаково и мужественность и женственность, хотя он — воин Бога. Лермонтов ищет покоя небесных сфер. Здесь — отголоски его серафизма, о чём будет речь впереди. Может быть, это любовь ангела хранителя?
Лермонтов хочет создать вокруг себя экзистенциальный барьер, отмежеваться от всего земного. Покой в денной и нощной песне о любви и нашёптывании природы, смешение небесного с земным, но райским земным. Двух даров небес ищет он, покоя и свободы. В этом — весь смысл жизни и счастье. Собственный опыт поэта и его великого предшественника, Пушкина показал, что земное счастье — обман.
Это и другой покой, покой забвения, бесстрастия, безмятежности упокоенной души. Без «бури и натиска» непокойного Запада, страстного психизма Фауста, Манфреда, Парацельса и др., без демонизированного гуманизма и демонизированной природы. Здесь — пункт полного и принципиального расхождения с «вечно-деятельным» Запада, с угасанием духа и сатанинским вальпургизмом, с религией свободы Шиллера, с каинизмом Байрона, заигрыванием с чертом у Гюго и Альфреда де Виньи.
Лермонтов ищет райского первозданного покоя, «блаженства безгрешных духов, под кущами райских садов» и в нашёптывании райской природы. Покой и блаженство, потерянные человеком.
Свобода и покой Лермонтова — это духовная свобода и духовный покой. У поэта это звучит немного наивно: «забыться и заснуть!» Это — забытие и сон внешнего человека, погрязшего в «грозе и буре» дремотного, западно-восточного евро-азиатского, квиетического покоя.
Лермонтов сбросил с себя байронизм и все наслоения западной культуры. Байронизм был для него путём его творческой диалектики. Через западные противоречия и отрицание он пришёл к христианскому утверждению.
Гнусная, клеветническая статья Владимира Соловьёва о Лермонтове не убеждает. Психопат и мистикопат Соловьёв, сам жертва прельщения и одержимости гностической лже -Софии, не нашёл ничего лучше сказать о Лермонтове. Несмотря на превентивные противоречия, мы видим полную внутреннюю гармонию всего творчества Лермонтова. Лермонтов — цельная натура, одна из немногих в мировой литературе. Но он понял, что в земной обстановке его идеал покоя неосуществим… И избрал преждевременную смерть. Шестнадцатилетний поэт пишет о себе:
Боюсь не смерти я. О нет!…
Моё свершится разрушенье
В чужой неведомой стране.
(Ст. 1830 г. мая, 16 число, стр. 148).
И Пушкин искал покой сердца
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь, как раз умрём.
На свете счастья нет, а есть покой и воля
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег».
В рукописях Пушкина есть заметка: «О, скоро ли я перенесу мои пенаты в деревню, поля, сады, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь, религия, смерть». Хотел выйти в отставку, писал об этом жене в последних числах июня 1834 г. Счастье изменило обоим. Куклы в виде «ангелов небесных». И пророк-поэт подвержен суете мирской. Бывает, что «ничтожней всех» он меж детей ничтожных мира.
Есть у Лермонтов и другой путь к покою. Как великий художник, мыслитель-созерцатель, он склонен к созерцанию всей природы, видит в ней следы Божественной Силы. И в «волнении желтеющей нивы», в шуме листвы «при звуке ветерка», видит «малиновую сливу» под тенью зелёного листка, и кивание серебристого ландыша из-под куста, прислушивается к таинственной саге студёного ключа, текущего в мирный край. Тогда он видит в небесах Бога. Расходятся морщины на челе, смиряется души тревога и даже счастье на земле постигается. Он созерцает. Тогда отпадает нечестивое моление: «За всё, за всё Тебя благодарю я». Тогда и тайные мучения, горечь слёз и отрава поцелуев, месть врагов и клевета друзей, отпадает, как чешуя змеи. «Всеведение пророка» позволяет Лермонтову проникать в сущность вещей в идеально-реальном их проявлении.
Лермонтов нашёл идеал христианской жизни — молитвенный покой и свободу. Свободу внутреннюю, свободу от страстей и лукавых помыслов, свободу сердца.
Мистическому переживанию покоя-исихии была посвящена деятельность великого мистика Григория Паламы Салоникского. Он — основатель школы исихастов, монахов и отшельников, ищущих покоя-исихии. Лермонтов — исихаст в полном смысле, хотя и не знает источников своего исихазма. И Пушкин стремился к тому же, у него была и аскетическая жилка. Его «Монастырь на Казбеке» свидетельствует об этом. У Лермонтова — глубочайшая религиозная интуиция. И он — живой пример родства мистики и поэзии, как и Пушкин.
Покой и свобода — христианские идеалы. Христос говорит собравшейся около Него толпе:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас… И найдёте покой душам вашим» (Матв. И, 28-29).
Свобода и покой тесно сплетаются друг с другом. Только свободный обретает покой и подлинный покой дан в свободе. Пророчески-интуитивно раскрыл Лермонтов глубочайшую тайну подлинного человеческого бытия, глубочайший смысл жизни, в полном согласии с христианской религиозно-мистической письменной традицией: покой в блаженстве и блаженство в покое, вдали от мирской суеты и превратностей судьбы.
Гражданская свобода. Лермонтов превозносит и другую свободу, свободу самостоятельности, самоопределения и волеизъявления человека. Юный поэт со свойственной ему исключительной, полудетской, откровенностью даёт свой автопортрет.
Он был рождён под гибельной звездой,
С желаньями безбрежными, как вечность.
Они так часто спорили с душой
И отравили лучших дней беспечность.
(Поэма «Сашка»).
Отрава не только внешняя, навеянная модным байронизмом, но и личная и внутренняя.
О если бы мог он, как бесплотный дух
В глуши степей дышать со всей природой,
Одним дыханьем жить её свободой (т. ж.).
Свобода мирская, житейская и природная.
Провозвестником этой свободы в Европе был Жан Жак Руссо. Человек от природы свободен, рождается свободным, но встречает на своём жизненным пути цепи семейные, родовые, сословные и социально-политические. Вся деятельность Руссо была направлена на борьбу против этих цепей. Он предложил новую систему воспитания в своём «Эмиль или о воспитании», оказавшую огромное влияние на Канта, Льва Толстого и др. Он отверг все сословные, социально— политические и государственные ограничения свободы и стал провозвестником всякой революции.
Руссо оказал огромное влияние на Байрона, Шатобриана, Лермонтова и частично на Пушкина, который освободился от всех преувеличений руссоизма. История Европы показала, что революция, освобождая народ от старых цепей, приносит новые цепи, горшие прежних, ведёт к неограниченному деспотизму верхушки и новому рабству масс.
Но есть у человека и обязательства перед семьёй, обществом и государством, перед самим собой. И вообще свобода человека не абсолютна. Свободен был первый человек Адам в раю, но после грехопадения он стал рабом своих страстей, вожделений и помыслов. Каин попал в полное рабство дьяволу, пребывая в заблуждении, что он свободен. Такова «свобода от Бога» в концепции Н. О. Лосского, ведущая к рабству. Узкая гуманистическая свобода есть «свобода для себя» в гениальной концепции Пушкина. Христианская свобода соединяет нас с Богом. Гуманистическая — разъединяет, замыкает человека в себе самом и ведёт к рабству Сатане. Это показала вся гуманистическая эра на обоих континентах.
Есть святое принуждение, когда оно становится спасительным началом подлинной свободы, как на примере великого апостола Павла. Был ли Павел-Савл свободным до своего обращения? Нет, он был рабом фарисейских предрассудков и антихристианских предубеждений. Он прозрел духовно и стал якорем спасения для народов. Свобода христианская — это внутренняя свобода от греха и зла, свобода избранничества, свобода духа. Свобода на грешной земле, проклятой Богом, и свобода Царствия Небесного — такова евангельская антитеза свободы.
Есть и другой аспект христианской свободы:
«Познаете истину, и она освободит вас».
Эта познавательная свобода, провозвещённая Христом, освободила древний языческий мир от мракобесия и рабства. Она померкла в лживой ренессансно-гуманистической и просвещенческой Европе и привела к культурной катастрофе, не отрицаемой даже адептами гуманизма современного.
Бурная вспышка природной свободы дана в поэме «Мцыри». В ней дан пафос свободы от внешних оков. Эта свобода волнует, опьяняет и неуклонно влечёт. Предсмертная исповедь беглого монаха-послушника горца есть восторженный гимн этой свободе. По существу — это совокупность наследственных психических комплексов, семейных, родовых и племенных, природных. У Мцыри сохранились воспоминания о родной семье, отце и матери, домашнем очаге и родных местах, горной природе. Монастырское уединение, молитвы и посты чужды ему. Он хочет увидеть мир, вернуться на родину. Трогательна детская наивность юного послушника. Он не догадывается о том, что и там, на родине, в родной семье и природе есть цепи, что он стал бы рабом другого уклада, столетних традиций, инстинктов и суеверий.
Решено, он бежит. Здесь, у Мцыри — лермонтовские мотивы, «не мог сказать отец и мать». Видел у других отчизну дом, друзей, родных. Тогда он решает «прижать свою пылающую грудь с тоской, к груди другой, хоть незнакомой, но родной». Он одержим «разгульной юности мечтой». И его сердце бьётся «при виде солнца и полей».
Он видит пышные поля, холмы, покрытые венцом дерев, груды тёмных скал, горный поток. Ему мерещатся отцовский дом, ущелье и рассыпанный в тени аул, слышится вечерний гул табунов, лай псов. Старики, сидящие вокруг отцовского крыльца, и отец, как живой, в боевой одежде, звон кольчуги и блеск ружья. Видел и молодых сестёр своих с лучами сладости очей и звуком песен над его колыбелью.
Он бежит, видит горные хребты, причудливые, как мечты; курились, как алтари, а облака тянулись к востоку, как на ночлег. И сквозь туман Кавказ, горящий в снегах, как алмаз. Бежит к потоку вниз, играет и следит за полётом птиц, ласточек. Что делал бы он на воле? Ответ простой… «жил».
…О, я, как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Руками молнии ловил…
Бежал он неизвестно куда, звёзды не озаряли ему путь. Было весело вдохнуть «ночную свежесть лесов».
Он внимает шуму потока после дождя, подобному сотне сердитых голосов. И разговор этот был ему понятен. Потом птички, озолотился восток, ветер шевельнул листы. Он осмотрелся, он лежал на краю «грозящей бездны». Ему стало страшно…
Красота окружающей природы подбодрила его, утолил жажду, но голода не утолил. Кудри виноградных лоз, пение птичек… Он припал к земле и стал прислушиваться «к волшебным странным голосам», как будто шептались о тайнах земли. У него открылось природное яснослышание, природное, примитивное созерцание потустороннего. Карабкаясь вниз к ручейку, он услышал голос молодой грузинки, которая сходила к берегу,
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви.
И «пылкие думы смутили его», новые чувства испытал он, досель незнакомые. Когда же очнулся, она была далеко. А внизу увидел две грузинские сакли «с дымком клубящимся», вместо родного аула.
Изнурённый трудами, он лёг в тени. Отрадный сон сомкнул глаза и видел во сне вновь образ грузинки молодой. Странная тоска овладела им, запылала грудь. И проснулся. И опять сакля внизу привлекла его внимание, но он не посмел взойти туда.
У него была одна цель — пройти в родимую страну. Превозмогая голод, он углубился в лес и потерял дорогу. Рвал терновник, взлезал на деревья, дороги не видно. Упал на землю и рыдал, но помощи не просил (лермонтовская гордость). Встреча с барсом отвлекла его мысли… Мелькнула тень, искры двух огней из глаз. Прыжок, и закипел бой… Героическая схватка с барсом описана со всеми захватывающими подробностями, со всей лермонтовской экспрессией. Здесь Лермонтов дал полную волю своему поэтическому гению и получились шедевры фольклорной поэзии. В бойце— монахе проснулся зверь, он визжал, как барс. Собрав остаток сил, он вышел из леса, увидал вдали аул.
Вернулся к своей «тюрьме», слышит колокольный звон. Очертания монастыря, а внизу Арагва и Кура. Судьба смеялась над ним.
Хотел встать, но его томил предсмертный бред.
Его разыскали и подняли, но печалит его лишь одно, что труп его будет тлеть не в родной земле. Его ждёт, может быть, рай, но «рай и вечность он променял бы за несколько минут между крутых скал, где играл он в ребячестве своём». Опять чисто по лермонтовски.
По своей художественной законченности поэма «Мцыри» стоит рядом с «Демоном», и по задушевности. Здесь и пафос свободы от внешних оков, и очарование природы, сила наследственных отягощённостей и чары свободы.
Вершина метафизических достижений Лермонтова в «Мцыри» — коллизия между стремлением и долгом. Две концепций борются в поэме — романтизм и руссоизм с идеализацией природы и природной свободы, и злободневный реализм. Природа влечёт, но и губит. Только сильные выдерживают натиск природы, а слабые гибнут. Это — по Дарвину, Уоллесу и Спенсеру — выживание наиболее приспособленных.
Может быть, помимо своей воли и первоначальному замыслу, Лермонтов разоблачил эту свободу. Влечение к природе, родине, человеческому обществу, к родным — это мираж, самообман, ослепление. Ведь природа стала во враждебные отношения к человеку, это показала встреча с хищником. И попав на родину, к родным, он был бы в зависимости от них, принуждён был бы работать на всех и с сожалением вспомнил бы о своём монастыре. Мцыри ошибся, он переоценил свою призрачную свободу на лоне природы. Волею Божественного Провидения он попал вновь в монастырь. Обессиленный, больной, изголодавшийся, кровоточащий от ран, полученных в борьбе с лесным хищником, в уходе и любви своих братьев по монастырю и старого монаха, он нашёл внутреннюю свободу перед самой смертью и умер примирённый.
И с этой мыслью я засну
И никого не прокляну.
И смерть он принимает за сон, совсем по христиански. И это находится в полном согласии с основной тенденцией стихотворения «Выхожу один я на дорогу», где он ищет трансцендентной, сверх земной свободы и покоя, хочет забыться и заснуть. Такова сублимированная свобода, достигаемая в некотором отрешении от земного и природного.
Метафизика
Всё, что говорилось применительно к Пушкину в книге «Метафизика Пушкина», философ, мыслитель, мудрец и метафизик, относится в одинаковой степени и к Лермонтову. Пушкин ставил вехи и дал законченную систему эстетико религиозной метафизики. Лермонтов — не только ученик и продолжатель, он вносит новые черты.
Профессиональный философ-метафизик обычного школьного типа ставит проблемы, но не даёт им решения, оставляет их открытыми или затушёвывает их. Ему не хватает метафизической глубины и пророческого искуса. Таковы: генезис априорных понятий и проблема Бытия в целом у Канта, тожество Бытия и познания у Шеллинга и Гегеля и проч… Метафизика концепций, схем и отвлечённостей, безжизненный схематизм.
У Пушкина и Лермонтова — метафизика живых образов, существ и сущностей, как отражение их идей и архетипов, во главе с Архетипом всех архетипов, Логосом-Христом. Эстетизм и поэтизм Пушкина и Лермонтова имеет глубокие религиозные корни, это — эстетический логоизм. Их религиозность, часто не внешняя, а глубинная, эзотерическая и медитативно-созерцательная. А у Лермонтова и молитвенная.
Всякая подлинная, жизненная метафизика переходит в религиозную. Так было и в греческой античности Сократа, Платона, Аристотеля и стоиков. Потому что корень метафизики, всякой потусторонности, сверх чувственности, сверх разумности, сверхъестественности и неизречённости — Бытие, Бог, жизнь, существо и сущность, Любовь-Эрос. Такова метафизика обновлённого человеческого духа. Пушкин и Лермонтов — русские адепты этой метафизики.
Лермонтов поражает глубиною чувства и жизнеощущения, проникновением в сущность предмета, внешнего объекта и во внутреннее субъективное переживание. Он переносит созерцаемый объект в свой внутренний мир, в микрокосм, точно сличает его с архетипом и выносит наружу в избранных словах, выражениях и ритмах. Он вникает во внутренний ритм Вселенной. Он владеет внутренним, эндиатетическим словом, как и внешним, профорическим словом. У него — внутренняя гармония обоих слов. Пророческая интуиция не покидает его ни в мирном быту, ни в боевых схватках, ни на светском балу, ни в казарменной отрешённости.
Он умеет соединить физическое с метафизическим, как в стих. «Когда волнуется желтеющая нива». Его эпитеты оживотворяют неподвижные объекты. Желтеющая нива, малиновая слива, свежесть листвы, приветливо кивающий серебристый ландыш. Есть что-то скульптурное в его словесных оттенках. Мощные черты и максимум выразительности.
На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры дружные светил.
(«Демон», 15).
Гармония небесных сфер, о которой учил Пифагор, без небесной механики силы притяжения, а трансцендентная архетипическая согласованность, разумный миропорядок, где осуществляется гармония, иерархия и симфония космических властителей. И основная идея целесообразности в смысле Аристотеля.
Демон хочет увлечь плачущую Тамару обещанием перенести её в небесные сферы, где нет ни стонов, ни слёз, где обитает её убитый жених, ласкаемый небесным светом… Где нет ни радостей ни печали, нет желаний и сожалений о прошлом. Тамара, «земной ангел», как её называет Демон, будет также безучастна ко всему земному, как и он. Здесь дана метафизика увлечения и соблазна, с антитезой земного и небесного.
Божественные атрибуты Любви, Истины, Добра и Красоты суть основные человеческие метафизические ценности. В Боге и для Бога они абсолютны и неизменны. Для одухотворённой твари, ангела и человека, они доступны в известных пределах. Идеал совершенства для обоих выражен Христом: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Идеал не достигнут обоими, ангелом и человеком. Оба захотели взять преждевременно, без усилия и без школы, сорвать, как готовый плод.
Эрос. Божественному Эросу посвящены страницы в книге о Пушкине. Это — библейская заповедь любви к Богу и ближнему. Процитированы высказывания древне-церковных. писателей, начиная от Дионисия, вплоть до византийцев Каллиста и Игнатия. В обычных условиях любовь к человеку, к ближнему, более понятна и доступна, чем любовь к Богу. Бог далёк, недоступен и часто неумолим. Можно верить в Бога, чтить и молиться Ему. Страх перед Всесильным и Всемогущим вытесняет любовь к Нему. Человек озлобленный сводит счеты с Богом, приписывает Ему все несчастья и неудачи. Бог не благосклонен ему, можно ли за это любить Его. Таков герой трагедии «Фауст» немецкого писателя Граббе.
Подлинная любовь к Богу есть редкий дар, доступный только святым, аскетам, отшельникам и пустынникам, и связана с полным отрешением от мира, непрестанным постом и молитвой. Любовь к Богу требует духовного подвига, недоступного среднему обывателю. Она требует абсолютной веры, как у старушки на паперти церковной, веры простой. Она требует жертвенности, вплоть до абсолютной жертвенности Сына Божия Христа. Тогда приходит и ответная любовь Бога Творца к своему творению и Божественный Эрос получает своё завершение. Первозданная любовь Бога к творению доходит до того, что Бог посылает Сына возлюбленного и Единородного на крестные страдания и смерть на кресте для спасения рода человеческого. А Сын так преисполнен любви к Отцу, что приносит Себя в жертву, как Агнец Божий. И по воскресении Своём завещает апостолам и всём верующим любовь к Отцу всех людей.
Лермонтов прошёл через все ступени взаимоотношения с Богом и пришёл к молитвенному благоговению. Его юношеские стихи полны мольбы к Богу во всех перипетиях его безрадостного детства и юности.
Человеческий эрос, любовь к ближнему… Угнетённым и закабалённым ближним своим Лермонтов посвятил всю свою кипучую энергию, все свои богатырские, сверхчеловеческие силы, весь свой гений. И стал жертвой этой любви. Можно без преувеличения сказать, что он принес себя в жертву за весь порабощённый русский народ, как избранник небес и пророк. Лермонтов мог сказать про себя, как и Пушкин, что он лирою своею чувства добрые пробуждал и в свой жестокий век восславил свободу. Лермонтов сделал и другое, он обличил и заклеймил бесчеловечных и развращённых рабовладельцев, «пирующих и праздно-болтающих, обагряющих руки в крови» (по Некрасову), «надменных потомков известной подлостью прославленных отцов», всех палачей свободы, гения и славы, наперсников разврата. Свою любовь к ближним Лермонтов запечатлел кровью своею.
У поэта, эстета, чувствительного к красоте в человеческом образе, человеческий эрос принимает другое направление. И здесь земное перемежается с небесным. И здесь слово предоставляется великому мастеру сих дел, Пушкину: «восторги и печали… прошли, исчезли, Но вот опять затрепетали Пред мощной властью красоты» (Н. Осиповой, 1835 г.). Пушкин — «последний грек», как сказал про него Проспер Меримэ, и ему свойственно «богомольное благоговение Перед святыней красоты» (гр. Е. М. Завадской, ст. «Красавица», 1832 г.). Пушкину знакомы духовные порывы человеческой любви и серафические высоты ангельской любви. Он отличает небесную красоту в человеческих образах, и чтит, как святыню. Это касается исключительно женской красоты. Ему посчастливилось найти в Натали черты «мадонны», но это стоило ему жизни.
Другой великий мастер — Лермонтов. Его стихотворные обращения к Е. Сушковой, Н. Ф. Ивановой, В. М. Лопухиной и С. М. Виельгорской — величайшие шедевры любовной лирики. Стихи, посвящённые первым трём, цитированы много раз и потому обратимся к последней героине.
Как небеса твой взор блистает
Эмалью голубой…
И в другом стихе
Она поёт и звуки тают,
Как поцелуи на устах;
Глядит — и небеса играют
В её божественных глазах.
Все движения, черты, полны дивной простоты.
Черты серафической любви проглядывают и в любовном признании Демона, но они перемешаны с демонскими. Неопытная Тамара, девушка-монахиня, не разбирается в них и падает жертвой наваждений и прельщения. Ангел предостерегает Демона,
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Гений Лермонтова развернулся в любовных излияниях бывшего первого ангела, в неповторимых страницах мировой поэзии.
Лермонтов намного скромнее, он не ведёт реестра своих побед, своих «любвей», не упоминает, не разоблачает «партнёрш» в любви-страсти. Но все страсти и страстишки не вытесняют образа его подлинной возлюбленной, Н. Ф. Ивановой, которая изменила ему и вышла замуж за Обрезкова.
Лермонтов ставит религиозно-метафизическую проблему спасения падшего духа через любовь к женщине, где дух — анимус ищет спасения у души-анима, Вечно -Деятельное находится у ног Вечно-Женственного. Любовь искупляющая — основной мотив поэмы «Демон».
Метафизика человеческого земного эроса у Лермонтова — в ст. «Н. Ф… вой» (Ивановой, стр. 121). В начале это — «неясные мечты», которые он хотел выразить стихами. Но «глубоко погрузившись в сердце», он нашёл, что ум его «не по пустякам
К чему-то тайному стремился,
К тому, чего даны в залог
С толпою звёзд ночные своды,
К тому, что обещал нам Бог,
И чтоб уразуметь я мог
Через мышления и годы (т. ж.).
Через мышление и созерцание. Лермонтов стремится к метафизике от Бога. Как иллюстрация — космоощущение: «На воздушном океане»…
В ст. «К***», также обращённом к Н. Ф. Ивановой Лермонтов даёт убийственную характеристику человеческого эроса: женское непостоянство, измена, бесчувствие и бессердечие. Здесь же дана неподражаемая отповедь неразделённой любви.
Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай, мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней,
И целый мир возненавидел,
Чтоб тебя любить сильней.
Как знать, быть может те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может мыслию небесной
И силой духа убеждён,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье Он?
Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец?
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец!
Я горд!… прости! люби другого,
Мечтай любовь найти в другом;
Чего б то ни было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам, под небо юга
Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться
И в страсти стану клясться всем;
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтобы не любить, как я любил, —
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?
Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтоб твою младую руку —
Безумец! — лишний раз пожать! —
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену? —
Ты знала: — я тебя не знал!
Он жертвовал вдохновением, отдавал душу, поверил в земное счастье. А в ответ — непостоянство, измена, коварство. В нем просыпается гордость, он станет теперь всем клясться в любви, лгать, безбожно обманывать. Опустошено сердце, искалечена душа. Это вызвано отчаянием и безнадёжностью. Поэт остался верен себе, он нашёл себя в любви к В. А. Лопухиной. Любовь была взаимной. Лопухина стала для него идеалом на всю жизнь. Суетность и лживость земного человеческого эроса-патоса познал Лермонтов на своём жизненном опыте.
«Гордая» душа Демона не знает «трепета ожидания» и «страха неизвестности». От созерцания небесной красоты в земном облике Тамары его душа просыпается, испытывает «тоску любви, её волненье», в первый раз. До сих пор он знал только неутолимую страсть, любовное наслаждение, в котором не было и капли подлинной любви. Он понял всю тщету своих вековых устремлений и готов бросить к ногам земного, хрупкого и смертного существа свой венец, свою власть и гордость. Со своего сверхземного и сверхчеловеческого плана Демон переносится на план земной и человеческий. Вот какова сила человека, наделённого Божественными дарами любви, красоты и добра! Хвала Богу! И Демон ищет примирения, хотя и в неопределённой форме.
И входит он, любить готовый,
С душой открытой для добра.
Новые, ангело-человеческие чувства вспыхивают в нём: волнение, ожидание, умиление… и слёзы, первые слёзы Демона. Замкнутости, отчуждения от мира как будто и нет. И, как чудо, прежние, ангельские чувства дают знать. Он смущен и колеблется, идти ему к Тамаре-монахине и тем нарушить покой дома Божия.
У Демона появляется человеческая слабость, разделить свои муки с другим, с чуткой женской душой. Он сам поражен переменами в себе, готов видеть в этом милость свыше, и готов видеть в ангеле-хранителе друга своего, пришедшего, чтобы поговорить с ним.
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Зашевелилася, как змей.
Он потрясён, готов бросить свою власть к ногам Тамары, оживившей его. Демон становится демоно-человеком и тогда открыт ему путь к примирению, обновлению и возрождению. Такова гениальная, религиозно-метафизическая концепция у Лермонтова. Надуманная, штампованная, гуманистическая демонология Запада бледнеет и стирается перед гумано— демонологией Лермонтова.
Патос. Как легко небесная, серафическая любовь переходит в земную, плотскую и греховную любовь, показывает богатейший опыт обоих, Пушкина и Лермонтова. Пушкин очень чувствителен к невидимым стрелам Эроса-Купидона-Амура. Никто не исчерпал любовь в земном аспекте, как Пушкин, все нюансы, оттенки. Его богатейшая любовная лирика есть панегирик и мартиролог любви. Это — какая-то одержимость женщинами, гинеказмы и феминизмы. Даже самая возвышенная любовь с преклонением красоте вызывает в нём сексуальное томление. Такова «мистерия крови» в пушкинском аспекте. Наталия Пушкина выходит оправданной, она не верит его уверениям, вырывается из его объятий, вспоминая многочисленные измены. Была ли она счастлива?
Два вида любви, небесная и земная, входили в план райской жизни человека. Первая не осуществилась и была грубо нарушена, а вторая осталась и претерпела значительные изменения. Она стала плотскою, животною, но в катастатическом (падшем) аспекте, так как и животные в раю были чище, светлее и духовнее…
Изгнание из рая было потерей и ударом и для животных. Поиски пропитания привели к борьбе за существование, к плотоядству и хищничеству.
Эта диада (двоица) любви должна была быть соединена, триадизирована в любви к ближнему, в потомстве.
Греховность земной, плотской любви в том, что она заменяется наслаждением и страстью. Эрос переходит в гедонизм, склонность к наслаждениям любви. Пушкин знал и другой аспект земной любви, любовь-страдание и любовь мучение. Лермонтов — в ещё большей степени.
«Болезнь любви в душе моей».
(Ст. «Признание», 1825 г., стр. 130).
Он знает и «глубокие раны любви» (стр. 81), «любви мучение» (стр. 57) и «слёзы любви» (стр. 55). Огонь сладострастия не даёт ему покоя,
В крови горит огонь желанья.
(1825 г., стр. 130).
Афродизийная лирика обоих, Пушкина и Лермонтова, несмотря на богатство, блеск и разнообразие, есть прямая растрата гения в земных тенётах плоти.
У Лермонтова, в драме «Маскарад», в лице Арбенина, даны и мрачные аспекты земного эроса: Любовь-ревность, любовь — злоба и ненависть, любовь-месть и любовь-смерть.
Афродизийность в любви — это преступление, плод райского падения и вне райского жития-бытия. Такой любви нет места в грядущем Царствии Божием, вопреки спекуляциям Эмануэля Сведенборга и Гёте. Здесь любовь ангельская, любовь к «святыне».
Жертвенная любовь у героини Лермонтова, Тамары. Она так любила своего избранника, жениха Синодала (Цинандала), погибшего от козней Демона, направившего пулю осетина-разбойника, что отреклась от мира и ушла в монастырь. Рецидив любви в разбитом сердце Тамары — есть черта пессимизма Лермонтова, роднящего его с Байроном и его предшественниками. Идеалом остаётся любовь чистого духа — ангела, спасающего свою святыню.
Красота. Величайший христианский мистик Дионисий Ареопагит говорит, что Любовь-Эрос ведёт к единению с Прекрасным и Благим (Добром). Любовь стремится делать Добро. Греческий идеал «калокагатии» в диалогах Платона построен на том же принципе единства прекрасного с добром. Прекрасное Божественное занимает в христианской Патристике большое место, говорится о красоте Божественной, Христа и Духа Св.[47]1 Византийские писатели Каллист и Игнатий говорят, что ни слово не может выразить, ни слух вместить Божественную Красоту. Незримая телесными очами, она постигается душою и озаряла святых (Добротолюбие, т. 5, стр. 424-425).
Ориген говорит о красоте души, которая удостоилась принять Жениха-Христа. Невысоко ставит он телесную красоту (Патрология Минь, гр. т. 14, кн. 1).
Лермонтов склонен обожествлять земную красоту, телесную красоту. На Кавказе он видел пару «божественных глаз» и создал прообраз своей главной героини Тамары. У неё — божественная ножка, скользящая по ковру во время танца, когда она «помчится легче птицы» (Демон, 6). «Божественная» красота Тамары — красота Архетипа, Премудрости Софии («вся премудростью сотворил еси»), И красота природы есть красота первородных ангелов-архетипов, идей Платона, логосов Аристотеля и стоиков, субстанциальных деятелей в смысле Н. Лосского, урфеноменов Гёте. Церковный писатель Антоний Великий говорит, что «природа умная и бессмертная сокрыта в тленном теле, чтобы в нём и через него обнаруживать свои действия» (Добротолюбие, т. 1, стр. 30).
Таковы внутренние факторы красоты человеческого тела, достигающие высшей гармонии и выразительности в женской красоте. Лермонтову не был чужд традиционный в европейской литературе культ Вечно-Женственного, начиная с Данте и Петрарка, и кончая Пушкиным.
Красота Татьяны одухотворённая, затмевающая пластическую её соперницы на балу Нины Воронской. Лермонтов «пленён» только земным, он сам говорит об этом. Красота Тамары сказочная, как у Магуль-Мегери в сказке «Ашик Кериб», но вполне реальная.
«Немая душа» Демона не воспринимает красоту природы. Он или равнодушен к ней или злобствует.
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил.
Он презирает и ненавидит все проявления красоты. Можно подавить в себе эстетическое чувство, чувство красоты, можно, подавить и все проявления любви, истины и добра, но искоренить их нельзя. Можно сделать себя бесчувственным, но искоренить чувство прекрасного нельзя. Демон понял это, когда впервые увидел Тамару. Появилась и любовь, и стремление к добру, или просто вера в добро, и примирение о истиной. И «почувствовал» в себе «неизъяснимое волненье».
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви добра и красоты.
Он «долго любуется сладостной картиной». И перед ним являются мечты о прежнем счастье, новая «грусть», новое чувство, как «признак возрожденья». Такова сила красоты в концепции Лермонтова.
Истина и гордое познание. Есть существа, которых гордая слава привлекает больше, чем Истина. И тогда Истина становится жертвой гордости и славы. Они готовы жертвовать Истиной
ради славы. В этом повинна вся одуховлённая тварь, ангел и человек. Так возникают религии, философские схемы, теософические доктрины, оккультизм, мистические суррогаты, ереси и секты, Веданта и тантрическая Йога, и измышления досужих индо-тибетских Махатм, развлекающихся с европейскими женщинами-медиумами.
Таков и Демон, «познанья жадный». Он говорит о себе Я царь познанья и свободы.
Познание и свобода в концепции Демона соединены, и вполне основательно. У него — свободное познание, в смысле свободы от Бога. Это не гетерономное божественное познание через откровение, а автономное познанное само откровение. Он и Тамару хочет осчастливить,
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Что ещё предлагает Демон Тамаре:
Тебя иное ждёт страданье,
Иных восторгов глубина.
Глубина сатанических восторгов — это ещё понятно. А страдание? Нет, это ещё не совсем понятно для бедной Тамары. Это — сверхчеловеческое страдание от гордого познания, которое не полно и не удовлетворяет. Автономное познание имеет свои границы, в этом убедился и доктор Фауст.
Всезнание и все чувствие не принесло Демону ни удовлетворения, ни счастья. Познав всё, что было ему доступно, он научился всё презирать. Другой спутник его познания — сомнение, как источник энантного, богопротивного знания, как источника магии. История человечества знает много эпигонов этого энантного знания, таковы Гаутама Будда, духовный праотец всех Махатм, Санкара, иогисты и все прочие. Познание становится страстью.
Неизменным спутником познания стала для Демона скука. Когда страсть утолена, рождается скука, как состояние духовной пустоты, не заполняемой познанием. Такое состояние губит не только веру, но и надежду,
Я тот, чей взор надежду губит
И всё живущее клянёт.
Всё благородное бесславит
И всё прекрасное хулит.
Таковы горькие плоды демонского, фаустического гордого познания. Демон бросает к ногам смертной женщины Тамары свое познание, чтобы получить человеческие мир и утешение.
Проблема зла. Лермонтов ставит религиозно — метафизическую проблему спасения падшего ангела и заодно проблему зла, отвергая теософические спекуляции своих предшественников и современников на Западе. Жертва Христа, принесшая спасение и искупление падшего человека, не коснулась падшего ангела. Об этом нет даже намёка в обоих Заветах. Напротив, жертва Христа подтвердила осуждение дьявола. Христос видел падение его с неба и объявил об этом незадолго до распятия.
У Демона — двойственность, у него как будто появляется раскаяние, но не покаяние. Нет прямого обращения к Богу, он избирает окольный путь, ищет заступничества Тамары в любви. Он хочет «веровать добру», но остаётся тем же злым Демоном и тратит всё своё исключительное красноречие, чтобы соблазнить Тамару. Лермонтов разоблачил самую слабую сторону Демона, у него нет силы воли. У него только желание и стремление
Хочу я с небом примириться,
Хочу я веровать добру.
Одной веры в добро недостаточно, а нужны и добрые дела. Это показал и человеческий многотысячелетний жизненный опыт. Он ищет примирения с небом, а не с Богом. Что это за абстрактное небо без Бога? Демон ищет помощи в человеке, у Тамары. Но у него было много «любвей». История неба и земли зафиксировала его любовные женские объекты. Это — соблазнённые девушки и падшие женские архетипы. Ни одна не спасла его, потому что они не в состоянии спасти самих себя. Но Тамара занимает исключительное положение.
Отсутствие силы воли у Демона есть выражение слабости духа. Его стремление и желание — это душевные функции, по аналогии с человеком. Это угасание духа и интенция души — психизм. Дух его утонул в психизме или погас. Этот психизм ангела — нечто чудовищное, фатальное, непоправимое.
Психизм и сатанизм — это одно и то же, это синонимы. И человеческий, психизм имеет демонский аспект. Таков психизм Йоги, где дух поглощается душою, о чём свидетельствуют сами йоги. Таков и психизм буддийской медитации дхианы. Такая усиленная духом душа обретает магические свойства, и в этом — притягательная сила Йоги.
Лермонтов отвергает и другую спекулятивную проблему — спасение Демона через Вечно-Женственное в лице Тамары, наделённой небесной красотой. Демон видит в ней, что-то родственное, ангелоподобное, напоминающее его первозданное состояние невинности. Гёте подтверждает такое загробное спасение. Гретхен спасает демонизированного Фауста, без всякого усилия с его стороны. Такова гуманистическая концепция спасения, показывающая силу и возможности человека в лице женщины. В начале своей поэмы (повести) Лермонтов как будто захвачен гуманистическим демонизмом. Он применил восточные легенды о совращении девушек и средневековые легенды о совращении монахинь (таков 1-й список «Демона»), Но то было совращение ради совращения и сладострастия. Лермонтов изменил эту концепцию. В последнем списке у него — совращение ради спасения. Любовь смертной женщины Тамары не может спасти Демона. Спасение через женскую любовь оказывается недействительным. Само спасение Демона или спасение через человека, женщину, оказывается призрачным. Лермонтов внёс свет в одну из труднейших метафизических проблем, в проблему добра и зла.
Человеку приходит на помощь Спаситель и Искупитель Христос. Креатурное (тварное) добро непостоянно, лабильно, легко переходит в креатурное зло. Само по себе это зло не может перейти в добро или вернуться к добру. Зло, может быть, и хочет исправиться, перейти в добро, хотя бы и частично, как Демон. Лермонтов показывает иррепарабильность зла, неисправимость. Он решает проблему зла в христианском духе. Человек спасается обновлением во Христе и вхождением в него Божественного Существа, Духа Святого. Демон не оставляет в себе места Божеству, не в состоянии его воспринять. Демонизм-сатанизм как раз характеризуется утратой внутреннего Божества.
Зло есть атрибут креатурности, выражает его несовершенство. Человек должен пройти школу добра в своей земной жизни.
Самоспасение человека — это каинизм, показало свою не-эффективность во всех древних до-христианских и нехристианских религиях, в индуизме, буддизме, конфуцианстве, и в языческой греко-римской религии. Человек может превратиться в демона, и тогда нет ему возврата к добру.
Мудрость. Мудрость есть внешнее проявление метафизики, выраженное в мысли и слове. Метафизика концентрируется во внутреннем, эндиатетическом слове, в тайниках человеческого духа. Мудрость выражается во внешнем, профорическом слове, выраженном в речевых звуках. Учение о двух словах в человеке формулировано впервые Аристотелем и перешло целиком в древне-церковную литературу, получив полное оформление. Что же такое внутреннее слово? Это — язык ангелов, не имеющих телесных речевых органов, как человек. Ангелы говорят друг с другом, с Богом и с человеком. Иоанн Златоуст говорит, что святые в Царствии Божием говорят внутренним, эндиатетическим словом. Человек тоже обладает этим словом, но оно находится у него в латентном (скрытом) состоянии.
Есть мудрость словесная, теоретическая или, вернее, теоретико-созерцательная. Такова пророческая мудрость Пушкина и Лермонтова, выраженная в совершенных поэтических, словесных формах. Есть и мудрость житейская, выражаемая в поведении и образе жизни. Что касается житейской мудрости обоих, Пушкина и Лермонтова, то к нашему неудовольствию и неохоте, приходится делать существенную оговорку.
Дуэльные истории, эротомания и афродизия (сексуальность), обилие любовных приключений, светские развлечения, игра с такими ничтожествами, как Мартынов, не вяжутся с житейской мудростью. Своими ошибками, промахами и увлечениями они дали оружие в руки своих смертельных врагов, преждевременно были убиты, оставив свои миссии неоконченными. Иосиф Бриенский и другие церковные писатели говорят о гармонии теории и практики в христианской жизни. У русских гениев этой гармонии нет.
Пушкин и Лермонтов — жертвы уродливого царско-немецкого, дворянско-помещичьего, рабовладельческого строя. Онегинское и печоринское сидело в них. Русская «не-культура» убила их. Иное у гениев западных. Данте был предан своему идеалу Беатриче и после её смерти, и коренным образом изменил свою жизнь. Гёте, тонкий ценитель и знаток женщин, оставил свои увлечения, женился на надалёкой, вульгарной, но практичной Христине Вульпиус, прожил остаток годов своих мирно и провозвестил христианское смирение. Шиллер нашёл в лице добродетельной и скромной верную подругу жизни. Шекспир бросил столицу, придворный театр и своё писание, поселился в своём родном городе Стратфорде, где была его семья, и бросил навсегда писательство. А Байрон? Он бросил своё скитальчество, махнул рукою на славу, отказался от копания в демонии, покинул свою замужнюю любовницу и поехал в Грецию, чтобы сражаться простым добровольцем за её свободу.
Лермонтов психолог
Лермонтов — великий психолог, несравненный знаток человеческого сердца. Он читает в сердцах. Это знали и друзья, и враги его, поклонники, недоброжелатели. Это увеличивало кадры его врагов и из вчерашних друзей делало врагов. Эта зрячесть пугала, отчуждала, отталкивала. Но всех окружающих объединяла одна черта, об этом говорит поэт во введении к романтической драме «Странный человек». «Справедливо ли описано у меня общество? По крайней мере, оно всегда останется для меня собранием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти к тем, в душе которых сохраняется хотя малейшая искра небесного огня!…» И он отдаёт себя на суд этому обществу.
В обществе, при встрече, на балах и собраниях, беседуя и танцуя, люди, как в масках или полумасках («Княгиня Литовская», т. 4, стр. 365). Из зависти рождается ненависть. «Хорошо, — подумал он, удаляясь, — будет и на нашей улице праздник; жалкая поговорка мелочной ненависти» (т. ж., стр. 364).
Душевный облик Печорина, его слабые и сильные стороны, духовное богатство и мелочность, — один из шедевров романической психологии.
Лермонтов — тонкий ценитель и знаток женщин. Все женские образы его в любовных стихотворениях рельефны, живописны и скульптурны. Ему знакомы все нюансы любви и злобы, ревности и ненависти; привязанность, недоверие и отчуждение.
Светили мне твои пленительные глазки
И улыбалися лукавые уста (т. 2, 302).
Девственность ланит, белизна шеи… Из «Боярина Орши»
Творец, отдай ты мне назад
Её улыбку, нежный взгляд,
Отдай мне свежие уста
И голос сладкий, как мечта (т. 2, 385).
Или «глазки лазурно-глубокие» и «голос звонкий и ласковый» (ст. 1838 г.). В стих. «М. А. Щербатовой» (39, 1840):
«исполнены тайны Слова её уст ароматных»
И прозрачны и сини
Как небо тех стран её глазки (т. ж.).
В смертных женщинах находит небесные черты:
Я не знал,
Что очи, полные слезами,
Равны красою с небесами.
Пока слеза катилась, «в ней искра божества хранилась»
(«Стансы», стр. 207, 1831 г.).
На Кавказе он видит «пару божественных глаз», когда ему было 10 лет, и он познал любовь.
В стих., посвящённом В. А. Лопухиной, он говорит не о «гордой красоте»: не стан, не грудь, но все её движенья «полны чудной простоты» и «голос душу приникает» (1832 г., стр. 281).
Глаза — зеркало души, особенно для поэта, но это обманывает. В стих., посвящённом красавице А. К. Воронцовой— Дашковой, он пишет:
В глазах, как на небе светло,
В душе её темно, как в море!
То истиной дышит в ней всё
То всё в ней притворно и ложно!
Понять невозможно её,
Зато и любить невозможно.
Занят «прелестями женщин», но не доверяет «Женскому сердцу» (стих. «К***», обращено к Н. Ф. Ивановой, 1831, стр. 239). Угрожает мстить, но готов простить (ст. «К себе», 1831 г., 241). Знает муки любви и стремится к уединению.
Демоническое в женщине:
Деве смех тоска милого…
Девы мукой слёз сердечных
Веселятся, как игрой;
И у ног самолюбивых
Гибнут юноши толпой!
(Стих. «Два сокола», 1829 г., 108).
Мужчины умели мстить, Печоринщина была бытовым явлением. В. Ефремов пишет: «Это озлобление против одной женщины распространилось (у Лермонтова) и на других, на всех женщин, которым Лермонтов мстит в своих произведениях («Хаджи Абрек», «Маскарад», «Герой нашего времени» и многие другие»). Ни у одного писателя нет столько невинно пострадавших женщин в их произведениях, как у Лермонтова»[48]. Лермонтов умел мстить и иначе, не в произведениях, а в жизни. Печоринщина сидела в нём глубоко.
Историзм и народность
Пушкин писал русские сказки, песни (о «вещем Олеге»), поэму «Руслан и Людмила», трагедии: «Борис Годунов» и «Русалку» — вещи неповторимые. Лермонтов написал историческую повесть в виде песни «про царя Ивана Васильевича Грозного, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэт оживил русскую старину и историю. Три русских характера: Калашников, царь Иоанн и опричник Кирибеевич. Во всех трёх своеобразное отражение русского духа. Статный молодец Калашников, Степан Парамонович — русский характер: прямота, честность, правдивость, отвага, рыцарственность и бесстрашие перед сильными мира, внутренняя сила, не уступающая насилию, откуда бы оно ни шло. Он — простого звания, русский купец. Из класса, бывшего на задворках русской общественности, аршинник и самоварник. Но искренность и верность семейным традициям и нерушимости семейного очага. Как кудесник у Пушкина, неподкупность. И к тому же — удалой боец. Он полон гнева и злобы, но мстит в открытом бою. Он приносит себя в жертву, отвергнув свою профессию, имущество, семейный уют и красавицу-жену, своих детей и верных, любимых братьев.
Никто не решился выступить против профессионального, славного бойца царского, Кирибеевича, родственника Малюты Скуратова. И Калашников не выступил бы, если бы не позор жены. И когда появился он на оцеплённом месте «в 25 сажен», то все ахнули зрители. И когда он победил, и сошёл с места, то все свободно вздохнули.
Вот опричник-боец Кирибеевич, любимец царя. Он антипод, противоположность: подхалимство, распущенность, хвастовство, прислужничество и легкомыслие. Он по-своему отважен, но он — профессиональный боец. На гневный упрёк Калашникова он отвечает смущением, бледнеет и «бойки очи его затуманились, между сильных плеч пробежал мороз… На раскрытых устах слово замерло». Может быть, в первый раз за его боевую практику. Может быть, и не страх говорит в нём. Своими сильными словами Калашников может быть пробудил в нём совесть. Он развращён бытом, средой, строем, бесшабашной опричниной.
Честь восстановлена, Калашников идёт на позорную смерть, спокойно прощается с родными, готовый предстать перед судом Бога.
А царь, прославленный, создавший эпоху в жизни страны, победивший боярскую реакцию, ведущий к обновлению страны и сближению с Западом, подготовивший путь Петру Великому. Конечно, Лермонтов не мог дать полный и всесторонний облик грозного царя в современной ему исторической, государственной и социально-политической обстановке, чтобы не навлечь на себя упрёки, подозрения и преследования, он и не стремился к этому, к полноте. Это не жалкий царь на картине Репина, обнимающий убитого им в гневе сына, несчастный и жалкий в своём безутешном горе, а в омерзительном величии и безнаказанности, даже не азиатский деспот под шапкой Мономаха. И азиат умеет ценить доблесть и знает пощаду. Предпоследний из семьи Рюриковичей, палач и садист, комедиант, изобретатель пыток и сам палач. Не щадит духовного звания и церковного уклада. Отвага Калашникова не только не покоряет его, а даёт повод к злорадству и сарказмам. Несколько гениальных штрихов поэта— историографа и портрет его готов:
«Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моею милостью…
Ему жалко своего гуляки-опричника, а до семейных традиций ему нет дела. Он хочет быть справедливым, обещает Калашникову поддержку его семьи, жены и осиротелых детей, его братьев. Он мстит всем, кто стоит на его пути. Справедливость ему чужда. Лермонтов дал верный, отталкивающий образ грозного царя, величайшего страшилища истории.
Здесь не лишне было бы дополнить облик грозного царя. Параноик-шизофреник, со всеми признаками маниакально — депрессивного психоза. В моменты маниакальности он кричит, топает ногами, колет своим остроконечным жезлом своего собеседника. Всаживает свой жезл в ногу Василия Шибанова и казнит ни в чём неповинного посланника беглого боярина Курбского (стих. А. К. Толстого). В моменты депрессии он постится, молится, плачет, кается, поселяется в монастыре и изображает из себя монаха, издеваясь тут же над церковной жизнью и обрядами. В нём как будто кипят ещё страсти и звучат мотивы из быта древней языческой Руси, нашедшие такое выражение в «Весне священной» Игоря Стравинского.
«Песня» Лермонтова — одна из вершин его творчества и мировой эпической поэзии. Лермонтов сродни Русскому Ангелу-Архетипу, он архетипичен с младенческих лет, до преждевременной свой смерти. И герой его Калашников архетипичен. Более цельного характера русская литература не знает. И он увековечен навсегда, пока жив и держится русский народ. И Кирибеевич не плох, не хочет смерти соперника своего, а хочет только «потешить царя батюшку», тип озверелого сверхчеловека. С исключительным мастерством удалось Лермонтову воссоздать историческую обстановку, бытовой и семейный уклад, чистоту нравов и нерушимость устоев.
Поэма ставит и ряд исторических проблем. Сама личность кровавого и одержимого деспота Ивана Грозного: все черты московского византизма и 3-го Рима: своенравие, жестокость, полная уверенность в своей безнаказанности, безграничная полнота власти, которая развращает носителя, коронованного и некоронованного. Исторические примеры: Сулла, Нерон, Ричард 3-й и Генрих 8-й английские, Людовик П-й французский. Из женщин: Семирамида, Мессалина, Клеопатра, «королева-мать» Екатерина Медичи, волшебница и колдунья. И фаворитка Людовика 14-го м-м Ментенон, с её черными мессами с аббатом Гибур.
Напрашивается сравнение историзма Лермонтова с Шекспиром, который зафиксировал в своих хрониках почти всю историю Англии. Образы Шекспира исторически верны, но это всё — только копии в диалогах и монологах. Лермонтов дал яркую картину целой исторической эпохи. Он нашёл и восстановил древний стиль, как и Пушкин. Это — древний баян, со всеми модуляциями голоса и инструмента. Шедевр творчества, описание состояния опричника Кирибеевича после обличения Калашникова:
И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег:
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло.
Или описание смерти его,
И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
Или заключительные аккорды: похороны Калашникова, его могила промеж трёх дорог, где шумят ветры буйные. И проходящие мимо: стар человек, молодец, девица и гусляры. Каждый по— своему чествуют покойного. И гуслярам молодым и удалым, голосам заливным завет, воздать славу боярину, красавице боярыне и всему народу христианскому.
А. В. Фёдоров[49] отмечает, что «Песня» Лермонтова явилась абсолютно новым словом в области этого жанра, отмечает и объективность повествовательную поэта, симпатии его распределены равномерно. Но это не снижает трагического смысла и колорита «Песни», а, напротив, повышает её внутреннее драматическое напряжение. В этом поэма-песня Лермонтова отличается от произведений его предшественников, Жуковского и Пушкина. Здесь нет и подражания фольклору, нет стилизации. Ссылаясь на других исследователей (Н. П. Штокмара), Лермонтов не аранжирует готовые или переделанные отрывки из народной поэзии. Отмечается и исключительное стиховых типов и их вариаций, большое разнообразие их сочетаний, лёгкость и свобода перехода от одного из них к другому. Есть все основания признать, что «Песня» полностью соответствует требованиям русского фольклора. Использованы и сложные, неисчерпаемые формы народной ритмики, нет заимствования, подражания и копирования. Этот стих нельзя не признать воплощением подлинных народнопоэтических традиций. «Песня» означает переход от романтизма к идеализму, с преодолением субъективизма. Лермонтов — великий народный поэт.
Черты фольклора продолжают выступать и в его позднейших произведениях, в «Дарах Терека», «Казачьей колыбельной песне», в «Споре» и «Морской царевне».
И по отношению к Пушкину и Кольцову оригинальность и новаторство Лермонтова бесспорны. «Песня» явила образец трагического эпоса и вместе с тем имеет лирическую окраску[50].
Ираклий Андроников отмечает, что Лермонтов был воспитан на песнях народных. Он слышал с детских лет в Тарханах, и в казачьих станицах на Тереке, песни протяжные и плясовые, колыбельные и хороводные, любовные и величальные, ямщицкие, солдатские и «разбойничьи». Знал исторические песни. Он так глубоко постиг дух народного творчества, что современные исследователи сравнивают «Песню» с творениями народных певцов и сказителей. Автор цитирует Белинского, который писал, что Лермонтов, «вошёл в царство народности, как её полный властелин, и, проникнувшись её духом, слившись с нею, он показал своё родство с нею. Написана эта поэма, по словам Лермонтова в три дня, во время болезни[51].
По Л. Гинзбург[52], Лермонтов в «Песне» противопоставляет «демоническому» индивидуалисту Кирибеевичу Калашникова, как воплощение народной силы и правды, как человека органических жизненных устоев. Автор также отмечает переход Лермонтова к реализму. Калашников — это простой человек, который действует и в «Валерике», в «Завещании», в «Родине». Но для Лермонтова народность не сводилась к простому человеку, а связывалась с народным духом, с русским Архетипом.
Фольклор и руссоизм. Народность выражается и в фольклоре, налагает отпечаток и на окружающую природу. Например, русский ландшафт отличается от всякого другого. Это запечатлено у всех русских писателей и поэтов. В фольклоризме Лермонтов не уступает Пушкину й Байрону, он — величайший мастер. Величественные картины Кавказа — как и у Пушкина, но в большем количестве и разнообразии. И оба — Пушкин и Лермонтов — ученики Байрона, не уступающие ему.
Фольклор в литературе неразрывно связан с руссоизмом, с влечением к природе и первоистокам жизни, свободой от всех условностей и наслоений современной культуры. Руссоизм после Руссо неразрывно связан с байронизмом. Это показывает, что индивидуализм Байрона, само замкнутость и гордое презрение к окружающей общественно-политической среде, не исключает симпатию и интерес к целому народу, особенно в восточных странах, не тронутых извращённой европейской культурой. И мировая скорбь, неразрывно-связанная с индивидуализмом, может отступить на задний план. Человечность, гостеприимство, простота, интерес к людям другого круга, религии и культуры, характерны для восточного человека. Отщепенец Запада, каким был не один Байрон, порвавший со своим кругом, чувствует себя гостем иного круга, иной среды. Смягчается индивидуалистическая отчуждённость и чувство одиночества.
Руссоизму отдали дань, кроме Байрона, Шатобриан, Кант, Пушкин, Лермонтов и Л. Толстой. Простоту и искренность, прямоту и непосредственность можно ещё найти у народов Ближнего Востока. Отсюда и герои Байрона, Гяур, корсар, Абидосская невеста и др. Не последнюю роль сыграла и экзотическая красота восточной женщины: глаза, брови и ресницы, томный взгляд, подёрнутый южной негой и страстью, гибкие фигуры, специфически-восточная грация… и танец под звуки местных гитар и бубен. Таковы Гюльнара, Медора, Лейла и Мирра Байрона, черкешенка и цыганка у Пушкина, Зара, Лейла, Бэла и Тамара у Лермонтова. Лермонтов возвёл Тамару на небывалую, неповторимую художественно-экстатическую и метафизическую высоту, на степень универсальной идеал-реальности и Вечно-Женственности. Из фольклорной Тамара становится общечеловеческой, христиански-общекультурной, не теряя черты национально-бытовые. Лермонтов сделал с восточной женщиной то, что Пушкин сделал с русской женщиной Татьяной.
Руссоизм неразрывно связан с обще-культурным радикализмом и революционизмом, как у самого Руссо. С отрицанием современного поэтам и писателям общественно-политического уклада, государственно-правового строя, как у Байрона. Пушкину и Лермонтову был сродни декабризм.
Что привлекало Лермонтова к народам Кавказа и их быту? Ответ — в стих. «Черкешенка»:
Природы дикой красоты,
Степей глухих народ счастливый
И нравы тихой простоты (1829 г.).
Увидал черкешенку, уловил её взор… И этого было достаточно. Простота и непосредственность привлекают европейца. Местами Лермонтов идеализирует эту простоту, но даёт и картины племенной дикости и свирепости, первобытной беспощадности: мести, убийств, грабежей.
Руссоизм Байрона поэтичен и поучителен. Но и Байрон склонен к идеализации. Руссоизм Шатобриана в романах— повестях в наше время немного наивен и смешон («Ренэ» и «Аттала»).
Руссоизм Л. Толстого карикатурен. Бородатый граф с мужицкой внешностью и аксессуарами, с чрезвычайной серьёзностью сам себе тачающий сапоги, плетущийся за крестьянской сохой и по мужицки погоняющий лошадь. Это зафиксировано преданным поклонником, художником Репиным. В возрасте Толстого мужики не занимались этим. Для Толстого это сделано ad hoc, к случаю. Но никто не постарался зафиксировать, как Толстой таскал на амбары мешки с зерном или молотил хлеб на гумне. Не позволял возраст.
Радикализм Толстого доходил до анархизма, а отрицание — до нигилизма. С Толстого началась эра русского развала, интеллектуального, морального и религиозного. Толстой не оставил камня на камне, отверг государство, общество, науку и искусство, религию, суд, медицину. Влияние его было огромно.
И Пушкин отдал дань руссоизму в молодости, имел склонность к бродячей жизни (история с обозом после свадьбы), идеализировал цыганскую жизнь. Лермонтов нашёл на Кавказе свою вторую родину. Любовь его к России не патриотическая, а фольклорная, любовь к природе, нравам и обычаям русского народа. Его не прельщает ни слава России, ни «гордого величия покой».
Есть у Лермонтова страницы непревзойдённой мудрости в юношеских стихах, в характеристиках кавказских типов, Хажды-Абрека, Измаил-Бея, Росланбека. Превращение Зары в Селима, друга и сподвижника Измаила. Прозрение в родовой дух, архетип, горный дух Кавказа. Демонический облик Росланбека, который втайне примиряясь с русскими днём, ночью разорял станицы, приводил пленных, дрожащих от страха, на пир кровавый, шутил с ними, уверял в дружбе и рубил головы для забавы.
Природа у Лермонтова одушевлена, архетипична, есть совокупность живых существ, стоящих за внешними формами природы. Природа чарует:
О как прохладно и весело нам.
Здесь и солнца закат и лампада,
Дыхание цветов…
(Стих. «Звёзды», стр. 324).
Особый гимн «солнцу осени» (1831 г., стр. 238).
И о луне
Люблю я цепи синих гор,
Когда, как южный метеор,
Ярка без света и красна
Всплывает из за них луна,
Царица лучших дум певца
И лучший перл того венца.
(1832 г., 256).
Поэт очарован звуками:
Что за звуки!
Неподвижен, внемлю
Сладким звукам я;
Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя.
(Ст. «Звуки», 231).
Сердце жадно ловит эти звуки, они рождают «сны весёлых лет». Они «принимают образ милый» поэту.
В лице Лермонтова Кавказ приобрёл великого барда.
Профетизм
Пушкин соединил в своём лице эстетическое служение с пророческим служением. Сочетание вдохновения и звуков, сладких с молитвой. Диадическое (двойственное) служение Божественному Слову, Логосу-Христу. Это был беспримерный в истории человеческой культуры творческий синтез Красоты, Истины и Добра. У Пушкина дана мистерия профетизма, посвящение и одуховление, с пробуждением всех внутренних чувств, позволяющих ему созерцать природу, внимать содроганию неба, и горнему полёту ангелов подводному ходу гад морских. Вместо языка у него мудрое жало змеи, а в сердце — божественный огонь.
Его первые пророческие громы за рабов, угнетённых и обездоленных:
Тираны мира! Трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
(Од. «Вольность»).
Его первая встреча с толпою, чернью, драматична. «Хладный и надменный» народ, «бессмысленно» ему внимающий, «чернь тупая» — в недоумении. Зачем он бренчит, о чём поёт, к чему ведёт и чему учит. Зачем волнует он сердца, как своенравный чародей? Поденщики, рабы забот, червь земли — народ предъявляет свои требования поэту-пророку. Если он небес избранник, то должен исправлять сердца, давать смелые уроки, а мы… «мы послушаем тебя». И только… И останемся по — прежнему «малодушными, коварными, бесстыдными, злыми и неблагодарными, клеветниками, рабами и глупцами, и сердцем холодными скопцами»…
Толпа ищет пользы для себя, как от печного горшка. Утилитарная мораль, польза, но без исправления пороков. Дело кончается разрывом с толпой и преследованиями.
Когда пророческий жезл выпал из руки убитого Пушкина, Лермонтов поднял его в полном сознании своей ответственности. Убийство Пушкина, тщательно и всесторонне организованное рабовладельческим царем и дворянско-помещичьей «чернью» потрясло Лермонтова и пробудило в нём дремлющее пророческое самосознание. Пушкин был для Лермонтова прообразом, учителем и наставником. И тогда раздалось первое обличительное слово юного пророка, стихотворение «На смерть Пушкина» потрясшее всю страну, от верхов до низов. Здесь и упрёк погибшему поэту-пророку: Зачем вступил он «в этот свет завистливый и душный».
Духовный наследник Пушкина, Лермонтов следует его советам и наставлениям: не дорожить любовью народной, быть стойким, твёрдым, спокойным и угрюмым. Жить один, следовать своему уму, не требуя награды за подвиг благородный. Он может слышать суд глупца, смех толпы, может увидеть, как плюют на его пророческий алтарь, где горит священный огонь, как колеблют его треножник (ст. «Поэту»).
Среда. Кто же эта толпа и что это за среда. Нужно начать сверху. Дворянско-гвардейские дворцовые перевороты, исключительные по жестокости, дворцовый террор, изменили историческую ситуацию в России. Царь-самодержец стал дворянодержцем. Русский мужик и русский солдат победили Наполеона и освободили не только Россию, но и все народы Европы. Русский народ, ждавший освобождения от крепостничества, получил от Александра I Аракчеевщину с военными поселениями. Крепостное рабство было этим удвоено. А Николай I спасался тем, что окружил себя немецкой жандармерией, действовавшей с немецкой пунктуальностью и истреблявшей русских гениев. Крепостной разврат уживался рядом с дворцовым развратом.
Там девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея.
(Ст. «Деревня»).
А современников своих Лермонтов заклеймил так:
И предков скучны вам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат.
(Ст. «Дума»).
Жуткую картину крепостного разврата дал Пушкин в «Дубровском». Отечественная война, как одна из самых блестящих страниц всемирной истории, сменилась Крымским поражением, самой позорной страницей русской истории. Историческая Немезида расправилась с палачами русских гениев и русского народа.
Картина среды у Лермонтова более мрачная, это — картина вырождения целого класса. Это — отягощённые познанием и сомнением, жертвы современного им философского скептицизма и пессимизма, стареющие в бездействии. Они богаты опытом и ошибками отцов и поздним их умом. Бесцельная жизнь томит их, как пир на празднике чужом. К добру и злу равнодушны, вянут без борьбы, перед опасностью позорно малодушны, а пред властью — презренные рабы. Они — как плод до времени созрелый. Иссушили ум наукою бесплодной. Мечты поэзии и создания искусства не шевелят восторгом ум. В душе царит какой-то холод тайный. Они пройдут над миром, не оставив следа, а потомок оскорбит их память презрительным стихом обманутого сына (ст. «Дума»). Таков насмешливый приговор сына обманутого над промотавшимся отцом.
Рядом с этой безотрадной картиной — другая на светском балу, 1-го января, при шуме музыки и пляски. Пёстрая толпа, шум музыки и пляски, мелькают бездушные образы людей, как стянутые приличием маски. Касание холодных и бестрепетных рук городских красавиц. Наружно погружаясь в эту суету, поэт переходит к святым звукам погибших своих лет и хочет забыться. Он переносится в родные места. Образы и мечты перемешиваются, вытесняют друг друга. И, наконец — мечты его создание. Проходят мгновения и поэт, опомнившись, узнаёт обман. Шум толпы спугнёт его мечту и ему хочется смутить толпу «железным стихом, облитым горечью и злостью» (ст. «1-е января»).
Призвание и служение. Пушкин дал непревзойдённую картину становления пророка, открыл тайну пророческого посвящения, полную художественную интерпретацию великого библейского пророка Исаии. Лермонтов дал художественную интерпретацию пророческого делания в деталях, со всеми роковыми последствиями, вплоть до изгнания и избиения камнями. Он получил «всеведение пророка» от «Вечного Судии», из первых рук. Толпа слушает нового пророка с любопытством, смешанным с восторгом. Ощущает необычайную силу в речах, в фигуре пророка, не прочь слушать его дальше. Здесь и седовласые и седобородые насельники, и женщины-матроны, вырастившие не одно поколение сынов, дочерей и внуков. Толпа не прочь признать его новым вождём, законоположником, народным глашатаем, но хочет заменить его обличительный тон пророческим вещанием. Но пророк — ясновидец, он читает «в глазах людей страницы злобы и порока». Он провозглашает «любви и правды чистые учения». Любовь давно иссякла в людях. Ненависть, злоба, убийства, войны. А правда-истина, Завет Божий? Они подменены людскими измышлениями и «человеческим преданием», как упрекал Христос фарисеев.
То ли дело лжепророки, волшебствующие, чародействующие и колдующие. Говорят не от имени Бога, а от своего имени и втихомолку приносят жертвы языческим богам-демонам, чтоб умилостивить их.
И дальше по ветхозаветному образцу,
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Пророку остаётся одно, бежать из городов, посыпав пеплом главу, нищим, и жить даром Божьей пищи. Люди отвергли его, а вся живая тварь в пустыне покорствует ему, звёзды слушают его, играя лучами. Злоба городская сменяется презрением и клеветой, когда ему случается проходить по улицам города полунагим, угрюмым и бледным. И как урок для детей. Настоящий пророк не признан, отвергнут, избит, обращён в бегство. Тысячелетняя традиция избиения пророков продолжается, но в других условиях. Материальная культура и «прогресс» вносят новые средства расправы. Вместо камней — пуля завербованного дуэлянта с заговорщиками-секундантами. Вместо бегства — изгнание и ссылка. Но это — только прелюдия, гибель их предрешена заранее. Гибель Лермонтова также профетична, как и гибель Пушкина. А палач — один и тот же, закамуфлированный венценосец Никс.
Как обличитель, Лермонтов не уступает Пушкину, но идёт дальше него. Он даёт исчерпывающую картину измельчания современного ему передового общества в ст. «Дума». Бездействие, интеллектуальная и моральная беспринципность, под бременем «познания и сомнения». Познание, которое рождается из сомнения, и сомнение, которое приводит к познанию.
Таково было положение и на соседнем Западе, одержимом гуманистической демонией.
Конечно, Лермонтов был знаком со всеми философскими течениями Запада, как и его многие современники, но ум его остался чист от всех болячек захирелого, дефективного, падшего разума, потерявшего и развенчавшего самого себя. Своим пророческим чутьём Лермонтов проник в духовный источник всех болезней века и всех веков. А сам шеф этого познавательского сомнения и сомневательского познания разоблачён Лермонтовым в «Демоне». Это — «дух познания и сомнения», отверженный и отвергнутый, сброшенный в бездну с Сорокодневной горы, где он искушал Христа.
Визионер. Поэт-пророк — визионер. У него бывают видения, то восторженно-небесные, то земно-могильные, с гниением трупов и могильными червями, особенно в юношеских стихах. Главный объект его видений: смерть, состояние трупа в могиле и черви, и прочие ужасы (ст. «Смерть», т. 1, стр. 230 и 232). Есть у него и «обманчивые видения» (стр. 235), ощущение смерти (т. ж.). Вдруг, с великим шумом разворачивается книга под неизвестною рукою и кровавыми словами начертан его «ужасный жребий» «Бесплотный дух, иди на землю».
Книга исчезла, опустело небо голубое, только
Тусклые планеты пробегали мимо,
Кидая искры на пути.
Опять идти на землю, где были «детские ошибки», смотреть на страдания людей и «тайных мук ничтожные причины».
Летит на землю, видит могилу с пышным мавзолеем, где схоронен его труп. Вошёл в гроб, увидел гниение трупа, синее мясо, жилы, засохшую кровь. Роились насекомые, черви выходили из глаз, грызли сухую кожу
Тогда изрёк дикие проклятья
На моего отца и мать, на всех людей.
Роптал на Творца, страшась молиться, хотел изречь хулы на небо… И проснулся (ст. 1831 г., стр. 235-238).
Это бывает и с пророком и другими избранниками. К чистым видениям примешиваются «демонские мечтания», в смысле древне-церковных аскетических писателей. Но бывают и другие видения. Звучал голос, видение прекрасное, пленительные глазки, улыбка лукавых уст, девственные ланиты и белизна шеи, локон своевольный и волна кудрей. И тогда он создаёт в своём воображении красавицу свою, носит бесплотное видение в душе своей, ласкает и любит. И кажется ему, что эти «живые речи» он слыхал в года минувшие. И что после этой встречи они опять встретятся (ст. «Из под таинственной, холодной полумаски» (стр. 302, 1836 г.).
Духовный взор пророка обращён вдаль и его слова «звучат пророчески»; на буйном пиршестве друзей» он видит «колеблющуюся секиру» над их головой (ст. «На буйном пиршестве», т. 1, стр. 35).
Пророк и поэт. Лермонтов, как и Пушкин, «небом избранный певец» (ст. Пушкина «Друзьям», 1828 г.). Он одарён, всевышним Богом (ст. «Журналист, читатель и писатель»). Идеалом обоих, Пушкина и Лермонтова, была гармония между пророком и поэтом, соединённых в одном лице, в избраннике Божием, хотя оба хорошо знали, что это невозможно в бренном человеке и в земных условиях. И оба они страдали от этого. Эта двойственность касается не только избранников, но и каждого рядового человека. Это — трагическая двойственность земного и небесного в человеке, или внешнего и внутреннего человека в субъекте. Трагедия усиливается, когда земное и мирское берёт верх над небесным и божественным, вплоть до полного вытеснения последнего.
Поэт одарён повышенной чувствительностью и чувственностью, восприимчивостью и впечатляемостью. Он реагирует сильнее на внешние, мирские объекты, в особенности, когда они возбуждают его эстетическое чувство. Тогда он даёт себя увлечь и забыть о своём прямом призвании. Об этом свидетельствует Пушкин,
И меж детей ничтожных мира
Быть может, всех ничтожней он.
(Стих. «Поэт»).
Поэтому — завет поэта-пророка Пушкина всякому поэту: не дорожить любовию народной, а остаться твёрд, спокоен и угрюм. Потому что он может услышать суд глупца и смех толпы холодной. Быть, как царь; жить один, идти дорогою свободной ума свободного, не требуя награды. Толпа может бранить, плевать на алтарь поэта, где горит его огонь и колебать его треножник (ст. «Поэту»).
Завет Лермонтова молодым поэтам звучит несколько иначе в ст. «Не верь себе». Здесь — предостережение не верить своему молодому вдохновению, который есть только бред души больной, или пленной мысли раздражение. Это — только кипение крови и избыток сил. Не выходить на шумный пир людей со своей подругой, не унижать себя. Не торговать то гневом, то тоской перед чернью простодушной, которой чужды страдания и волнения поэта. Не играть роль разрумяненного трагического актёра, машущего мечом картонным. Таков завет пророческий зрелого Лермонтова, продиктованный воспоминаниями тяжких юношеских лет. Ему кажется иногда, что он «утратил своё назначенье», на злато променял свою власть над толпой, когда она внимала ему в немом благоговении.
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы (ст. «Поэт»).
Тогда стих поэта, как Божий дух носился над толпой, звучал, как колокол на башне вечевой в дни торжеств и бед народных (т. ж.).
Толпа изменяет пророку, ей скучен его простой и гордый язык. Её теперь «тешут блёстки и обманы». И ветхий мир привык прятать ветхую красу под румяны… Проснувшийся поэт-пророк в полном негодовании и готов вырвать из золотых ножен свой клинок, покрытый ржавчиной презрения (т. ж.). Но он, как будто на время, смиряется. И только в тягостные, бессонные ночи, когда на сердце — «жадная тоска», а холодная рука сжимает подушку, он берётся за перо. Под влиянием старых воспоминаний о забытых чертах, о сиянии прежней красоты, любви и обмана, он начинает тревожить «язвы старых ран», как диктует ему совесть. Тогда получается повесть о «сокрытых делах и тайных муках». Возникают «хладные картины разврата» и «преданья глупых юных дней»,
Давно без пользы и возврата
Погибших в омуте страстей…
Средь битв незримых, но упорных,
Среди обманщиц и невежд,
Среди сомнений ложно-чёрных…
(Ст. «Журналист, читатель и писатель»).
Пророческая тоска. Тогда поэт-пророк приходит к странному решению, не показывать никому своё писание, чтобы не сочли бранью коварной его пророческую речь (т. ж.). Тогда одолевает его «пророческая тоска». Он говорит об этом в своём обращении к Е. Сушковой (т. 1, Соч. 1957). И в стих. «К***», 1831 г., стр. 171). Ей вверял он «толпу» своих забот. Он был рождён для мирных вдохновений, для славы, для надежд. Но меж людей он не годился.
Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдёт;
Я знал, что голова любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдёт.
Он знал, что ему не найти в мире ни славы, ни счастья. Здесь звучит излюбленная тема отрешённости от мира сего, принадлежности к иному миру. Он принадлежит к избранному миру тех, чьи души сотканы Творцом из «лучшего эфира». Тоска приводит поэта-пророка к отчаянию, он готов отказаться от миссии пророка
К чему Творец меня готовил,
Зачем так грозно прекословил
Надеждам юности моей?
Добра и зла Он дал мне чашу,
Сказав: Я жизнь твою украшу,
Ты будешь славен меж людей.
(Т. 1, стр. 301).
С исключительной, свойственной только Лермонтову откровенностью, что «струя живых речей» Божьих редко входит в его душу и что его ум далёк от Бога. Он просит Бога угасить в нём этот «чудный пламень», обратить его сердце к камень, освободить его от «страшной жажды песнопенья». И тогда он обратится на «тесный путь спасенья». Но прибавляет: «К Тебе я снова обращусь». И всегда обращается к Богу в своих юношеских стихах.
Пророчество о себе. При первом же знакомстве с юношескими стихами Лермонтова встаёт вопрос, как можно было жить с таким характером, полным противоречий, с такими титаническими требованиями к жизни и кипением страстей. В нём «боролось зло со святыней», он «удушил в себе святыни голос» и «из сердца выжал слёзы» (ст. «Моё грядущее в тумане», стр. 301). Не имел пристанища в родном доме, в родной семье, чувствовал себя одиноким и чужестранцем.
И не слыхал Творец его молений,
И он погиб во цвете лучших дней.
(Ст. «К***», 171).
Эти неясные намёки получают подтверждение в более поздних стихах:
Настанет день — и миром осуждённый,
Чужой в родном краю,
На месте казни — гордый, хоть презренный
Я кончу жизнь мою.
Я твёрдо жду тот час.
Казнь… да, ведь «казнили» же Пушкина, тоже ждавшего своей казни. Сбылось и всё другое:
Я предузнал мой жребий, мой конец
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь Творец.
Но равнодушный мир не должен знать.
Но не забыт умру я.
Смерть моя
Ужасна будет.
Чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне.
(Ст. «1831 июня дня 11», стр. 180).
Это проклятие памяти продолжалось десятки лет, пока не сошли с исторической сцены все организаторы и исполнители казни многострадального поэта, ставшего гордостью русской и мировой литературы. В стихотворении, многократно цитированном, его предсказания ещё мрачнее:
Не знала ты невинною душою,
Что смерть его позорная зовёт.
(Ст. «К***»).
Одного не предвидел страждущий поэт-пророк. Смерть его оказалась позорной не для него, а для коронованного палача и его приспешников, до скончания века.
Но и здесь, при созерцании своего трагического конца, глубоко-верующий, как пророк, поэт утешается тем, что
Иная есть страна, где предрассудки
Любви не охладят,
Где он отнимет счастья из шутки,
Как здесь у брата брат…
И как победе, станут веселиться
Толпы других людей.
(Ст. «Моё грядущее в тумане»).
Есть и много других свидетельств, со стороны окружающих. Перед отъездом из Петербурга, по приказу Бенкендорфа, Лермонтов заехал к своему другу В. Ф. Одоевскому, чтобы проститься с ним. Он был грустен и говорил о скорой смерти[53]. Тяжёлые предчувствия волновали и многих близких к нему журналистов. Плетнёв писал Языкову: «А вот ещё жалко: Лермонтова отправили на Кавказ. Боюсь, не убили бы. И Белинский в письме к Боткину выражал боязнь за Лермонтова. Поэт Красов, видевший Лермонтова в Благородном собрании, писал из Петербурга А. А. Краевскому, что Лермонтов был грустен — и когда уходил из собрания, то у него, Красова, сжалось сердце. Прощаясь с Ю. Ф. Самариным, Лермонтов проронил несколько слов о своей скорой кончине, которые были приняты за шутку[54].
Если Пушкин и Лермонтов подражают западным гениям и талантам, то они и квалифицируют их и преодолевают подражаемого писателя. У них есть своё мерило даже для западных гениев, вскрывают их слабые, «слишком человеческие» черты. Русский гений-пророк, если и не всегда имеет пророческое сознание и живёт не по пророчески. Потусторонность русского гения влечет его в сферы серафические, проявляя его ясновидение и проникновенность, способность к абсолютному творчеству.
Для пророка жизнь есть мучение. Он «ждёт без страха довременный конец» — пророческое предчувствие! У певца пророка — «венец терновый» (т. ж.). Христианское самосознание говорит ему:
О, Боже, вот что наконец готовил мне Ты.
Пушкин в стихотворениях «Поэт и чернь», «Поэту» развернул только первую часть пророческого служения и пророческой трагедии — конфликт с массой, со старцами и старейшинами, с обвинением их в «злобе и пороке». Они одинаковы, стереотипны во все времена и эпохи, у всех народов. Зависть, профессиональная честь, монополия на руководительство народом и племенем, и закоснелость в безжизненной букве закона. Это — фарисеи времён Христа, обличённые Им: «Имеете ключи к Царствию. Сами не входите и другим не даёте». Меняют Писание и заменяют его своими измышлениями. Обкрадывают вдов и сирот.
Пророческий конец, изгнание и смерть, «казнь» пророка совершенствованная, не избиение камнями, а преднамеренное убийство под видом дуэли. В одном случае убийца в железной броне, постоянный гость Пушкина и его супруги, салона «друзей» Пушкина из салона Карамзиных. В другом случае — друг-приятель, но на этот раз русский, стрелявший почти в упор.
В ветхозаветных избиениях пророков не обходилось без нечестивых царей. Так было и с русскими пророками-поэтами. Дуэли были организованы нечестивым царём Николаем I и его немецкими палачами.
«Свободы, гения и славы палачи» заклеймены Лермонтовым навсегда.
Серафизм
Серафизм. Метафизика серафизма рассмотрена в книге «Метафизика Пушкина». Церковный писатель 15-го века Иосиф Бриенский говорит, что человек есть телоносный ангел, а ангел — бестелесный человек. Человеческий серафизм есть родство человека с ангелом, как двух главных проявлений Божественного творения. Что роднит человека с ангелом? Это его душа и дух, две человеческие монады (единицы). Ангел — чистый светоносный дух, а человек — дух падший и помрачённый, но имеет или носит в себе образ Бога и божественную искру, частицу Логоса-Христа. Только благодаря присутствию этих двух божественных принципов человек сохраняет свою первозданную ангельскую природу.
В серафизме человек возвышается к ангелу и с ним вместе предстаёт перед Богом в «священном ужасе», о котором пишет Пушкин. Это — общее у человека с ангелом, подлинно сверхчеловеческое, а не вульгарное гёте-ницшевское. Здесь человек в своей высшей, духовной инстанции, в небесности, в сверх чувственности и сверх разумности. Здесь проявляется внутренний человек, который в обычных условиях не даёт о себе, знать и живёт^ скрытой жизнью, проявляясь лишь в редкие минуты человеческой жизни.
Бог поручает человека ангелу, это — ангел-хранитель. Об этом говорит Христос:
«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего небесного» (Мф. 18:10).
Этими словами Господь Иисус Христос хочет внушить слушателям уважение к каждой человеческой личности, какой бы малой ни казалась она окружающим.
Связь обоих, человека и ангела, почти неощутима. В серафизме подлинном, эстетико-религиозном, в пушкинском смысле, связь ощутимее. Всякое преклонение перед святыней, во всех её проявлениях, есть серафизм ощутимый, хотя и может быть мимолётным. В молитвенной медитации связь более длительная и ощутимая. С нами молится и наш ангел-хранитель. Эстетико-поэтический экстаз богобоязненного Пушкина духовно сродни религиозному серафизму. На всех лучших произведениях Пушкина — печать «священного ужаса», как главного проявления серафизма. Серафизм есть прерогатива подлинного пророка. Таким был и Пушкин.
Серафизм есть печать «мира иного» в мире сем земном. Запечатлённые в мире сем суть избранники, пророки, адепты. Они не чужды миру сему, но гонимы миром, преследуемы и «казнимы».
Земность и небесность. Эстетико-религиозная антитеза земности и небесности приведена в полную гармонию в творчестве двух величайших русских гениев, Пушкина и Лермонтова. Лермонтов пришёл к ней немного более окольным путем, благодаря исключительным особенностям своего характера и темперамента. Разлад с окружающей средой и отчуждённость были у него сильнее. Лермонтов отмечает это с исключительной выразительностью: Моей души не понял мир.
Ему души не надо.
Мрак её глубокий,
Как вечности таинственную тьму,
Ничьё живое не проникает око.
И в ней-то недоступные уму
Живут воспоминанья о далёкой Святой земле..
Ни свет, ни шум земной Их не убьёт…
Я твой. Я всюду твой.
(Посвящение к поэме «Аул Бастунджи»).
Но глубокий мрак души имеет глубоко в себе трансцендентность и сверхземность, готовую прорваться при первом порыве. Это у Лермонтова — «полнота желаний чудных».
Человек или вовсе не ощущает в себе небесное, и весь привязан к земному. А если и ощущает, то подавляет в себе, будучи увлечён земным. Так и у юного Лермонтова.
Как землю нам больше небес не любить?
Нам небесное счастье темно;
Хоть счастье земное и меньше в сто раз,
Но мы знаем, какое оно…
Нас тревожит неверность надежды земной,
А краткость печали смешит…
Мы блаженство желали б вкусить в небесах,
Но с миром расстаться нам жаль.
Что во власти у нас, то приятнее нам,
Хоть мы ищем другого порой.
(Ст. «Земля и небо», 1831 г., т. 1, стр. 247).
Если и есть стремление к небесному, то жаль земного. И в стих. «К Деве Небесной» он предпочитает красоту земную (т. ж. стр. 185). Он пленён небесной красотой, «лазурным взором, но его манит земная женщина, потому что она «ему мила». Он создал свой идеал, вполне плотский, хотя и называет его «бесплотным видением» (ст. «Из под таинственной холодной полумаски», т. 1, стр 32). И ему звучал её «голос отрадный».
В жизненном и творческом опыте поэт-ясновидец начинает прозревать небесное в земном, открывается его внутренний взор.
Я не знал, что очи, полные слезами,
Равны красою с небесами.
(Ст. «Стансы», стр. 207).
Я видел их! И был вполне
Счастлив, пока слеза катилась,
В ней искра Божества хранилась (т. ж.).
В стих. «Ребенка милого рожденье»,
Да будет с ним благословенье
Всех ангелов небесных и земных…
Да будет в правде твёрд,
Как Божий херувим.
(Ст. «Ребёнка милого рожденье», стр. 27).
Небесный идеал дан в стихотворении, «посвящённом С. М. Виельгорской:
Она поёт — и звуки тают,
Как поцелуи на устах;
Глядит — и небеса играют
В её божественных глазах.
И, «как небеса блистает» её взор.
Есть у поэта и другой небесный образ.
Она не гордой красотою
Прельщает юношей живых…
Все её движенья, улыбки, речи и черты
Так полны жизни вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает,
Как воспоминанье лучших дней.
(Т. 1, стр. 281).
Русские критики и исследователи почти в один голос утверждали, что Лермонтову чужд небесный идеал, Поводом к тому были некоторые стихи юного поэта.
Я не пленён небесной красотой;
Но я ищу земного упоения.
(Ст. «К другу», 1829 г., стр. 111).
И в стих. «К***»,
Не говори: одним высоким
Я на земле воспламенён,
К нему лишь с чувством я глубоким
Бужу забытый мира звон.
(1830 г., стр. 119).
В книге «М. Ю. Лермонтов», Овсянико-Куликовский полагает, что лермонтовское обращение к сверхчувственному миру есть частью лирический, частью риторический приём. И отмечает эгоцентризм натуры Лермонтова. Небольшое стихотворение шестнадцатилетнего Лермонтова «Ангел» является живым опровержением всех домыслов односторонних и тенденциозных критиков и исследователей. По силе своей проникновенности ст. «Ангел» — одно из немногих во всей мировой поэзии. Оно является ключом ко всему творчеству Лермонтова. В нём — весь будущий Лермонтов, который избрал смерть, как освобождение от земных пут.
В этом стихотворении, как и в других произведениях, серафизм Лермонтова принимаем иные очертания, чем у Пушкина. Ангел летит ночью на землю и несёт в объятиях душу человека. Он как бы вещает тайну, поёт тихо, но так, что его слышат все небожители: «и месяц, и звёзды и тучи толпой Внимали той песне святой». Они слышали песню ангела не впервые, но каждый раз слушают со вниманием и интересом. Не рождённая ещё душа человека воспринимает сначала небесную музыку, прежде чем попасть на землю и войти в тело. Работают слух и все чувства души, а потом приходят земные, телесные чувства. Сначала душа небожитель, хотя и покидающий небо, а потом — земножитель. Но небо не забывается в шуме и трескотне земной».
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
Память о пред земном, небесном происхождении и существовании не исчезает. Здесь — полная аналогия с учением Платона об «анамнезе», душа вспоминает, и эти воспоминания ложатся в основу метафизических устремлений человека.
Душа человека испытывает сначала покидаемый рай в объятиях ангела, прежде чем попасть в земной ад, в «мир печали и слёз». А падшие духи месяца, звёзд и туч прислушивались к песне ангела, вспоминая свой ангельский потерянный рай, запечатлённый в песне ангела, рай падших ангелов, планетных и земных владык, архетипов, властителей и князей мира сего, «сынов противления», бывших министров Логоса-Христа, изменивших ему, богов натуралистических, языческих религий.
В своём ангельском путешествии на землю, человеческая душа запечатлевает в себе небо и с небесным даром спускается на землю. И это небесное в душе рождённой есть путеводитель в её вековом странствии на земле,
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.
Земной отголосок небесной музыки в душе рождённой — это земная «печаль и слёзы», как факторы очищения, обновления и возвращения на небо, в небесный рай Царствия, на пир Господина, зовущего всех к Себе.
Серафизм и молитва неразлучны, без молитвенный серафизм — подделка. Лермонтов, только что негодовавший «за всё, за всё», твердит молитву «чудную» в минуту жизни своей трудную, ощущает в ней силу благодатную и находит святую прелесть «в созвучии слов живых». Молится тёплой Заступнице мира холодного. Если есть место для тёплой молитвы и вере в Заступницу, то можно ещё жить на свете. Молитвенный серафизм побеждает выношенный в душе и навеянный демонизм, не гармонирующий с интимным содержанием его пророческого духа. А трудные минуты жизни бывают у всех, особенно у избранников. В молитве он спасается от грусти, тоски и обречённости.
Религиозный серафизм сопутствует поэту и в созерцании природы. Вот волнуется желтеющая нива, и свежий лист шумит при звуке ветерка, а в саду прячется малиновая слива под сладостной тенью зелёного листка. Ландыш серебристый приветливо кивает из-под куста. Тогда стирается всё наносное в душе, смиряется тревога, расходятся морщины на челе, постигается земное счастье и в небесах созерцается Бог. В пророческом созерцании исчезают все спекуляции дефективного ума, и душа умиряется. Серафическое, потустороннее в творении становится родственным душе умирённой, а ум приучается молчать. Созерцание Бога приносит мир душе, напоминает о небесной родине.
Стихотворение «Ангел» есть серафическая автобиография Лермонтова. Отзвуки песни ангела, «Звуки небес» остались в душе Лермонтова на всю жизнь, как поэтические взлёты. И потому не удовлетворяли его «скучные песни земли». Потому он не допустил к печати свои юношеские стихи, среди которых есть шедевры и метафизические жемчужины.
Серафизм даёт себя знать с новой силой при встрече с С. М. Виельгорской, в стихотворении
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно.
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Виельгорская не только блистала красотою; но обладала чарующим голосом[55]. Поэт находил в нём и «тоску желанья» и «трепет свиданья», «слёзы разлуки». И душа озаряется, как Божьим светом, их приветом. И он узнает то слово и в шуме мирском, и в шуме битвы, и во время молитвы. Таковы «целебные звуки волшебного слова», и
Душа их с моленьем
Как ангела встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.
Другой такой случай представился при встрече с одной неизвестной девушкой, у которой был «звук волшебной речи» и голос звонкий и ласковый, «лазурно-голубые глаза, к которым «душа на встречу просится». Целебные звуки волшебного голоса душа встретит, как ангела
И долгим биеньем
Им сердце ответит.
(Ст. «Волшебные звуки»)[56]
Лермонтов вложил в уста Демона серафические откровения, когда он говорит об убитом женихе Тамары, чтобы утешить её. «Бесплотный взор «его очей». Какая тонкость в определении первозданно-архетипического в человеке. И о «райских напевах» для «гостя райской стороны». Властелин ада, как хорошо знает он детали райской жизни. Или это его личные воспоминания из собственного его райского опыта?
Лермонтов и Европа
Шекспир. Два исторических фактора определяют творчество Шекспира: блестящее царствование Елизаветы и эпоха Возрождения. Возрождение было реакцией на средневековье с его устремлением на недосягаемые для многих высоты духа. В этом смысле Возрождение было снижением духовного уровня Европы, было движением вспять, к язычеству. Возрождение провозгласило свободу и законность человеческих чувств и страстей под видом гуманизма, этого опошленного понятия, которое является только прикрытием антропоцентризма, взамен теоцентризма и христоцентризма средневековья. Не платоновское — Бог есть мерило всех вещей, а протагоровское, софистическое — человек есть мера всех вещей: такова тенденция Ренессанса. Художественное творчество Шекспира и было ответом на эти запросы Возрождения. Любовь, ненависть, честолюбие, властолюбие, зависть, ревность, жадность, мщение, человеконенавистничество, презрение к массе, коварство, вероломство, притворство, хитрость, лукавство — всё это измерил Шекспир до глубины своим творческим оком. Здесь он — великий сердцевед, непревзойденный мастер, лишь частично превзойденный одним лишь Пушкиным в его «маленьких трагедиях».
Данте, третий гений Запада, провёл человеческие страсти через девять кругов ада и вывел человеческую душу в чистилище, чтобы отсюда она устремилась в рай. У Шекспира страсти вновь получают чудовищное, гипертрофированное значение, они всецело порабощают человека. Свобода кончилась рабством, и Шекспир перенес ад на землю. Мир его героев — настоящий ад, герои Шекспира ходят по колено в крови. В погоне за счастьем или утверждая свое счастье, или право на счастье, они топчут чужие жизни. Жизнь шекспировских героев-трагедия, а основа этой трагедии-языческое утверждение своей воли и своего права на счастье. Произведения Шекспира давят нас своею безысходностью и беспросветностью. Шекспир не нашел выхода для человеческого духа из темного лабиринта страстей и кончил он пессимизмом. Гамлет говорит: «Нет, человек не радует меня». Здесь — приговор всему гуманизму.
Шекспир — это ни с чем несравнимое полотно человеческих страстей. Всю человеческую трагедию пережил он сам и запечатлел в сценических образах. И в этом — универсальность Шекспира. Он был в своей жизни Кориолан, с оскорблённой гордостью и тщеславием, Гамлет с его обречённостью и безысходностью, отчаянием и рефлексией; Отелло с ревностью, Тимон Афинский с мизантропией, королём Лиром в сам ослеплении власти и т. д. Прославление природы, море горячих, преизбыточных человеческих чувств, неукротимых страстей, — таков Ренессанс, со всеобщим огрубением, и его представитель «варвар» Шекспир как его называл Вольтер. При том Шекспир философствует устами всех своих героев, у него философствуют все, даже те, кому по профессии и по рангу философствовать не полагается: кормилицы, гробокопатели, солдаты, придворные и слуги, мужчины и женщины, этакое всеобщее недержание мыслей. Можно думать, что в эпоху Шекспира, в эпоху позднего Возрождения, философствовали все без исключения, и это правдоподобно. Пессимист Шекспир кончил мизантропией. «Я мизантроп и ненавижу человечество», восклицает Тимон Афинский. Но гуманист в Шекспире побеждает. В «Буре» дано пророчество о победе человека над природой, победе светлого начала в человеке над тёмным, звериным началом, дана вера в грядущую судьбу человека. Отсюда выросло учение о прогрессе и будущем счастье человека, романтическая иллюзия последнего периода творчества Шекспира покрывает собою суровую действительность, здесь же и преодоление трагического.
Данте провёл человеческие страсти через девять кругов ада, но Шекспир вновь выпустил их на свободу, дал им гуманистическое право гражданства. Страсти и аффекты у него полнозвучны, красноречивы до невероятия и многословны. Шекспир — самый многословный из всех великих писателей, и он исчерпал всю бездну человеческого сердца, не оставив уголка в нём незатронутым. В одном «Гамлете» дана почти вся скала человеческих эмоций и аффектов. Это — подлинное предвосхищение ада уже здесь, в этой жизни.
Гёте. Олимпиец, великий язычник Гёте — весь в земных устремлениях, как и подобает язычнику. Он нашел идеал женщины в Елене Спартанской. Даже доктор Фауст, этот излюбленный герой Гёте, искатель истины и знания, посвятивший этому исканию всю свою жизнь, постигший всё, что может дать наука, философия, магия и оккультизм, даже он, получив молодость, забывает об истине и бросается на поиски любви и счастья, и находит его… в потустороннем мире у Елены Спартанской. Фаусту не хватило одной жизни для духовного совершенства. В своей первой жизни он искал знания, и неудачно. Знание обмануло: «Природа для меня загадка. Я на познание ставлю крест», несмотря на то, что ему открыт доступ в невидимый мир духов, хотя и с заднего крыльца. После неудачи в области теоретической Фауст ищет выхода в области практической, волевой, и — тоже неудачно. Он ищет во второй жизни своей счастья, чтобы наверстать то, что было упущено им в первой жизни. Но и вторая жизнь Фауста неудачна. Это подтверждает Мефистофель перед самою смертью Фауста. Умный чорт находит и причину неудач Фауста, так как он «влюблялся в свое воображение». Он гонялся за миражем, как и в первой своей жизни. Фаустовская привязанность к земле неотделима от Майи, от иллюзии.
Фауст признает, что в нём две души и обе — в разладе друг с другом. Одна из них «льнёт к земле всецело» (Избр. произв. Москва, 1950, пер. Пастернака), а другая «рвётся за облака». Но это — на короткий срок.
Даже в самый момент своей смерти Фауст горд и непреклонен. Горд тем, что своими усилиями и через «свободный труд» массы он создаёт рай на земле, гуманистический рай без Бога. Таково без религиозное и антирелигиозное, гуманистическое спасение.
«Дух мой рвётся к небесам
В заблуждении странном…
Нет, хочу остаться здесь.
В мире безобманном…»
Никогда не разлучусь
С милою я землёю».
Гёте прочно стал на землю, и даже обвёл вокруг себя магический круг, и навсегда остался по сю сторону. Но здесь человек — высшее существо. Сатир (в стих. «Сатир») говорит: «Ничто не ставлю выше себя». То же думает о себе и Фауст. «Трижды блажен, кто мог молвить: я есмь бог», говорит сатир, Но Фауст не отстает от него: мне кажется, что сам я бог» (в первой части «Фауста»). Он «равнодушен к загробной жизни», он — «сын земли» и до «иного света ему нет дела». Человеческий бог претендует на власть и притом на власть в обоих мирах. Чтобы прикрыть свой эгоизм и эгоцентризм, он декламирует: «С тех пор, как я остыл к познанию, я людям руки распростёр… И всё их бремя роковое, все беды на себя возьму». На предостережение черта, напоминающего ему о Боге, он отвечает: «А я осилю всё». Это уже гуманистический мессианизм: человек берёт на себя роль Логоса-Мессии. Теллуризм не возможен без хтонизма, без помощи и участия Духа Земли, этого Духа тьмы. Фауст постоянно обращается к нему, призывает его, называет «пресветлым духом», «гением бытия». Посредником между ними является обыкновенный черт и… становится постоянным спутником гуманиста. Фауст недвусмысленно называет себя «меньшим братом», черта. Без него Фауст бессилен и черт напоминает ему об этом: «чтоб сделал ты без злого духа?» Человеческий бог бессилен без черта. И он смотрит с вожделением в сторону «сатаны, у самых круч
Ко многим тайнам держит ключ».
Фауст впускает нас в свою магическую лабораторию и частично открывает завесу невидимого мира.
Неудивительно, что Фауст придерживается морального нейтрализма: «Потому-то у вас всё так половинчато, что вы порок и добродетель рассматриваете, как две противоположные крайности, и мечетесь от одной к другой, вместо того, чтобы считать свое срединное положение разумнейшим и лучшим» («Боги, герои и Виланд», Избр. пр.). Зачем ломать голову над проблемой добра и зла, когда можно стать «по ту сторону добра и зла» даже здесь в земной жизни?
«Остановись мгновение, ты прекрасно!» Таково скрытое желание Фауста-Гёте и других, которое Фауст выражает пред своею смертью, жажда вечной жизни на земле, которое находит свое выражение в поисках жизненного эликсира и в позитивных научных попытках продления жизни человека. Откровенный и безусловный геизм-теллуризм сочетается у Фауста-Гёте с каким-то странным, облегчённым и упрощённым христианством. Религиозные проблемы искупления и спасения решаются просто, Фауст спасается почти автоматически, его ведут в Царство Божие, не спросив Бога. Упущена из вида духовная отягощённость Фауста от его постоянного общения с нечистою силою. Байрон в «Манфреде» более искренен и откровенен, чем Гёте. Байрон договорил то, что Гёте оставил недоговорённым. «Свободный дух» а 1а Манфред-Фауст сам устраивает свою участь, как в посюстороннем, так и в потустороннем мире, и это — сродни само спасению восточному, в индуизме, буддизме. Тем не менее, человекобог Фауст не доволен, и не доволен собою. Он жалуется на «тоску существования», на ночные кошмары, проклинает «соблазны высоких чувств» (каких?), самомнение и «мир явлений», «упоение любовью», надежду и т. д. К чему свелась его жизнь? Горькое признание: «я лишь желал, желания совершал и вновь желал», и своим желанием спасти мир и человечество он только тешил самого себя. Тревога Фауста понятна, он не может забыть о расплате с чертом, хотя как будто внешне он не боится своего опасного жизненного спутника. Он не может порвать с ним, так как без него он бессилен, о чём черт постоянно напоминает ему: «О сын земли! Хочу спросить, чтоб делал ты без злого духа». Но и всего искусства Мефистофеля не хватает на то, чтобы осчастливить гуманиста. Не помогает гуманисту и магия, эта неосторожная игра с похищенным огнём Прометея, ни магический ключ, ни магический треножник, они только нарушают не только гармонию вселенной, но и внутреннюю гармонию самого Фауста. Без этой гармонии невозможна не только роль спасителя и искупителя, на которую Фауст претендует, но и личное спасение самого Фауста, которое в трагедии притянуто за волосы, не оправдано, несмотря на заступничество мученически умершей Маргариты. Черт также одержим страстью к знанию: «Там пить твой свет, твоей росой, От чаду знаний исцелиться!» Мефистофель не только умнее, но он и честнее, откровеннее и искреннее Фауста. Он не обольщает ни себя, ни других величием и могуществом. В последней сцене первой части «Фауста» бедная, наивная, как ребёнок, обманутая Гретхен мудрее и духовно одарённее, чем умный Фауст.
В своей замечательной статье о «Фаусте» Тургенев говорит, что Гёте в этой трагедии выразил сущность своего народа, и своего времени, был одарен всеобъемлющим созерцанием. Всё земное просто, легко и верно отражалось в нём в его душе. Он сам (Гёте), был весь целый, весь из одного куска. Первым и последним словом всей его жизни было, как и всех поэтов, его собственное я, но в этом я вы находите весь мир. Гёте не признавал ничего вне сферы человеческой, говорит Тургенев, прощение Фауста заслуживается беспрерывностью его искания. Тургенев считает поэтому, что Гёте, как поэт, не имеет себе равного, а «Фауст» — самое замечательное произведение человеческого ума.
Гёте, несомненно пытался дать образ человека в целом, но доктор Фауст — неполный аспект человека, в нём преобладает его земная половина, с секуляризацией небесной половины в его земности. Гёте дал гениальный синтез всех гуманистических концепций. Фаустический человек не изжит ни на Западе, ни тем более на Востоке, и он не исчезнет, пока стоит этот мир. Фаустизм получает теперь на Западе импульсы с Востока в виде индийской «мудрости».
Старший современник Гёте, Гердер[57], писал: «Все устремления человека, все науки и искусства не имеют иной цели, как нас гуманизировать, то есть не-человека и полу-человека сделать человеком». Западный гуманизм пошёл по иному пути, сделал человека кумиром и центром вселенной и предоставил ему решение судеб человеческих.
Раздвоенность, расщепленность двух основных сил духа: ума и воли проходит через всю духовную жизнь Запада. Она переходит в открытую конкуренцию и борьбу, вплоть до полного вытеснения одной из этих сил. Эта борьба начинается не с Канта, а с Дунса Скотта и Оккама. В панлогизме Гегеля воля играет третьестепенную роль, или вовсе никакой роли. По Шопенгауэру Воля есть единственная «вещь в себе», есть внутренняя и подлинная сущность человека, хотя и бессознательна. Сознание связано с Интеллектом (разумом), который есть лишь акциденция нашей сущности, то есть воли, есть орудие «воли к жизни» и регулирует отношение к внешнему миру.
Рационализм-интеллектуализм в Европе — это гипертрофия разума, а волюнтаризм — гипертрофия воли. Оба они исключают духовность, которая — в единстве, во взаимодействии и синтезе их. Западная мысль в лице Освальда Шпенглера вынесла свой приговор культуре Запада. Шпенглер говорит в своей нашумевшей книге «Закат Европы» о «климактерие культуры», о переходе её в цивилизацию, с угасанием живой внутренней религиозности (Ч. 1, стр. 521, Лейпциг, 1919), а нравственность, как образ сердца, становится головным принципом (стр. 523). Эту культуру изолированной и автономной воли Шпенглер называет также фаустической культурой, и с тех пор слово «фаустизм», «фаустовский» утвердилось в немецкой философской критике. Таким образом, Гёте в своём «Фаусте» наиболее полно выразил сущность не только немецкого, но и всего западного духа.
Волевой характер фаустовской культуры подчёркивает сам Фауст, когда он, переводя на немецкий язык Библию произвольно меняет текст первой главы Евангелия от Иоанна и вместо слов: «В начале было Слово» пишет: «В начале была Воля». Отсюда и специфичность этой волевой культуры, со всеми её околичностями, искажениями и извращениями.
Чем больше Фауст познаёт с помощью Духа Земли и Мефистофеля, тем больше его тоска и скука. Знание не веселит его и не радует. Христианский подвижник начинает от святого неведения и проходит к святому всеведению во Христе Иисусе и Духе Святом. И оно даёт ему радость и веселие. Фауст вращается в сфере падших ангелов-архетипов, поднимаясь в сферы надземные и не достигая никогда сфер небесных.
Мудрость Гёте— это коллекция масонско-теософских «откровений», усвоенных без критики. Он был связан с орденом иллюминатов.
Фауст привязан к своему покровителю, хотя и находит его в начале «ужасным». Он обращается к «великому духу» во всех своих неудачах и бедствиях, находит у него утешение и приют от навязчивого и беззастенчивого циника Мефистофеля, и тем прочнее у него связь с землею и земным.
Гёте был долгое время учеником Гердера и воспринял от него толкование Лейбница о «допущении зла ради дальнейшего совершенства добра». А Фауст включает всё человечество и всё человеческое, как первозданный Человек-Архетип, коллективный человек К. Г. Юнга, Пуруша и Нараяна индуизма. Человек до его распадения на отдельные индивидуумы. Как средоточие человечества, Фауст есть в то же время гуманистический идеал. Удалось ли Гёте создать тип Все человека? Многое человеческое в Фаусте отсутствует и именно наиболее ценное: вера, надежда, благодарность и признательность Творцу, счастье и покой, умиротворение и восстановление. И сотериология в гуманизме специфическая, это само спасение и само искупление, как в индуизме.
Вытеснение божественного в человеке и отпадение его от центра Бытия-Бога, с созданием нового искусственного и ложного центра в человеке, ведёт к искажению не только человеческого, но и Космоса в человеке. Человек становится игралищем и рабом микрокосмических сил в себе и своих инстинктов, что мы и видим в Фаусте. Так пекущийся о своей свободе человек теряет свою внутреннюю свободу.
Байрон. Мятежный дух Альбиона, исковерканный пуризмом и либерализмом, и излишествами двух революций: английской и французской, воплотился с необузданной силой чувства и рефлексии в Байроне. Сам почти современник двух французских революций, Байрон становится певцом и романтиком революции. В России он был принят как пророк свободы и индивидуализма, стал идеальным образом революционера для декабристов. Его поклонниками становятся: Кюхельбекер, Одоевский, Козлов, Рылеев, Баратынский, Катенин, Полежаев, Пушкин и Лермонтов.
Гуманистическую свободу заклеймил ап. Пётр, как «свободу для прикрытия зла» (1 поел. 2, 16). Об адептах этой свободы апостол говорит: «Обещают свободу, будучи сами рабы тления» (2 поел. 2, 19). Хотят освободить человечество, а сами налагают на него худшие цепи.
Кризис гуманистической свободы был кризисом самого гуманизма, и он нашёл отражение в творчестве Байрона. Неудачи двух революций, французской июльской и итальянского карбонаризма вызвали во всей Европе пессимизм и отчаяние. В личной жизни и в творчестве Байрон нашёл выход в гордом одиночестве, замкнутости, соединённом с презрением и ненависти ко всем и ко всему. Гёте, Шиллер и Руссо убедились в полном крушении культуртрегерства. Гёте примирился с действительностью, нашёл утешение в хтонизме, а Руссо и Байрон — нет. Руссо провозгласил революционный гуманизм, с переходом в естественное состояние. Пессимизм у Байрона глубже и сильнее, чем у всех его предшественников в мировой литературе. «Сарданапал» по пессимизму превосходит всё, что дала мировая литература в этом направлении. Байрон стал знамением эпохи. Все недовольные могли теперь надеть готовые маски и романтические плащи Гарольдовщины, Мальмотовщины и Адольфовщины, которые так метко и шутя осмеял Пушкин. Революционная романтика переходит у Байрона в романтику индивидуализма. Пушкин говорит:
«Лорд Байрон прихотью удачной
Облёк в унылый романтизм
И безнадёжный эгоизм».
Слово «эгоизм» попадает индивидуализму не в бровь, а в глаз. Герои-индивидуалисты из блистательных поэм Байрона, как и сам Байрон, порывают с родиной, ищут пристанища в «естественности», на лоне природы, в странах ещё нетронутых гуманистической культурой, на юге Европы и на Востоке.
Естественное счастье длится не долго, можно бежать от культуры, но нельзя бежать от самого себя, продукта этой культуры. «Унылый» и мрачный романтизм Байрона переходит в прометеизм, как и у молодого Гёте. Образ Прометея, этого «символа судьбы и силы человечества», занимал Байрона с детства. Корни западного прометеизма уходят глубоко в мистику «Ренессанса» и «Просвещения».
Как реакция против рационализма «Просвещения» выросла мистика 18-го века. Интеллектуальный и всякого рода либертинаж (libertinage d’esprit) «Просвещения» исказил надолго христианский облик Запада. Мистика «Просвещения» имеет другие, нехристианские корни, имеет те же черты либертинажа, рационализм в ней полностью не изжит. Корни этой мистики: Средневековая алхимия, герметизм (сочинения Гермеса Трисмегиста) и Каббала. Центральными фигурами становятся три сумбурные фигуры: граф де Сен-Жермен, «граф» Калиостро и Сведенборг, у двух первых — с большим уклоном в магию, которой суждено было стать суррогатом христианско-религиозной тауматургии-теургии (чудотворения). Вне христианственность просвещенческой мистики переходит в откровенное анти христианство, как инерция анти христианства Ренессанса. «Кто не со Мною, тот против Меня», таков духовный закон Логоса, формулированный Христом. 25-летний Гёте изучает алхимию, Каббалу, Агсапа coelestia Сведенборга, появившиеся в печати в середине 18-го века. Извращённая мистика, начало коей в литературе положил Гёте, расцветает пышным цветом у его ученика и поклонника Байрона, вызывая полное признание со стороны учителя. И как часто это случается, ученик превосходит учителя и договаривает то, чего не договорил учитель. Байрон также хорошо натаскан в оккультизме, как и Гёте, и хтонический эзотеризм его не уступает таковому в Гёте во 2-ой части «Фауста». К тому же Байрон с молодых лет впитал в себя отраву деизма и просвещенческой критики Библии. Доктор Фауст у Гёте в самом начале — законченный маг и властитель тайн. Байрон дает в «Манфреде» величественную картину становления «могучего духа», сверхчеловека, его духовную эволюцию. Здесь и суровая аскеза с отрешением от всего мирского, и сверхчеловеческое упорство в достижении цели, голод и бессонница, и, наконец, власть и сила. «Сын праха» становится «могучим духом». Чем кончаются эти усилия? Манфред, как и Фауст убеждается в бесплодности и никчёмности знания, гуманистически-прометейного Гнозиса. «Бесплодно всё», говорит Манфред, «даже добро и зло». Зло непобедимо, особенно латентное внутреннее зло. Древо жизни — не древо знания, и наоборот, таково другое горькое признание Манфреда-Фауста. Перманентное вкушение запретного плода Древа Познания обмануло — таково единственно позитивное заключение Гёте-Байрона. Фауст и Манфред хотят покончить жизнь самоубийством, но Фауста спасает последняя привязанность жизни, а Манфред спасается как будто случайно, так как он не испил ещё чаши своих страданий до дна. А как же с Древом Жизни? Ведь все человек должен вместить и Древо Жизни! Выпив жизненный эликсир в целях омоложения, Фауст явно глупеет. Он ищет жизнь в чувственных наслаждениях и находит приют в объятиях загробной Елены, но спасает его после смерти не Елена, а покинутая им Гретхен, своею молитвою перед Божьей Матерью, вместе с молитвами трех святых женщин: Марии Египетской, Самаритянки и Марии Магдалины. Основная мысль «Фауста», спасение через Эрос правильна, но есть Эрос и Эрос. Манфред умнее и духовно дальновиднее Фауста. Он ограничивается любовью к неземной женщине, как и Фауст, к Астарте, губит её своею таинственною любовью и тем обрекает себя на полное одиночество. Манфреду не до все человечества. Хотя он и не имеет при себе постоянного спутника — Мефисто, как Фауст, но он находится в постоянном контакте с космическими силами и существами, этими ближайшими соседями Люцифера в космической и земной иерархии, падшими ангелами или «падшими идеями» Шеллинга. Это — «козмократоры, властители и князья мира сего» по ап. Павлу, «властители вселенной по» Манфреду, и искусство их также двусмысленно, как и они сами.
В прометизме-титанизме Байрона достигает гуманистическое самоутверждение человека своей высшей точки. «Свободный дух» или «гордый дух» (стих. «В день моего 35-летия») не только чувствует себя независимым, но и считает себя средоточием мира, сам себе указывает и намечает путь не только в земной, но и загробной жизни. Высокий ранг гордого человеческого духа должен признать и злой дух, явившийся для сведения счетов с человеком. «Почти сумевший с нами равным стать!» — говорит злой дух Манфреду, который отвергает притязания злого духа, несмотря на преступления. В то же время «гордый дух» не знает точно, куда он идёт и куда придёт. Не рай, но и не ад, а выше того и другого. «По ту сторону добра и зла», такова эсхатологическая формула всех гордых и свободных духов, как на Западе, так и на Востоке. Духовное одиночество и изолированность Нирваны… Можно всю жизнь быть в контакте с нечистой силой, использовать её для всех своих прихотей и домогательств, а после смерти расстаться с нею. Что это, наивность гордого духа или духовное ослепление? Черт остается в дураках… Что-то не верится. Онтологический нейтрализм (по ту сторону добра и зла) и интеллектуально-моральный индифферентизм (ни добро, ни зло) такая же гуманистическая легенда, как и свобода и независимость. «Дух не может быть угашен, коль стал он сам собой и средоточьем всех вещей» (из «Каина»). Тварь становится вечной и неразрушимой, такова ещё одна иллюзия эзотерического гуманизма. Релятивный (относительный) дух ангела и человека есть тварный дух и также разрушим, как и всякая тварь. Иначе не было бы «второй смерти», которая и есть смерть, распад духа. На этом, казалось бы, высшем, духовном уровне земного бытия антропоцентризм переходит в эгоцентризм и исчезает всякая «гуманность». Отрешив себя от человеческого рода, в своей духовной изоляции, Манфред становится чуждым всему человеческому, у него исчезают самые обыкновенные человеческие чувства: жалость, сострадание, участие, не говоря о любви. Антропизм-гуманизм вырождается в апантропизм, бесчеловечность, выражает отпадение от божественного Эроса, как и у тех космических духов, которым «могучий дух» человека уподобляется. От постоянного контакта с этими духами у человека Манфреда пробуждается всё микрокосмическое содержание человека. Человек буквально раздирается на части этими внутренними обитателями, проснувшимися к самостоятельной жизни. С исключительной художественной силой Байрон показал эту анисихию (не спокойствие) человека. Манфред так говорит о своём образе жизни: «Всю ночь зубами вплоть до зари я скрежещу, А днём кляну себя». Таков «царь земли и неба», как его величают подвластные ему духи. Манфред требует от них «забвения», а когда это не удается, он пытается покончить с собой. Внутренняя пустота «могучего, гордого духа», пустота сердца, убившая любимое существо, страх перед веками и перед человеческим сознанием, жажда абсолютной смерти,-нирваны и сознание невозможности её, таковы основные черты «духовности» Манфреда. И здесь пути Запада и Востока сходятся.
Титанизм-прометеизм Манфреда переходит в откровенный люциферизм в «Каине». Мистерия, так названа эта пьеса, мистерия Люцифера. С легкой или нелёгкой руки Джона Мильтона черт становится литературным персонажем. В «Потерянном Рае» Мильтон дает рельефную фигуру Люцифера, но и у него, и у Клопштока в «Мессиаде» этот образ выдержан в религиозных тонах. Перенесены на страницы литературы пафос и риторика, обвинительная и защитительная речь в одно и то же время, в человеческом парламенте. Клевета может быть очень красноречивой и это показал Мильтон, но клевета от этого не перестает быть клеветою, ни у Мильтона ни у Байрона. Теперь, через 150 лет, откровения Люцифера могут вызвать только улыбку, и это — самый тяжёлый приговор байронизму. «Каин» — самая острая и пряная вещь во всей мировой литературе и потому — вовсе неудобоваримая. Всё здесь натянуто, условно и призрачно. Безграничная гордость и отчаяние, две черты Л. вызвали эту вещь. Байрон с детства и всю свою жизнь ходил у края бездны с риском свалиться в неё каждую минуту. Смерть его в Греции в разгар войны за освобождение придала ему ореол героизма и самопожертвования, так тронувшие старого Гёте. Байрон находился под подавляющим влиянием люциферизма Гёте, который утверждается в «Фаусте» с самого начала, когда Мефистофель подтверждает тезис: «Eritis sicut Deus», основное правило для всякого, ищущего знания, к великому удивлению простоватого Вагнера. Как Фауст приходит к высшему знанию и первоисточнику жизни не прямым путём, а окольным, так и Каин через Л. Но Каин имеет все права первородства перед Фаустом, как и Л. перед Мефисто. Каинизм и фаустизм — это перманентное вкушение запретного плода. У Каина — не только жажда знания, но и страх смерти, и в этом, быть может, глубокий корень каинского богоборчества. Как и всякого человека на земле, Каина мучит вопрос о происхождении зла, и он ищет ответа на этот вопрос… у виновника и родоначальника зла. Закон, порядок, для Каина— тирания, он «жаждет» свободы и идёт к ней через насилие и убийство, отнимая у другого, у брата, не только свободу, но и жизнь. Убийца — поборник свободы и он строит свой рай на земле, взамен потерянного рая, но своими силами человек-Каин строить не может. К нему на помощь призван другой поборник свободы и человекоубийца-Л., у которого больше творческих возможностей. В «Манфреде» человек находится ещё в конфликте со злым духом, как и в «Фаусте», но в «Каине» этот разлад полностью изжит. Каин послушный ученик злого духа и его протеже. Услужливость черта покупается полной демонизацией человека. Таков финал фрондирующей «свободы» человека: свобода от Бога ценою дьявольской несвободы и зависимости. Индивидуализм не только байроновский, но и всякий другой, граничит с каинизмом и переходит в него. Каинизм — это люциферизм человека, особое человечество рядом с обычным, последнее слово западного антропоцентризма и гуманизма. Революционная романтика Байрона связана с демонской романтикой и продолжает линию демонской романтики Гёте и находит в лице последнего полное признание. Во всём творчестве Байрона чувствуется беспокойство, творческое и социологическое бессилие. В «Каине» художественно изображён первый союз человека с чертом, и в этом — специфическая заслуга Байрона. Освободившись от мнимого рабства в этом союзе, человек попадает в подлинное рабство черту, не замечая этого. Неестественный союз ведёт к духовной слепоте человека.
Гёте думал, что в лице Мефисто он дал образ невинного и безобидного черта, что он обезвредил черта, довёл его до степени служителя Бога. Но это — черт «Просвещения», в перчатках, в плаще схоластика, хорошо спрятавший свои когти, но цепкие руки, сатанинский цинизм и пессимизм выдают его на каждом шагу. Байрон вновь разоблачил черта и принимает его, как он есть, без иллюзий и прикрас. Пессимизм Фауста, Манфреда и Каина приводит их к черту. В люциферизме ищут не только корректив к жизни и действительности, возможность построения рая силами человека, но и почву для эвдемонии, наслаждения жизнью. Повышенный тонус гедонизма и эвдемонизма требует жертв со стороны других, жертв чувственности и наслаждения в угоду самоутверждения, таков порочный круг гуманизма.
Гуманизм рано или поздно должен был привести к деизму, а от деизма к атеизму — только один шаг. Деизм привёл к извращённой демонской мистике и люциферизму Гёте и Байрона. В лице Гёте, Шиллера и Байрона гуманизм вступает в открытый конфликт с христианством. У Гёте было отвращение к христианским храмам (Франциска Ассизского в Италии), и даже к готике. Все критики церкви и христианства: Рейхлин, Эразм, Ульрих ф. Гуттен были ему близки духовно. Очень много говорили и писали о цельности натуры и цельной последовательной жизни Гёте (Гервинус, Георг Брандес и др.), но никто не хотел видеть противоречия между антихристианством и иррелигиозностью в течении всей жизни и в творчестве, и христианством в конце второй части «Фауста». Это за волосы притянутое христианство не должно удивлять, иначе нет эсхатологии. «Манфред» Байрона есть в значительной степени подражание «Фаусту» Гёте. Байрон был большим почитателем Гёте, которого называл высочайшей вершиной европейской литературы. Байрону удалось дать оригинальный образ адепта автономного знания, высшей точкой коего является магия и волшебство. Как и Фауст, Манфред изучил науку и философию, но не удовлетворился этим. Он познал «одинокость мысли» и у него появилась «любовь к запретным знаниям». Он не внял предостережениям мудрого Соломона, что чем больше знание, тем глубже скорбь. Он на своём личном опыте убедился, что познание увеличивает «горе и скорбь». Или — «нет в познании счастья, а наука лишь прежнего неведения обман», говорит ему Парка в замке Аримана. Манфред пришёл к своему высшему знанию в контакте с тёмной силой, с падшими духами и теперь расплачивается за это. «Страсти пронзили ему грудь» — вот суть его жизненной трагедии. «Я укротить себя не мог». И теперь осталось одно — отвращение к жизни.
Терпение и отчаяние — таков удел гордого мага, который хотел стать выше других, а стал только несчастнее их. Он вызывает стихийных духов, фею Альп, потом нечистого духа, но никто не может успокоить, утешить его. Он испытывает дрожь и страх, холод, днём и ночью, страх перед смертью.
Он обращается к «таинственным силам», давшим ему власть, к «владетелям вселенной», но один из явившихся к нему духов говорит ему: «ты червь, сын праха!» Манфред гордо отвечает им: «Рабы, вы здесь у ног моих, властью чар моих. Мой дух, мой гений — искра Прометея, зарница бытия во мне!»
Манфред уже не ждёт помощи свыше, но обращается к «вселенной блещущему Оку». Какая путаница в голове у обезумевшего мага. Аббат, с которым он встречается при своей попытке покончить самоубийством, говорит про него: «В нём хаос грозный». Но такой же хаос и у Фауста.
Манфред терзаем угрызениями совести за то, что он своею колдовскою любовью убил Астарту, единственную женщину, которую он любил, и она его любила. Он вызывает её с помощью нечистых духов, которые находятся у него в подчинении. Просит у неё прощения, но не получает. Астарта предсказывает ему близкую смерть и уходит, сказав только «прощай!» За ним приходит дух-демон, напоминает о его «злодеяниях». «Не злодейству карать злодейство. Быть ли судьёй убийце?» — отвечает Манфред и он по своему, прав.
Добро не удовлетворяет его, ему всё безразлично. Любовь, смирение и жалость чужды ему. «Вернись в свой ад!» — говорит Манфред духу. «Сам себя сгубил я и сам я хочу себя карать! Не вышло, бесы!»
Шиллер. Шиллер был в значительной степени духовным антиподом Гёте в проявлении германского духа. Духовная раздвоенность была в нём сильнее, чем у Гёте: Романтика и эстетико-моральный энтузиазм с одной стороны, и педантизм, ригоризм и формализм Канта с другой. Он снизил свой поэтический гений бездушным и бездуховным философствованием а 1а Кант. Один из величайших адептов свободы на Западе, Шиллер являет разительный пример того, как человек, стремясь к свободе от всяких «пут» и общепринятых ценностей, сам себе придумывает новые путы и ценности, ложные, фальшивые, искусственные ценности. Такие адепты свободы лишены внутренней свободы и не имеют внутренних критериев. Преждевременная смерть Шиллера спасла его от многих новых разочарований. По силе духа Шиллер мало, чем уступает Гёте, уступая ему в цельности и синтетичности. Шиллер стал на путь все человечества со своими трагедиями из жизни разных народов. Он воспроизводит художественно центральные события из жизни, избирает самый драматический момент исторической народной жизни, когда бытие народа ставится на карту самим ходом событий, когда народ в своем массовом напряжении ждёт своего вождя и избавителя, и находит его. Таковы «Вильгельм Телль», «Орлеанская дева», «Валленштейн», «Мария Стюарт», «Дмитрий», «Заговор Фиеско», «Дон Карлос» и др. Это в то же время трагедии характеров, но характеры героев Шиллера вырастают на фоне народной жизни, связаны с народом кровными узами, не индивидуалисты-одиночки с предельной аффективной и эмотивной насыщенностью, как у Шекспира. «Лагерь Валленштейна» это грандиозная, монументальная, массовая картина, не имеющая себе равных в мировой литературе. Шиллер пытается воспроизвести всенародное, а потому и всемирное, в каждом народе, дух народа в массовом аспекте или в индивидуальном аспекте народного вождя, национального героя, короля, пробуждающих дремлющие народные силы, направляющих чувство, волю и силу народную.
Религиозное отщепенство выражено у Шиллера сильнее, чем у Гёте, хотя у него, по-видимому, нет следов люциферизма. Однажды спросили Шиллера, какую религию он предпочитает. Ответ его был: — никакую. Почему? — был следующий вопрос. Шиллер ответил: — Из за религии! Этот, казалось бы, неопределённый ответ свидетельствует об иррелигиозности и анти христианстве Шиллера, и всё христианское было для него синонимом мещанства и обыденщины. «Эстетический гуманизм» Шиллера переходит в эстетизм, где искусство заменяет и вытесняет религию в деле воспитания нации, есть антихристианская тенденция. Была попытка примирить Гёте с христианством и церковью, но неудачно. Олимпиец предпочёл остаться в духовной изоляции, в тесном соседстве с «Духом Земли».
Лермонтов. Русский комплекс неполноценности выражен в отношении к Лермонтову в такой же мере, как это было в отношении к Пушкину. Русская критика и русское литературоведение проявляют максимальную сдержанность, смешанную с кривотолками и оговорками, в оценке русских гениев, и падает ниц перед гениями Запада. Так было при жизни обоих, Пушкина и Лермонтова, так это и осталось столетия спустя после их смерти. Стереотипные суждения и высказывания, штампованные выводы переходят из одной книги или журнальной статьи в другие. Пушкин и Лермонтов, мол, наши, русские, а те, светозарные западные — мировые. Так, В. Ефремов в своей, в общем содержательной, книге, «Очерки по истории русской литературы 19 века»[58] пишет о «Демоне» Лермонтова. Отмечая большие поэтические достоинства поэмы, замечательную силу и пластичность стиха, музыкальность, живость картин природы Кавказа, драматизм сцен, он находит в поэме «существенные недостатки», из коих главным является неясность и неопределённость центрального действующего лица, то есть самого Демона. Сравнивает с «Каином» Байрона, не в пользу Лермонтова и его поэмы. «Мы не узнаём о причинах падения Демона». Выходит так, что Лермонтов должен был дать в своей поэме полную «биографию» Демона. Дело, прежде всего, в том, что во времена Лермонтова и десятилетия после его смерти эта биография была известна каждому школьнику, семинаристу. Писать об этом означало бы повторять всё то, что писали об этом все предшественники Лермонтова в литературной Люцифериане: Мильтон, Клопшток, Байрон и др.
Второй, по В. Ефремову, недостаток «Демона»: «многие намёки оставлены без разъяснения, например, Демон говорит: «я царь познанья и свободы» однако эта черта осталась у Лермонтова невыясненной». Напротив, приходится удивляться художественному чутью Лермонтова, который не коснулся этого схоластического, полу-схоластического тезиса Августина и Декарта: «сомневаюсь — познаю» (dubito— cogito). Иначе это — автономное демонизированное знание, рождающееся из сомнения, не удовлетворившее их адептов, Фауста и Манфреда.
Шекспир, Гёте, Байрон — это да! Пушкин, Лермонтов… критик и литературовед чешут плешивые затылки. Достоевский, Толстой — это да! Они относятся к «золотому веку русской литературы». Ничего не говорится о том, что Байрон был под сильным влиянием Гёте, его «Фауста». Гёте ничего не пишет о падении Мефистофеля и Духа Земли. Гёте и его герой Фауст прошли школу чёрной магии теоретически и практически. Фауст становится сверхчеловеком с помощью тёмной силы, а потом становится «не-человеком».
Сатана Мильтона и Клопштока — это библейский прототип. Мефистофель Гёте — гуманизированный черт, шут гороховый, острослов. Если он философствует, то это смесь Вольтера, Канта и Шопенгауэра. Люцифер Байрона — истукан, одарённый речью, как Командор в «Каменном госте» Пушкина, закоснелый в гордости, властолюбии, злобе и ненависти. Демон Лермонтова — живое существо, трагическое в своей двойственности и обречённости. Лермонтов сказал последнее слово о Демоне-Люцифере.
Демон Лермонтова не так прост, односторонен и примитивен, как у его предшественников, закоснелый в грехе и зле, самодовольный и гордый. Он не утратил чувства добра, хотя и навсегда отрешён от него. Он сразу оценил духовный облик Тамары и нашёл в ней ангело-человеческую двойственность. Лермонтов изобразил всю подноготную Демона, дал всю его психологию. Кавказская легенда — это только внешняя канва поэмы. Внутреннее содержание оригинально и глубоко проникновенно.
Запоздалый байронизм Лермонтова был полезен для строя всей европейской культуры. Это был духовный, творческий опыт для одинокого Лермонтова. Сам он был байроновский тип, индивидуалист и потенциальный сверхчеловек. Байронизм в «Демоне» — только в начале поэмы, где падший ангел выступает, как первый индивидуалист, как прообраз «мятежного индивидуализма», как дух «познания и сомнения». И «пучина гордого познания» полностью поглотила его. Он презирает творение, исковеркал его, загадил.
Как и все излюбленные герои Байрона, Демон мрачен, он пессимист; но печаль его — не маска байроновского индивидуализма, а результат внутреннего разлада.
В «Евгении Онегине» — Онегин, полу демонский тип, тонкий ценитель женской красоты в её земном человеческом аспекте. В «Демоне» — сам Демон тонкий ценитель красоты в неземном, ангельском аспекте. В обоих произведениях — воплощение Вечно -Женственного, там, в Татьяне, а здесь в Тамаре. Там, в романе— влечение Вечно-Женственного, Татьяны, к Вечно-деятельному, а в поэме — Демона, духа — анимус, к Тамаре.
Демон обрёк себя на зло, он — первоисточник и главный фактор мирового зла. Но в нём как будто пробуждается искра добра. Зло опротивело ему, и он стремится к добру. Это не гётевское: «хочу зла, но делаю добро», не запоздалый масонский манихеизм. Люцифер-Демон умнее и дальновиднее своего младшего коллеги Мефистофеля. В его словесных любовных излияниях Тамаре звучат как будто искренние ноты. Тамара начинает, как будто верить ему, женская доверчивость, известна ещё со времени Евы, протянувшей руку к запретному плоду по внушению змея.
Демон утратил Эрос божественный, который живёт во всей твари. Он утратил и эрос, свойственный и падшему человеку. Эрос его — эротизм, дьявольское изобретение, совращение и разврат. Что-то человеческое зашевелилось в Демоне,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Демон уверовал в это доброе «хочу», хотел уверить и других и чистое сердце девушки Тамары. Он только хочет молиться, сделал ли он попытку молиться. Для спасения нужна Божественная санкция, необходимо непосредственное обращение к Богу, раскаяние и молитва. Об этом нет ни слова в пространных любовных излияниях Демона. На божественных весах человеческая любовь Демона оказалась легким противовесом к нескончаемым и величайшим преступлениям Демона.
Демонизм, даже в его человеческих устремлениях к покою, любви и счастью, оказался несостоятельным, и он принуждён пребывать в подземелья сомнения, отчаяния и злобы, в мрачном царстве небытия и бездушных теней, остатков погибших миров и человеческих племён, в хаосе возникающих солнечных и планетных систем.
Лермонтов вновь поставил проблему Люцифера, волновавшую Европу в течение 2-х столетий. Он дал преодоление не только человеческого демонизма, но и его источника в Демоне. Он сорвал маску с Демона-дьявола, разрушил теософскую и романтическую версию о спасении его. Тем самым внёс ясность в проблему добра и зла. Лермонтов разрушил зловредную и пошлую легенду о «добром и само жертвенном» Люцифере-Сатане. Гуманизм, как человеческая демония, потерял почву под собою. Это был сокрушительный удар не только по черту, но и чертову гуманизму.
Лермонтов поставил величайшую религиозную проблему спасения и искупления, центральную проблему всех религий мира, и решил её по христиански. Лермонтов, как и Пушкин, как и Данте, великий христианин и выполнил свою великую пророческую миссию. Лермонтов великий логоист, как и Пушкин. Лермонтов расчистил духовную атмосферу в России, как Пушкин, вновь загаженную впоследствии Достоевским, Розановым, Блоком и Белым, Леонидом Андреевым и Мережковским, Сологубом.
Лермонтов проник в такие глубины инфернализма, сатанизма, люциферизма, какие не снились ни Байрону, ни Гёте, ни Альфреду де Виньи с Виктором Гюго. После «Демона» люциферизм в «Каине» Байрона звучит наивно. Стоит только всмотреться в духовный облик Люцифера, видеть его без маски «свободного духа», чтобы убедиться, что он — самый несвободный из всех. Он одержим страстями гордости, властолюбия и сладострастия, он раб своих неутолимых страстей. Кстати, таков же и «свободный дух» Николая Бердяева, рабский дух Эккарта и Бёме.
Падший ангело-человеческий дух не может спастись своими силами или одним только желанием. Нужны не только слова, но и дела. Тот, кто хотел соблазнить Спасителя Христа, хочет спастись, не упомянув Бога Отца. «Хочу я веровать добру». Показал ли он пример такого хотения? Он хочет верить в искупительную силу любви монахини Тамары, готовя адский план её совращения, и убивает её своим адским поцелуем. Теософическая и романтическая концепция спасения Люцифера-Демона, нашедшая детальное развитие в неоконченной поэме «Конец Сатаны» Виктора Гюго, полностью разрушена Лермонтовым и продолжает ютиться на теософических задворках.
Лермонтов разоблачил и пресловутую «свободу» Люцифера-Демона. Претензия твари, ангела и человека, на абсолютную свободу, наравне с Абсолютом-Богом, привела к падению, греху и злу, к потере относительной релятивной свободы. «Свобода» Демона есть «свобода от Бога» по терминологии Н. О. Лосского, есть суррогат свободы. Есть потеря личной свободы и рабство страстям. Демону наскучило зло, он хочет «веровать добру», но не может. И продолжает творить зло, убивая Тамару.
Кто будет отвечать за многотысячелетние грехи Демона? Кто-то другой или другие, его ученики и поклонники в тайных ложах, но не он сам. Тогда отпадает универсальный закон воздаяния, который возведен адептами индуизма и буддизма в абсолютный закон Кармы, которому подвластно и само божество Брама. А Бог есть справедливость и Ему свойственно «отмщение и воздаяние» (Втор. 32:35).
Остаётся только само спасение человека и черта в их тесном сотрудничестве. Такова сущность западного сатано-гуманизма в художественной концепции Гёте, где зло служит добру. Черт может оказать существенную услугу человеку, требуя взамен только душу. А, по Эврипиду, нет ничего ценнее души.
Обе части «Фауста» иллюстрируют идиллическое сотрудничество человека с чертом. В результате — сублимация черта, он становится человечным, а человек Фауст демонизируется, не знает предела своему волению. Это — какая-то «золотая середина» между добром и злом, и Гёте был всю свою жизнь адептом этой золотой середины, завещанной беспринципным Римом и воспетой Горацием.
Симбиоз и синергия человека с чертом ведёт к тому, что оба шагают по человеческим трупам. Но… это в порядке вещей в гуманистическом мире. Ведь Гретхен спасёт многогрешного Фауста независимо от количества преступлений и продажи души. Какая чудовищная интеллектуальная и моральная беспринципность. Гёте — сын своего века и его выразитель. Сверхчеловек становится не-человеком, а злая сила деградирует, Люцифер заменён Мефистофелем… и эпизодическим Духом Земли.
Лермонтов внёс христианский критерий в западную Люцифериану. Пророческое сверх сознание Лермонтова помогло ему отбросить все пагубные наслоения извращённой западной гуманистической культуры с её измышлениями и спекуляциями. Он нанёс сокрушительный удар западному пессимизму и «мировой скорби», которые пытались снять с человека всякую ответственность за мировое зло и перенести её в высшую сферу.
Человек — царь над общим злом,
С коварным сердцем, с ложным языком.
(Ст. «Кладбище», 147).
Пессимизм есть пережиток деизма английского, деизма Вольтера и Лейбница, усвоивших гностическую ложь: Бог не создал мир из ничего, а выделил из Себя частицу, позволив ей самостоятельно развиться. Фриц Маутнер писал о пессимисте Шопенгауэре: «вся мыслящая Германия стала после Шопенгауэра атеистической».
Примечания
[1] Ираклий Андроников. Лермонтов. Москва, 1964, стр. 171.
[2] Т. ж.
[3] Т. ж. стр. 179.
[4] Т. Иванова. Посмертная судьба поэта. Москва, 1964, стр. 188.
[5] Oeuvres complètes, Paris, Edit. Gallimard, 1950.
[6] Oeuvr. compl. d’Alfred de Vigny, 1950, 1, pp. 10-31
[7] Oeuvres compl. Paris, Edit. Gallimard.
[8] P. 162
[9] lb. 1618.
[10] Ch. Baudoin, A. Viaste, P. Zumtor, M. Milner, Ib.
[11] Т. Иванова. Посмертная судьба поэта, Москва, 1967, стр. 132.
[12] Т. ж. 138.
[13] 140.
[14] 140.
[15] 160.
[16] И. Андроников. Лермонтов. Исследования и находки, Москва, 1964, стр. 251-252.
[17] Т. ж. стр. 253.
[18] Т. ж. стр. 254.
[19] Т. ж. стр. 255-257.
[20] С. В. Иванов. Лермонтов. Жизнь и творчество, Москва, 1964, стр. 70.
[21] А. В. Фёдоров. Лермонтов и литература его времен, стр. 94.
[22] Ор. ск. 566.
[23] Ир. Андроников. Лермонтов, стр. 78-80.
[24] Ор. сit.
[25] Л. Гинзбург. Творческий путь Лермонтова, Ленинград, 1940, стр. 124.
[26] Т. ж. стр. 167.
[27] Стр. 177.
[28] 175.
[29] 177.
[30] Catéchisme positive, Paris, 1852.
[31] хата срба^
[32] Журнал Altpreussische Hefte», Heft 31
[33] vostv.
[34] TrpdtTTsiv.
[35] Сочинения Белинского, Москва, 1870 г. «Стих. Лерм.», стр. 174.
[36] Т. ж., ч. 5, стр. 343.
[37] С. В. Иванов. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и Творчество, М. 1964, стр. 375-376.
[38] А. В. Фёдоров. Лермонтов и лит. его времени, Лен., стр. 94-98.
[39] Л. Гинзбург. Творческий путь Лермонтова, Лен. 1840, стр. 124-126.
[40] Т. ж., стр. 95-97.
[41] Т. ж., стр. 220.
[42] Menschen und Werke, 1900. 3 Aufl
[43] Этюды о байронизме. «Вестник Европы», 1905, т. 6. 134
[44] С. В. Иванов. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Москва, 1964, стр. 75-76.
[45] А. В. Фёдоров. Лермонтов и литература его времени. Лениниград, стр 314, 319, 322, 323, 324, 328. 135
[46] Л. Гинзбург. Творческий путь Лермонтова. Лен., 1940.
[47] Богословский сборник, под ред, Нью Иорк, 1953.
[48] Очерки по истории русской литературы 19 века. 1966, стр. 126
[49] А. В. Фёдоров. Лермонтов и литература его времени. Ленинград, 1967, стр. 161, 162-168.
[50] Т. ж. стр. 165-169.
[51] Ир. Андроников. Лермонтов, Исследования и находки, Москва, 1964, стр. 561-563
[52] Л. Гинзбург, Творческий путь Лермонтова, Ленинград, 1940, стр. 207-209
[53] Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки, Москва, 1964, стр. 580.
[54] С. В. Иванов. Лермонтов. Жизнь и творчество, Москва, 1964, стр. 341, 344.
[55] Эмма Герштейн. Судьба Лермонтова. Москва, 1964, стр. 222-224.
[56] Т. ж. стр. 224-225.
[57] Humanität als Aufgabe und Ziel, aus «Deutsches Lesebuch» von Emst Bender, Karlsruhe, 1960, S. 183.
[58] Вашингтон, 1966, стр. 114-116. 198.
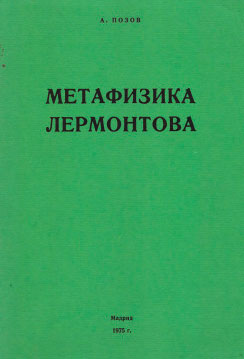
Комментировать