Оглавление
Бог в мировой истории
История, как большая полноводная река, несёт свои воды, пронизывая пространство и время. Кто-то плывёт на своих судёнышках поперёк течения, пытаясь наперекор движению не отбиться от своих берегов, кто-то сплавляется на плотах своей жизни, отдавая себя на волю стихии, а кто-то сидит на берегу и удит рыбу, удивляясь её разнообразию и обилию. Но есть и отчаянные, точнее, безумные смельчаки, пытающиеся плыть против течения или изменить течение реки, обратив её движение вспять. И совсем мало тех, кто пытается понять: а Кто даровал нам эту великую реку? Где её начало и куда бегут её могучие воды? Как жить, чтобы её волны не захлестнули и не унесли в небытие бытие мира и нашего народа?
К этим немногим и принадлежит Виктор Николаевич Тростников. Он смотрит на пересекающих реку, изучает историю своего Отечества, судьбу своего народа и видит, как Бог являет себя в русской истории. От плывущих по течению он узнаёт о разнообразии верований, обычаев, культур разных народов. Следуя за Н.Я. Данилевским, он укрепляется в понимании того, что среди разнообразных культурно-исторических типов, или цивилизаций, своей особой красотой выделяется православная цивилизация, в которой Господь судил нам жить. Рыбаки, вылавливающие в реке истории различные факты и события, не зная, что с ними делать и как их связать воедино, приносят мыслителю подтверждение и иллюстрации его умозаключений. Виктор Николаевич пишет в своих книгах как о безумцах о тех, кто пытался устроить судьбу стран и народов по своей злой воле, ослепших и оглохших в своём безумии.
Много книг, более трёх десятков, написано замечательным писателем и мыслителем В.Н. Тростниковым. Все они написаны особым языком. Поражает удивительное сочетание прекрасного литературного стиля, глубина, простота и особая оригинальность мышления, образованность не как многознание, а как присущая великим русским мыслителям мудрость, укоренённая на камне Православной веры. Читая Тростникова, очень жалеешь тех несчастных, пусть и титулованных академиков, которые пишут открытые письма в защиту атеизма против православной церкви. В новой книге «Имея жизнь, вернулись к смерти» В.Н. Тростников поясняет, почему даже самые образованные люди иногда не могут оценить красоту, притягательность и спасительность христианской жизни, которой живут миллионы людей. Он пишет, что эту жизнь нельзя понять, находясь вне христианства, она открывается только изнутри.
Держу руках новую книгу В.Н. Тростникова и пытаюсь определить её жанр. Для интеллектуалов, желающих понять православие, — это своеобразный «Закон Божий», для политиков — глобальный прогноз о судьбах мира и России, для историков — новая историософия, для церковных людей — призыв к более строгой и спасительной жизни. Автор пишет о хранении того богатства, которое даровал Господь русскому народу: хранении веры и православной цивилизации. Для школьников и студентов — это учебник жизни, для богословов — ещё одна попытка толкования Священного Писания, для философов — новые страницы в истории философии, для ученых-естествоиспытателей — разговор о вере и науке. Этот список можно продолжать. Для нашего времени — это одна из самых нужных книг, адресованных современному читателю.
Интересна и форма изложения. Автор никого не пытается убедить, ни с кем не спорит, он размышляет. Это книга — монолог: монолог-проповедь, монолог-откровение, монолог-поучение. Как мы привыкли спорить и разучились слушать! Читая эту книгу, не пытайтесь спорить с автором, сначала дослушайте его до конца. Не придирайтесь к мелочам. Прожив долгую жизнь, в середине которой он обрел Бога, автор как-то в одной беседе признался, что готов отдать все сорок лет жизни вне Церкви за один день христианской жизни с Богом. Он уже может говорить с Богом просто. Монолог — особая, непривычная для нас форма общения. Мы привыкли, что «в споре рождается истина», хотя это и не так, Истина — Христос, а в споре рождаются страсти и раздражения. Да и диалог — это способ убедить или навязать свое мнение другому. Господь в своих Откровениях монологичен. Дар слова, которым наделил нас Господь,— не дар говорения, а дар слушания, Он говорит с нами на нашем языке, чтобы мы Его слушали, понимали и «исполняли повеленное» (Лк. 17:10).
Каждый народ, как и каждый человек призван в этот мир исполнить только ему предназначенную волю Божью. Каждый народ несёт свою миссию в этом мире. Одну из книг В.Н. Тростников назвал «Бог в русской истории», главный смысл новой книги я бы выразил словами «Бог в мировой истории». Анализируя мировую историю, автор напоминает о возложенной Господом на русский народ миссии — хранении веры православной, которую нам надо исполнить, чтобы, имея жизнь, не обратиться к смерти, а наследовать жизнь вечную.
Архимандрит Георгий (Шестун)
Часть I. Жизнь раскрывает свои секреты и указывает дорогу в бессмертие
О чём пойдёт у нас разговор
По реке времени мы плывём, как в вёсельной шлюпке,— лицом назад. Мы видим только то, мимо чего проплыли, а что нас ждёт впереди, не знаем. Мы хотели бы смотреть в будущее, однако же нашему взору открывается только прошлое. Чтобы посмотреть вперёд, нужно обернуться, а это нам запрещено, как было запрещено оглядываться Лоту, выводимому из Содома. В этом запрете проявилось милосердие Господа: жена Лотова оглянулась и от картины, представшей её взору, превратилась в соляной столп. Неужели впереди у нас такое, что о нём лучше не знать?
Какие бы неприятности ни готовило нам грядущее, лучше знать о них заранее — например для того, чтобы хоть как-то к ним подготовиться. Слишком долго мы тешили себя ожиданием светлого будущего: на Западе верили, что его обеспечат научно-технический прогресс и развитие либеральной демократии, а в России уповали на построение коммунизма.
В грех мечтательности, единодушно осуждаемый Святыми Отцами и причисляемый ими к «прелести», христианский мир начал впадать ещё в конце пятнадцатого века, откуда начался отсчёт Нового времени, или модерна. Этот грех отпочковался от более сокровенного греха гордыни и всё прочнее укреплялся сначала на Западе (особенно после Реформации и Великой французской революции), а с восемнадцатого столетия и у нас (особенно после Великой Октябрьской революции, когда мы распевали «нам нет преград ни в море, ни на суше»). Суть же и происхождение гордыни были такозы: получив от Творца острый, но ограниченный по своему объёму разум и добившись с его помощью ощутимых успехов в познании законов материи и их практического использования, человек вообразил, будто сила его разума бесконечна и универсальна, так что он найдёт правильный ответ на любой вопрос, не нуждаясь ни в каких внешних подсказках. Эта убеждённость в неограниченности своего ума, возникшая как раз вследствие его ограниченности, привела к тому, что человек решил самостоятельно, без Божьей помощи организовывать своё индивидуальное и коллективное бытие, прокладывая дорогу ко всеобщему «счастью». При этом никакой расшифровки этого понятия, не только философской, но даже психологической, не давалось. Считалось, что достаточно обеспечить человеку материальное благополучие, бытовой комфорт и обилие развлечений, и он автоматически будет счастлив. И Европу охватила лихорадочная гонка производства материальных благ; всё, кроме изготовления товаров потребления, было отодвинуто на задний план или вообще забыто. Эффективно производить товары было предложено двумя путями: капиталистическим и социалистическим. На первом пути делается ставка на присущие людям эгоизм и корыстолюбие: средства производства отдаются в частные руки, их владельцы нанимают рабочих, владельцы заинтересованы в прибыли, рабочие — в хорошем заработке, поэтому все напряжённо трудятся, и страна богатеет. На втором пути ставка делается на также присущие людям альтруизм и бескорыстие: средства производства составляют всенародное достояние, хозяйственная деятельность планируется специалистами, рабочие получают по труду, но главным стимулом для них является желание принести пользу родине, сделать богатым и счастливым не себя только, а весь свой народ. Капитализм сложился первым, но с октября 1917 года социализм сделался альтернативной реальностью и стал укрепляться и раздвигать свои границы. Так возникла холодная война — пресловутое соревнование двух прежде всего экономических, а попутно и политических человеческих жизнеустроений, стремящихся к одному идеалу, каждое из которых провозглашало своё превосходство.
Просуществовав 70 лет и охватив около двадцати стран, социализм проиграл экономическое соревнование и капитулировал. Почти на всей нашей планете (кроме Северной Кореи и Кубы) воцарился капитализм. Его идеологи возликовали. Один из них — американский публицист Фрэнсис Фукуяма — в 1989 году писал: «Это не просто конец холодной войны, это, возможно, конец истории как таковой — окончательное и бессрочное установление на всём земном шаре либеральной экономики и демократической формы правления». Однако эта эйфория оказалась преждевременной. Мира и согласия в, казалось бы, теперь однородном человечестве не наступало, более того, оно начало бурлить, и его бурление неуклонно повышает свой градус. К тому же в 2008 году разразился глобальный кризис капиталистической экономики, и именно он обещает быть бессрочным. Похоже, всё пошло не туда, куда предсказал Фукуяма, и он первый это почувствовал. Через 23 года после статьи «Конец истории?» он пишет новую статью — «Будущее истории». Конец отменён, появилось будущее. И оно уже не представляется автору светлым. Фукуяма обвиняет в этом финансовых спекулянтов, сбивающих капитализм с правильного курса на всеобщее счастье, но разве не очевидно, что эти спекуляции неизбежно порождаются основным принципом капитализма «пусть каждый заботится о своём кармане, и тогда всем будет хорошо», ибо набивать карман проще всего именно с помощью спекуляций? Видимо, прав был всё-таки не Фукуяма, а Шафаревич, сказавший, что капитализм и социализм — два пути, ведущие к одному обрыву. Но то обстоятельство, что ещё недавно человечество двигалось к нему двумя путями, а теперь сгрудилось на одном, ничего не меняет — всё равно оно приближается к пропасти.
Так что же, значит, действительно наступает конец истории, причём в самом прямом и зловещем смысле, и нам надо сменить многовековое ожидание всеобщего счастья на ожидание всеобщей гибели?
Нет, кончится не история, а её более чем тысячелетний цикл, как перед его началом кончился аналогичный предыдущий цикл. Но расставание с ним и вхождение в новый цикл будет весьма болезненным, так что никакого «прекрасного далёка» ждать не следует. Однако ни в коем случае не надо впадать в уныние, а надо спокойно и собранно готовиться к тому, чем должно встретить нас ближайшее будущее — не то, которое рисует нам наша мечтательность, а то, которое вычисляет трезвый расчёт. Таким расчётом мы с вами и займёмся. Откладывать эту работу нельзя, ибо переломный момент всемирной истории — смена её циклов — уже совсем близок.
Катастрофизм и финализм
При всякой беседе полезно сразу договориться не только о том, что будет в ней обсуждаться, но и том, что обсуждаться не будет. В наше время много толкуют о конце света, который будто бы должен скоро наступить по разным пророчествам — от Нострадамуса до календаря майя. Этой темы мы в нашем разговоре касаться вообще не будем, и вот почему.
Разговаривать имеет смысл только о тех событиях, которые доступны нашему воображению, которые хоть как-то мы можем себе представить. Представить же человеку дано то, что происходит в пространстве и времени. А конец света не есть событие, происходящее в пространстве и времени, оно есть отмена пространства и времени. Вот что говорит о конце света ветхозаветный пророк Исаия: «И истлеет все небесное воинство звёзды: и небеса свернутся, как свиток книжный; и всё воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы» (Ис. 34:4). Тайнозрителю Иоанну Богослову, жившему несколькими столетиями спустя, это было продемонстрировано воочию: «И… я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих» (Отк. 6:12-14).
Это не катастрофа, происходящая в материальном мире,— никакая физическая катастрофа не может привести к тому, что небо свернётся как свиток — это финал материального бытия. Когда-то было сотворение, с помощью которого Бог пожелал достигнуть какой-то непостижимой для нас цели; когда эта цель будет достигнута, произойдёт рассотворение мира, его упразднение. Атомная война, гибель человечества, столкновение Земли с метеоритом — это катастрофы, и их не надо путать с финалом. О катастрофах, одной из которых является крах капитализма, мы можем и должны думать и говорить, о финале — нет, ибо его смысл, суть, дата и механизм осуществления абсолютно непостижимы. Это событие, которое произойдёт не здесь, а там — куда наш разум не может проникнуть. Даже сам глагол будущего времени «произойдёт», строго говоря, тут неточен, поскольку акт отозвания пространства, времени и материи совершается Творцом в той области сущего, где нет ни пространства, ни материи, ни времени, а следовательно, нет никаких часов, по которым можно было бы определить дату этого акта. Да и в земном календаре непонятно, как отмечать эту дату: как только настанет конец света, время исчезнет, а значит, не будет никакой календарной даты. Её нельзя засечь, как нельзя засечь момент засыпания: мы знаем только то, что перед тем бодрствовали, а когда заснули, не знаем. Поэтому апостол Пётр говорит о «Дне Господнем», что он придёт незаметно, как «тать в ночи» (2Пет. 3:10).
Сейчас судачат не только о конце света, но и о сроке его наступления, якобы предсказанном в каких-то откровениях, и этим игнорируют главное Откровение, исходящее от самого Христа. Евангелисты Матфей и Марк почти слово в слово передают нам запрет Иисуса рассуждать о сроках: «О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13:32). Подумать только: истинный Бог, Второе Лицо Троицы, не знает дня, а мексиканские аборигены знают!
Но тут встаёт другой вопрос: как Сын может не знать того, что знает Отец — ведь Он неоднократно повторяет: «Я и Отец — одно». Здесь может быть только одно объяснение. Сотворение мира совершилось по воле Бога Отца (хотя и через Бога Сына); значит следует полагать, что и его рассотворение, как симметричное действие, тоже произойдёт по отеческой воле. В Троице именно Отец, а не Сын и не Святой Дух, олицетворяет волевое начало — Лица в Ней нераздельны только сущностно (единосущны), а функционально они неслиянны. Тварный мир возник, когда Отец того захотел, исчезнет он также лишь тогда, когда Отец захочет, так что речь идёт не о знании срока в прямом значении этого слова, а о его назначении, а оно целиком находится в компетенции Отца.
Означает ли это, что эсхатологические разделы новозаветного Откровения не относятся к предмету нашего обсуждения и не должны нас интересовать? Ничего подобного: они содержат в себе информацию, очень важную как раз для нашей темы. Дело в том, что в этом Откровении за первым, божественным смыслом всегда кроется второй, человеческий. Слово «конец» в устах Христа прежде всего означает веху в активности Бога (конец света), но во вторую очередь оно означает и веху в активности человека (конец определённого исторического периода). Особенно ясно это просматривается в самой «эсхатологической» двадцать четвёртой главе Евангелия от Матфея. Вот её начало.
«И вышедши, Иисус шёл от храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено» (24:2). Долгая эсхатологическая беседа с учениками начинается с разговора вовсе не о конце света, а о конкретном историческом событии, которое произойдёт через тридцать лет — о разгроме Веспасианом восставших против Рима иудеев и разрушении их главной святыни — Соломонова храма в Иерусалиме. Это был не конец света, а всего лишь очередной сильный удар по ветхозаветной цивилизации, которая, однако, продержалась ещё 70 лет, после чего была окончательно уничтожена. И тут апостолы продемонстрировали тот же психологический эффект, который демонстрируем сегодня мы: конец своего уклада жизни они посчитали концом вообще всего. После слов Христа о разрушении храма они стали выпытывать у Него: «скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» (24:3). А ведь об этих вещах Иисус даже не упоминал. Он им про Фому, они Ему про Ерёму. Но учитель снисходителен к непонятливым ученикам: интересуетесь признаками — извольте, скажу и о признаках. И начинает их перечислять.
Их перечень вызывает странное ощущение неоднородности. Событие, которому они предшествуют и которое подготавливают, вроде бы одно — конец света,— но это явно не так. Судите сами.
Первый признак в перечне — появление лжепророков и лжехристов, которые «соблазнят многих». Лжепророки, вероятно, были всегда, а лжехристы (лжемессии) — явление преимущественно современное. Таковым по сути был Маркс, обещавший праведникам (трудящимся) рай на земле (коммунизм). Прямо называли себя Христами некоторые хлысты, а также знаменитый Мун («придут под именем Моим»); в древности такого не отмечено. Значит, этот признак относится к Новому времени, и Иисус говорит о нём, что после него конец наступит не сразу. Конец чего? Может быть, Нового Времени?
Второй признак — войны и военные слухи. В конце первого—начале второго века Римская империя достигла максимальных размеров за всю свою историю и упёрлась в свои естественные границы: на севере и западе в море, на юге — в джунгли тропической Африки, на западе — в германо-славянский мир. На колоссальной территории воцарился Pax Romana — прообраз того Pax Americana, который в 1989 году предрекал Фукуяма уже во всепланетном масштабе. Серьёзные военные столкновения начали сотрясать Империю только в середине пятого века, когда в её пределы вторглись германские племена. Вполне возможно, что Иисус говорил именно о них, тогда под «концом» он имел в виду конец античной цивилизации.
Третий признак — восстанет народ на народ и царство на царство. Эти слова можно отнести и к падению Римской империи, но особенно хорошо они ложатся на двадцатый век с его двумя мировыми войнами, а после них и с холодной войной, разделившей все народы на два противостоящих друг другу лагеря. Если так, то под «концом» надо понимать конец Нового времени.
Четвёртый признак — глады, моры и землетрясения. Пока существовала Римская империя, ничего этого не было — она исправно снабжала население египетским зерном, удовлетворяя его требование «хлеба и зрелищ!». Глады и моры начались только в феодальной Европе; особенно слово «мор» подходит к «чёрной смерти» четырнадцатого века, унёсшей чуть ли не каждого третьего. Был голодомор также в Советской России в начале двадцатого века. Поэтому отнести этот прогноз Иисуса к какому-то конкретному историческому периоду весьма затруднительно.
Пятый признак — гонение на христиан. Первое гонение обрушилось на них в шестьдесят четвёртом году при Нероне, и многие из учеников Христа, с которыми он беседовал о «конце», оказались не только его свидетелями, но и его жертвами. Именно об этом гонении, скорее всего, предупреждал их Иисус: «Истинно говорю вам: не прейдёт род сей, как всё сие будет» (Мф. 24:34), однако если в понятие «род» включать и потомков, то пророчество можно отнести и к последующим гонениям, которых в Империи было десять. Но вот что настораживает: жесточайшее гонение на христиан происходило и в СССР, особенно в начале его существования. Так о каких же гонениях говорил Иисус — о древних или современных? Ответ очевиден: и о тех, и о других. Ведь это только нам, людям, свойственно любое событие прежде всего привязывать к пространству и времени — такова природа нашего восприятия и мышления, как это убедительно доказал Кант. Для Бога же, который пребывает вне времени, оно не имеет первостепенного значения, главное для Него — сущность события, его логическая структура, его внутренние закономерности. Он мыслит не феноменами, а ноуменами. Он творит сначала чистые смыслы, а потом вкладывает их в пространственно-временные события, и история показывает, что один и тот же по смыслу сюжет может воплощаться несколько раз в событиях, разнесённых по времени.
Универсальность представленного Иисусом апостолам подтверждается и дальше.
Шестой признак — измена христианству. В истории она произошла по крайней мере дважды — после Неронова гонения и после большевистского гонения, причём оба раза в массовом масштабе. На Первом Вселенском соборе 325 года даже обсуждался (и был решён положительно) вопрос, принимать ли обратно в лоно Церкви тех, кто, не выдержав пыток, от неё отрёкся. Амбивалентность предречённого здесь совершенно очевидна.
Седьмой признак — умножение беззакония и охлаждение любви. Это — точнейшее описание как того, что происходило в языческом Риме, погрязшем в разврате и кровавых зрелищах, так и того, что происходит сейчас на Западе, где ожили Содом и Гоморра. Опять явна амбивалентность.
Восьмой признак — осуществление евангельской проповеди во всей вселенной, во свидетельство всем народам. Указав на этот признак, Иисус добавил: «…и тогда придет конец» (Мф. 24:14).
Это — очень важное Откровение. Во-первых, совершенно ясно, что оно относится именно к нашему времени и больше ни к какому. Ещё Блаженный Августин в четвёртом веке понял, что это предсказание относится к какому-то отдалённому будущему, ибо, как он писал, «в Африке есть много племён, ничего не знающих о Евангелии». Только сегодня оно продаётся во всём мире и стоит дешевле буханки хлеба, а если кто и этих денег на него пожалеет, то евангельское общество готово выдать ему его бесплатно. И во всех отелях оно лежит на столике — читай сколько угодно. Во-вторых, из слов Иисуса вытекает, что это признак не конца какого-то исторического периода, а самого настоящего эсхатологического конца, когда небо свернётся как свиток. Это — признак уже не катастрофы, а финала.
Повторяемость и новизна в истории
Чем длиннее тот участок реки времён, который нам удаётся обозреть, тем больше мы убеждаемся, что её наполнение не так уж разнообразно. Народная мудрость подметила этот факт и отразила его пословицей «Новое — это хорошо забытое старое». А восточные религиозно-философские системы положили эту мысль в самую основу своей космологии и создали концепцию цикличности бытия, проникшую через мореплавателей в Древнюю Грецию, где её подхватил Гераклит. Мир рождается, проходит стадию детства, юности, зрелости и старости, а затем умирает, но тут же опять рождается, и всё повторяется заново. Эта космология оптимистична, ибо избавляет от удручающей мысли о «конце всего», но зато приводит к «дурной бесконечности», которая своей бессмысленностью удручает нисколько не меньше. Просвещённое Сыном Божьим сознание христиан этой бессмысленности принять не может. Евангелие делает нам подсказки для построения совсем другой версии происходящего, и этими подсказками являются притчи, которых в нём много.
В своём земном служении Бог Сын исполнял две миссии, ради которых и воплотился,— мистическую и педагогическую. В первой Он был Спасителем, во второй — Учителем, в учительстве же своём, как к самому действенному методу просвещения, Он прибегал к притчам.
Иисус не изобрёл притчу. Наставники пользовались этим приёмом всегда. Но у Него притчи приобрели такую глубину и содержательность, что можно говорить о втором рождении притчи уже в новом качестве.
Иисусова притча — это краткое и очищенное от всего несущественного описание законченного жизненного эпизода, в котором человек или группа людей взаимодействует с другим человеком или с другой группой людей, а также с Богом, выступающим в образе «господина», и в этом взаимодействии наглядно выявляются свойства человеческой души. Каждая евангельская притча — миниатюрный урок человековедения, преподанный самым авторитетным в этой области специалистом, который один доподлинно знает, как ус роена человеческая душа, ибо Он сам её создал.
Поскольку законы, по которым функционирует внутренний мир человека, вложены в него уже при его сотворении и с тех пор остаются неизменными, описываемые в притчах коллизии повторяются на земле бесчисленное число раз. В истории человечества повторяемость есть прямое следствие постоянства людской натуры, также как повторяемость сменяющих друг друга времён года есть прямое следствие постоянства наклона земной оси.
Притчи, записанные евангелистами со слов Иисуса, различны по своему уровню. Есть среди них воспитательные, например, предостерегающие от легкомыслия (притча о собравшем большой урожай) или прививающие полезные для жизни в этом мире качества (о назойливой вдове и о человеке, который среди ночи просил у соседа взаймы три хлеба). Есть осуждающие самоуверенность (притча о фарисее и мытаре), есть философские (о сеятеле), есть богословские (многочисленные притчи о Царстве Небесном). Их смысл раскрывается на простых и доходчивых примерах, на хорошо всем знакомых ситуациях, то и дело возникающих вокруг нас. Эти ситуации создаются отдельными людьми, их же в первую очередь и затрагивают. Такие часто повторяющиеся сюжеты создают, образно говоря, «коротковолновый» фон истории. Но есть ситуации другого уровня, порождаемые огромным количеством людей в ходе их совместной жизни, и они повторяются гораздо реже, накладывая на высокочастотный фон «длинноволновые» колебания происходящего, или исторические циклы. Их суть тоже раскрывается в евангельской притче, но о ней позже. Христианская космология не выстраивает эти циклы в «дурную бесконечность», так как с полной категоричностью предрекает «конец времён». Согласно этой космологии, какой-то из исторических циклов должен стать последним. Из фразы Христа «и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Мф. 24:1-14) можно заключить, что это как раз тот цикл, в котором нам довелось жить. Но мы с вами уговорились не касаться эсхатологической темы, тем более, что даты конца времён никто знать не может, и он придёт в тот момент, когда его перестанут ожидать. Поэтому займёмся лучше обсуждением того, каким будет уже начавшийся завершающий этап нашего цикла, какая катастрофа ознаменует его окончание, и что следует делать, чтобы встретить её во всеоружии, а если возможно, извлечь из неё пользу. Это нам подскажет логика цикла, если мы её поймём, а понять её можно только на примере уже закончившегося цикла, т.е. предыдущего.
Нынешний цикл начался с издания императором Константином в апреле 313 года Миланского эдикта. В этот день вся громадная Римская империя от востока до запада из языческой превратилась в христианскую. Это было не только начало нового исторического цикла, но и окончание прежнего — конец античной цивилизации. Именно к этому событию относится из значений пророчества «как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:27).
Закончившийся с воцарением в Европе христианства исторический цикл начался в середине VIII века до нашей эры, когда почти одновременно к активности пробудились два народа — римляне и эллины. В Италии объединившиеся племена латинов и сабинов в 753 году до н.э. основали город Рим, а на Балканах возник союз греческих племён, объединяющим мероприятием которого с 776 года стали общие Олимпийские игры, на время которых внутри союза прекращались всякие раздоры. Так зародилась античная цивилизация, долго развивавшаяся двумя параллельными культурами, которые окончательно слились лишь в 146 году до н.э. При этом римская культура с самого начала являлась преимущественно прагматичной, а эллинская склонной к созерцанию, философствованию и художественному творчеству. Религия же у них была одинаковая, поскольку римляне просто заимствовали языческий пантеон у греков, дав их многочисленным божествам свои имена: Зевс был переименован в Юпитера, Аполлон в Феба и т.д.
Насколько сильной и искренней была вера в этих богов в античном обществе? Тут надо говорить главным образом о греках, поскольку римляне в этом отношении были ведомыми.
По аналогии с другими первобытными народами можно предположить, что на ранней стадии существования нематериальный потусторонний мир был для них такой же несомненной реальностью, как и материальный, и они были убеждены, что всё, происходящее «здесь», диктуется «оттуда». Во всяком случае, именно такое представление о соотношении двух слоёв бытия греки имели в девятом веке, когда была создана «Илиада». В ней земная Троянская война является лишь проекцией на наш людской мир тех распрей и разборок, которые происходят в мире богов. Видимо, основной секрет мироздания, заключающийся в том, что оно состоит из владычествующего «неба» и подчинённой ему «земли», раскрывался в Откровении всякому народу, вступающему в историю, иначе он не выживет. Однако в той же «Илиаде» образы персонажей горнего мира значительно снижены — они наделены такими пороками, как зависть, честолюбие, коварство, мстительность и т.п. Боги низводятся почти до людского уровня, так что герои поэмы иногда относятся к ним чуть ли не запанибрата. Это явно был момент перехода от архаической безоговорочной веры к вере, тронутой скепсисом, которым неизбежно проникается желающий самоутвердиться человеческий разум.
А разумом Господь одарил древних греков очень щедро. В русских сказках богатырь чувствует, как у него «силушка в жилушках переливается», и ищет возможности применить к чему-то свою силу. Так и эллинские мудрецы искали задачу потруднее, чтобы раскусить её силой своего интеллекта, как раскусывают орех мощные челюсти, и в своём дерзновении дошли до того, что взялись без подсказок со стороны Бога, обходясь только своими природными способностями, разгадать тайну всего сущего. Так в середине первого тысячелетия до нашей эры в тени оливковых рощ родилась европейская философия. Кажется, впервые в истории человечества дар рассуждения стал использоваться для отыскания ответов не на практические вопросы, возникающие в повседневной практике, а на вопросы совершенно отвлечённые, умозрительные, возникающие из чистой любознательности, не связанной ни с какой корыстью. И гениальные эллинские мыслители нашли такие ответы на эти вопросы, которые показались более убедительными и более глубокими, чем религиозные предания. Просвещённая греческая элита уже не могла серьёзно относиться к космогоническому повествованию о том, как Кронос, рождённый Геей от Урана, оскопил своего отца, а затем родил Зевса, который и установил тот порядок жизни, который соблюдается до сих пор. Другое дело — метафизика Парменида, в которой «Единое» раскрывает своё содержание в «Другом», и так образуется наблюдаемое нами вокруг себя «Многое». В общем, возникла типичная ситуация, которую можно охарактеризовать как «горе от ума»: познав нечто с помощью своего мыслительного аппарата, люди возгордились и решили, будто с помощью одного этого аппарата могут познать всё. Диалектика Адама и Евы: ум, данный человеку Богом, делает его самонадеянным и начинает уводить его от Бога. Именно эта диалектика привела к тому, что к четвёртому—третьему столетию до новой эры верхушка древнегреческого общества, в которой была сосредоточена его творческая энергия, оказалась почти безрелигиозной.
Римлян постигла другая беда. Какова была исходная религия латинян и сабинян, сказать трудно; судя по сохранявшемуся ещё в исторические времена рудиментарному институту римских жрецов-предсказателей (авгуров), это был шаманизм. Приняв впоследствии языческие верования греков, римляне усвоили их не слишком глубоко, поскольку по свойствам своей натуры они тяготели к решению не мировоззренческих, а практических вопросов, в частности политических. Это были люди не витавшие в небесах, а твёрдо стоящие своими ногами на земле. И этой земли они хотели приобрести для своего города как можно больше. Для решения данной задачи требовались такие качества, как горячий патриотизм, воинская доблесть и сознание своего превосходства над другими людьми, которых для их же собственной пользы необходимо окультуривать, и эти качества стали вырабатываться и всё более укрепляться в римских гражданах. В 503 г. до н.э. Муций Сцевола продемонстрировал степень преданности римлян своему мессианскому призванию, положив в стане врага свою руку на пылающую жаровню; поняв, что с такими людьми воевать нельзя, напавший на Рим этрусский царь Порсенна снял осаду и заключил мир. Вскоре этруски были покорены и вся их земля стала собственностью Вечного города, а сами они как нация навсегда исчезли. С этого началось расширение владений Рима, которые через пять столетий простёрлись от Британских островов до Северной Африки и от Атлантического океана до Причерноморья. В течение всей этой экспансии римлян не покидало чувство своей правоты, ибо они воспринимали её не как оккупацию или захват, а как приобщение варваров к цивилизации. Сейчас стало понятным, что эта миссия римлян действительно была промыслительной (но не в том смысле, который они в неё вкладывали), поэтому Бог до поры до времени помогал им, но они приписали свои военные успехи исключительно самим себе и окончательно отошли от Бога, не имея в Нём нужды. Это было не горе от ума, а горе от силы. Но время показало, что как ум греков, так и сила римлян были даны лишь на время, и, когда оно истекло, Бог забрал их обратно.
Конец античного цикла
Вглядываясь в историю, приходишь к выводу, что главная ошибка, которую постоянно совершает человечество и от которой происходят все его неудачи, состоит в упорном нежелании считаться со словами Христа «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). Только когда что-то им не удаётся, люди вспоминают эту истину, да и то не всегда, а в периоды торжества своих начинаний выбрасывают её из памяти.
Получив от Создателя особый талант философских рассуждений, древние греки, вместо того чтобы благодарить Его за этот дар, решили, что раз они такие умные, то спокойно обойдутся и без Него — мы, дескать, сами с усами. И когда они произвели достаточное количество философских идей, Бог отнял у них способность к тонким и глубоким рассуждениям, а тот интеллектуальный багаж, который они наработали в период своей одарённости, позже передал в другие руки.
То же самое произошло и с римлянами. Боевой дух и вера в своё мессианское предназначение позволили им создать могущественнейшее государство Древнего мира, функционирующее как часовой механизм согласно чётко сформулированному законодательству — знаменитому римскому праву. Хотя они никогда не были шибко верующими, на первых порах мотивация их завоевательской деятельности была благородной, а именно — просветительской, и Бог включал перед ними зелёный свет. Но постепенно мотивация становилась всё менее возвышенной и наконец стала откровенно грабительской, и тогда Господь переключил зелёный свет на красный. В девятом году новой эры римское войско впервые потерпело сокрушительное поражение от варваров в Тевтобургском Лесу: полудикие германцы, возглавляемые Арминием, полностью уничтожили целых три легиона наместника Вара, который, не вынеся этого позора, покончил жизнь самоубийством. После этого продвижение границ Империи на восток замедлилось, а вскоре и совсем остановилось: воинская удача была у римлян отнята, как и миссионерское сознание, которое перешло к совсем другим людям.
Подтвердить стандартность этого сюжета можно и третьим примером из древней истории. По причинам, которые скоро станут понятны, он показательнее двух предыдущих. Его разыграли на исторической сцене иудеи будто специально для назидания потомкам.
Около трёх с половиной тысяч лет назад в поступательном развитии человечества настал момент, когда его сознание стало способным вместить идею единобожия и начать переходить от язычества к монотеизму. Естественно, что соответствующее Откровение должен был получить сначала какой-то конкретный народ, который затем распространял бы истину о Едином Боге среди других народов. Для такой проповеди Бог избрал пастушечье племя, произошедшее от Авраама и Сарры и называющее себя Израилем. В Его глазах оно имело то преимущество, что не принадлежало ни к какой устоявшейся цивилизации того времени, т.е. являлось как бы «чистым листом», в который можно вписать любое новое верование. Божественные Откровения обильно посыпались на израильтян, они стали нацией пророков; для укоренения единобожия в населении пророчества подтверждались бесконечными чудесами, на непринимавших новой религии или изменивших ей с неба посылались жестокие кары. Наконец Израиль был готов к началу вселенской проповеди монотеизма и даже построил в Иерусалиме величественный храм, где жители всей вселенной могли бы молитвенно соприкасаться с Творцом и Вседержителем всего бытия. Но, почувствовав себя богоизбранным народом, израильтяне истолковали это избранничество не как обязательство, а как привилегию, вообразив, будто Бог таким способом отметил их природное превосходство над другими народами, так что они по праву лучших должны господствовать над этими народами. И тогда, видя, что вселенское просвещение истиной через израильтян не состоялось, Бог изменил стратегию и прислал на землю для такого просвещения Своего Единородного Сына, воплотившегося в Богочеловека Иисуса. Перед самым вступлением Иисуса Христа на земное служение Его Предтеча Иоанн Креститель предостерегал евреев: «И не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф. 3:9). И секира была приведена в действие: евреи, не выполнившие своей миссии и впавшие в гордыню, были рассеяны по всему миру, а харизма исполнения миссии перешла на бывших язычников.
Произошедшее с евреями особенно интересно, поскольку в этом случае для отозвания харизмы у Бога были не только моральные, но и юридические основания. Заключив с избранным народом договор о его проповедничестве единобожия (Ветхий Завет), Господь сказал: «…если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим yделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исx.19:6). Но всякий договор включает пункт о последствиях его невыполнения сторонами, и этот пункт был сформулирован Богом, который заранее предупредил народ Израильский: «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, … рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли» (Втор. 28:58-64). Как известно, первое массовое рассеяние евреев произошло в 135 году и было ничем иным, как вполне ожидаемой законной акцией, применённой к нарушившей договор стороне.
Ситуация, столь назойливо воспроизводящаяся в истории, не могла, конечно, не найти своего отражения в Евангелии. Она описана там в форме замечательной притчи, которую по причине её важности для понимания людской натуры мы приведём целиком. Иисус говорит ученикам:
«Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнёс его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: это наследник; пойдём, убьём его и завладеем наследством его. И, схвативши его, вывели из виноградника и убили. Итак, когда придёт хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (Мф. 21:33-41).
Как указывают богословы, в Священном Писании всё имеет двойной смысл: единичный и собирательный. Конкретно Иисус говорит в этой притче о своей предстоящей казни, об убийстве Сына Божия, именуемого сыном хозяина виноградника; как собирательный образ — это образ любого исторического цикла, как того, что вошёл в свою завершающую фазу при Иисусе, так и всех других, в частности того, который входит в заключительную фазу на наших глазах. Все они кончаются примерно одинаково — как кончили Адам и Ева, вавилонские столпотворители, жители Содома и Гоморры и античная цивилизация. Последняя ближе всего к нам по времени, её конец хорошо документирован, поэтому именно к нему нам следует внимательно присмотреться, чтобы лучше подготовиться к тому, что ожидает нас с вами.
Три раздельные культуры, каждая из которых развивалась по притче о виноградарях, во втором веке до нашей эры слились в рамках Римского государства в одну цивилизацию. Поскольку и Греция, и Иудея с Израилем стали римскими провинциями, то и общий конец у них получился «римским» — они задохнулись в тупике бездуховности материализма и богооставленности.
Здесь необходимо сделать уточнение. Слово «дух» в русском языке имеет несколько значений, соответственно, по-разному понимается и слово «бездуховность». О человеке можно сказать: «он исполнен духом злости», или «он сегодня не в духе», или «он так может стукнуть, что сразу дух вон». Это не тот дух, отсутствие которого мы только что назвали бездуховностью. Надо различать наш природный, человеческий дух и Дух сверхприродный, Божий, который следует писать с большой буквы. Божий Дух — это Третье Лицо Пресвятой Троицы. В Евангелии Он именуется то Утешителем, то Духом истины, а иногда просто Духом, но всегда пишется с большой буквы: «…если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5) или «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его» (Ин. 14:16). Нагорная же проповедь начинается с фразы о совсем другом духе: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3). Тут употреблена маленькая буква, поскольку Иисус говорит о человеческом духе, духе самости и гордыни. Когда этого духа много в человеке, Духу Божию не остаётся места, и Он не может в него войти, а без этого нельзя попасть в Царство Божие. В скромном же, никогда не превозносящемся человеке много места для Духа Божия, Который и входит в него, обеспечивая спасение.
Скромность в римском обществе времён упадка считалась не достоинством, а недостатком, признаком слабости, там царил культ силы. Идеалом был человек, сумевший растолкать всех и первым достигнуть рубежа богатства и славы. Кумирами толпы были знаменитые гладиаторы, сделавшие карьеру буквально на трупах. И этот культ человеческого духа, духа с маленькой буквы, привёл к гибели античной цивилизации, ибо этот дух не может животворить — он дух не жизни, а мертвечины. Вот этой-то главной истины бытия не понимали самоуверенные римляне, как всегда перестают понимать её в конце исторического цикла.
Воздвигнутые из камней
Среди признаков «конца», на которые Иисус указал апостолам (не в первом смысле конца цикла, который завершился в тот момент, а во втором смысле конца всякого исторического цикла), есть такой, как «охлаждение любви» (Мф. 24:12). Античный цикл как нельзя более наглядно подтвердил это. В его последней, римской фазе сердца людей будто окаменели. О чём, как не о массовом жестокосердии свидетельствовало всеобщее увлечение «зрелищами», под которыми понималось только одно: публичные убийства, устраиваемые на аренах амфитеатров. Созерцание кровопролития было важной составной частью жизни народа, без которой он себя не мыслил. Охладевала даже такая, казалось бы, прирождённая для человека форма любви, как супружеская и родительская, ибо, как писал римлянам апостол Павел, «…женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставивши естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам» (Рим. 1:26).
Сразу после признака «охлаждение любви» Иисус называет последний признак: «проповедание Евангелия по всей вселенной», непосредственно за которым наступит «конец». Это ещё раз свидетельствует об универсальности начертанной Им эсхатологической картины: такая последовательность прекрасно ложится на конец античного цикла. Проповедь, которую вели апостолы и их преемники, воспринималась ими не иначе, как вселенская. Петра и Павла христиане называют «вселенскими учителями», а в молитве, к ним обращённой, говорится: «во все концы вселенныя вещание их». И вскоре после этого античная цивилизация перестала существовать.
Если бы на апостольскую проповедь никто не откликнулся, наступил бы «конец всего». Но ему было ещё не время приходить. Некоторые из окаменевших душ размягчились от евангельской проповеди, и эти «воздвигнутые из камней» простецы, в которых возродилась горячая вера Авраама, что давало им право назваться его «детьми», отодвинули всеобщий конец, ибо стали ядром новой цивилизации, которой предстояли великие дела и которая на наших глазах близится к своему завершению.
Что за люди оказались семенами новой грандиозной цивилизации? Они были для большинства не такие. Апостол Павел первым почувствовал это, сказав: «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2Кор. 5:17). Нормальным римлянам эти люди были непонятны, и потому вызывали раздражение и даже злобу; в обществе, где больше всего ценилось умение постоять за себя, на скромных и смиренных просто не обращали внимания как на неудачников, но этих скромников нельзя было не заметить, так как, вместо того чтобы быть грустными и понурыми, они так светились радостью, будто только что стали богатыми наследниками. Это больше всего и бесило окружающих.
А ведь они действительно были наследниками, да ещё какого богатства! И им и вправду это было известно. Ещё в самом начале своего земного служения Сын Божий, владелец всех миров и царств, оповестил их об этом: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:5). И через триста лет после этого обетования Европа с её природными ресурсами и возведёнными предыдущими её обладателями зданиями и сооружениями действительно перешла в их распоряжение. Но это ещё не всё, что они получили: христиане стали наследниками не только материальных, но и ряда духовных ценностей, выработанных античностью во всех её трёх культурах — эллинской, римской и иудейской. И христиане оказались достойными этих ценностей: они не просто усвоили их, а переосмыслили, подняв на более высокий уровень; получив от Господа пять талантов, они, как верный слуга из евангельской притчи, сделали из них десять.
Эллинское наследство
Им была, конечно, греческая философия, этот дивный плод многовековых размышлений гениальных мыслителей, сумевших подобраться к истине настолько близко, насколько это было возможно людям, выросшим в языческом обществе. Надо сказать, что христиане не сразу оценили по достоинству это наследие — вначале их отрицание язычества распространялось на весь его состав. Первые христиане, на которых Святой Дух нисходил так обильно, как никогда позже, «видели небо отверстым», и Истиной для них был сам Христос, так что они не нуждались ни в каком логическом её обосновании. Но по мере того, как Господь всё более предоставлял им самостоятельно утверждаться в новой вере, заставляя пользоваться и собственным умом, потребность в дискурсивном рассуждении для прочного стояния в своих религиозных воззрениях возрастала. Уже апостол Павел в своих посланиях начинает адаптировать Откровение к разуму и тем самым становится родоначальником интеллектуальной апологетики. Эту работу надо было продолжать, и «новая тварь», преодолевая своё отвращение ко всему языческому, обратилась к наработкам эллинских мудрецов, благодаря чему начало функционировать христианское богословие.
Конечно, основы этой науки наук закладывала не рядовая паства, а выдающиеся пастыри, харизматические Божьи избранники, названные «Учителями Церкви» — такие, как Ириней Лионский, Иустин Философ, Тертуллиан, Ориген, и подобные им. Все они были либо этническими греками, либо с детства укоренёнными в греческой культуре, воспитанными на Гомере, на сочинениях Платона и Аристотеля. Поэтому говорить о том, что лучшие христианские умы обратились к языческой философии, не совсем правильно, точнее будет сказать, что лучшие языческие умы обратились к христианству как к единственному средству развивать дальше свою философию, зашедшую в тупик уже в третьем веке до нашей эры. Но в любом случае верно то, что без заимствования некоторых идей греческих философов христианское богословие не могло бы возникнуть и Откровение не обрело бы оправдания в рассуждении. Разъясним это подробнее.
Основой христианского учения о Боге является догмат о Его троичности. Он отличает наш монотеизм от монотеизма мусульман и иудаистов. Наш Бог, как и у них, один, но Он Един в трёх единосущных, нераздельных и неслиянных Лицах. Это — сложное философское положение, до которого не могла бы додуматься человеческая мысль; оно дано в Откровении — прикровенно в Ветхом Завете и открыто в Евангелии. Но Откровение ещё не есть богословие; оно превращается в богословие только тогда, когда получает теоретическое обоснование. И такое обоснование догмата о Троице было подсказано Учителям Церкви великим эллинским философом Парменидом, чьим горячим почитателем был Платон, который и донёс до следующих поколений его глубокие идеи, касающиеся мироустройства.
Согласно учению Парменида, сущее (всё существующее) пребывает одновременно в двух модусах, причём второй порождается первым. В первом модусе оно слитно, нерасчленяемо, не имеет частей, поэтому называется «Единым» (по-гречески «хэн»). Во втором модусе, наоборот, оно разворачивает своё содержимое в структуру и получает наименование «Многого», которое, если целиком охватить его взором, образует «Другое» Единого («хэтэрос»). Если в модусе «Другого» сущее доступно нашим органам чувств, то как «Единое» (а это его главный модус!) оно доступно только умозрению, интуиции ума. Эта красивейшая идея и была подхвачена христианскими учёными, которые дополнили парменидовскую Двоицу до Божественной Троицы: Единое обрело у них образ Отца, в котором нет никаких частей, ибо Он — воля, а Другое было интерпретировано как Сын, иначе именуемый «Бог Слово» (слово состоит из частей — фонем или букв).
Чтобы греческая Двоица ожила, к ней естественным образом присоединилось третье начало — Святой Дух, связывающий Отца и Сына отношением взаимопонимания и любви и оживотворяющий их взаимодействие, поскольку то, в чём нет Духа, мёртво. В общем, христианская мысль распорядилась эллинским интеллектуальным наследием по-хозяйски, ибо оно представляло собой именно то, что ей было нужно. Добавим к этому, что заключалось оно не только в идеях, но и в созданном греками специально для метафизических рассуждений языке: всё богословие Троицы формулируется в терминах сконструированных античной мыслью ещё во времена язычества философских категорий (примеры — «ипостась» и «единосущие»).
Римское наследство
От языческого Рима христианам досталось в основном материальное наследство — вся необъятная Империя. Эти чудаки, люди не от мира сего, нестяжатели, готовые отдать ближнему последнюю рубаху, стали обладателями крупнейшего и богатейшего царства мира, где должны были хозяйствовать уже как-то по-новому. Что же касается унаследованных ими от прежнего Рима идей, то здесь, наверное, надо назвать римское право, которое в течение многих столетий продолжало регулировать общественную и государственную жизнь христианской Европы. Но это всё-таки приземлённая, прикладная идея. Более возвышенной и более важной была римская идея вселенского мессианства, которую, придав ей новый смысл, христиане сделали органичной частью своего миропонимания и своей активности.
Римляне видели свою миссию в окультуривании мира, в превращении варваров в цивилизованных людей. Именно это высокое предназначение Империи служило моральным и метафизическим оправданием её расширения. Не правда ли, эта претензия впечатляет и вызывает уважение? Не торопитесь снимать шляпу, надо прежде разобраться в том, что римляне понимали под «культурой» и «цивилизацией».
Они фактически не различали эти термины — в любом латинском тексте один из них можно заменить другим, не изменив содержания. А понимание их было очень простым: культурным и цивилизованным является тот, и только тот, человек, который принимает нашу, римскую, систему ценностей и живёт так, как живём мы. Но распространение того образа жизни, который вёл поздний Рим, никак нельзя считать миссионерством, поскольку это была отвратительная кровавая агония. Да и если копнуть глубже, выяснится, что имперские завоевательные походы предпринимались не столько для того, чтобы окультуривать варваров, сколько для того, чтобы их грабить. Лишь за счёт средств, выкачиваемых из завоёванных территорий, римляне могли вести свой гедонистический модус вивенди, так что, когда Империя упёрлась в свои естественные границы, коренное изменение уклада стало неизбежным. Христиане же вложили в римскую идею миссионерства духовное содержание, понимая её как всемирную проповедь Евангелия, почему и назвали свою Церковь «кафолической», т.е. вселенской.
Иудейское наследство
Что унаследовали христиане от древних евреев, хорошо известно: единобожие и Священное Писание Ветхого завета, признанное ими богодухновенным. Наряду с греческой философией и римским духом мессианства это было третье основание, на котором утвердилась молодая цивилизация, открывшая собой новый исторический цикл.
На примере античности мы видим, что с окончанием цикла умирает не всё, что в нём жило: перед смертью он передаёт некоторые выращенные им плоды нарождающейся следующей цивилизации, в которой они могут дать всходы, развивающиеся уже по-другому.
Яко с нами Бог
В первые века нашей эры, когда языческий Рим, словно предчувствуя свою обречённость, судорожно цеплялся за становящуюся всё более бессмысленной жизнь, в нём начало происходить нечто загадочное: христиане вопреки жестоким репрессиям со стороны властей, доходящим до физического уничтожения, неуклонно множились в своём количестве. Поражённый этим явлением иудейский историк Иосиф Флавий писал, что кровь христианских мучеников становится семенем, из которого растут новые. Не могут дать удовлетворительного объяснения этому феномену и современные светские историки. Протоиерей Сергий Булгаков сказал полушутя по этому поводу, что наука может истолковать эпидемическое распространение христианства лишь как результат действия какого-то неизвестного вируса, вызвавшего массовое умопомешательство, но тогда ей придётся ответить на вопрос, откуда взялся этот таинственный вирус и почему он потом исчез.
Однако помимо надуманного медицинского объяснения тут можно предложить и совершенно естественное психологическое объяснение: достаточно только предположить, что христианская жизнь имеет в себе самой такую привлекательность и доставляет такое удовлетворение и такую радость, что человек, изведавший её, уже ни за что не согласится жить иначе. Учёные потому не могут додуматься до такой простой разгадки, что наблюдают христианскую жизнь извне, откуда никаких радостей в ней не увидишь, а чтобы оценить её по достоинству, надо познать её изнутри, т.е. достаточно долго жить этой жизнью и укорениться в ней. Только всецело в неё погрузившись, можно почувствовать, как она прекрасна и как несравнима с любой другой жизнью.
Оказаться внутри неё не так-то просто, поскольку её притягательность открывается не сразу — на пути к укоренению в этой жизни, т.е. к тому, чтобы стать настоящим христианином, нужно преодолеть некий барьер. Дело в том, что большинство ценностей, управляющих жизнью христианина, прямо противоположно общепринятым ценностям, и, чтобы стать христианином не по названию, а по существу, надо начать с отказа от мирских ценностей, а отказываться от привычного всегда трудно. Ты ещё не знаешь, что ждёт тебя в новой жизни, а тебе уже говорят: оставь старую.
Тертуллиан говорил, что всякая душа по своей природе христианка, т.е. рождена для истинной радости, и это верно, но грехопадение прародителей так повредило эту природу, что человек соблазняется ложными языческими радостями — мимолётными, пустыми, обманчивыми — и срастается с ними. Лучше всего разом выбить это язычество из себя, как выбивают пыль из ковра, и перейти к более высокой форме существования, но такой поступок, называемый «обращением», по силам далеко не каждому, и, похоже, здесь не обходится без действия Святого Духа, а «Дух дышет, где хочет» (Ин. 3:8).
О нисхождении Святого Духа на человека Церковь говорит как о Божьей благодати, и действительно оно даёт великое благо: спасает душу, делая её пригодной для вхождения в Царство Небесное. Святой человек потому и именуется святым, что его посетил и наполнил собой исходящий от Отца Дух святости, Третье Лицо Троицы. Но спрашивается: почему бы в таком случае человеколюбцу Богу не осчастливить всех людей ниспосланием на них Святого Духа? Ведь тогда все сразу стали бы истинными христианами, вели бы праведную жизнь, и с ними не было бы никаких проблем.
Это не совсем так. Одна проблема всё же осталась бы, и она, к сожалению, самая главная, связанная со вложенной в человека при самом акте его сотворения свободой выбора, без которой он не стал бы богоподобным. Эта свобода включает в себя право не желать быть праведником, право выбрать греховный путь, сближаться не с Богом, а с дьяволом. Без такого права свобода выбора была бы не настоящей, а игрушечной. Нисхождение Святого Духа на человека не нарушит его права выбора только в том случае, если он сам захочет такого нисхождения и подтвердит искренность своего желания тем, что будет прилагать усилия к его осуществлению. Богоносный старец преподобный Серафим Саровский разъясняет, что вся цель христианской жизни состоит в стяжании Святого Духа, и указывает, какими средствами можно добиться этой цели: молитвой, добрыми делами во имя Христа, постом, подвижничеством и т.п. Все эти средства требуют труда и терпения, которые потом вознаградятся сторицей. Схожих взглядов придерживался живший несколько раньше Серафима католический богослов Сен-Мартен, автор знаменитого изречения «время — деньги вечности»: праведные поступки, совершённые нами за отведённое нам на земле конечное время, становятся теми «деньгами», которыми мы будем платить за вход в Царство вечного блаженства. В общем, и у Бога за всё надо платить, хотя по своей милости Он предоставляет нам большие льготы и делает значительные скидки: ведь стоимость бесконечного блаженства куда выше стоимости наших конечных земных подвигов.
Но чтобы молиться Отцу о ниспослании Святого Духа и делать добрые дела во имя Христа, нужно верить в Отца, Сына и Духа, т.е. уже быть пусть несовершенным, но христианином. Получается «порочный круг»: не будучи христианином, не станешь стяжать Святой Дух, а не стяжав Святого Духа, не станешь христианином. Как же тогда возникали на свете христиане? Что было раньше — курица или яйцо?
Явившийся на землю Сын Божий разорвал этот порочный круг волевым актом: Он назначил группу малограмотных рыбаков первыми христианами помимо их собственного желания, которого они не могли иметь в принципе. «Не вы Меня избрали, а Я вас в Иерусалиме избрал» (Ин. 15:16). В день Пятидесятницы в Иерусалиме на них снизошёл Святой Дух, почил в виде огненного языка на каждом из них отдельно, и каждый из них стал христианином, обретя святость и спасение. Но и это было не безвозмездным деянием, а лишь авансом, который апостолы впоследствии отработали — они все, кроме любимого ученика Христа Иоанна Зеведеева, которому было уготовано отдельное поручение, окончили свою жизнь мученической смертью за подвиг исповедничества. На таких же условиях изливался Святой Дух и на христианские церкви следующих нескольких поколений — это была затравка процесса. Когда число христиан достигло определённой критической величины, внешняя стимуляция прекратилась и включился в действие внутренний механизм их расширенного воспроизводства. Люди, которые входили в общину случайно или «за компанию», попадали в атмосферу любви и взаимопомощи, открывали для себя неведомый дотоле мир, где все «носили тяготы друг друга», оставаясь при этом бодрыми и жизнерадостными, а возвращаться из него в мир злобы, вражды и всякого зверства им уже не хотелось. Их оглашали, вводя в учение Христа, водили на исповедь к священникам, где они получали мудрые советы, возлагали на них различные послушания, всегда по их силам и способностям, а потом над ними совершалось волнующее Таинство крещения, производящее их в «аристократы духа», и пустая суетная до этого жизнь наполнялась для них смыслом, а ожидание погружения во тьму сменялось упованием перехода в царство ещё большей любви, чем в общине, притом уже вечной.
Христианские приходы возникали в разных частях Империи, как в Европе, так и в Малой Азии, превращаясь в поместные церкви. Разъединённые большими расстояниями, они испытывали потребность в налаживании взаимодействия. С этих давних времён в великой ектении сохранилась молитва «О благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех». Этому соединению способствовали инспекционные путешествия апостола Павла и его послания, в которых он подчёркивал необходимость создания единой христианской Церкви как органической целостности. Вот как он описывает эту единую Церковь, тогда ещё только начавшую формироваться:
«…Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы — тело Христово, а порознь — члены. И иных Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами во-вторых пророками в-третьих учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки» (1Кор. 12:24-29).
В начале четвёртого века, после того как христианство стало государственной религией, дело объединения поместных церквей было взято в свои руки имперской администрацией — разумеется, при активной поддержке иерархов. В результате на историческую сцену вступило то богочеловеческое творение, которое наш Символ веры именует «Единой святой соборной и апостольской Церковью». В этой краткой формуле содержатся все главные её характеристики.
Церковнославянское слово «Единая» означает «Одна». В мире существует только одна подлинная Церковь, сказали о своей Церкви христиане четвёртого века; все остальные религиозные образования — лжецеркви. Святой эта Церковь называется потому, что она и основана Святым Духом, сошедшим на апостолов в день Пятидесятницы, и потому, что Святой Дух продолжает пребывать в ней и будет пребывать до скончания века. Апостольской Церковь является по своему происхождению: её первыми епископами были апостолы, получившие истину из рук самого Христа. Здесь всё ясно. Недоразумения возникают лишь в одном месте из-за неудачного перевода. В греческом оригинале Символа веры стоит слово «кафолическая», которое не имеет никакого отношения к «соборности» (как собранию верующих), а означает «вселенская». Церковь существует только одна, и полем её проповеди является вся вселенная.
В день Вознесения Христос покинул землю, чтобы «сесть одесную Отца», но при этом обещал своим последователям не покидать их. Это обетование остаётся непреложным. Христос до сих пор пребывает в основанной Им Церкви, а именно — в православной церкви, сохраняющей апостольское предание в первоначальном виде, и её паства не ошибается, когда возглашает «С нами Бог!».
«Будет вам дано, что сказать»
Людей, непосредственно слушавших живую проповедь Христа было максимум, несколько десятков тысяч. Относительно населения Империи это очень мало. К тому же одно дело — слушать, а другое дело — услышать. Христос сам постоянно говорил, что услышать может только тот, кто «имеет уши, чтобы слышать» и, поясняя, что Он имеет в виду, привёл притчу о сеятеле. Рассказав всему народу о разной судьбе зёрен, упавших на разную почву, Иисус, отведя в сторону апостолов, разъяснил им смысл притчи:
«Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его: вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» (Мф. 13:19-23).
«Имевших уши, чтобы слышать» в тех местах, где проповедовал Иисус, оказалось очень немного. Чаще всего Его зерно падало в тернии: сначала слово принималось с восторгом (тем более что подкреплялось чудесами), а потом восторг быстро угасал и сменялся равнодушием и даже враждой. Особенно ярко это непостоянство было продемонстрировано на Страстной неделе, когда только что возглашавшие осанну начали кричать «распни, распни его!». На момент окончания земного поприща Христос оставил лишь небольшую кучку верных, собравшихся в Иерусалиме, да в день Пятидесятницы благодаря поразившему народ сошествию Святого Духа крестились несколько тысяч иудеев. Потом апостол Пётр окрестил первого из язычников — Корнилия сотника с семьёй. Число апостолов возросло, но всё же не превзошло семидесяти человек. В основном их трудами возникали христанские общины в разных частях Империи. Но критическая масса христиан не могла бы образоваться, если бы проповедование сводилось только к устной передаче того, чему учил Иисус,— в ней неизбежен эффект «испорченного телефона», а рассказы о чудотворениях с каждым поколением вызывают всё меньше доверия. Зная об этом, Господь наряду с зыбким Преданием даровал человечеству чётко сформулированное Писание — поразительный текст четырёх Евангелий.
Не усмотрите здесь оговорки. Этот текст евангелисты не написали, они лишь записали его. То, что вышло из-под пера каждого из них, от первого до последнего слова было продиктовано им свыше. Сборщик налогов Матфей мог ли знать во всех подробностях родословие Иисуса? Как простой рыбак Иоанн мог сам, без подсказок подняться на такой уровень метафизики, какого не достигли ни Кант, ни Владимир Соловьёв? Все четверо были совершенно чужды литературной деятельности, но то, что они нам оставили,— образец изящной словесности. Композиция, стиль, образность, лаконизм, а главное — непостижимое сочетание простоты изложения и глубины содержания — откуда всё это могло взяться у малообразованных провинциалов? Евангелие наполнено описанием великих чудес, совершённых Христом во время Его земной жизни, но само появление Евангелия есть ещё одно великое чудо, совершённое Им уже после вознесения к Отцу,— столь же удивительное, как Туринская плащаница. В обоих этих случаях мы имеем Весть от Христа, посланную нам необычным и непонятным способом. Недаром Туринскую плащаницу называют «Пятым Евангелием».
Произошедшее один раз — случайность, произошедшее два раза — совпадение, произошедшее три раза — уже система. Сходство Евангелия и плащаницы заключается, в частности, в том, что и то, и другое — отсроченные послания. В первом случае четыре ученика Христа записали виденное и слышанное не по свежим следам, что само собой напрашивалось, а через много лет, одновременно почувствовав желание сделать это и внезапно вспомнив всё до мельчайших деталей. Во втором случае отсрочка составила почти две тысячи лет — плащаница открылась взорам людей после изобретения фотографии, когда негатив предстал позитивом. Впрочем, у Бога тысяча лет как один день. Значит, совпадение?
Нет, был ещё и третий случай. В шестидесятых годах девятнадцатого столетия пожилой арзамасский помещик Николай Мотовилов вдруг вспомнил, что лет сорок назад, когда он был в послушании у преподобного Серафима Саровского, великий старец усадил его в зимнем лесу на пенёк и, сидя перед ним на корточках, стал разъяснять ему, в чём состоит цель христианской жизни, а в конце беседы явил ему чудо, преобразившись как Христос на Фаворе, и, засияв неземным светом, озарил им лесную поляну и окрестные сосны. Всё, сказанное тогда старцем, вмиг ожило в его памяти вплоть до длинных цитат из Священного Писания, которое старец знал наизусть, и Мотовилов быстро записал давнишний разговор от первой до последней фразы. Ещё через тридцать с лишним лет благочестивый мирянин писатель Сергей Нилус нашёл эту запись на чердаке дома Мотовилова в ужасном состоянии, загаженную голубиным помётом. Прочесть рукопись было тем более невозможно, что у Мотовилова был ужасный почерк. Прийдя в отчаяние, Нилус взмолился Богу: «Господи, как же так, в моих руках сокровище, и оно так и останется скрытым от мира!». После этого он снова раскрыл тетрадку и на этот раз легко прочитал всё написанное. А оно оказалось серьёзным богословским трактатом, существенно дополнившим учение Церкви о Святом Духе. Этот текст Нилус успел опубликовать как раз накануне торжеств по поводу канонизации преподобного Серафима в 1903 году.
Итак, троекратное повторение, значит система, специфический метод обращения Бога к человечеству: не сразу и не прямо, а с задержкой по времени и через избранных посредников, которыми были итальянский фотограф, четыре евангелиста и Николай Мотовилов с Сергеем Нилусом.
В чём может заключаться глубинный смысл такого метода?
В отношении Туринской плащаницы ответ представляется самым простым, но в то же время самым грозным. Помните: «И будет проповедано Евангелие по всей вселенной, и тогда придёт конец»? Проповедь Евангелия стала глобальной уже в XIX веке, но это была проповедь только четырёх его книг, а пятая «книга», плащаница, являющаяся подробным повествованием о той лютой казни, которой подвергся Спаситель, о тех нечеловеческих муках, которые Он испытывал, раскрыла перед нами свои жуткие страницы только в двадцатом веке, и все могут узнать, какой ценой мы искуплены. Лишь теперь Евангелие проповедано и во всём мире, и во всей полноте. Что это может означать, думайте сами. Неужели Туринская плащаница — это Послание, адресованное именно людям последних времён?
Теперь о евангелистах. Почему Господь побудил их записать свои свидетельства с таким запозданием — ведь за это время они могли многое позабыть. А не предположить ли нам, что Он выждал именно для того, чтобы они основательно позабыли происходившее и своими субъективными впечатлениями не искажали Его обращения к людям, которое Он писал их руками? Существуют неопровержимые доказательства того, что евангелисты так ярко, будто они при этом присутствовали, описывали такие события, свидетелями которых они не были и о которых никаким образом не могли узнать. Вот одно из таких доказательств. В Евангелии, написанном Иоанном, мы читаем:
«Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты царь Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. Пилат сказал ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь; Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям» (Ин. 18:33-38).
Пусть кто-нибудь объяснит мне, как могла попасть в руки Иоанна стенограмма этого потрясающего диалога, где ни одно слово не может быть пропущено без ущерба для его смысла? Разговор вёлся с глазу на глаз, Иисус после него ни с кем из учеников уже не общался, ибо был под стражей, Пилату, презиравшему население той дыры, в которую откомандировал его Тиберий, не могло бы прийти в голову отчитываться перед кем-то из местных, через которых диалог мог бы дойти до Иоанна, в своих вопросах и ответах Иисуса, тем более что он слушал эти ответы крайне невнимательно. Единственно, кто мог воспроизвести сцену допроса слово в слово, это сам допрашиваемый. Он её и воспроизвёл, и Иоанн здесь вовсе ни при чём.
Ни при чём были и Матфей с Марком и Лукой. Это святые самого высокого ранга, христиане будут славословить их до тех пор, пока небо не свернётся как свиток, и это вполне справедливо, но, воздавая рабу, надо сторицей воздать господину. Всё-таки не они сделали, а через них сделано. Христос сказал: зло должно войти в мир, но горе тому, через кого оно войдёт, лучше бы тому человеку повесить мельничный жернов на шею и бросить его в море. Но тогда можно сказать и другое: благая весть должна была войти в мир, и блажен тот, через кого она вошла. Евангелие даровано нам не евангелистами, оно спустилось с небес, и спустилось как раз в то время, когда устное предание о Христе начало терять свою убедительность. С этого момента Предание отошло на второй план, ибо появилось Писание.
Что же касается разъяснений преподобного Серафима о цели христанской жизни, то это — важный вклад в православную пневматологию (раздел богословия, относящийся к Святому Духу), имеющий непреходящее значение, поэтому не так уж важно, когда запись Мотовилова была опубликована. Но содержащееся в этой записи свидетельство о чудесном преображении старца, которое Мотовилов готов был подтвердить под присягою,— веский дополнительный аргумент в пользу причисления Серафима к лику святых, и можно думать: Господь устроил всё таким образом, что беседа была обнародована в период подготовки к канонизации.
Прагматический аспект Евангелия
Жизнь прожить — не поле перейти. А если это поле — минное? Тогда оно очень похоже на наше земное поприще. Чтобы пройти его без повреждений, нужно иметь инструкцию, указывающую, куда можно наступать, а куда нельзя. В одном из своих аспектов Евангелие и является такой инструкцией. Инструкцией по технике безопасности пребывания на стройплощадке, называемой нашей жизнью. Она куда сложнее и коварнее той, на которой возводятся дома или заводы. Там достаточно выполнять правило поэта Успенского «не бегайте, не прыгайте, не пойте, не пляшите, когда идёт строительство или подвешен груз», а тут это целая наука.
Эта наука жизни всегда была в центре внимания религиозной и философской мысли. Религии всех народов мира организовывали общественную жизнь освящением института власти и регулировали брачные отношения освящением института семьи. Но в рамках этих внешних установлений, иногда очень жёстких, у человека оставалась ещё внутренняя свобода — право выбора своего личного отношения к окружающему, особенно к другим людям, а также к самому себе. Здесь на сцену выступали мудрецы, которые давали соответствующие рекомендации.
Житейская мудрость, накапливавшаяся в человечестве с древнейших времён, представляет собой большую ценность и достойна того, чтобы внимательно с нею ознакомиться. Ознакомление же с нею приводит к заключению, что мудрецы всех стран и всех эпох по поводу того, как оптимально прожить жизнь, давали, в сущности, одни и те же советы.
Самые ранние дошедшие до нас советы такого рода датируются несколькими столетиями до н.э. В Китае их автором был Конфуций, по его учению надо быть покорным судьбе, воспринимая всё происходящее как проявление мирового закона справедливости, и во всём быть умеренным. Индийская веданта презирала материю и учила «нирване» — свободе от желаний. На другом конце земли израильский царь Соломон делился с народом выводами, к которым привели его наблюдения и размышления:
«Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует,— все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Идёт ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь» (Еккл. 1:2-7). Ему вторит, обращаясь к Богу, другой повидавший виды ветхозаветный персонаж:
«Опротивела мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?» (Иов. 7:16-17). Тот же мотив у великого псалмопевца царя Давида, отца Соломона:
«Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то» (Пс. 38:6). И в другом псалме:
«Сыны человеческие — только суета; сыны мужей — ложь; если положить их на весы, все они легче пустоты» (Пс. 61:10).
И это говорит человек, из пастуха ставший одним из могущественнейших властелинов Древнего мира!
Примерно такой же настрой был у эллинских мудрецов. Киники учили отказу от земных благ, видели спасение от их бессмысленности в аскетизме. К ним принадлежал знаменитый Диоген, живший в бочке и заставивший задуматься о смысле жизни самого Александра Македонского. Эпикур (III век до н.э.) в своих раздумьях пришёл вообще к материализму и атеизму (что для того времени было удивительным) и призывал людей брать от этой временной жизни максимум наслаждений. Однако слово «наслаждение» он понимал совсем не так, как понимают его соременные эпикурейцы, вроде Стивы Облонского из «Анны Карениной», а почти противоположно. Те поют «мы пить будем и гулять будем, а когда смерть придёт, помирать будем», а Эпикур, сам лично бывший аскетом, видел наслаждение в душевном покое и воздержанности, солидаризируясь в этом с Конфуцием. Идеологи скептицизма советовали беречь нервную энергию, никогда не спорить, не кипятиться, не высказывать о вещах никаких категорических суждений, ибо их природу человек знать не может. В Риме из такого рода учений особенно распространилась философия стоиков, возникшая ещё в III веке до н.э. в Греции. К этому течению примкнули некоторые представители высших слоёв, в частности один из богатейших патрициев Сенека (I век) и даже император Марк Аврелий (II век).
Как мы видим, житейская мудрость в дохристианскую эпоху всегда и везде сводилась к следующим наставлениям: надо жить скромно и незаметно, учиться довольствоваться малым, быть во всём умеренным и воздержанным, не перечить раз и навсегда установившемуся ходу бытия, ибо пока ты ему подчиняешься, он тебя ведёт, а если противишься — потащит.
Эти установки во многом правильны, и христианство их не отвергло, но дополнило тем, чего в них не было. Вот что пишет, например, своей пастве первоверховный апостол Пётр:
«В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» (2Пет. 1:6). Не правда ли, почти то же самое, что у Конфуция и у стоиков? Да, именно почти. То же, только с прибавкой одного-единственного слова «любовь». И это слово в корне всё меняет.
Мудрецы, как бы они ни были гениальны, всё же люди. Свои знания о человеческой природе, а значит, и о том, какое поведение является для человека оптимальным, они черпают из наблюдений за окружающими людьми, а также из самонаблюдений. Но многие секреты устройства человеческой души при этом остаются для них скрытыми, поэтому точных рецептов наилучшего прожития жизни они дать не могут и только бродят вокруг истины. Эти рецепты может дать только тот, кто знает механизмы людской души до мельчайших нюансов, а знает их так досконально только Тот, кто эту душу сотворил. Вот Он-то по своему человеколюбию и дал нам в Евангелии эти точнейшие рецепты, которые одни лишь могут помочь нам прожить жизнь правильно.
Божественная мудрость целиком включает в себя мудрость человеческую, но содержит в себе и такое знание, до которого люди сами дойти не могут. Эта чисто божественная мудрость есть мудрость сверхчеловеческая, своими силами мы её обрести не способны, она даётся нам лишь в Откровении. Мы вправе не принять Откровение, поскольку оно не согласуется с нашим собственным разумением, но тем самым мы обедняем себя; тот же, кто примет его на веру, доверяя не земной логике, а той авторитетности, которую наш религиозный инстинкт ощущает в источнике Откровения, становится богаче. Хорошо это или плохо, но мир устроен так, что самое важное для нас — знание, а именно — знание того, как надо жить, лежит в области сверхчеловеческой мудрости, значит, оно доступно только верующему. Поэтому Иисус сказал: «Неверующий уже осужден» (Ин. 3:18). Осуждён на неправильную жизнь, которая сама в себе несёт наказание.
Житейские советы, которые даёт нам Христос в Евангелии, называются заповедями. По человеческим меркам они выглядят надуманными, оторванными от действительности и потому неприемлемыми. Не гневайся, мирись с обидчиком, не противься злому, подставляй другую щёку, просящему давай, люби врагов своих, молись за обижающих тебя — разве это разумно? Мы хотим знать, как прожить жизнь успешно, а нам дают советы, выполнение которых заведомо приведёт к полному жизненному краху…
По обычной, «аристотелевской» логике это так. Но вот парадокс: как только европейцы начали следовать странным заповедям Христа, у них стала возникать небывалая по красоте и силе цивилизация, давшая миру великих гениев. Ещё парадокс: люди, которые особенно добросовестно выполняли все эти заповеди, приобретали дар исцелений и чудотворений, прозревали будущее, читали мысли и ходили по воде как посуху, а после смерти вопреки законам природы, их тела оставались нетленными. Значит, Христос всё-таки не фантазировал, а знал, что говорит?
Как же Ему не знать, ведь человек — это Его творение. Конструктор самолёта в любой момент, закрыв глаза, может представить себе в действии любую его деталь. Так и здесь, только созданный Богом «самолёт» неизмеримо сложнее, и эта сложность превосходит познавательные возможности его самого, так что человек в значительной мере остаётся сам для себя полным загадок. А Сын Божий знает их разгадку. Раскрытие двух главных божественных тайн природы человека и есть прагматический аспект Евангелия.
Тайна первая. Человек является таким сосудом, из которого чем больше выливается, тем больше в нём остаётся. Как Творец сумел придать ему такое свойство, для нас непостижимо, но оно подтверждается тысячелетней мировой практикой. Человек так задуман и исполнен, что ему радостнее и выгоднее отдавать, чем получать, но познать эту радость и обнаружить эту выгоду он может только на опыте, причём не сразу. Поэтому и возникает тот барьер, о котором мы уже говорили.
Тайна вторая. Земная жизнь человека есть лишь часть его существования, остальная часть которого протекает в мире более тонкой плоти, обладающем другими свойствами — там либо вообще нет пространства и времени, либо они имеют не такую природу, как у нас (например, там можно находиться одновременно в двух разных местах). Представление об ином, нематериальном мире существовало у всех народов во все века — его подсказывало им религиозное чувство, но оно было весьма смутным. Только христианское Откровение сделало это представление настолько определённым, что оно обрело практическое значение фактора, влияющего на поведение людей. Христос рассказал, что загробная жизнь каждого человека будет проходить в одной из обителей Бога Отца, которых у Него много («В доме Отца Моего обителей много» — Ин. 14:2), и насколько радостнее будет в них вечная жизнь попавшего туда, зависит не от чего иного, как от исполнения в земной жизни заповедей, так что, называя их заповедями блаженства, Евангелие понимает под этим словом радость не только в земном фрагменте нашего существования, но и в небесном, т.е. польза от их исполнения двойная.
Но многие ли способны преодолеть барьер эгоизма и приверженности к материальным благам, отгораживающий нас от этого двойного блаженства? Даже поверивший в Евангелие найдёт ли в себе силы поменять образ жизни получающего на образ жизни отдающего? Иисус говорит: «…тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:14). Но, пожалуй, не было бы и этих немногих, если бы Господь не вложил в человеческую душу два чудодейственных семени. Первое, если упадёт на добрую почву, прорастёт в веру, и вера укажет человеку на узкие врата, так что он будет знать, куда надо идти. Но этого ещё мало — надо иметь смелость через них протиснуться. Этому поможет выросшая из второго семени любовь, о которой говорил апостол Пётр. Речь у него шла не о брачной влюблённости жениха и невесты — это биология и физиология,— а о великой любви и жалости ко всякой твари, в том числе и к врагам, о сострадании её мучениям. С ней ты не будешь страшиться отдавать, а не брать, ибо она и есть самопожертвование. Поэтому последней заповедью Христа на Тайной вечере была заповедь любви.
Философский аспект Евангелия
В послании Коринфянам апостол Павел пишет, что проповедание христианства «для Еллинов безумие» (2Кор. 2:23). «Для Еллинов» означает здесь «для греческой философии». И действительно, если говорить о той метафизике, которая господствовала в античном мире в I веке и опиралась на идеи Платона и Аристотеля, то она была несовместима с метафизикой Евангелия. Но если говорить о более ранних греческих философах элейской школы VI—V в. до н.э. (Ксенофан Колофонский, Парменид, Зенон и Мелисс Самосский), то несовместимости уже не будет.
Это была очень глубокая, настоящая философия, близко подошедшая к разгадке мира и воспринимающего его человека, которую Платон подвергнул сильному упрощению. В своих предыдущих публикациях я неоднократно употреблял термин «настоящая философия»; поясню ещё раз, что под ним имеется в виду. Просто «философией» нынче стали называть всякое достаточно заумное рассуждение и всякое идейное обоснование нашего поведения. Можно услышать даже такие выражения, как «философия дорожного движения» или «философия шоу-бизнеса». Поскольку живое коллективное языкотворчество неостановимо и неуправляемо, приходится мириться даже с такими перлами, но тогда философию как вполне определённую, сложившуюся в мировой практике отрасль знания, занимающуюся своим делом и ставящую перед собой вполне конкретный вопрос, лучше называть «настоящей философией» — это позволит избежать двусмысленности.
В чём же заключается «основной вопрос профессиональной философии»? Ленин утверждал: это вопрос о том, что первичнее — материальное или идеальное. Это, конечно, совершенно дилетантское, более того, безграмотное суждение. Ленин вообще был чрезвычайно нечутким к философским материям — Бердяев как-то начал читать его «Материализм и эмпириокритицизм» и отмечать на полях нелепости; насчитав их двести, он не стал читать дальше. Первичность материи за всю историю философии провозглашали всего несколько оригиналов — Демокрит, Эпикур и Фейербах, да и то делали это гораздо тоньше, чем Ленин. Материалистами были также деятели французского Просвещения XVIII века, но они никак не могут именоваться философами — это чистые публицисты. Фихте справедливо считал, что материалистической философии в принципе существовать не может, ибо её предметом являются идеи, а предмет любой науки для неё первичен.
Главным вопросом философии, собственно говоря, и породившим её как науку, был, есть и всегда будет oнтологический вопрос. Определим кратко, в чём он заключается.
Философия, как и всякая подлинная наука, начинается с того, что вдумывается в очевидное. Так родилась, например, классическая физика. Увидев падающее с яблони яблоко, Ньютон спросил брата: «Джон, почему яблоко всегда падает вниз?» — «А куда же ему падать, вверх, что ли?» — ответил Джон и покрутил пальцем у виска. Для него направление движения падающих предметов было столь естественным, что обсуждать его казалось странным. Но Ньютон подумал, что и для очевидного должна быть причина, и нашёл её — открыл закон всемирного тяготения.
Кому-то когда-то пришло на ум поразмышлять над ещё более очевидной вещью — над существованием окружающего мира. Может быть, этим чудаком был Парменид, а может быть, какой-нибудь кроманьонец, живший на тридцать тысяч лет раньше, но именно в этот момент родилась философия, чтобы до скончания века расталкивать засыпающий под монотонное жужжание очевидностей людской интеллект, заставляя его работать.
Миллиарды людей скажут философу: разве тут есть, над чем ломать голову? Ведь наши органы чувств постоянно сообщают нам о существовании внешнего мира и о том, каков он собой. Мы видим, слышим, осязаем, обоняем его и пробуем на язык — чего же ещё тебе надобно? Между прочим, именно такой аргумент выдвигал Ленин, полагая, что только сумасшедший может с ним не согласиться.
Но философ готов даже на то, чтобы прослыть сумасшедшим, поскольку этот аргумент его совершенно не убеждает. Он говорит в ответ: господа, вы сделали первый шаг в рассуждении, так сделайте и второй. Вы признаёте, что наше знание о существовании внешнего мира и о его облике основано на сообщениях органов чувств, и, я добавлю, только на них. Давайте думать дальше. Эти сообщения, принятые нашим сознанием, создают в нём некий образ, который вы безаппеляционно считаете более или менее точным образом внешнего мира и даже отождествляете с внешним миром. Но где гарантия того, что этот образ, который, с чем вы не можете не согласиться, целиком находится внутри нас, совпадает с тем наружным, что является причиной появления в нас этого образа? Убедиться в таком совпадении можно было бы только одним способом: выскочить из себя, слиться с внешним миром и познать его непосредственно, но это невозможно. В нашем представлении о мире нет даже самой крохотной его частицы, оно полностью состоит из ощущений и мыслей, т.е. из элементов нашего собственного бытия, а вы выдаёте его за картину бытия объективного. Может быть, мы искажаем эту объективность своим сознанием, приспосабливая её к особенностям нашего восприятия, а возможно её вообще не существует, и просто кто-то показывает нам кино, и не три D, а много D: с запахами, тактильными ощущениями и т.п. Ведь если это кино очень качественное, отличить его от «реальности» нельзя.
Онтологическая проблема — самый интригующий вызов человеческому разуму, который дерзают принять только настоящие философы, желающие в полной мере испытать силу своей мысли. Среди них были грек Парменид, англичанин Джордж Беркли, немцы Кант и Фихте, русский Владимир Соловьёв. Для выявления в проповеди Христа идей, соотносящихся с идеями европейской философии, удобнее всего рассмотреть учение Фихте.
Будучи учеником и последователем Канта, Фихте ясно понимал, что всё находится внутри нас, что, строго говоря, доподлинно существует лишь наш внутренний мир, а существование внешнего мира есть недоказуемая и неопровержимая гипотеза. В то же время он понимал и другое: в жизни человека, в том, как он мыслит, говорит и поступает, огромную роль играет понятие «окружающего мира», который в своей практической деятельности он считает несомненной объективной действительностью. Соединение этих двух бесспорных фактов и было задачей Фихте. Вот как он её решил.
Исходной данностью у него является человеческое «Я»; в принципе существует только оно. А основным его атрибутом служит желание как можно прочнее себя утвердить. Для своего же утверждения ему оказывается необходимым отделить от себя некоторую часть, которую Фихте называет «Не Я». Зачем это нужно? Чтобы в противоборстве с этим «Не Я» наращивать силу и крепнуть. Говоря боксёрским языком, «Я» должно постоянно тренироваться, а для этого оно отчуждает от себя спарринг-партнёра. Конечно, это делается бессознательно, и своего искусственного противника «Я» считает реальным. Чем же в его сознании выступает для него эта реальность?
Отвечая на этот вопрос, Фихте сделал роковую ошибку, из-за которой его имя звучит далеко не так громко, как имя его учителя Канта: он объявил, что образ нашего «Не Я» есть образ природы. Развитие этой мысли завело фихтеанство в тупик.
Дело в том, что природа примитивнее человека, ниже его во вселенской иерархии. Господь создал людей как венец творения, как вершину пирамиды бытия, напутствуя их словами «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1:28). Творец наделил человека богоподобием, поэтому он много сильнее природы, а назначать спарринг-партнёром слабейшего себя нецелесообразно и даже вредно. Легко одерживаемая победа над слабым противником может лишь вскружить голову, создавая завышенное представление о своих силах, как это и случилось с соотечественниками Фихте при Гитлере: покорив почти несопротивляющуюся Западную Европу, немцы возомнили, будто так же легко смогут завоевать Россию, и потерпели крах. Путь к усилению «Я», указанный Фихте — ложный путь, он приводит только к зазнайству и деградации.
Правильный путь — отчуждение от нашего «Я» такого «Не Я», которое выше его, чтобы подражать ему, тянуться за ним и таким образом расти самому. На этом пути никогда не возникнет переоценки своей значимости, напротив, получится недооценка, недовольств собой, побуждающее к самоусовершенствованию.Полезно также включать в состав «Не Я» нечто равное себе — в этом случае «Я» будет совершенствоваться в результате соревнования с ним.
Люди, в общем, всегда и выбирали правильный путь, иначе не было бы исторического прогресса. В качестве равного «Не Я» индивидуальное «Я» отделяло от себя ближних, самым понятным олицетворением которых была семья, в качестве высшего — власть, а если говорить о развитых обществах — государство. Недаром древние римляне считали, что у человека есть две величайшие ценности — его семья и его государство, которые, собственно, и помогают ему быть человеком. Семья стимулирует раскрытие его лучших душевных качеств, государство его дисциплинирует. Вот о каком «Не Я» должна бы говорить философия. А что говорит нам о нём Христос?
Он развивает эту тему с другого конца: говорит не о том, каким должно быть «Не Я», а о том, каким должно быть «Я». Рекомендация, даваемая Им по этому поводу, поразительна: человеку следует всячески умалять своё «Я»; в идеале свести его к нулю. «Кто возвышает себя, тот уменьшен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23:12). И эта установка красной нитью проходит через всё Евангелие, присутствуя во всех девяти заповедях блаженства, во многих поучениях Христа и в притчах, так что её можно назвать «философией самоусовершенствования». Может ли наша человеческая логика дать ей какое-то обоснование?
Может, и мы сейчас в этом убедимся, надо только определить, что в антропологии Евангелия соответствует фихтеанскому «Не Я». Это «Не Я» христианина — Бог. Человек должен найти Его внутри себя и перевести в ту область сознания, которая ощущается как «внешнее», и это будет не психологический акт, как у Фихте, а онтологический, ибо Бог реально присутствует в человеческой душе («Царствие Божие внутри вас есть» —Лк. 17:22), и так же реально Он пребывает вне нас. У Фихте появление «Не Я» — результат искусственного конструирования, здесь — принятие истины.
Бог в качестве нашего «Не Я» обладает уникальными свойствами, которыми не обладает ничто другое. Это «Не Я» настолько выше «Я», что последнему невозможно ни соревноваться с ним, ни использовать как спарринг-партнёра, ни подражать ему, и остаётся только либо признать свою перед ним малость, либо восстать на него, противоборствовать ему или, предчувствуя бесполезность этого, просто считать, что его нет. Второй вариант выбирают гордые, первый вариант — смиренные. Кто же из них поступает мудрее?
Смиренное «Я» сокрушается, съёживается перед великим «Не Я» и тем самым высвобождает в себе незанятое место. И тут происходит чудо: человеколюбец Бог, не желая, чтобы «Я» лишилось пространства, входит на опустевшую территорию и сливается с «Я», делая его своим совладельцем. Теперь уж не поймёшь, где человек, а где Бог. К гордому же «Я», раздувшемуся до крайних ределов, Богу войти просто некуда. Как точны слова апостолов: «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Иак. 4:6)!
Оказывается, восхитившая Европу философия Фихте была лишь искажённым и неполным отголоском философии Евангелия.
Богословский аспект Евангелия
Термин «Богословие» в русской этимологии означает «слово о Боге»; точнее его содержание выражено в греческом термине «Теология»: «логос о Боге», а «логос» — это не только «слово», но ещё и «мысль», «идея», «наука». Богословие — это человеческое знание о Боге.
Как люди обретают это знание? Главным его источником является Откровение — получение какой-то информации о Боге, исходящее от Него самого. Слово «Откровение» очень удачное: Бог открывается человеку в той мере, в какой хочет. Чем определяется эта мера? Об этом можно судить по одной фразе, сказанной Христом своим ученикам незадолго до казни: «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить» (Ин. 16:12). Бог рассказывает нам о себе ровно то, что мы можем усвоить, и преподаёт этомв такой форме, которая соответствует особенностям нашего восприятия, говоря с нами на нашем языке.
А теперь — внимание!— поговорим о смысле истории. В науке на этот счёт высказывались разные точки зрения: кто утверждал, что история движется в направлении материального прогресса, кто считал, что человечество развивается в сторону смягчения нравов, кто утверждал, что история не управляется какой-то определённой целью, а проистекает стихийно как результат борьбы интересов отдельных личностей и людских групп. Всё это чепуха, которую надо выбросить из головы, чтобы никогда к ней не возвращаться. История имеет один-единственный смысл, и он состоит в достижении человечеством максимального богопознания. Когда это познание будет достигнуто, история закончится.
Историческое бытие человека есть его пребывание в богословском училище, где он переходит из класса в класс, получая сначала самые общие сведения о Боге, а потом всё более и более подробные. Всё остальное — возвышение и падение царств, войны, возведение пирамид, дворцовая архитектура, рытьё каналов, рыцарские турниры, средневековая куртуазная поэзия, тайны Мадридского двора, открытие Нового Света, индустриальное общество, Лев Толстой, Сталин, Мао Цзедун — всё это побочно и вспомогательно, всё это — антураж, сопровождающий главное — поступательное движение человечества к познанию Бога.
Подготовительный класс в детском саду — Откровение о существовании невидимого бытия, управляющего видимым, переданное через шаманов и колдунов. Начальная школа — разъяснение языческих жрецов по поводу того, какой персонаж иного мира шефствует над таким-то сектором этого мира. Среднее образование людской род получил через древнеизраильских пророкои. возвестивших истину о единобожии. А высшее образование дал человечеству сам воплотившийся Бог, уточнив, в каком смысле надо понимать единобожие: Бог в своей сущности один, но в нём три Лица. Именно эта принципиально важная информация составляет богословское содержание Евангелия.
Отец, Сын и Святой Дух единосущны, нераздельны и неслиянны. В одних местах Евангелие говорит об этой Троице как о едином божестве, и тогда употребляет слово «Господь», а в других местах — отдельно о каждом из Лиц, называя их по именам.
Ещё до начала анализа евангельских текстов может возникнуть вопрос: следует ли ожидать от них исчерпывающей информации о Боге? И да, и нет. «Да» в том смысле, что в Евангелии сказано о Боге всё то, что нам необходимо о Нём знать для правильного устроения своей жизни. «Нет» в том смысле, что свойства Бога, не относящиеся к этому устроению, нам не сообщаются. Господь не поощряет нашего праздного любопытства, поэтому открывает людям о своей внутренней жизни далеко не всё, а лишь то, что может принести нам пользу,— скажем, стать примером для подражания. Это и имеет в виду Христос, говоря: «…кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Лк. 10:22). Что же Сын захотел открыть нам об Отце?
Прежде всего мы узнаём о единосущии Отца и Сына: «Я и Отец — одно» (Ин. 10:30). Это все христиане должны прочно усвоить, введя догмат о единосущии Троицы в Символ Веры. Приняв это исходное положение, мы можем извлечь из Евангелия информацию о функциональных различиях между Первым и Вторым Лицами Троицы.
«Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу» (Ин. 5:30). «…как заповедал Мне Отец, так и творю» (Ин. 14:31). Обратим внимание на следующую фразу: «Если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:15). Заметьте: прощает не Сын, а Отец — вот одно из функциональных различий. А может ли случиться такое, что Сын захочет простить кого-то, а Отец его не простит? Нет, этого никогда не произойдёт: «Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Ин. 5:22). Когда Христос судит кого-то или возвещает что-то, Он судит и возвещает Сам, но от имени Отца, давшего Ему безграничные полномочия. «…Я не один, но Я и Отец, пославшийМеня» (Ин. 8:16) и «…Как научил Меня Отец Мой, так и говорю» (Ин. 8:28). Вот в чём суть: Отец — воля, а Сын — исполнитель воли, но такой исполнитель, который всегда знает, в чём состоит эта воля. Это следует из Его собственных слов: «…Отец во Мне…» (Ин. 14:10). Если Отец в Сыне, то и воля Отца в Сыне, и Сыну незачем каждый раз спрашивать Отца, чего Он хочет — Сын получает ответ изнутри себя самого.
Что открывает нам Христос о своей земной миссии? Об этом всё сказано в одной фразе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Все остальные места Евангелия, имеющие отношение к земному служению Христа, лишь развивают и детализируют это фундаментальное Откровение. Церковь сформулировала его в виде догмата Спасения, вошедшего в Символ веры:
«Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго с Небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася, распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена, и воскресшаго в третий день по писанием, и восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца, и паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца».
Важное богословское содержание заключает в себе фраза Христа, произнесённая на допросе у Пилата: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). На первый взгляд это просто констатация факта двухслойности бытия: есть, дескать, слой видимый, материальный, а есть невидимый, идеальный, и Я принадлежу не к первому слою (к «миру сему»), а ко второму. Но о дуалистичности сущего люди знали с тех пор, как появились на свет, так что ничего нового в такой информации не было бы. Что же хотел сказать Христос Пилату? Понять этот скрытый смысл позволяет другое Его речение. На Тайной вечере Иисус сказал апостолам: «Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14:30).
Это совершенно другой принцип дихотомии всего сущего, т.е. его разделения на две части. Одна дихотомия — видимое и невидимое («земля» и «небо»), другая — Божеское и сатанинское, и они не совпадают: и в видимой составляющей, и в невидимой присутствует как божественное, так и дьявольское. Эту космологию Евангелие напрямую связывает с пневматологией — учением о Третьем Лице Пресвятой Троицы, Святом Духе, которому Христос уделяет особое внимание, подробно раскрывая эту тему в Евангелии от Иоанна. Иисус говорит тайно навестившему его иудейскому начальнику Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие, рожденное от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше» (Ин. 3:5).
Вторая дихотомия важнее первой. Первая производится по внешнему, формальному признаку, строго говоря, не по принадлежности к материальному или идеальному, а по принадлежности к грубой («дебелой») плоти или к тонкой, ангельской плоти, ибо совершенно бесплотен один только Бог. Это примерно то же, что делить земное вещество на твёрдое и жидкое. Вторая дихотомия использует более существенный признак: жизнь с Богом и в Боге или пребывание вне Бога и без Бога, которое, согласно Евангелию, даже нельзя назвать жизнью. «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плоды сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают» (Ин. 15:4-6). Этот потрясающий текст содержит в себе сразу два божественных сообщения: о мироустройстве и о том, как человеку надо в него вписываться. Это одновременно и глубокая философия, и самый что ни на есть практический рецепт поведения, который каждый разумный человек должен был бы написать на листе бумаги крупными буквами и повесить на стену. Вторая дихотомия, о которой Иисус говорил Никодиму,— это разделение на то, что есть жизнь, и то, что есть смерть.
Православие учит, что Бог вездесущ. Пантеизм учит, что Бог везде и во всём. Однако православие и пантеизм — совершенно разные религии, более того, с точки зрения православия пантеизм является ересью. В чём же разница в их взглядах по этому вопросу?
Разница очень большая. Православие, признавая факт всеприсутствия Бога, тут же оговаривается, что Он присутствует в разных объектах и субъектах в разной степени и в разных смыслах; пантеизм же утверждает, что Бог пребывает во всём одинаково и в одном и том же, самом прямом смысле. Такое примитивное, «лобовое» понимание Божьего вездесущия делает пантеизм абсолютно бесплодным, ибо для вызревания любых плодов необходимо движение соков, а без разности потенциалов не может быть никакого движения.
Внимательное изучение Евангелия приводит к заключению, что имеют место три зоны богоприсутствия. В первой зоне функционально и акцентированно присутствуют все три Лица Пресвятой Троицы; эта область бытия есть Царство Божие. Во второй зоне присутствует вся Троица, но Святой Дух не проявляет себя в качестве активного начала. Это — та часть сущего, которая благодаря активному пребыванию в ней Христа приглашается присоединиться к первой его части, т.е. войти в Царство Божие. Третья зона — та, в которой присутствует в качестве наблюдателя только Отец и о которой Сын сказал, что Он с ней не имеет ничего общего. Иными словами, в зависимости от меры богоприсутствия бытие разделяется на три области: уже спасённую, призываемую к спасению и обречённую на погибель, и динамика их взаимодействия есть процесс Божественного Домостроительства.
Спасительный аспект Евангелия
«Евангелие» в дословном переводе с греческого означает «Благая весть». О каком же благе извещает нас Христос в этом тексте?
Он извещает о величайшем благе из всех, о которых может мечтать человек,— об открывшейся возможности избежать, казалось бы, неизбежной смерти и тления и перейти туда, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная» — в царство вечного блаженства. Первым возвещает об этом даже не сам Христос, а идущий перед Ним Предтеча:
«В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:1).
Как нужно понимать это место?
Вспомним, что почти каждое евангельское речение имеет не один уровень смысла: копнёшь глубже, найдёшь что-то ещё. Здесь содержатся по крайней мере два смысла. Прямой смысл слова «приблизилось» чисто пространственный: раньше олицетворяющий Царство Небесное Сын Божий был далеко, «на небе», а теперь Он сошёл на землю и вот-вот мы увидим Его своими глазами и сможем даже к Нему прикоснуться. Вскоре после этого пророчества Крестителя живое «Царство Небесное» действительно явилось народу, как это изображено на знаменитой картине Иванова, выставленной в Третьяковской галерее.
Второе значение иоанновых слов лежит гораздо глубже, и, чтобы расшифровать его, нужно прочитать всё Евангелие и проникнуться его духом, уловить его сквозную идею. Сошествие Бога Сына на землю приблизило Царство Небесное к людям в том смысле, что предвещало скорое открытие в него доступа, ранее не существовавшего. Препятствием для входа туда человеческих душ был наследственный первородный грех, сделавший их непригодными для пребывания в этом Царстве, ибо со своими порочными склонностями они не впишутся туда, подобно тому, как заматерелый развратник не впишется в общество нравственных и благочестивых граждан. Причём, как развратник, погрязший в трясине мерзостей, сам уже не может из неё выкарабкаться, а нуждается в том, чтобы кто-то сильный подал ему руку, так повреждённые прародителями людские души сами не могли себя переделать; поэтому все до единой были обречены на смерть и тление.
Бог, желающий «всем спастися и в разум истины прийти», решил подать погибающему человечеству свою сильную руку и вытащить его из гибельной трясины. Эта операция не могла бы осуществиться без воли Отца и без участия Святого Духа, но производилась она, как и сотворение мира, через Сына, поэтому Он выступает в Священном Писании под именем Спасителя.
Каков был божественный Замысел спасения людей и как он был реализован — об этом можно судить, во-первых, по Новозаветному Откровению (Евангелие плюс апостольские послания), во-вторых, по богословским определениям церковных соборов, в-третьих, по творениям православных Святых Отцов, отличающихся от древних пророков только тем, что те жили до Христа, а эти — после. Анализ всех трёх источников позволяет в общих чертах воссоздать следующую картину.
Прежде всего надо отметить, что Бог подаёт свою спасающую десницу всем людям, но не все хотят за неё ухватиться, так что в этом случае дело спасения утопающих отчасти есть дело самих утопающих. Никакого принудительного спасения Бог не производит — это противоречило бы Его незыблемому принципу ненарушения человеческой свободы. Многие ли принимают внешнюю помощь? Их число, вероятно, бывает разным в разные периоды истории, определяясь как внешними, так и внутренними причинами, но в первом веке новой эры Христос сказал, что вратами, ведущими в вечную жизнь, войдут «немногие» (Мф. 7:14).
Как же происходит спасение тех, кто хочет спастись; в чём заключается помощь Бога и что должен делать тот, кто её принимает?
Подумаем сначала: в какой из составляющих нашего «Я» засел первородный грех? Ответ очевиден: в душе. Если от него и пошли болезни плоти, то это уже артефакт. Если бы грех гнездился только в нашей плоти, а в душе его не было бы, то душа всякого человека спокойно отправлялась бы после смерти плоти прямиком в рай, и никакой проблемы спасения не было бы. Но первородный грех, который есть генетическое повреждение души, должен повреждать что-то, некую общую для всех поколений субстанцию, связывающую эти поколения своей повреждённостью. Имеет ли человеческая душа эту субстанциальную основу, которая и была повреждена ослушанием Адама и Евы?
Несомненно такая основа существует, и наши души сотканы «из чего-то». Все народы во все времена представляли себе и изображали души умерших людей похожими на самих этих людей, следовательно, имеющими форму. Неопровержимые богословские доказательства субстанциальности души привёл в своём гениальном эссе «Слово о смерти» Игнатий Брянчанинов; после него тут нет больше места для споров. Прямое подтверждение тому, что душа не совершенно бесплотна, приводят многие люди, пережившие клиническую смерть: они единогласно свидетельствуют о том, что, покинув тело, продолжали иметь подобие тела и ощущали что-то вроде рук и ног. Эту «субстанцию души», сходную, по-видимому, с ангельской субстанцией (ангелы тоже имеют руки и ноги и даже крылья), святитель Игнатий, как и многие другие авторы, называет «тонкой материей». В отношении человека можно сказать, что в его «Я» наряду с грубым, биологическим телом входит другое, более тонкое тело, которое и есть душа: оно-то и отделяется от грубого тела в момент его смерти и продолжает своё независимое существование. Ясно, что нарушение запрета вкушать от древа познания добра и зла повредило не физические тела наших прародителей, а их душевную субстанцию, сделав тонкие тела их самих и их потомков «не вхожими» в Царство Небесное. Для того чтобы сделать человека способным в него войти, Богу надо было дать ему взамен старого новое, неповреждённое тонкое тело. А где было его взять? Отец решил эту задачу так: послал Сына своего в тварный мир, чтобы Он оделся в человеческую плоть, как тонкую, так и грубую, с самого первого момента её формирования в утробе матери и вырастил её до зрелой стадии уже без греха и его последствий. Так к окончанию земной жизни Сын Божий оказался облечённым уже в пригодную для нахождения в Царстве Небесном тонкую плоть, которую, возвратившись к Отцу, передал в Его распоряжение. Теперь каждый человек получил шанс заменить этой плотью свою, выполнив для этого ряд условий. Каковы эти условия?
Первым из них является желание спасаться. Чтобы оно возникло, необходимо осознать бедственность своего положения, почувствовать страх перед погибелью души, а он может охватить лишь того, кто поверил евангельскому Откровению о загробном воздаянии, о том, что душа нераскаявшегося грешника пойдёт «во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 8:12). Более возвышенный стимул — мечта о попадании в рай, но и для этого нужно воспринимать рай с его вечным блаженством не как метафору, а как несомненную реальность. Таким образом, в обоих случаях исходным условием служит вера. Христос многократно подчёркивает это: «…верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Ин. 3:36). «Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт» (Ин. 11:25). «…верующий в Меня не умрёт вовек» (Ин. 11:26). «Несли кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его: ибо Я пришёл не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Ин. 12:47).
«Кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16).
Будучи вырванными из контекста, эти фразы могут создать впечатление, будто для спасения души достаточно одной только веры во Христа. Именно так говорят протестанты — это один из их фундаментальных догматов. Православие отвергает такое утверждение как еретическое. Оно основано на очень поверхностном, легковесном истолковании произнесённого Христом слова «вера». Для Него это не субъективная эмоция, о которой знает только тот, кто её испытывает, а устойчивый настрой сознания, имеющий объективное выражение, т.е. вера, подтверждённая делами. Для Бога важны не наши похвальбы своей вере, а поступки, диктуемые верой. Тем, кто имеет уши, чтобы слышать, Иисус говорит это языком притчи:
«А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подошед к первому, сказал: сын! пойди, сегодня работай в винограднике моём. Но он сказал в ответ: «не хочу», а после, раскаявшись, пошёл. И подошед к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: «иду, государь», и не пошёл. Который из двух исполнил волю отца?» (Мф. 21:28-31). Апостол Иаков даёт краткое разъяснение этой мысли: «…вера, если не имеет дел, мертва» (Иак. 2:17). Хотя Бог сердцеведец, Ему нужны от нас внешние проявления веры как гарантия её серьёзности, поэтому Он проверял веру Авраама испытанием на поступок. Такому жёсткому экзамену Он подвергает не каждого, но от всех, кто желает спастись, хочет получить доказательство искренности как этого желания, так и порождающей его веры, каковым служит требующее значительных усилий исполнение евангельских заповедей. Это — второе условие, которое вместе с первым образует не только необходимую, но и достаточную предпосылку спасения.
Убедившись, что человек выполняет оба поставленных Им условия, Христос передаёт его в руки Святого Духа. Он-то и осуществляет в последовательности церковных таинств ту мистическую трансплантацию, которая постепенно вытесняет из регулярно участвующего в этих таинствах «ветхое» тонкое тело и замещает его телом Христовым, пронизанным святостью, т.е. безгрешностью. Это как раз и имел в виду преподобный Серафим Саровский, говоря, что единственной целью христианской жизни является стяжание Святого Духа.
Подытоживая сказанное о спасении, можно свести его к краткой формуле: спасение есть вхождение человека в ту зону бытия, где наряду с Отцом и Сыном постоянно пребывает Святой Дух — неважно, происходит ли это вхождение лишь после смерти или ещё в земной жизни. Многие святые уже на земле начинали вести небесный образ существования.
Политический аспект Евангелия
Если мы видим в Евангелии учебник жизни, написанный Тем, кто дал нам эту жизнь и знает все её секреты, то помимо подробных рекомендаций относительно устроения личной жизни, содержащихся в заповедях и притчах, естественно ожидать найти в нём столь же развёрнутые рекомендации насчёт устроения жизни коллективной, в частности, сравнительную оценку разных политических форм и указания на наиболее предпочтительные из них. Но при чтении Евангелия такие ожидания быстро рассеиваются: политология там полностью отсутствует. Многих христиан такой пробел изрядно разочаровывает: как же так, Господь не посоветовал нам, за кого голосовать на выборах — за коммунистов, либералов или монархистов?
На самом деле никакого пробела в Новом Завете нет: относительно коллективного бытия в нём даны не только не менее жёсткие инструкции, чем относительно индивидуального, но даже более чёткие, ибо они, в сущности, сводятся к напоминанию о том, что ВСЯКАЯ ВЛАСТЬ ОТ БОГА, поэтому не то что бунт против власти, но даже её критика абсолютно недопустимы для христианина, ибо это отдаёт уже тягчайшим из грехов — богохульством. Бог, творящий историю и направляющий её ход к определённой, одному Ему известной цели, знает, какую власть поставить в данной стране в данный момент времени — карающую, вразумляющую, поощряющую или ещё какую-то,— и требовать её изменения на другую — значит мнить себя более умным и дальновидным, чем Бог, а это уже не что иное, как дьявольская гордыня.
Божественное происхождение всякой верховной власти — кажется, единственный тезис, который энергично провозглашают сразу три высших авторитета: сам Христос (Ин. 19:11), первоверховный апостол Пётр (1Пет. 2:13) и первоверховный апостол Павел (Рим. 13:1). Но вот парадокс: несмотря на предельную весомость этого наставления, люди, искренне считающие себя православными, нынче целыми днями перемывают косточки властям, не только нарушая этим заповедь «не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1), но и впадая в косвенное богохульство. И таково массовое поведение людей, регулярно посещающих церковь и слушающих на литургии чтение Евангелия, не говоря уж о том, что они иногда читают эту книгу и дома. В чём причина такого поведения?
Объяснить этот феномен можно только тем, что здесь основательно поработал ненавистник Бога, издавна мечтающий низвергнуть Его и сесть на всемирный престол, а людей сделать своими приспешниками, так что, поднимая эту тему, мы переходим из сферы богопознания в сферу демонологии.
Власть и её структурное оформление — государство — есть не просто величайшая ценность человека, как говорили о ней древние римляне, она есть необходимое условие существования человека и как личности. Самыми страшными моментами истории, когда всё смешивалось в жутком хаосе, когда рушились все мечты и планы, когда жизнь человеческая не стоила и медного гроша, когда бытие проваливалось в тартарары, были моменты безвластия. У России такой момент был не так давно, его отделяет от нас всего три-четыре поколения, и мы можем достаточно ярко воспроизвести его в своём воображении, если не по рассказам стариков, то по художественной литературе. Почитайте «Солнце мёртвых» Шмелёва, почитайте «Окаянные дни» Бунина и спросите себя: что за картина предстала глазам этих чутких и наблюдательных авторов? Конечно же, это была картина ада. Бесы, пришествие которых предвидел Достоевский, когда они только ещё зарились на наше отечество, наконец дорвались до него и превратили его в свою вотчину. Что же не давало им сделать это раньше?
Процитируем одно очень интересное место из послания апостола Павла христианам фессалоникийской церкви. Среди них распространились слухи о приближении конца света, и Павел успокаивает их:
«Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, доколе не придёт прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, ещё находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в своё время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь» (2Фес. 2:3-7).
Расшифровкой загадочного слова «удерживающий» занимались многие богословы. У нас принято считать, что таковым был русский царь Николай Второй, «взятие от среды», т.е. свержение которого зажгло зелёный свет революционным бесам. Предположение о том, что апостол Павел пророчествовал на две тысячи лет вперёд, ещё допустимо, но такая трактовка не проходит по другой причине: он говорит об «удерживающем теперь», т.е. в его время. А в это время императором в Риме был Нерон. Так кто же удерживающий — Нерон или Николай? Конечно, оба. «Удерживающий» — это не персона, это роль, которую в разное время могут играть разные персоны, это носитель верховной власти. Уберите человеческую власть, и распахнутся врата перед властью сатанинской. Человеческая власть, сам институт власти — это то, что Бог ставит на пути рвущемуся к мировому господству дьявола.
Я отдаю себе отчёт в том, что это утверждение настолько противоречит романтическому восприятию революций, которое внушалось нескольким последним поколениям русских людей, особенно при советской власти, которая сама была плодом революции и, естественно, преподносила её как величайшее благо. Но чтобы понять суть исторического процесса, необходимо решительно расстаться с этим восприятием. Суть истории — битва Бога с дьяволом, разворачивающаяся во времени, а поле битвы — человечество. И любая успешная революция есть временная победа дьявола над Богом. Так просто? — спросите вы; да, всё истинное чрезвычайно просто. Но хвостатому невыгодно, чтобы мы усваивали простые истины, поэтому он старается обставить свои примитивные действия сложными декорациями, и люди видят не то, что происходит на самом деле. Одержимый бесом тщеславия и властолюбия несостоявшийся узурпатор Пестель соблазнил своими призывами к свободе юного Пушкина, и тот наскоро сочинил стихотворный гимн декабристам, но потом подумал и понял, что они готовили России не «звезду пленительного счастья», а море крови и тиранию, и стал монархистом. Тем не менее через сто с лишним лет советские кинематографисты продолжали воспевать пестелевскую бесовщину, выпустив под этим названием насквозь лживый, приторно сентиментальный фильм, и неудивительно, что на него опять купились многие — ведь далеко не все обладают таким чутьём к правде, каким обладал Пушкин.
Впрочем, при всей своей хитрости лукавый иногда проговаривается. Его рога вылезли в главном революционном гимне, где поётся «никто не даст нам избавленья: ни Бог, ни царь и не герой». Потрясающее саморазоблачение! На первом месте среди тех, кого надо отстранить от попечения о людях, поставлен Бог! Понимал автор гимна (истинный автор, а не формальный), что выдаёт себя, но так сильна его ненависть к Богу, что не смог удержаться и не лягнуть Его ещё раз. Да, да, все революции совершались под антихристианскими лозунгами: Кромвель был крайним протестантом, Французская революция была вскормлена материализмом деятелей Просвещения, русские революционеры пели «мы на небо залезем, разгоним всех богов», жгли иконы, разрушали храмы и убивали священников.
Скажут: но ведь революции существенно влияли на ход мировой истории, являлись важными вехами на пути развития общества, и, если Бог допускал их, значит, они содействовали осуществлению Его замысла о людском роде. Нет, это не так. Революции суть как раз не что иное, как попытки дьявола сорвать осуществление Замысла, поэтому не помогают, а мешают ему, но «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6:7), и задуманное Им в конечном счёте реализуется, только не благодаря революциям, а вопреки им. Кромвель поубивал тысячи ирландцев и казнил короля, но через какое-то время ирландцы оправились и восстановили свою национальную идентичность, а монархия тоже была восстановлена. Такое же цареубийство было совершено во Франции в 1793 году, а уже в 1804-м на французский трон взошёл даже не король, а император. В 1917 году революционеры развалили Российскую империю, а через двадцать лет на её месте появилась куда более мощная сталинская империя. Общая жалоба всех сынов погибели, совершающих революции,— «за что боролись, на то и напоролись». Но никакой жалости история к ним не проявляет: всем известно, что революции в первую очередь пожирают своих собственных детей.
Пособниками рогатого являются не только те, кто непосредственно совершает революцию — берётся за оружие, чтобы свергнуть власть,— но и те, кто подготавливает для них идеологическое оправдание. Снабдить бунтовщиков благородной аргументацией, пожалуй, важнее, чем раздать им винтовки, а именно это делают те, кто постоянно критикует власть, придирается ко всякой её ошибке, по всякому поводу обливает её грязью, непрерывно брюзжит на неё и всегда недоволен ею, что бы она ни делала. Страшно говорить об этом сегодня, когда вся наша интеллигенция только этим и занимается, но истина дороже, и приходится сказать, что она заключается в следующем: значительный процент нынешних российских граждан, пусть бессознательно, льёт воду на мельницу сатаны, ибо нельзя сидеть между двух стульев, а Евангелие категорически запрещает заниматься дискредитацией и охаиванием власти, ибо она всегда от Бога. Этот вопрос в нём вообще даже не обсуждается. Апостол Павел оставил нам совершенно ясное наставление: властям «надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести» (Рим. 13:5), т.е. без всякого брюзжания принимать к исполнению их распоряжения.
Как же лукавому удалось такую массу людей, среди которых много православных верующих, вовлечь в грех, по своей сути являющийся богохульством? Ничего особо оригинального он не придумал: здесь, как и во всех других случаях, он пользуется своим излюбленным приёмом — подменой понятий. Брюзжащему на власть гражданину он подсовывает благородную мотивацию: я, дескать, борюсь за интересы народа, хочу, чтобы повысились пенсии, выросли зарплаты, сократилась дистанция между богатыми и бедными, не разбазарились природные ресурсы, пресекалась коррупция и т.п.— одним словом, хочу, чтобы моя страна была благоустроенной и богатой. Разумеется, этого же самого хочет и власть, ибо ей престижнее и выгоднее править благоустроенной и богатой страной, чем территорией, где нет ни порядка, ни изобилия, но власть ищет реальные пути к этому, а фрондёр ничего искать не желает, ему подай сразу всё и немедленно. Кстати, если бы власть каким-то чудом ухитрилась выполнить все его.требования, он всё равно был бы недоволен — нашёл бы, на что поворчать. Ведь на самом деле власть нужна ему не в качестве инструмента создания внешнего комфорта, а как объект, на который можно изливать своё негодование и благодаря этому испытывать внутренний комфорт, доставляемый сознанием собственного благородства. На пенсионеров обличителю начальства в действительности наплевать, но, рассказывая всем, как ему их жалко, можно ощутить себя человеком, который по своим душевным качествам стоит много выше руководителей государства. Вот на этом-то чувстве и играет бес критики власти, а именуется оно на языке Церкви гордыней. В ней богоподобие человека, которое действительно имеет место, подменяется его божественностью, которой не существует. Обуянный гордыней человек сначала мнит себя равным Богу, а потом и превосходящим Его (старик, мол, отстал от жизни), и начинает в лице поставленной Им власти поучать Его, как вершить историю, а нечистый при этом потирает руки от радости.
В этой части книги мы освежили в памяти некоторые из великих истин Евангелия, относящихся к тому, как надо жить. Перейдём теперь к проблемам применения этих истин к конкретным условиям современности. Это будет её вторая часть.
Часть II. Мёртвое опять предпочли живому. Кто воскресит на этот раз?
Великий перелом
Высказывать оценочные суждения об исторических событиях всегда следует с большой осторожностью. О тех, которые происходили давно, мы просто мало знаем, поэтому тут легко увлечься фантазиями, а более близкие к нам и хорошо документированные события нельзя категорично относить к «плохим» или «хорошим» хотя бы потому, что мы не знаем об их дальних последствиях, которые обнаружатся в будущем. Кинорежиссёр Рязанов мудро заметил, что «у природы нет плохой погоды! Всякая погода благодать»; так же мудро надо относиться и к истории: в ней всё идёт так, как должно идти, ибо она управляется Богом, а Он даже дьявольскую порчу истории умеет в конечном счёте обратить на пользу.
Несколько столетий европейской жизни, последовавших за гибелью античной цивилизации, историки называют «тёмными веками», и этот термин часто воспринимается как указание на культурную деградацию, на одичание. В действительности же, если эти века и можно назвать «тёмными», то только в трм смысле, что жизнедеятельность европейцев, раньше проявлявшая себя во внешней активности, теперь в значительной мере ушла внутрь человека и стала невидимой для стороннего наблюдателя. В античности, особенно в поздней, человек направлял свою жизненную силу на преобразование окружающего мира, теперь он перенаправил её на преобразование самого себя. Слова апостола Павла «кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое» (2Кор. 5:17), сказанные в середине первого века, были не констатацией факта, а пророчеством: тогда во Христе пребывала только небольшая кучка обратившихся, а «древнее» не только не прошло, но и господствовало, удерживая людей мёртвой хваткой.
Создавать «новую тварь» из старой в биологическом смысле запрещено законами природы: как доказал академик Алтухов, виды животного мира неизменяемы. Какими были волк и медведь сто тысяч лет назад, такими остаются и сегодня. Так же отчаянно сопротивляется природа изменению внутреннего мира человека, появлению «новой твари» в психологическом смысле. И если предречённая апостолом «новая тварь» всё-таки появилась, то только потому, что тут вмешался Бог, для которого нет ничего невозможного. Доказательством Его участия в этом процессе служит то, что многочисленные попытки создать «нового человека», предпринимаемые в разное время разными идеологами, ни к чему не привели. Нового человека хотели вырастить, например, марксисты-ленинцы; чем это кончилось, мы хорошо знаем: «Кодекс строителя коммунизма» оказался лишь ухудшенной версией Нагорной проповеди. Но и при содействии свыше вызревание «хомо сапиенс христианикус» потребовало нескольких веков — тех самых, которые окрестили «тёмными».
Это вызревание началось не сразу — для него нужна была затравка. В Новом Завете этот процесс сравнивается с брожением теста. «Малая закваска заквашивает всё тесто (Гал. 5:9). Но на приготовление закваски тоже понадобилось время, она изготовлялась поэтапно. На первом этапе активно действовал Святой Дух, изливавшийся на избранных так обильно, что они увидели небо отверстым и ощутили слияние с Христом большей реальностью, чем всё остальное, поэтому оторвать их от этого блаженного слияния не могли никакие репрессии. Это был период патетики. На следующем этапе в процесс включились лучшие представители римских образованных слоёв, разглядевшие в христианстве не дикое суеверие, каким его воспринимало большинство, а достойную изучения философскую систему, и стали публиковать оправдывающие его исследования — это был период апологетики. Затем сами христиане осознали необходимость подвергнуть логическому анализу собственную веру, и так процесс вступил в фазу создания догматики. В этот период (в 325 году) было написано краткое изложение мировоззренческой основы христианской религии — Символ веры. Оставалось довести эту основу до сознания всей паствы, и так началась просветительская работа выдающихся учителей Церкви — педагогика. Каждый из этапов занял около столетия; и к концу V века закваска была готова, и дальше тесто должно было вскисать естественным путём. Как раз в это время Западную Римскую империю захватили германские племена, и они-то, приняв христианство, и стали половиной теста, другая половина которого продолжала независимое существование на территории отделившейся в 395 году восточнохристианской Империи (Византии) на Малоазийском полуострове. С этого момента две половины стали бродить по-разному, и выпеченные из них в дальнейшем «новые твари» получились разными и по виду, и по вкусу, и по запаху. Та часть христианского теста, которая вскисла в Европе, произвела современную западную цивилизацию, другая — русскую православную цивилизацию.
То, что существуют разные типы человеческого сознания, есть эмпирический факт, всем хорошо известный. Как синтезировать эти типы, каким классификационным принципом правильнее всего воспользоваться? Одной психологии эта проблема не по плечу — её деление людей на холериков, сангвиников и меланхоликов исходит из артефактов и не затрагивает подлинно существенного. Тут без философии не обойтись, поэтому мы снова вспомним Канта и Фихте. Кант развил идею Парменида и Джорджа Беркли о том, что так называемый мир внешний в действительности находится внутри нашего сознания и, если говорить строго, должен быть назван «образом внешнего мира», и пытался описать механизм, с помощью которого людское сознание вырабатывает этот образ. Фихте пошёл дальше и объяснил (как ему казалось), что именно наше «Я» отчуждает от себя в этом образе в качестве «Не Я» и зачем оно это делает. Это был несомненный шаг вперёд в деле познания человеком самого себя, но и Кант, и Фихте, вполне заслужив звание «настоящих философов», допустили серьёзную ошибку, которая, возможно, была связана с чисто немецкой чертой — самоуверенностью и безапелляционностью суждений. Недаром Лев Толстой говорил, что «немец самоуверен противнее всех, потому что он верит в науку, которую сам выдумал и считает абсолютной истиной». Это очень точная характеристика всей «классической немецкой философии», в которой нет места ни малейшему сомнению в своих тезисах. Немецкий философ не беседует с читателем, он вещает. Свойство Канта и Фихте состояло в том, что они ничтоже сумняшеся возвестили миру: механизм выработки образа внешнего мира и принцип отделения в этом образе «Я» от «Не Я» один и тот же во все времена и у всех людей. Эта абсолютизация делает кантианство и фихтеанство почти бесплодными, во всяком случае, ничего не дающими для классификации типов сознания, ибо разных типов в этих системах просто не может быть: сознание действует у всех людей по одним и тем же законам.
А между тем причины, которыми руководствуется человек в распределении материала своего сознания между «Я» и «Не Я», как раз и определяют тип его сознания. Это вполне понятно: как зоолог классифицирует животных по структуре тела, так философ должен классифицировать людей по структуре души.
В языческие времена человек отчуждал от себя в качестве «Не Я» порождаемый его фантазией мир бесплотных деятельных и могущественных сил, в совокупности составляющих «природу», точнее её «душу», её животворящее начало. У разных народов эти силы обретали разные конкретные выражения и разные имена, которые сохранились в фольклоре и мифах. Их такое множество, что перечесть зсех невозможно: тут мы встречаем Изиду, Озириса, Ра, Амона, Атона, Дажбога, Перуна, эльфов, троллей, нимф, фей, леших, русалок, кикимор, Зевса, Геру, Гефеста, Посейдона, полубогов и титанов вроде Геракла и Прометея, и прочую «всякую нечисть», как выразился о ней Высоцкий. Общим свойством членов этого языческого пантеона было то, что входящие в него персонажи наделялись точно такими же свойствами, какими обладают люди: они были завистливы, властолюбивы, тщеславны, злопамятны, мстительны; они строили друг другу и людям различные козни, в общем, были совершенно антропоморфны. «Природа» язычника состояла из тех же несовершенных людей, только бессмертных и располагавших большими возможностями. Каковы же были отношения между языческим «Я» и его «Не Я»? Они напоминали отношения между дворней и помещиками в преддверии реформы: крепостные всё ещё побаивались барина и угождали ему, но умели кое в чём перехитрить его и, нащупав его слабые места, добиваться от него различных милостей. Истинного уважения крепостного к своему хозяину уже не было. Оказывая ему внешние знаки почтения, он в душе презирал его и мечтал о его гибели и переходе его земли в собственное владение. Недаром в это время крестьяне так часто пускали на барские усадьбы «красного петуха». Язычник боялся своего божка и старался умилостивить его дарами, иногда даже человеческими жертвами, но всегда был не прочь разыскать его «Кащееву иглу», чтобы сломать её и избавиться от власти божка над собой.
Такова была в самых общих чертах структура сознания дохристианского человека. Его «Я» вынуждено ограничивало себя, уступая место более сильной «природе», но готово было при любом удобном случае расшириться. Оно и расширялось со временем: по мере того как Геракл побеждал порождённых природой чудовищ, а Прометей учил пользоваться похищенным у богов огнём, люди всё более наглели в отношении этих своих богов, их «Я» оттесняло «Не Я» всё дальше, и в конце античного язычества за ним оставалась лишь второстепенная окраинная территория греко-римского внутреннего мира.
Этот тип сознания вырабатывался в людях тысячелетиями и укрепился в них настолько прочно, что стал их второй натурой. В этом убеждает такой факт: как только христианин, воспитанный в традициях совершенно другого мировосприятия, отходит от своей веры, он моментально становится никем иным, как язычником. Яркий пример тому — представители современной культуры. Вы подумайте, как нынещние популяризаторы науки рассказывают по телевидению о животных и растениях: с их языка то и дело срываются такие фразы, как «природа нашла выход и снабдила вид остроумным приспособлением…» или « природа обошла эту трудность таким способом…». Они, сами того не осознавая, наделяют природу умом, изобретательностью и предусмотрительностью, т.е. свойствами, которыми может обладать только живое существо, а значит, косвенно признают наличие леших, водяных и прочих разумных тварей, управляющих соответствующими секторами природы.
Христианство сделало то, что естественным путём никогда не могло бы сделаться: в корне изменило структуру человеческого сознания. Прежде всего поменялась внутренняя установка личности, вектор воли повернулся в противоположную сторону. Раньше человеческое «Я» сжималось только вследствие усиления «Не Я» («внешнего мира») и при его ослаблении раздувалось как стратостат, вошедший в высшие слои атмосферы; теперь оно обрело желание как можно более сокращаться, учась делать это добровольно и находить в этом радость. Это — главное свойство «новой твари», называемое смирением, без наличия которого человек просто не имеет права называть себя христианином.
Противоположен прежнему и принцип распределения материала сознания между «Я» и «Не Я». В своё небольшое и всё уменьшающееся «Я» христианин собирает не лучшее, как это делают язычники — лучшее он отчуждает в «Не Я»,— а всё самое гадкое и мерзкое. Это искусство он совершенствует до гроба, так что на склоне лет подлинный христианин совершенно искренне чувствует себя последним из людей. Один великий святой перед смертью просил окружавших его учеников, чтобы они выбросили его труп в лес на съедение зверям, ибо большего он недостоин. Когда же наступил час его кончины, другой святой, подвизавшийся неподалёку, увидел, как его душа подобно молнии, минуя все мытарства и заставляя демонов отшатнуться, вознеслась прямо к Богу.
Третьей существенной характеристикой христианского сознания, может быть важнейшей, является то, что центральное и доминирующее место в его «Не Я» отводится единому в трёх Лицах Богу, т.е. Пресвятой Троице, а в ней — Второму Лицу, Христу, который Её и олицетворяет. Если в остальном «Не Я», в частности в образе других людей, для христианина собрано всё хорошее, высокое и благородное (в отличие от того плохого, низкого и нечестивого, что наполняет его «Я»), то в образе Христа для него сосредоточено всё святое.
Как это объяснить? Для этого надо было бы дать определение понятию святости, но это невозможно. Вы замечали, что самые фундаментальные элементы наших рассуждений, на которые опирается вся их логика, сами логически неопределимы? Легко убедиться на примерах, что это именно так. Попробуйте-ка «научно» объяснить, что такое «смешно» — ничего у вас не выйдет. А ведь в самом что ни на есть научном, т.е. логически строгом тексте, последним и окончательным опровержением теории оппонента может послужить утверждение, что она «просто смешна». Если прислушаться, обнаружится, что все наши разумные речи базируются на понятиях, в компетенцию разума не входящих.
Иначе и не может быть. Система рассуждений создаётся мыслью, следовательно, в какой-то мере она есть измышление, и, чтобы не быть домыслом, она должна возводиться над чем-то абсолютно надёжным, данном нам непосредственно, а так нам даны только чувства. Одним из них является ощущение святости чего-либо, чувство, возникающее по отношению к святыне. Бесполезно определять, что это за чувство: тот, кто его испытывал, и так знает, а кто ни разу не испытал, тому не объяснишь. Но, думается, хоть раз в жизни, хоть в какой-то зачаточной форме оно шевельнулось в душе каждого человека, так что апелляция к внутреннему опыту тут не совсем бесплодна. Свои святыни — например мумия Ленина — были даже у советских атеистов. Закоренелые преступники, для которых чужая жизнь ничего не стоит, выкалывают у себя на руке слова «не забуду мать родную». Владимир Соловьёв считал, что ощущение святыни является одним из трёх элементов нашего внутреннего мира, которые отличают человека от животных (другие два — чувство стыда и чувство сострадания). В любом случае ощущение святыни настолько реально и специфично, что оно может быть вызвано только соприкосновением с какой-то внешней специфической реальностью. Этой особой объективно существующей субстанцией, которая, действуя на субъект, производит в нём ощущение святости, является, конечно, Святой Дух, в субстанциональности которого не может усомниться тот, кто ощутил на себе Его действие.
Святилища, священные предметы и священные изображения археологи обнаруживают уже у самых первых представителей гомо сапиенс — у кроманьонских людей. Было всё это и у язычников. Но трепет, который они испытывали перед своими святынями, был трепетом страха. В их «Не Я» гнездились грозные образы вроде гоголевского Вия, готовые напасть, поглотить, наказать непочтительно относящегося к ним человека. У христиан же священный трепет стал трепетом любви и надежды. «Упование моё Отец, прибежище моё Сын, покров мой Дух Святой»,— поёт он в своей молитве. Даже в Ветхом Завете единый Бог Израиля — в основном карающее существо, очень даже умеющее гневаться; в Евангелии Христос «хощет всем спастися и в разум истины прийти». Всем! И всем помогает спасаться.
Три небывалых принципа структурирования сознания — умаление своего «Я», включение в него всего самого худшего и включение в «Не Я» в качестве доминанты образа недосягаемой святости и бесконечного человеколюбия — «для эллинов безумие», которое по здравому смыслу должно привести к исчезновению человеческой личности. Но произошло обратное — христианская личность поднялась на недостижимую ранее высоту.
Начало расхождения христиан
Чудо возвышения умаляющих себя христиан в действительности было вполне закономерным. Рекомендуя в Евангелии принятие необычной системы разграничения между «Я» и «Не Я», Спаситель знал, что делал. Эта система противоречила человеческим представлениям о жизни, но соответствовала глубинным принципам мироустройства, доподлинно известным только Творцу. Человек видит лишь действие земной реальности, Бог же знает и о действии небесной, в некотором смысле более реальной реальности, в частности, и то, как и чем «небо» отвечает на делающееся на «земле». Сегодня, имея перед собой результаты двухтысячелетнего «христианского эксперимента», мы можем в общих чертах понять механизм того «чуда», которым он завершился.
Придавая своему «Я» всё меньше и меньше значения, христианин тем самым уменьшает и долю, отводимую в картине мира, всего того, что он отождествляет с этим «Я», а отождествляет он с ним всё греховное. Соответственно, в его сознании всё больше места освобождается для «Не Я», т.е. для всего светлого и безгрешного, а главное — для Христа. В идеале этот процесс должен закончиться тем, что «Я» последовательно ведущего себя христианина вообще исчезнет, обратится в нуль (достигнуть этого идеала и значит «увидеть себя последним из людей»), и тотчас его сознание целиком заполнится праведным «Не Я», освящённым и освящаемым Христом. Это «Не Я» и сделается теперь его новым «Я», ибо свято место (человеческая душа) пусто не бывает. Тут-то и совершается «закономерное чудо»: субъективно человек чувствует себя ничтожной личностью, но объективно становится личностью грандиозной, способной исцелять больных и предрекать будущее. Апостол Павел, испытавший подобное превращение на себе, так сказал об этом: «…уже не я живу, поживёт во мне Христос» (Гал. 2:20). Произошедшему с ним он даёт очень глубокое объяснение: «Я сораспялся Христу» (Гал. 2:19). И вправду, ведь что сделал Христос? Взял на Себя грехи мира, распял их вместе с Собой на кресте и воскрес уже в безгрешной плоти. Точно то же происходит и с «Я» христианина — старое, наполненное грехами он «распинает», сводя к нулю, а взамен него Бог даёт ему новое.
Процесс изменения структуры сознания в «тёмные века» протекал как в западной, так и в восточной частях бывшей Римской империи. Закваска и там, и там одинаковая — Евангелие,— но кроме дрожжей для получения хлеба нужна ещё и мука, которой в данном случае был человеческий материал, а он на Западе и на Востоке несколько различен, поэтому христианство и олицетворявшая его Церковь получились неодинаковыми. В Европе особенности вскисавшего теста определялись «варварами», её завоевавшими, и прониклись духом «сумрачного германского гения» — рационализма и самоуверенностью, а подчинившиеся германцам латиняне внесли сюда ещё и «юридизм» — отзвук знаменитого римского права. А вот в Малой Азии (Византии) сохранились дух великой эллинской философии, вкус к метафизике и умозрению. Это различие материализовалось в самом языке: латинском, на котором стали говорить западные христиане, и греческом, принятом в Византии. Однако прежде чем говорить о разделяющих две ветви христиан нюансах, просуммируем то общее, что дал им новый тип сознания.
Если сказать одной фразой, он дал человеку свободу, поднял её на такой высокий уровень, о котором раньше нельзя было и мечтать. Назвав себя «рабом Божьим», христианин тем самым освобождался от всякого человеческого рабства, от всех других владельцев, ибо «никто не может служить двум господам» (Мф. 6:24). Служение же Богу может быть названо «рабством» только метафорически и на деле таковым не является. Рабством в обыденном языке называют неволю («раб» и «невольник» — синонимы), а христианин служит Богу добровольно, т.е. по своей собственной доброй воле. В предлагаемой Евангелием структуре сознания главенствующее место отводится Христу не потому, что кто-то к этому принуждает, а потому, что человек сам этого хочет, что это доставляет ему радость.
В христианстве вообще всё делается добровольно — в этом и заключается великий дар свободы, который оно преподносит человеку, ничуть его не навязывая. Начнём с того, что вы можете не читать Евангелие, никто вас не заставляет делать это. Но если вы всё-таки откроете эту книгу и прочитаете содержащиеся в ней заповеди, то обнаружите, что все они без исключения сформулированы в сослагательном, условном наклонении, т.е. имеют форму «если…, то…». Возьмём для примера Нагорную проповедь (Мф. 5:3-12). «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» — если вы отведёте в своём сознании самое скромное место своему собственному духу (духу с маленькой буквы, т.е. своему «Я»), то в освободившееся пространство войдёт Святой Дух и сделает вас пригодным для пребывания в Небесном Царстве. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» — если вы будете милостивы к людям, то и Бог будет к вам милостив. И так всюду и дальше. Вы можете сколько угодно раздувать своё «Я» и не проявлять ни к кому милости — ваш личный выбор,— но Евангелие считает своим долгом предупредить вас о последствиях вашего выбора. Современный православный богослов профессор Осипов сравнивает евангельские заповеди с таким текстом: «Знайте, что если вы выпрыгнете с десятого этажа, то разобьётесь; впрочем, коли вам так хочется прыгнуть — прыгайте». Здесь даётся совет, как уберечь тело, Евангелие даёт более ценные советы — как уберечь душу, но окончательное решение относительно того, выполнять их или нет, оставляет за вами, ибо, как согласно говорят все Святые Отцы, свобода человека для Бога священна.
Утверждение о том, что служение Богу даёт человеку свободу, многим может показаться спорным: ведь типичные служители Бога, монахи,— скажут они,— дают при постриге обеты на всю оставшуюся жизнь, и значит закабаляют себя. Это не так. Во-первых, монах даёт эти обеты вполне добровольно, в большинстве случаев с большой охотой, а, во-вторых, он в любой момент может от них отказаться и стать «расстригой», не понеся за это никакого наказания. До отмены Юрьева дня русский крестьянин был «вольным хлебопашцем», крепостным, т.е. рабом он сделался только тогда, когда выход запретили. Монаху же «выхода»
никто не запрещает. Дело обстоит здесь следующим образом: инок каждое утро, встав ото сна, заново делает свой добровольный выбор не расстригаться, и с течением времени этот выбор становится для него всё более сознательным и радостным, так что он не только не лишается свободы, но постоянно пользуется ею, живёт с ней бок о бок. Достоевский говорил, что все подвижники веры были счастливы, и это несомненный факт, но к этому стоит добавить: одной из причин их счастья была самая высшая свобода, недоступная мирянину.
«Но подвижник всё-таки принуждает себя к подвигу, пусть и добровольно,— скажут скептики,— а разве можно быть счастливым, отказываясь от чего-то приятного — например от вкусной еды?» Можно, если замещать это приятное ещё более приятным. А что на свете самое приятное, знает каждый, кто испытал чувство любви: показывать предмету своей любви, как сильно ты его любишь. Вмешательство в межличностные взаимоотношения фактора любви спутывает всю их логику, делает необъяснимыми, парадоксальными. Хотя любовь, как и святость, нельзя описать словами, её надо познать изнутри. Определение, которое попытался дать ей Владимир Соловьёв,— перенесение центра тяжести всей жизни с себя на другого — даёт некоторое представление, о чём идёт речь. Ошибка Соловьёва состоит лишь в том, что он относил своё определение преимущественно к брачной любви, которую точнее назвать влюблённостью, но в ней истинная любовь как счастье самоотдачи обычно искажается прямо противоположными чувствами — эгоизмом, стремлением подчинить себе возлюбленного, приводящими к ужасным поступкам ревности. В более чистой форме любовь живёт в «милующем сердце», о котором пишет преподобный Исаак Сирин, переполненном такой великой жалостью ко всякой твари, что очи не могут удержать слёз. Героиня одной из пьес Ануя, дочь убогих провинциальных музыкантов, отказывает сделавшему ей предложение знаменитому, богатому и красивому пианисту, объясняя свой отказ тем, что, пока на свете есть хотя бы одна несчастная бродячая собака, она не может себе позволить быть счастливой. Эта французская девушка много лучше понимала, что такое любовь, чем Ромео и Джульетта, вместе взятые.
Парадоксальность любви заключается в том, что законам, естественным для тварного мира, она противопоставляет свой собственный закон, совсем на них не похожий. Блаженный Августин сформулировал этот закон любви так: «Истинно твоё только то, что ты отдал». Для «земли» это противоестественный закон, для «неба» он естественный, поэтому Святые Отцы именуют его «вышеестественным». Можно предположить и нечто большее: именно на этом законе и держится «небо», которое держит и «землю».
Впрочем, если хорошо подумать, туг нет ничего особо загадочного. Стабилизирующее действие закона любви наглядно иллюстрируется математически обоснованными положениями современной теории систем. Одно из них гласит, что, если между двумя частями системы имеется «отрицательная обратная связь», т.е. втекание энергии из части А в часть Б гут же заставляет последнюю от неё избавляться, отдавая её назад, система будет устойчивой, в противном случае она пойдёт «вразнос», и вскоре вся энергия соберётся в одной из частей, а другая опустеет. Если это правило перенести на «систему» из двух людей, то аналогом отрицательной обратной связи будут такие отношения между ними, при которых каждому приятнее отдавать другому, чем брать у него. Между ними возникнет что-то вроде соревнования в самопожертвовании, которое сделает их союз нерасторжимым и неограниченно длительным. Именно поэтому старшие говорят на свадьбе молодожёнам: «Уступайте друг другу», и те семьи, в которых этот совет выполняется, оказываются прочными. На любую уступку одного из супругов второй отвечает равноценной встречной уступкой, того она подталкивает к новой уступке, и так возникают колебания вокруг положения равновесия, каковые и являются залогом стабильности. Если же в паре имеет место отношение соперничества (положительная обратная связь), то, отобрав что-то у другого, сумевший сделать это начнёт использовать своё усиление для того, чтобы отобрать у него ещё что-то, и в конце концов «съест» конкурента. История подтверждает эту закономерность: все попытки править вдвоём оканчивались тем, что один, из соправителей уничтожал другого: как Юлий Цезарь уничтожил Гнея Помпея, а Октавиан Август — Марка Антония.
Стабильность мироздания есть стабильность держащей его на себе Троицы, а Её стабильность возможна лишь в том случае, если между входящими в Неё Лицами будут отношения любви, поэтому можно сказать, что мир держится на любви. Здесь мы употребили слово «мир» в значении «вселенная», «космос», «всё сущее», но есть ещё одно значение этого слова — «отсутствие войны», «доброжелательные отношения» (в старой орфографии было разное написание этих двух понятий). Любовь противоположна войне и невозможна без доброжелательности, так что в современном русском написании получает глубокий смысл по форме тавтологичная фраза «мир держится на мире». Особенно хорошо применима она к международной жизни: если бы между странами и народами установились отношения доброжелательности и сама мысль о войне была бы исключена из общественного сознания, человечество существовало бы сколь угодно долго без всяких апокалиптических угроз и предчувствий. Значит, такие внешнеполитические отношения должны быть естественными не только на «небе», но и на «земле» — они ведь необходимы! Почему же закон соперничества и вражды кажется нам естественным, а закон любви — противоестественным? Конечно же, из-за повреждённости нашей натуры первородным грехом — это он извратил наше сознание, а извращение состоит в том, что мы больше хотим получать, чем отдавать.
Спасительная миссия Сына Божия состояла как раз в том, чтобы сделать нас нормальными людьми, а не извращенцами. Вполне закономерно, что Его учение вначале было воспринято извращёнными умами («эллинами») как «безумие». Покидая этот мир, Спаситель оставил нам чудесное оптическое устройство, называемое Евангелием, которое позволяет видеть соотношение между «Я» и «Не Я» не перевёрнутым вверх ногами, а таким, каким оно должно быть. И мало-помалу европейцы и малоазиаты стали пользоваться этим устройством и убеждаться, что это приносит добрые плоды. Но картина мира зависит не только от оптики, через которую ты смотришь на мир, но и от особенностей твоих глаз, а глаза не были у всех христиан одинаковыми.
После Великого переселения народов и вторжения в Западную Римскую империю варваров на её территории сформировался смешанный латиноязычный этнос. Его менталитет определился вкладами разных национальных черт. Некоторые из них совпадали, другие оказывались противоположными, и в этих случаях между ними происходила борьба, оканчивающаяся либо компромиссом, либо тем, что какие-то брали верх, а какие-то изживались. На эту «утряску» как раз и ушли «тёмные века». В результате к IX веку в Западной Европе сложился так называемый романо-германский мир (точнее было бы сказать «романо-германо-кельтский»), составивший основание католической цивилизации.
Прагматизм римлян не входил в особое противоречие с языческим материализмом германцев и кельтов; эти свойства легко соединились и дали устойчивую характеристику нового этноса — приверженность к конкретности в практической жизни. Законничество римлян, строго охранявшее права гражданина, тоже быстро ужилось с индивидуализмом варваров (особенно и отличались германцы). Симбиозом тут явилось гипертрофированное доверие к логике как с инструменту познания, который доступен каждой отдельной личности. В частности, римляне и варвары сошлись и на «юридизме», распространив его не только на взаимоотношения между людьми (римское право), но также на взаимоотношения между людьми и Богом.
Был и такой жизненно важный момент, на который римляне и варвары смотрели с прямо противоположных точек зрения,— политическое устройство. Римляне и в республиканский, и в имперский периоды являлияь заядлыми государственниками, так что германцы и кельты, за многие века привыкшие к племенному укладу, были, с их точки зрения, анархистами. Ни те, ни другие не могли изменить своей натуры, поэтому никакого согласия здесь быть не могло и оставалось строить какие-то искусственные гибридные формы жизнеустроения, обречённые на недолговечность. С IX по XV век такой формой был католический феодализм. Строго централизованная Церковь отвечала потребности в единоначалии, а административная раздробленность — потребности в его отсутствии.
Грекоязычная Восточная Римская империя просуществовала ещё тысячу лет. Она тоже служила плавильным котлом, но сплав получился в ней более однородным, ибо эллинская составляющая оказалась доминирующей. Греки, ставшие имперской нацией ещё со времён Александра Македонского и подчинившиеся затем римским кесарям, утвердили в Византии прочную монархическую государственность, а умственную деятельность направили по пути, проторённому великой эллинской метафизикой, в которой умозрение и интеллектуальная интуиция ставились много выше формальной логики. Для усвоения сути Христовой истины этот способ познания оказался наиболее плодотворным, ибо Евангельские тексты бывают по внешности весьма парадоксальными и не поддающимися рассудочному истолкованию. Поэтому полнота благой вести, принесённой воплотившимся Богом, сохранилась только в восточно-христианской Церкви.
Различие в менталитете отразилось на появлении различия в структуре сознания. Центральный элемент «Не Я» христианина — образ Бога — на Западе сдвигался в сторону отвлечённого «мирового разума», в то время как на востоке он оставался образом живого существа. Второй по значимости элемент «Не Я» — власть — на Западе всё дальше отступал от Бога, теряя свою сакральность и становясь «общественным договором», в то время как на Востоке он продолжал быть богоустановленным учреждением.
Схоластическое богословие Запада
К своей знаменитой фразе «Мир — театр, люди — актёры» Шекспир забыл добавить самое главное: «… а Бог — автор пьесы». Всемирная история включает в себя бесчисленное множество отдельных эпизодов, но даже те из них, которые кажутся совершенно самостоятельными, плотно вплетены в ткань главного сюжета, каковым является разворачивание во времени драматических взаимоотношений между человеком и его Создателем. Эпизоды же, как и во всякой пьесе, бывают мелкими и крупными. Одним из самых крупных и исторически значимых эпизодов, растянувшимся на целое тысячелетие, была эпопея взаимоотношений между Богом и западноевропейским человечеством, на деталях которой нам следует задержаться.
Перед каждым своим последователем Христос ставит две основные жизненные задачи: познавать своего Творца («Ищите же прежде Царства Божия и правды Его») и заботиться о спасении души (постоянный евангельский призыв к покаянию). Третья задача, которую ставит перед нами наш природный инстинкт,— забота о материальной стороне бытия, о благополучии нашего тела. Христианство не отменяет этой заботы, но предостерегает человека от чрезмерного увлечения ею в ущерб двум другим, более важным заботам. В Евангелии это предостережение звучит много раз, но достаточно напомнить одно из самых поучительных.
«Впродолжение пути их, пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении, и подошедши сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно: Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё» (Лк. 10:38-42).
В своём деятельном аспекте тип людского сообщества определяется тем, как это сообщество распределяет свою жизненную энергию между названными тремя заботами и какими средствами при этом пользуется. Западные христиане в «тёмные века» уделяли богопознанию не меньше внимания, чем восточные, но с самого начала сделали в нём ставку на принципиально другие познавательные средства. Постижение Бога в Европе получилось более рациональным, чем в Византии, и вылилось в так называемое схоластическое богословие. На это повлияли те специфические черты романо-германского этнического сплава, о которых уже говорилось, но, как вырисовывается при нынешнем ретроспективном обзоре, здесь присутствовал и Божественный Промысл.
Западнохристианская теология исходила из презумпции, что, приняв в качестве постулатов («догматов») некоторые утверждения, полученные в Откровении, далее она может развиваться посредством дискурса (логического рассуждения) и на этом пути в конечном счёте обрести полноту знания о Боге. Это был имевший далеко идущие последствия отказ от наследия «настоящих философов» Древней Греции, ставивших умозрение много выше логического рассуждения. К последнему они относились как к практически полезному инструменту, который удобен тем, что с его помощью можно доказать всё, что угодно. Его техническая сторона была доведена до совершенства софистами, которые за соответствующее вознаграждение брались научить любого политика убеждать избирателей в спасительности для нации именно его программы (какой бы она ни была). Зенон, ученик великого Парменида, открыто насмехался над рассудочным методом, показывая на примерах «апорий»: он бессилен объяснить то, что интуитивному «схватыванию» открывается непосредственно. Скажем, каждый знает, что стрела летит, но если мы начнём рассуждать строго логически, то придём к выводу, что она неподвижна. Действительно: в каждый момент времени она занимает определённое место в пространстве, то есть «стоит», но если она стоит в каждый момент, значит, стоит всегда, т.е. является неподвижной. Правда, Платон не чуждался логики, напротив, стремился создавать видимость строгости своих умозаключений, но на самом деле умело использовал методы софистов и то, в чём был убеждён с самого начала, маскировал под «вывод». Истина в его сочинениях рождается в спорах между двумя сторонами (поэтому его сочинения названы «Диалогами»), но одна из сторон всегда играет у него в поддавки. Западная Церковь отнеслась к античной метафизике очень избирательно: «настоящую философию» отвергла как «язычество» и выхватила из неё одного Аристотеля (да и то не сразу) — конечно же, потому, что он сформулировал законы логики. Но этот уникальный по широте охвата предметов изучения мыслитель не считал логику самым верным средством познания истины — он просто систематизировал её правила, эмпирически хорошо известные грекам задолго до него.
За последние полторы тысячи лет оценка европейской наукой познавательных возможностей дискурса не оставалась постоянной. В XIII веке она заметно упала — Фома Аквинский провозгласил тезис «Вера выше разума», и католическая церковь приняла его в качестве одного из своих догматов, но в XVII столетии эта оценка резко пошла вверх. Лейбниц объявил логико-арифметический язык универсальным инструментом познания, использование которого может открыть человечеству любую истину. Это было глубоко ошибочное мнение, но последующие громадные успехи созданного Ньютоном и самим же Лейбницем математического анализа (дифференциального и интегрального исчислений) и основанного на нём естествознания по некоторому недоразумению, о котором будет сказано ниже, укрепили его, сделав в глазах учёных непогрешимой истиной, так что к концу XIX века—началу XX они с минуты на минуту ожидали, что точные науки исчерпывающим образом объяснят нам не только, как устроен мир, в котором мы живём, но и как устроены мы сами. На почве безграничной веры в силу логики и математики укрепилась космологическая доктрина абсолютного детерминизма всего происходившего, происходящего и того, что будет происходить, которую первым сформулировал ещё на рубеже XVIII и XIX веков великий французский математик и физик Лаплас. Напрягать воображение скоро станет ненужным делом, надо будет просто вычислить истину — произвести по определённым правилам ряд выкладок на бумаге или на каком-то счётном устройстве.
Сейчас страшно подумать, что в эту бредовую идею искренне верили умнейшие люди своего времени. Так велика, оказывается, сила гипноза корпоративного мнения — ни один тогдашний учёный не решался отрицать концепцию детерминизма, боясь быть поднятым на смех своими коллегами как невежда и обскурантист…
Отрезвившие всех слова «а король-то голый!» произнесла царица наук математика. Ей не поверить было нельзя, упрекать в невежестве — абсурдно. В 30-х годах XX века эта царица сама оповестила своих поклонников об ограниченности той власти, которую они ей приписывали. Сначала австриец Курт Гёдель доказал, что во всяком логико-арифметическом языке существуют утверждения, которые по виду должны быть либо истинными, либо ложными, но которые средствами этого языка нельзя ни доказать, ни опровергнуть, а затем поляк Альфред Тарский доказал, что на таком языке невозможно даже просто сформулировать понятие истинности. Как это ни странно, многие даже очень хорошие профессиональные математики, не знают о теореме Тарского и не имеют представление о том, каким способом можно строго доказать ограниченность строгого метода. Специально для них мы с издателем этой книги решили привести это доказательство в приложении, которое совершенно не обязательно читать остальным.
Это была откровенная и честная самооценка дискурсивного метода познания, из которой следовало, что полагаться на него в решении вопроса об истинности или ложности можно лишь тогда, когда речь идёт о достаточно примитивных утверждениях, а в более сложных случаях лучше обращаться к какой-то другой инстанции.
Вы скажете: но ведь колоссальная познавательная сила высшей математики является несомненным фактом!
Вот это и есть упомянутое выше недоразумение. В том же XX веке, в котором произошло неожиданное саморазоблачение «строгого» метода выведения истинных высказываний, только не в его начале, а в его конце, открылся и другой сюрприз: математический анализ так необычайно силён не потому, что опирается на логику и арифметику, а потому, что в самом существенном своём пункте от неё отходит! Инструментальное могущество этому разделу математики придаёт понятие бесконечности, а в конце 1970-х годов Парис и Харрингтон доказали, что оно является категорией как внелогической, так и внеарифметической.
К чести основателей анализа надо сказать, что они относились к этому понятию с религиозным трепетом. Наука, только начавшая в то время отпочковываться от богословия, в их сознании ещё не порвала с ним связи. Лейбниц видел в бесконечномалых что-то демоническое, а в первом наброске основанной на интегральном исчислении теории всемирного тяготения Ньютона фигурировали ангелы. В следующих двух-трёх поколениях учёные, постоянно использующие знак «∞» в своих выкладках, привыкли к нему и стали воспринимать как одно из чисел, хотя и не совсем обычное.
На самом деле бесконечность не просто отличается от рядовых чисел — она ведёт себя кардинально иным образом. Складывая два числа, мы получаем третье, но, прибавляя к бесконечности любое число, мы получаем всё ту же исходную бесконечность. Это значит, что её нельзя дополнить, ибо она изначально обладает полнотой. Ещё удивительнее, что при вычитании из бесконечности любого числа, хотя бы триллиона, она не претерпевает никакого ущерба и остаётся той же бесконечностью. Что же это за свойство? Его можно охарактеризовать как щедрость. Далее: сложив три бесконечности, мы получим точно такую же «одинарную» (а не «утроенную») бесконечность, какой была каждая из трёх по отдельности. Это удивительное свойство условно можно выразить абсурдной с точки зрения арифметики формулой «3 == 1». Но именно эта формула напоминает науке о её происхождении — такое «равенство» писали средневековые теологи, желая кратко выразить единство в трёх Лицах Пресвятой Троицы. Так, может быть, бесконечность есть просто одно из имён христианского Бога? Другие её свойства подтверждают это предположение. Кто обладает полнотой? Бог! Кто неограниченно щедр? Опять же Бог («Щедр и милостив Господь»,— поётся в молитве). У кого нельзя что-либо отнять? У того же Бога («Бог поругаем не бывает» Гал. 6:7).
Но если бесконечность математики подсознательно напоминает по своим свойствам Бога Священного Писания, то естественно задать вопрос: нет ли в Священном Писании указания на такие свойства Бога, которые совпадают со свойствами математической бесконечности? Да, такое указание есть: оно заключается в одном из фундаментальных положений нашей веры — «Бог сотворил мир из ничего» (2Мак. 7:28). «Ничего» есть математический нуль; на какое число его ни умножай, он останется нулём (это знал даже фонвизинский Митрофанушка, говоривший «единожды нуль — нуль»). Другое дело, если умножить его на бесконечность (точнее сказать, подействовать на него бесконечностью) — тогда может получиться и положительное число. Во всяком случае, в начальном разделе математического анализа, в теории пределов, равенство ∞ * 0 == 1 выглядит совершенно нормальным.
Итак, пока всё свидетельствует в пользу нашего предположения. Но чтобы окончательно убедиться в его справедливости, нужно ответить на последний контрольный вопрос. Если математическая бесконечность и вправду есть предельно формализованный христианский Бог, то языческая математика, какой бы высоты она ни достигла, не могла включать в состав своих основных понятий наряду с числами и геометрическими фигурами также и бесконечность. И она действительно не делала этого! Своего высшего развития языческая математика достигла в теоремах Архимеда об объёмах цилиндра, конуса и шара, которые вплотную подвели их автора к созданию интегрального исчисления почти за две тысячи лет до Ньютона, но последний, кажущийся сегодня таким напрашивающимся шаг так и не был сделан этим гением, и причина заключается в том, что для этого необходимо было использовать понятие актуальной (совершившейся, выступающей сразу всей совокупностью своих элементов как единый объект) бесконечности, а эллины воспринимали его как нечто несообразное и не укладывающееся в голове. Чтобы адаптировать к нему своё мышление, учёным понадобились века, и такой адаптации не произошло бы, если бы в течение этих веков Церковь с детских лет не внушала бы христианам мысль о существовании живой актуальной бесконечности в лице Бога. Создателям анализа казалось, что они постигают бесконечность разумом и вот-вот ей будет дано строгое определение, но после теоремы Париса-Харрингтона стало ясно, что они постигали её своим христианским подсознанием. Впрочем, учёные и сами догадывались об этом — ведь не зря же они назвали основное множество изучаемых анализом чисел «иррациональными числами», а некоторые даже «трансцендентными».
Изоморфизм между христианским Богом и математической бесконечностью позволяет дать теореме Париса-Харрингтона богословскую интерпретацию. Поскольку, согласно этой теореме, бесконечность математиков принципиально не поддаётся логическому определению, а значит, и рассудочному осмыслению, столь же бесполезно искать строгие определения понятию Бога и выводить из них Его атрибуты, акциденции и другие свойства. Но именно этим много столетий подряд занималось европейское схоластическое богословие. Однако работа не была совсем напрасной — она дала свои плоды, хотя и в другой области человеческого познания.
Европейский вариант спасения
Чем пристальнее вглядываешься в исторический процесс, который разворачивался в христианском мире на огромном пространстве в течение многих веков, тем яснее начинает вырисовываться тот поразительный факт, что духовная основа этого процесса элементарно проста. Впрочем, всё великое, видимо, и должно стоять на простом фундаменте — он ведь самый надёжный. История есть исполнение Божьего Замысла о человечестве, а исполнителями служат посланники Бога, ангелы, так что в узловых судьбоносных точках исторического процесса ангелов должно быть особенно много. Где же их больше всего? Преподобный Амвросий Оптинский отвечал на этот вопрос так: «Где просто, там ангелов со сто, а где мудрёно, там ни одного». Бог мудровать не любит — это наше, человеческое, занятие. Особенно привержены к мудрованию профессиональные светские историки — у них десятки школ, течений, направлений, спорящих между собой о том, какие факторы определили такое-то развитие событий. В частности, споры идут о том, по каким причинам в христианском мире происходило то, что происходило. Но если отбросить отпугивающее ангелов мудрование, то тут же начнёт открываться главная причина. Историческая эволюция христианского мира, затем постхристианского, а затем и всего человечества, приведшая нас к нынешнему положению, определилась единственным фактором: постепенно углубляющимся и переходившим из области подкорки в сферу ясного сознания и в дела расщеплением христиан по признаку основной жизненной установки — ностальгического тяготения к утраченной античности, особенно к Риму, на Западе и решимости отходить от неё всё дальше, утверждаясь в новом порядке бытия, завещанном Христом, на Востоке.
Греко-латинская цивилизация была настолько яркой, что земля, на которой она существовала, пропиталась воспоминаниями о ней. Запах этих воспоминаний, из которого со временем выветрилось всё неприятное, возбуждал воображение не только потомков римских граждан, но и варваров, которые долгое время были в Империи мигрантами, а потом стали хозяевами того, что от неё осталось.
Аромат античного прошлого оказался неистребимым и пьянящим. Сами того не замечая, западные христиане в каких-то чертах начали понемногу воспроизводить это прошлое. Оно стало воскресать уже в схоластическом богословии: выступления блиставших красноречием знаменитых теологов вроде Эриугены или Ансельма Кентерберийского производили такой же фурор, что когда-то выступления Катона и Цицерона. Содержание речей было совсем другое, а по внешности всё возвращалось на круги своя. Так же настойчиво имперский менталитет стал деформировать христианское учение о спасении души. У римлян не было проблемы защиты душ от губящих их соблазнов, у них стоял вопрос о защите тел от истребления врагами, и решался он государством, которому отдельные граждане полностью доверяли такую защиту. Превратившись из язычников в христиан, западноевропейцы стали решать новую для них проблему спасения души старыми средствами: целиком передали это дело в ведение Церкви. Чтобы эффективно выполнять такие серьёзные и масштабные обязанности, ей пришлось усовершенствовать свой административный аппарат, навести в нём жёсткую дисциплину, подчинить всю его структуру единому центру. Такую реформу провёл в XI веке Григорий Седьмой (Гильдебранд), которого католики назвали за это «величайшим из римских пап». Так в Западной Европе начала возникать духовная империя, что устраивало как природных имперцев «римлян», так и природных анархистов «варваров», поскольку милая их племенной привычке политическая раздробленность при этом сохранялась. Централизация духовной власти компенсировала децентрализацию светской власти, в результате чего были довольны все — и монархисты, и либералы.
Получив от населения полномочия быть монопольной инстанцией спасения душ, западная Церковь должна была как-то оправдать её теоретически. И схоластическое богословие, используя технику древнегреческих софистов, довольно быстро разработало такое оправдание, создав учение о «сверхдолжных заслугах». Вот в чём заключается его суть. Её исходным принципом служит юридизм — выстраивание отношений между человеком и Богом по принципу «Я Тебе, Ты мне» с соблюдением эквивалентности даваемого и получаемого. Законники-латиняне, воспитанные на римском праве, просто не могли себе представить этих отношений как-то иначе. Как сказано в пятидесятом псалме, Бог «всесожжений не благоволит; жертва Богу — дух сокрушён». Лучшее же выражение сокрушенного духа — молитва. Своей молитвой человек приносит жертву Богу, и, чем дольше он молится, тем значительнее эта жертва (ведь за это время он мог бы заработать деньги!). Но Богу лишнего не надо, Он тоже мыслит юридически и кладёт для себя какую-то меру угодной Ему молитвы. Эта мера нам точно не известна, но, поскольку Господь милосерден, она не может быть слишком большой. Допустим, для спасения души достаточно молиться двадцать пять минут в день. Но монахи в монастырях, став на молитву, увлекаются ею, забывают о времени и, отдав Богу свои двадцать пять минут, продолжают отдавать Ему всё новые и новые минуты, будучи уже спасёнными. Это и есть «сверхдолжные заслуги». Куда же девается этот избыточный спасительный потенциал? Бог передаёт его в распоряжение Церкви, а конкретно — её главы, папы. Поскольку монахов много, этот ресурс получается значительным, и папа может сказать любому христианину:
— У меня накопилась попаляющая грехи субстанция, хочешь, я изглажу их из твоей биографии?
— Очень хочу,— восклицает тот, без этого по моим худым делам я прямиком пойду в ад!
— Да. Но если Церковь окажет тебе такую услугу, то по справедливости и ты должен оказать эквивалентную услугу Церкви.
— Я готов, что мне сделать?
— Вот тебе кирпичи, сложи из них часовню.
— Но я не каменщик, я не умею этого делать.
— Тогда распиши фресками стену храма.
— Но я не художник, от моей мазни все прихожане разбегутся.
— Тогда пой на клиросе.
— Ни голоса, ни слуха не имею.
— Что же мне с тобой делать? Ну ладно, внеси в церковную казну приличный вклад, и мы сами наймём каменщиков, живописцев и певцов.
И старый греховодник платит деньги, становится праведником и получает расписку, называемую индульгенцией, в том, что он пожертвовал Церкви столько-то и освободился на эту сумму от своих грехов.
С формальной точки зрения современное выражение «продажа индульгенций» некорректно — нельзя же говорить о продаже расписок. Де-юре ничего не продавалось, а осуществлялся вполне законный обмен услугами. Но по сути это была, конечно, типичная торговля, настоящий церковный бизнес, принявший поистине громадный размах, начиная с XII века.
Софистика, оправдывающая этот бизнес, разоблачается элементарно просто — достаточно найти соответствующее место в Евангелии. Оно находится в десятой главе Матфея. Посылая своих учеников — будущих пастырей христианской Церкви — на служение по всему лицу Палестины и наделяя их харизмой исцеления болезней и отпущения грехов, Иисус сказал: «даром получили, даром давайте» (Мф. 10:18). Где тут юридизм, где «я тебе, ты мне»? но западная Церковь сделала хитрый ход: она запретила мирянам самостоятельно читать Священное Писание — его можно было только слушать в храме, где священник громко читал его с амвона и тут же подробно истолковывал. Но уж чему-чему, а искусству истолковывать Божье слово в нужном смысле он был прекрасно обучен учёными-схоластами.
Институт продажи индульгенций (мы всё-таки будем называть вещи своими именами) сыграл громадную роль, став поворотным моментом в истории западного христианства, а значит, и христианства вообще, а значит, и всего человечества. Обозревая последний виток эволюции мирового сообщества, получивший название «Новое время», или «Модерн», мы можем произнести со вздохом: «А ведь всё началось с торговли индульгенциями!»
Прежде всего она отозвалась на изменении внутрицерковного сознания, приведя к деформации духовных установок священства. Получая от продажи индульгенций баснословные доходы, папская Церковь стала быстро привыкать к деньгам и всему тому, что можно на них приобрести — к изысканной пище, к великолепию дворцов, к бытовому комфорту, к роскоши. Каждый из нас знает, какое это сильное искушение — пожить «сладкой жизнью»; верхушка западнохристианской Церкви недолго с ним боролась и в конце концов ему поддалась — рыба начала гнить с головы. По долгу службы клирики продолжали внушать народу идею внутренней привлекательности скромной христианской жизни, а сами нашли привлекательность совсем в другом, поэтому всё больше осваивали лицемерие, которое вскоре так въелось в их натуру, что они воспроизвели в своём лице иудейских священников, к которым были обращены гневные слова Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мф. 23:27).
иНо ведь гниение рыбы, начавшись с головы, переходит и на её тело. Не только церковные сановники Запада, но и простые миряне стали переключать основной жизненный интерес с духовного на материальное. Этому способствовал дурной, а следовательно, заразительный пример, подаваемый новыми фарисеями в сутанах, а также другой фактор. Переложив эту вечную головную боль христианина — заботу о спасении души,— на плечи Церкви, люди освобождались от неё, тем более что в запасе у них всегда была возможность купить пару индульгенций, и праведная жизнь оказывалась не так уж и обязательной. На пути европейцев к язычеству, куда манили их память земли и голос предков, оставалось всё меньше и меньше препятствий. Процесс дехристианизации Европы пошёл ускоренным темпом, и впереди всех шла ещё называвшая себя христианской, но всё более удалявшаяся от учения Христа католическая Церковь.
К XIV—XV векам её перерождение приняло роковой для неё самой характер. Она была сказочно богата, богатство даёт власть, а власть кружит голову похлеще любого наркотика — кто её вкусил, тому не хочется уже ничего другого. Получив в свои руки помимо абсолютной духовной власти огромную финансовую власть, католическая церковь возжелала прибавить к этим двум властям ещё и третью — власть политическую. Эволюция Римской курии, шедшей за соблазнами, начавшись со спасения душ, прошла через овладение душами и завершилась попыткой овладеть и телами паствы — началась борьба папы с феодальными сюзеренами за инвеституру — право выдвигать на руководящие должности в королевствах, княжествах и герцогствах «своих людей».
Кого Бог хочет погубить, того лишает разума. После христианства, освятившего свободу духовного выбора каждой личности и призвавшего основывать общественную жизнь на добровольном исполнении евангельских заповедей, пытаться повернуть историю вспять к деспотической теократии древнеегипетского образца — идея совершенно безумная. Шансов стать властелином мира у папы не было ни малейших, и скоро он в этом убедился. Западноевропейские владетельные особы, в основном германской крови, свободолюбивые и честолюбивые, крепкие как кремень, были не той силой, которую он мог бы одолеть. Наглые притязания католической церкви на контроль во всех сферах жизни, в том числе в науке (вспомним процесс над Галилеем), восстановили против неё всю политическую и культурную элиту, а затем купцов, ремесленников, мореплавателей и даже простых горожан, особенно в технически прогрессивной Северной Европе. Церковь сделалась тормозом на пути развития западноевропейского мира, и этот мир начал решительно от неё избавляться. Такому «христианству» он предпочёл открытое возвращение к античному язычеству, которое так прямо и назвал — Возрождение.
Судьба восточного христианства
Уже через семнадцать лет после того, как Константин Великий сделал свою империю христианской, он перенёс её столицу из Рима в небольшой городок на азиатском берегу Босфора, Византию, впоследствии получившую название Константинополя, или Царьграда, а потом ставшей Стамбулом. Этот экстравагантный поступок может показаться самодурством всевластного монарха, но в действительности в нём была очень простая и ясная логика, диктуемая обстоятельствами. Чтобы понять её, обратимся к другим историческим прецедентам такого рода. В XV веке до н.э. египетский фараон Аменхотеп IV (Эхнатон) перенёс столицу своего государства из Фив в возведённый в пустыне город Ахетатон, а в начале XVIII века н.э. русский царь Пётр Первый перенёс столицу из Москвы в заложенный на безлюдных болотах близ Невы Санкт-Петербург. И ни тот, ни другой не самодурствовали — они подчиняли свои действия той же самой упрямой необходимости, которой подчинил свои действия Константин Великий. Всё дело в том, что они, как и Константин, были религиозными реформаторами, предпринявшими отчаянную попытку обратить свой народ в новую веру. Эхнатон сменил бога Амона и перестроил весь культ, Пётр решил заменить православные идеалы Руси протестантскими идеалами Северной Европы, куда и начал «прорубать окно». И стоило только каждому из преобразователей начать переходить от проекта к его осуществлению, он убеждался в том, что новый религиозный центр ни за что не приживётся на месте старого религиозного центра, ибо в саму почву, сами камни, саму пыль этого места так глубоко въелась прежняя религия, что её ничем не удастся вытравить, и она будет долго ещё воспроизводиться сама собой, путая все карты реформатора. В результате, и Эхнатон, и Константин, и Пётр вынужденно приходили к тому, что рекомендовал Иисус своим ученикам при уходе от язычества: «…отрясите прах от ног ваших» (Мф. 10:14). Даже прах языческих градов и весей, прилипнув к сандалиям апостолов, мог мешать им стать истинными христианами, а что говорить о самой земле, о зданиях, о ландшафтах, о воздухе!
Насколько эффективным оказался приём «оттрясания праха» у великих религиозных реформаторов? У Эхнатона нововведение провалилось сразу же после его смерти: культ Амона был восстановлен, а построенная им столица опустела и снова была поглощена пустыней (на её месте сегодня находится убогая деревушка эль-Амарна). Петровский стольный град продержался дольше — целых двести лет, после чего первенство возвратилось к Москве, а навязать русским людям протестантский менталитет оказалось невозможным. Не удалось «онемечить Русь» и Анне Иоанновне, и даже продолжатели дела вестернизации России западники-марксисты в конце концов капитулировали перед несгибаемой приверженностью народа к заветам предков и, отменив марксизм, разрешили возрождаться православию. Но вот у Константина манёвр дал результат, историческую важность которого невозможно переоценить. Слава тебе, святый равноапостольный царю Константине, отрясший прах языческого Рима со своих ног и тем самым сохранивший для человечества веру православную!
Христианская жизнь на духовной целине Малой Азии продолжала развиваться в том направлении, которое указал сам Христос,— никакие духи и призраки прошлого здесь этому не мешали. «Отрясание языческого праха» не как личный выбор Константина, а как историческое событие происходило поэтапно. Первым этапом стало перенесение столицы христианской Империи из Рима в Византию в 330 году. Вторым — разделение Империи на Западную и Восточную в 395 году. Третьим — официальное разделение христианской Церкви на западную (католическую) и восточную (православную) в 1054 году. На первом этапе богословские проблемы решались ещё сообща, и первоочеред й из них была проблема осмысления евангельского Откровения о том, что Бог един в трёх Лицах. Хотя и Первый, и Второй вселенские соборы, решавшие эту проблему, происходили в Азии (в 325 году в Никее и в 381 году в Константинополе), громадную роль в формулировании принятого на них определения о Троице (Символа веры) сыграла западная богословская мысль александрийской школы. Разобравшись с Троицей, христианская Церковь должна была обратиться к осмыслению Её отдельных Лиц. И тут наметились первые различия: западная Церковь постепенно стала склоняться к сосредоточению внимания на Отце, и так возникло схоластическое богословие, а восточная — на Сыне, и так возникло аскетическое богопознание. Это совершенно естественно. Принятие христианства романо-германским этносом не могло отнять у него типичного для него рационализма, оно лишь направило его на другие предметы. Бог Отец, которого «не видел никто никогда» (Ин. 1:18) есть в известной мере умственная конструкция, почти математическая абстракция, а именно над такими абстракциями любит размышлять рационалист. Эллинизированный же мир Малой Азии, вобравший в себя, с одной стороны, тяготение элеатов к умозрению как альтернативе рассудку, а с другой стороны, восточный мистицизм, гораздо больше занимало всё иррациональное, и самым иррациональным в христианском богословии был (и остаётся) вопрос о таинственном соединении в явившемся на землю Сыне Божьем двух природ — Божественной и человеческой. Формальное определение по этому вопросу было принято лишь в 451 году на Четвёртом Вселенском соборе в Халкидо-не, но оно удовлетворило только западных схоластов, а в восточной Церкви христологическая проблема продолжала оставаться центральной. Но, как пишет выдающийся историк Церкви Георгий Флоровский, «в христологических спорах в действительности обсуждалась и решалась антропологическая проблема». «Греческое христианство», или «христианский эллинизм», как называл он восточное богословие, унаследовало традицию «настоящих философов» древности додумывать всякую мысль до конца. Если, согласно халкидонскому определению, Христос соединяет в Себе «совершенного Бога и совершенного человека», то естественно поставить вопрос, как Он это делает и какие выводы из этого следуют, т.е. это определение не закрывает проблему, а только уточняет, в чём она заключается. Великая эллинская метафизика, заглохшая в Европе после поглощения Греции Римом, расправила плечи в Малой Азии. Ученик Аристотеля Александр Македонский был для этой земли куда более значимой фигурой, чем Юлий Цезарь.
Главным гносеологическим принципом элейской школы было умозрение, познание внешних объектов не логическим анализом его формальных принципов, а мистическим актом слияния с ним, познание его изнутри. Его и взяли на вооружение восточные отцы Церкви. В то время как на Западе пытались правильно описать Бога, на Востоке ставили целью соединиться с Богом. Этот метод можно назвать опытным богопознанием: человек стремится приблизиться Богу через молитву и выполнение даннцх Им заповедей и после многих лет такой аскезы достигает своей цели: Бог открывается ему как живое существо, близкое, родное и понятное без слов. Теперь он может сказать о произошедшем с ним словами апостола Павла: «И уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2:20).
Обречённость на провал западного рационалистического богословия обуславливалась не только тем, недавно установленным математическим фактом, что логика является очень ограниченным по своим возможностям средством познания истины, но и тем, что это богословие недооценивает значение опытного базиса, на котором только и может быть возведена верная теория. Представьте себе физика-теоретика, не желающего ничего знать о результатах экспериментаторов,— что сможет он насочинять о законах природы, кроме фантазий? Нельзя сказать, что в западном христианстве не было аскетов и подвижников, но западное богословие не искало в их опыте главного отправного пункта своих рассуждений, поэтому их рассуждения вырождались в софистику. Софистика же есть не инструмент познания, а инструмент убеждения. Доведя этот инструмент до совершенства, схоласты не могли не обрести заказчика, как не может не обрести покупателя ремесленник, выставивший свои изделия на прилавок. Тут речь шла лишь о том, кто больше заплатит. Больше всех виртуозам убеждения мог заплатить папский престол — он и потребовал, чтобы они убедили народ в первенстве духовной власти над светской. Этот заказ с блеском выполнил гениальный начётчик Фома Аквинский в XIII веке. Его «Сумма теологии», на которой до сих пор держится идеология Ватикана, даёт многочисленные примеры тонких подтасовок и незаметных подмен. Фома говорит: «В Боге сущность и существование совпадают», и это верно, ибо в Писании Бог сказал Моисею: «Я есть сущий» (т.е. Моя сущность заключается в том, что Я существую). А дальше, рассчитывая на убедительность ассоциации, Фома изрекает уже отсебятину: «В Боге сущность и действие совпадают», чем угождает папе, оправдывая знаменитое «филиокве»: раз Отец и Сын имеют одинаковую сущность (единосущны), значит, их действия одинаковы, в том числе и такое действие, как испускание Святого Духа. Филиокве же нужно папе вот для чего: если Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына, т.е. от Христа, то Он должен исходить и от земного викария (заместителя) Христа, т.е. от папы.
Совершенно очевидно, что Иисус, осуждавший начётчиков, не одобрил бы и западной схоластики, основанной на формальной логике. В Евангелии подчёркивается, что познать Отца можно только через познание Сына, т.е. через христологию:
«Все предано (не Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11:27). А кому Сын откроет правду об Отце? Прямой ответ на этот вопрос даёт Сам Христос: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви» (Ин. 15:4). Познание Отца возможно только через Сына, а Сына надо познавать не рассудочно, а экзистенциально, живя в Нём, как ветвь живёт в соке, доставляемом лозой. В такую «жизнь во Христе» и погрузились тысячи и тысячи восточно-христианских подвижников, названных впоследствии Святыми Отцами, накапливая бесценный «экспериментальный материал» для дальнейшей его систематизации и переплавки в чёткие богословские формулы, принимавшиеся соборным разумом Церкви. Особенно много этих разведчиков истины сосредоточилось в центральной части Малой Азии, в Каппадокии, и отцам-каппадокийцам мы обязаны целым рядом жемчужин, вошедших в современную сокровищницу православной мысли. Поскольку главной темой для нас остаётся эволюция западного христианства, мы здесь кратко скажем только о двух из этих жемчужин.
1. Православное учение о спасении. Как и всё в восточном христианстве, оно основано на опытном богопознании Святых Отцов. Они единодушно утверждают, что спасение даётся человеку не за его заслуги, а по Божьей милости. Это открылось им в их аскетическом подвиге, но в Евангелии и апостольских посланиях имеется масса тому подтверждений, которые мы приводить не будем, поскольку это и так очевидно: наши заслуги перед Богом всегда конечны, а райское блаженство бесконечно, так что никакого «эквивалентного обмена» тут быть не может.
2. Православный взгляд на взаимодействие Церкви и государства. Основной принцип, из которого в данном вопросе исходит восточное христианство,— отделение Церкви от государства. Читателя может смутить тот факт, что этот принцип выдвигал и такой матёрый враг религии, как Ленин. Но Ленин просто лицемерил: под «отделением» Церкви от государства он подразумевал устранение всякого её влияния на жизнь страны с последующим её уничтожением. В православной же трактовке такое «отделение» есть не что иное, как разделение труда между Церковью и государством, осуществляемое ради их общего блага и идущее на пользу народу. Этот византийский принцип получил название «Симфонии» (созвучия) и юридически был оформлен в кодексе императора Юстиниана в VI веке. Суть симфонии заключается в том, что государство защищает Церковь от внешних и внутренних врагов и поддерживает её материально, а Церковь спасает души подданных и воспитывает из них добросовестных тружеников и законопослушных граждан.
Надо подчеркнуть, что и в постановке, и в решении.этих двух богословских проблем восточной Церковью не было никакого «человеческого мудрования» — сложившаяся здесь методология богопознания, если сказать совсем кратко, состояла в том, что рассуждение постоянно выверялось обращением к Откровению — это было памятованием слов Христа «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). При этом Откровение использовалось троякой формы: зафиксированное в Священном Писании и доступное всем; даваемое «алчущим и жаждущим правды» святым отцам; даваемое соборному сознанию Церкви. Постановку проблемы всегда подсказывало Евангелие, размышления над ней направлялись Святым Духом, действовавшим на личном и коллективном уровнях. И так в восточном христианстве было всегда, поэтому мы вправе с полным основанием утверждать, что существует только одно истинное богопознание — православное. Соответственно этому истинной Церковью может считаться только та, которая «хранит и возделывает» это сокровище, завещанное нам Самим Богом. В Средние века его сохранила византийская Церковь, затем оно было передано Русской православной церкви, которую врата ада не одолеют, и она будет свидетельствовать о Христовой истине до конца времён.
Европа входит в Новое время
Кто-то однажды попросил Толстого кратко пересказать идею «Анны Карениной». «Это невозможно — ответил писатель,— чтобы сообщить вам эту идею, я должен прочитать вслух весь роман от корки до корки». Так сложно бывает всё то, что изобретает человеческая фантазия. А вот происходящее в Божьем мире предельно просто. Сюжет, по которому разворачивалась европейская история с V века и по сегодня, не только элементарно прост, но и до крайности банален. Этот сюжет в нескольких фразах описал (а если хотите, предсказал) первоверховный апостол Пётр.
«Ибо, если, избегши скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познавши, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи.» (2Пет. 2:22).
Все последние полторы тысячи лет европейской истории есть не что иное, как возвращение принявшего христианство романо-германского мира на свою языческую блевотину.
Отдельные этапы всякого происходящего во времени процесса могут быть правильно поняты только после завершения всего процесса, ибо, не зная смысла целого, нельзя ничего сказать о смысле частей. Сегодня процесс возвращения Запада на свою блевотину полностью завершён, поэтому только сегодня стало возможным дать адекватную историческую характеристику деталям происходившего в Европе, убеждаясь в том, что тут всякое лыко было в строку. Это мы сейчас и попытаемся сделать в самом кратком изложении.
Массовое крещение римлян, начатое Константином Великим, проходило далеко не гладко. Тому корпусу «верных», который сложился ещё в подполье, оно пошло только во вред. В эпоху гонений христианами становились лишь всем сердцем уверовавшие в Распятого, энтузиасты, не просто готовые, но часто и желавшие принять ради Него мученический венец. Преследования играли роль фильтра, пропускавшего в Церковь только самых искренних и самых лучших. Теперь, когда она стала официально признанной и пользовалась благосклонностью всемогущего кесаря, в неё хлынул поток карьеристов, желавших показать начальству, какие они лояльные. Это резко снизило духовный уровень прихожан, что сразу почувствовали подлинные христиане. Епископ Григорий Назианзин сказал о церковной атмосфере того времени: «Будто солнце померкло». Самые взыскательные не смогли вынести такой атмосферы и бежали в пустыни Египта и Малой Азии, чтобы вдали от лицемерия и показухи быть наедине с Христом. Дело осложнялось ещё и тем, что почти сразу после Миланского эдикта Константина Церковь попала из огня да в полымя. До этого она страдала от внешних гонений, теперь её стало лихорадить изнутри: по всем её епархиям как эпидемия распространилась арианская ересь. Это было первое печальное следствие использования в богопознании формальной логики. Арий, стремясь уйти от многобожия, рассуждал так: Бог у нас только один, а именно Отец, а Сын, которого вначале не было, сотворён Им в какой-то момент времени в качестве помощника. Это учение легко разоблачается, если продолжить рассуждение дальше. У Ария получается не единобожие, а двоебожие: главный Бог — Отец, а подчинённый ему Бог — Сын. Это явный отзвук только что отменённого античного язычества, в котором также были верховный бог (Зевс) и второстепенные небожители (Афродита, Гефест и т.п., а также титаны, сатиры, нимфы и полубоги и так до простых смертных). Казалось бы, сделай небольшое умственное усилие, и арианство обнаружит свою несостоятельность: разве двоебожие устраняется только тем, что второй бог младше первого? Но традиция «настоящей философии» додумывать всё до конца была начисто утрачена Римом.
Когда произошло Великое переселение народов и бывшей Империей завладели германцы, они с энтузиазмом начали принимать христианство. Причина этого проста: человек всегда тянется к высшему. Знакомясь с христианской религией, варвары не могли не почувствовать её духовного превосходства над своим примитивным язычеством. Они крестились ровно потому же, почему впоследствии крестилась Русь: побывав на христианских богослужениях, они не знали, на земле ли они находились или на небе. Но христианство завоеватели принимали в арианском варианте — может быть, из-за того, что концепция сотворённого Христа более соответствовала германскому рационализму.
Правда, со временем арианство было в Европе оставлено, но тут уже сама западная Церковь принялась искажать учение Христа, чтобы приспособить его к папоцезаризму — концепции приоритета духовной власти над мирской (папа захотел стать заодно и кесарем). Это нетвёрдое, неточное, постоянно двоящееся христианство не могло долго противостоять сочащейся из всех щелей среды обитания господствовавшей здесь в течение тысячи лет великой языческой цивилизации — её запах кружил голову, вызывал в воображении какие-то смутные ностальгические образы, приглашал сознание повернуться от христианского мировоззрения к какому-то другому. И, конечно, этим альтернативным мировоззрением был свойственный любому язычеству, в том числе и античному, материализм. Запад всё больше проникался им, вытесняя из своей памяти фразу Иисуса «Дух животворит, плоть не пользует ни мало» (Ин. 6:63). И чем дальше заходил этот процесс перестройки жизненных установок, тем дальше и тем необратимее романо-германский мир отходил от христианства. Естественно, что служивший ему немым укором православный мир Византии вызывал у него растущее раздражение, переходящее в ненависть. В совершенно дикой и безобразной форме она выплеснулась наружу в 1204 году, когда по благословению папы крестоносцы разграбили Константинополь, кощунствуя над его святынями.
Принятие всякого серьёзного решения, как мы знаем из своего личного опыта, приходит не сразу. Сначала это решение вызревает в подсознании, что сказывается лишь в появлении ощущения беспокойства. Потом это же самое подсознание начинает готовить в нашей душе эмоциональное оправдание будущего решения, целенаправленно меняя наши внутренние критерии «плохого» и «хорошего». И лишь на последней фазе подключается софистика, которая подводит под фактически уже сделанный выбор логическую базу. Точно по такой же схеме происходил апостасийный процесс в некогда христианской Европе, только занял он не месяцы, как у индивидуума, а тысячу лет. Ведь совесть подсказывала Западу, что он совершает иудин грех измены Христу, и на то, чтобы её успокоить, требовалось время.
О происхождении подсознательной тяги европейских христиан вернуться к язычеству мы уже сказали — её вызывали испарения самой земли, которые сразу после крещения казались зловонными, а затем понемногу одурманили и превратились в аромат. Дальше нужно было усыплять совесть, сигнализирующую о том, что готовится гнуснейшее из предательств — предательство своего Благодетеля. Изворотливость человеческой натуры подсказала единственно возможный выход: внушить себе, что Христос никакой не благодетель, что всё, достигнутое романо-германским сообществом, обязано собственной воле, собственному уму и собственным талантам самих членов этого сообщества. Так Европа стала потихоньку отходить от культа Бога к культу человека.
Говорят, полуправда хуже откровенной лжи. Это был как раз такой случай. Европейцы первых веков действительно обладали качествами, возвышавшими их над своими языческими предками,— они же были «новой тварью»!
Христианский человек получил от Бога небывалую степень свободы и небывалое дерзновение. Язычник никуда не мог выскочить из заранее уготованного ему жребия, над ним тяготел рок (по-гречески «ананке»). Максимум, на что он был способен,— узнать свою судьбу от гадалок и оракулов, изменить же её он был не в состоянии. Христос отменил рок и открыл перед каждым возможность сделать такую блестящую карьеру, о которой ни один язычник, даже если он семи пядей во лбу, не мог и мечтать,— стать святым и обрести вечное блаженство. Более того, Он подробно разъяснил, что именно надо делать, чтобы достичь этой цели. Высшее, чего мог добиться честолюбивый язычник,— стать царём, но такая удача может выпасть лишь одному из многих тысяч, так что, если ты не наследник престола, у тебя на это призрачные шансы. А в христианстве подняться неизмеримо выше любого земного царя — войти в славу Небесного Царства — могут хоть все, там не тесно.
Ещё одна характерная особенность христиан состоит в том, что они, выполняя заповедь Христа, являются «алчущими и жаждущими правды». В них зажёгся исследовательский дух, ими овладела неуёмная любознательность, которой не могло быть у эллинов, целиком доверявших свою судьбу року. Наградив их этим свойством, Христос дал им возможность продвинуться вперёд в богопознании, чтобы ещё больше сблизиться с правдой Небесного Царства, с Пресвятой Троицей. Но европейские христиане пошли по другому пути. По историческим, этническим и психологическим причинам, о которых было сказано выше, их богопознание стало вырождаться в схоластику, а когда это жонглирование предикатами превратилось в мертвечину, общество потеряло к нему всякий интерес и направило свою любознательность на то, что давно уже втайне привлекало его больше духовного,— на плотское. Это новое увлечение, охватившее всю Европу, развивалось по двум направлениям: с одной стороны, началось самозабвенное любование человеческим телом, и, как с умилением говорили в музеях советские экскурсоводы, «художники стали рисовать под видом Богородицы прекрасных итальянок»; с другой стороны, с такой же страстью европейцы набросились на изучение свойств мёртвой материи. Первое направление получило название Возрождения или Гуманизма и породило великое светское изобразительное искусство Нового времени; второе известно нам как «наука» — оно породило великое материальное могущество человека и в конце концов преобразовало людскую среду обитания не только Европы, но и всего мира.
Новое всегда отрицает что-то старое. Фраза «Европа вступила в Новое время» подразумевает, что кончилось Старое время, что его содержание подверглось отрицанию и заменено другим. Содержанием того тысячелетия европейской истории, которое предшествовало «Новому времени» и именуется Средневековьем, было христианство. Начавшаяся эпоха могла сказать о предыдущей словами апостола Павла: «Древнее прошло, теперь всё новое». Только у Павла эти слова были отрицанием язычества и утверждением христианства, а теперь отрицалось христианство. Это было — прямо по Гегелю!— отрицание отрицания. Как известно из курса философии, оно ведёт к синтезу: происходит возврат к исходному тезису, но к нему добавляется и нечто положительное, что имелось в антитезисе. Тезисом было язычество, к нему-то и вернулась Европа, так и назвав утро Нового времени Возрождением — конечно же, возрождением античности, т.е. язычества. Положительным же, взятым из антитезиса, были точные науки и базирующаяся на них техника и технологии. А как же совесть, укорявшая бывших христиан за предательство? «Сумрачный германский гений» нашёл-таки способ заглушить эти укоры: Мартин Лютер выдвинул такую богословскую систему, где измена подавалась как верность Христу, учение которого исказила и переврала католическая церковь. Богословие получилось по-немецки топорным: отбрасывались таинства, отбрасывалось монашество, объявлялось, что спасают не дела, а вера, о наличии которой в его сердце знает только сам человек, и если он ощущает в себе её присутствие, то может быть уверен, что ему прощаются все грехи — и прошлые, и настоящие, и будущие. Такая система, если подходить строго, не может быть названа не только христианством, но и просто религией, ибо религия есть связь с иным миром, а такая связь может осуществляться лишь на мистическом уровне, т.е. через таинства, но европейское сознание уже основательно прониклось рационализмом, материализмом и индивидуализмом, поэтому не отнеслось к лютеранству слишком строго. Более того, добрая половина континента, особенно в северной, «нордической» части, пришла в восторг от гениально простой идеи реформатора называть антихристианство «христианством» и уходить от Бога, продолжая его славословить. После победы протестантизма в Тридцатилетней войне 1618—1648 годов и тем более после Великой французской революции 1789 года Запад, включивший в себя помимо Европы ещё и заокеанский филиал, превратившийся затем в оплот, стал безрелигиозным, а для желающих иметь хоть какую-то отдушину сохранил рудиментарный орган в виде едва теплящейся и совершенно отстранённой от власти католической церкви.
Однако это пока не было окончательным и откровенным возвращением Запада к язычеству. Христа всё ещё упоминали, президенты всё ещё принимали присягу, держа руку на Библии, общественная мораль всё ещё апеллировала к евангельским нормам, прямое богохульство считалось неприличным. Хотя по своей эстетике Запад был уже полностью языческим, экзистенциально он всё ещё оставался наполовину христианским — по бытовым привычкам, по народным традициям, а главное — по тому значению, которое он продолжал придавать институту семьи. Разврат в европейском обществе, особенно в его высших слоях, царил вовсю уже в XVIII веке, но официально всё-таки осуждался. Для того, чтобы он достиг такого же масштаба, как в античности эпохи разложения, понадобилось ещё два века — XIX и XX с их воинствующим атеизмом, сексуальной революцией и деспотичной толерантностью. Лишь к концу II тысячелетия по Рождестве Христовом Запад стал Новым Римом.
Новый виток язычества
Мудрый царь Соломон так подводит итог наблюдениям и размышлениям своей долгой жизни:
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: «…смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1:9).
Приводя множество примеров повторяющихся циклов, древний мудрец заключает сказанное словами: «Всё возвращается на круги своя».
Через две с половиной тысячи лет другой мудрец, немецкий философ Георг Фридрих Гегель, внёс в тезис Соломона поправку: мировое движение происходит не по кругу, а по спирали — в каждом витке, хотя он очень похож на предыдущий, появляется и что-то новое. Так было и в нашем случае: возвратившись к античному язычеству и вследствие этого начав повторять пройденный им исторический цикл, Запад повторял его на новом уровне, ибо уже на старте обладал тем, чем обогатило его христианство и чего не могло быть у древних язычников. Он и вернулся к римской цивилизации, и в то же время не совсем вернулся, так как слова Гераклита «нельзя дважды войти в одну реку» относятся и к реке времени. Вернулся в том смысле, что человек постхристианского Запада по своему психологическому типу стал таким же, каким был человек дохристианского Рима. В нём возобновились то же самое мироощущение, та же шкала ценностей, те же жизненные устремления. Но осуществлять эти устремления он мог теперь гораздо успешнее, ибо тысячелетнее пребывание в христианстве снабдило его новыми средствами, и в этом смысле нельзя говорить о точном воспроизведении античности. В Возрождении возрождалась лишь языческая структура сознания, а те действия, посредством которых эта структура самоутверждалась, были другими, ибо она располагала другими возможностями.
Христианская структура сознания, как мы знаем, характеризуется тем, что в своё «Я» христианин включает всё низкое и греховное, а высокое и святое отчуждает от него и помещает в «Не Я». А поскольку в «Моё Я» неустранимым образом входит «Моя плоть», у христианина возникает отношение к собственной плоти как к чему-то низменному, как к источнику греха. Такое отношение было абсолютно несовместимо с культом человеческого тела, охватившим Европу в эпоху Возрождения, поэтому сознание надо было как-то перестраивать. То обстоятельство, что «Моя плоть» стала восприниматься как что-то прекрасное, повлекло за собой цепочку важнейших для внутреннего мира человека следствий. Моя плоть, несомненно, прекрасна, но тогда и всё, к чему она меня подталкивает, все её похоти и прихоти тоже прекрасны. Дальше: поскольку моя плоть является неотъемлемым элементом моего «Я», делается вывод, что оно может содержать в себе не только плохое, но и хорошее. Почему бы в таком случае не собрать в нём и всё остальное хорошее? Так и поступил человек Нового времени. Помните чеховское «в человеке всё должно быть прекрасно» и горьковское «Человек — это звучит гордо!»? Это не что иное, как дошедшие спустя четыре столетия до русской интеллигенции отзвуки европейского Ренессанса. Но считать своё «Я» средоточием всего прекрасного человек не мог до тех пор, пока в его «Не Я» оставался прекрасный по определению Бог. С ним Запад разобрался не сразу. Сначала Лютер переместил Его из «Не Я» в «Я» — заявил, что Христос живёт в сердце человека, но такой инородный довесок к своему природному прекрасному был неудобен, и через какое-то время от него постарались избавиться. Запад действовал по тому же Чехову: «по капле выдавливал из себя раба» — раба Божия, разумеется. А что же осталось после этого в возрожденческом «Не Я»? Фихте почти правильно ответил на этот вопрос, говоря, что «Не Я» есть природа, с которой человек вступает в борьбу, развивая и усиливая в этой борьбе своё «Я». Более точный ответ таков: «Не Я» для человека Нового времени — это материя, которую его «Я» должно делать всё более услужливым исполнителем всех своих потребностей. Познавать такое «Не Я» с целью его эксплуатации означало развивать естествознание, особенно физику — метафизика тут была не нужна. Житейский материализм европейцев дополнился также и философским материализмом: «Не Я» свелось к материальной вселенной, которая стала восприниматься как огромный механизм, чьё движение на все времена предопределено «законами природы». Не проглядывает ли в существе с такой структурой сознания психологический портрет современного «образованного человека», т.е. нас с вами?
Впрочем, сегодня это существо обмельчало и деградировало, а тогда оно ещё дышало внутренней мощью, накопленной за десять веков пребывания в христианстве, и свернуло горы, переделав на новый лад жизнь всего человечества.
Здесь мы подошли к такому моменту, который достоин особого внимания, ибо это ключ к пониманию того, почему западная цивилизация не стала банальной копией античной цивилизации. При вхождении Запада во второй виток язычества произошёл некий фокус, непредвиденный магический эффект, изменивший русло реки времени и направивший её к тем берегам, которые мы с вами нынче созерцаем. Этот крутой поворот мировой истории был следствием того, что помимо языческого мировоззрения европейцы Нового времени обрели ещё и нечто небывалое и неслыханное — науку. Речь идёт не о науке вообще как систематизированном изучении чего-либо — такая наука была и у первобытных людей,— а о той конкретной отрасли исследований, которая по-английски именуется science, о базирующемся на высшей математике познании законов, управляющих мёртвой материей. Оно началось в определённом месте и в определённое время — в Европе в XVII веке. Начавшись с огромным энтузиазмом, это познание оказалось настолько успешным, что новый язычник смог выжать из материи для удовлетворения потребностей и прихотей своей, плоти гораздо больше, чем это был способен сделать даже римский язычник, хотя он немало преуспел в этом искусстве.
Появление науки не было закономерным и неизбежным следствием поступательного развития умственных способностей человека. Ум древнего грека и ум средневекового китайца не был ни на йоту слабее ума европейца Нового времени, но науку ни тот, ни другой нe создали. Чтобы возникло чудо, названное нами наукой, нужна была встреча в одной точке таких факторов, которые, соединившись, произвели взрывное действие. «Только раз бывают в жизни встречи», поётся в популярном романсе; только раз в жизни человечества, именуемой историей, могло произойти совпадение условий, необходимых и достаточных для рождения науки. Не произойди их встреча, и поезд ушёл бы, и мы до сих пор освещали бы свои жилища свечами и керосиновыми лампами. Точкой судьбоносной встречи было сознание европейца начала XVII столетия.
Основным элементом его «Не Я» стала материя. Но поскольку он ещё недавно был христианином, к познанию этого нового «Не Я» он по инерции приступил с теми же чувствами и с помощью того же инструмента, что и при познании прежнего «Не Я», центральным элементом которого был Бог. Высота этого предмета сильно воодушевляла, сам процесс его познания вызывал восторг, мог стать смыслом всей жизни познающего. А инструментом было доведённое до совершенства схоластическим богословием манипулирование абстрактными понятиями, производимое по строгим правилам дискурсивного рассуждения. В деле постижения Бога этот аппарат показал себя непригодным, ибо подчинив сотворённую Им материю логике «законов природы», сам Творец ей не подчиняется, и Его сущность не может быть «вычислена». Зато в естествознании он оказался чрезвычайно эффективным, ибо естествознание есть не что иное, как исследование логики поведения материи — тут дискурс объекта познаётся дискурсом субъекта. Так всё и сошлось — рвение, любознательность, пафос, душевный подъём и адекватность исследовательского метода. Результат — громадный прорыв в овладении материей человеком.
Надо сказать, что патетическое отношение к познанию свойств материи сохранялось в обществе до сравнительно недавнего времени. Ещё живы старики, которые помнят часто слышанную ими в юности фразу: «Наука — дело святое». Сейчас эти времена уже в прошлом, наука, бывшая тогда царицей, стала всего лишь расторопной и умелой служанкой, услуги которой оплачиваются в той мере, в какой она приносит или обещает принести практическую пользу. Это свидетельствует о том, что даже остаточная религиозность начисто выветрилась из современной цивилизации.
Наука вызвала громадные перемены в укладе европейской жизни, изменила сами принципы устроения коллективного бытия. Она открыла новые способы удовлетворения материальных потребностей человека, и человек не преминул воспользоваться этими способами.
В донаучную эпоху (т.е. от сотворения человека до XVII века) основным источником материальных благ была плодоносящая земля — дар, приготовленный для человека в предыдущие пять дней творения и вручённый ему с обязательством хранить его и возделывать. Исполнению этого Божьего завета лучше всего соответствовал феодальный образ коллективного существования — наличие собственника определённого земельного удела (короля, герцога, князя), воинского сословия, защищавшего его собственность (дворян), и цепочки арендаторов. Наука породила развитую хитроумную технологию, благодаря чему производство материальных ценностей стало концентрироваться на заводах и фабриках, хозяева которых сделались более важными фигурами, чем землевладельцы, и на смену феодализму пришёл капитализм. Человеческий труд оторвался от земли, к которой раньше так или иначе был прикреплён, и стал наёмным, что значительно повысило роль денежных потоков как организующего социум фактора, а следовательно, и роль банков.
Карл Маркс (1818—1883) выдвинул теорию, согласно которой капитализм представляет собой одну из социальных формаций, последовательная смена которых и есть содержание истории человечества. Их смена происходит вследствие желания людей производить всё больше товаров потребления, и каждая следующая формация потому побеждает предыдущую, что превосходит её по продуктивности изготовления материальных благ. Стремление же человека ко всё большему товарному изобилию постулируется как его прирождённое свойство и не обсуждается. Капитализм — предпоследняя формация. Она должна будет в своё время уступить место ещё более производительному социализму, на высшей стадии которого — коммунизме — любые товары любой человек будет брать в магазине бесплатно. Это райское состояние людского рода сменяться на какое-то другое уже не будет, и продлится неопределённо долго. «Наш паровоз, вперёд лети. В коммуне остановка.» Теория имела грандиозный успех, вызвала революционное брожение в Европе, а в России и саму революцию, поставившую своей целью построение коммунизма во всём мире. Марксизм привлекал и привлекает миллионы людей до сих пор не только простотой объяснения исторического процесса, но и тем, что трактует этот процесс как «естественный», происходящий «по законам социального развития» безо всякого вмешательства Бога. Это очень импонировало ставшей к тому времени уже не просто неверующей, но и активно атеистической «образованной» публике. По той же причине эта публика пришла в восторг от опубликованной почти в то же самое время дарвиновской теории естественного отбора. О ней мы говорить здесь не будем, так как даже критика этой бредовой идеи в какой-то мере служит ей рекламой, а что касается «естественности» капитализма, то, идя в обратном направлении по причинно-следственной цепочке событий европейской истории, мы приходим к исходной причине, никак не вписывающейся в атеистическую теорию Маркса. Капитализма не было бы, если бы не было высоких технологий; эти технологии не появились бы, если бы не появилась наука; европейцы не создали бы науку, если бы не прошли через христианство; а христианства не было бы, если бы его не учредил сошедший с небес Бог Сын. Но разве можно назвать сошествие Бога и Его воплощение в человека естественным событием? Оно абсолютно противоестественно, а точнее сказать, «вышеестественно» — оно произошло не по каким-то законам природы или социума, а по воле Того, Кто является подлинным творцом истории, направляющим её течение к осуществлению Своего Замысла.
Что же, выходит, в Божественный Замысел входило возвращение христиан к язычеству? Ведь Бог не мог не знать, к чему приведёт в конечном счёте последовательность событий.
Здесь мы касаемся весьма существенного момента, который нам необходимо как следует уяснить. Святоотеческие творения и определения православной церкви единодушно говорят об этом следующее. Бог управляет историческим процессом не в том смысле, что внушает каждому человеку, что ему делать и как ему мыслить. Наша свобода для Бога священна — если бы мы не обладали свободой, то в нас не было бы богоподобия, которое является основным характеристическим признаком человека, отличающим его от всех остальных тварей («сотворим человека по образу Нашему и, по подобию Нашему» — Быт. 1:26). Обладая свободой, люди постоянно путают карты Творцу Истории, но своих стратегических целей Он всё равно достигает, применяя для этого различные тактические приёмы, в числе которых важное место занимает попущение. Как говорят Святые Отцы, «зло само себя ест», и Господь часто не препятствует распространению зла, рассчитывая на это его свойство. Неоязычество было именно попущением Бога, но только в Европе, и в этом, как мы увидим дальше, был скрытый смысл. Византия же оставалась верной православию, так что обет Христа «врата ада не одолеют Мою Церковь» выполнялся.
Обречённость капитализма
Живший в XVIII столетии английский философ Адам Смит мог наблюдать капитализм уже в полном его расцвете и сделал первую попытку основательно осмыслить этот вид жизнеустроения. Осмысление получилось настолько глубоким, что имеет научное значение и сегодня. Кстати, Маркс высоко ценил Смита и не скрывал, что этот автор является одним из источников и составных частей его экономической теории. Особенно понравилось Марксу, что Адам Смит предсказал конец капитализма. Он сразу же подхватил эту мысль и разъяснил, как именно капитализм кончится: он будет свергнут революционным путём и заменён более производительным и более справедливым социализмом.
Однако Адам Смит имел в виду совсем не это — он полагал, что уход капитализма с исторической сцены произойдёт не потому, что его прогонит с неё внешняя сила, а потому, что в нём самом содержится финитная программа. По самой своей сути капитализм может держаться только торговой экспансией, когда же она достигнет своих пределов, приток к нему прибыли прекратится, и он зачахнет. Это заставляет вспомнить о первом витке европейского язычества — ведь гордая Римская империя со всей её пышностью тоже существовала лишь за счёт раздвижения своих границ, а когда раздвигать их стало уже нельзя, схлопнулась.
Рассмотрим этот пример поближе. Оправданием самоуверенности римлян и чувства своего превосходства над другими народами (варварами) служило для них то, что их жизнь была более комфортной и цивилизованной, чем в остальном мире, что они были самые богатые. Но вот что не хотели они до конца осознать: их богатство было обязано не собственному трудолюбию или какой-то особо эффективной организации труда, а главным образом ограблению стран, которые Рим завоёвывал в ходе расширения своей территории. Да, в Риме были рабы, обслуживающие своих хозяев, но и они тяготели к праздной и вольготной жизни и вовсе не надрывались на плантациях под бичами надсмотрщиков, как чернокожие невольники на юге Соединённых Штатов полутора тысячелетиями позже. Общий настрой языческого общества «Хлеба и зрелищ!» — был присущ рабам в той же мере, что и свободным люмпенам, и власти вынуждены были постоянно бросать толпе более или менее жирные куски. Огромные расходы, шедшие на это ублажение своих граждан, казна возмещала военной добычей. Сципион обогатил Рим, завоевав Карфаген, Сулла — завоевав Митридатово царство, Цезарь — завоевав Галлию, Адриан — завоевав Британию. На отнятые у побеждённых соседей средства Веспасиан построил Колизей, а Каракалла — общественные бани. Вход и туда, и туда был бесплатным.
Римские власти были вынуждены идти ещё на одну уступку — её требовал принцип: «Мы ответственны за тех, кого приручили». Присоединяя захваченные области к своей державе, они, чтобы предотвратить восстания, должны были создавать там условия жизни, хотя бы частично похожие на те, что имелись в столице. Там тоже строились амфитеатры, проводились гладиаторские бои и другие представления. Такое заигрывание с населением стимулировалось ещё и присущим императорам стремлением стать выше сената, а для этого они нуждались в симпатиях широких масс. В 212 году Каракалла издал указ о даровании римского гражданства жителям всех провинций. Конечно, это вызвало взрыв благодарности у миллионов и укрепило его власть, но, чтобы обеспечить этим миллионам образ жизни, достойный высокого звания римского гражданина, требовались колоссальные средства, без которых указ кесаря превратился бы в чистую демагогию. Вставал вопрос: какую бы ещё страну победить, чтобы наложить на неё контрибуцию?
И вот наступил момент, когда брать дань стало уже не с кого. На севере и на западе Империя упёрлась в океан, на юге — в джунгли тропической Африки, а на востоке — в равновеликий по своей военной силе германский этнос. Это был поставленный самой жизнью эксперимент, результатом которого является ответ на вопрос: может ли устойчиво существовать замкнутое гедонистическое общество? Жизнь дала такой ответ: не может. Впрочем, это ясно и из теоретических соображений: если кто-то наслаждается и развлекается, его наслаждения и развлечения должен оплачивать кто-то другой, а в замкнутом обществе другого нет.
Второй виток европейского язычества получился не совсем таким, но похожим. Отождествив себя на середине витка с капитализмом, западная цивилизация сама подписала себе смертный приговор. Почему? Чтобы понять это, надо разобраться в том, что такое капитализм. Сам капитализм преподносит себя как «демократию» и ведёт своё происхождение от Афин времён Перикла, но жизнь современного Запада не имеет ничего общего с жизнью древнегреческого полиса. Идеологи социализма изображают капитализм как беспощадную эксплуатацию фабрикантами своих рабочих, однако, хотя такая эксплуатация на первом этапе капитализма и вправду имела место, в дальнейшем она сильно смягчилась и сегодня не является характеристическим признаком этой системы. Обе трактовки пристрастны, поэтому их приходится отбросить.
В действительности капиталистическое общество есть общество, целиком ориентированное на расширяющееся производство и потребление материальных благ, в иерархии ценностей которого на первом месте стоят деньги, открывающие доступ к этим благам. На втором, третьем и последующих местах у разных членов общества может располагаться самое разное — вплоть до религиозных верований, но верховным богом для всех являются деньги, поэтому это общество можно назвать моноконфессиональным. Единство культа делает его однородным и стандартизированным, каждый в нём мечтает об одном — разбогатеть. Сделать это люди ухитряются разными способами, но определяют хозяйственную жизнь те, кто избирает два характеризующих систему способа: продавать производимые на своём предприятии товары (занятие капиталистов) и продавать деньги (занятие банкиров). Банкиров мы оставим в стороне и подумаем над тем, может ли капиталист бесконечно долго получать от своей деятельности ощутимую прибыль.
Вопрос ставится в теоретической плоскости, поэтому надо предельно упростить постановку задачи, оставив только самое существенное.
Представим себе, что дело происходит на изолированном от остального мира острове с жадным до денег бездуховным населением. Один из жителей, добыв одному ему известным способом необходимые средства, обзавёлся производственным предприятием, нанял рабочих и стал изготовлять товары потребления. Перед ним сразу встаёт проблема: какую часть вырученных от продажи товаров денег отдавать рабочим в качестве зарплаты? Ему, конечно, хочется платить им как можно меньше, чтобы львиную долю выручки оставить себе.
Как доказал Маркс в своём «Капитале», этот минимум равен стоимости самой рабочей силы, т.е. зарплата должна обеспечить рабочему лишь пропитание его и его семьи, одежду и обогрев жилища, а остальное капиталист намерен присвоить в качестве «прибавочной стоимости», в чём и состоит вся его суть. Но в случае это у него не получится: на этом острове рабочие являются единственными покупателями, и если их зарплаты хватит только на то, чтобы выжить, то кто будет покупать производимые товары? Капиталисту нужны богатые покупатели, а обогатить их он может только в ущерб собственному доходу. Повысишь зарплату — бойко пойдёт продажа, но сократится прибыль капиталиста, а именно прибыль для него главное. Урежешь зарплату — товары будут залёживаться на складе, и прибыль опять-таки упадёт. К тому же алчность островитян делает их привередливыми: если, по их мнению, хозяин им недоплатил, они устраивают забастовки и грозят революцией. Так неизбежно начнётся затяжная борьба между работодателем и наёмниками, которую социалисты называют «борьбой трудящихся за свои права» и которая в конце концов завершается компромиссом, когда прибыль владельца предприятия делается равной зарплате управляющего — она уже не будет вызывать зависти рабочих. Юридически такое равновесие может быть оформлено как соглашение между профсоюзом и работодателем или как приобретение рабочими акций предприятия, т.е. как превращение их в его совладельцев. Но это будет означать конец капитализма и превращение его в что-то такое, подозрительно похожее на социализм, и система утратит своё главное достоинство — личную заинтересованность владельца предприятия в его усовершенствовании. Если не будет хорошей наживы, то ради чего ему стараться…
Перспектива наживы возникнет у него с новой силой, если обнаружится, что поблизости есть другой остров, жители которого располагают деньгами, а товарное производство находится у них на низком уровне. Эти новые островитяне будут идеальными покупателями со своими собственными средствами приобретения товаров, тем более что, поскольку у них нет соответствующего производства, товары можно всучивать им по завышенным ценам. Капиталист воодушевится этим, и ему уже не так мучительно больно будет делиться доходами со своими работниками, ибо доходы эти резко возрастут, и их хватит на всех. Теперь «эксплуататором» станет весь наш остров, а «пролетариатом», из которого он выжимает соки,— второй остров. Такую ситуацию с одного бока описывает популярная на Западе теория «народного капитализма», а однобокость её состоит вот в чём: разрисовывая благополучие такого общества, она умалчивает о том, за счёт кого достигается это благосостояние.
Дальше всё пойдёт, как в сказке про белого бычка. Когда собственные средства у вторых островитян закончатся, их покупательную способность будут вынуждены поддерживать первые островитяне, сделавшиеся коллективным капиталистом, и начнётся та же самая «борьба трудящихся за свои права», которая завершится тем же компромиссом: оба острова вместе станут «капиталистом», которому до зарезу нужны будут новые «трудящиеся». Но, поскольку количество островов на нашей планете конечно, сказка про белого бычка когда-нибудь всё-таки оборвётся, и капитализм — он же западная цивилизация — прекратит своё существование, ибо, как и существованиe гедонистического общества Древнего Рима, оно невозможно при условии замкнутости. Совершенно права была Роза Люксембург, которая утверждала, что капитализму жизненно необходимо наличие рядом с ним в качестве объекта ограбления некапиталистического мира, так как капитализм по самой своей природе есть грабёж.
К этой схеме нас привело логическое рассуждение. Политэкономия Адама Смита тоже является логическим рассуждением и тоже приводит к заключению о конечности капитализма, но ведётся оно по-другому. Он отталкивается от той реальной ситуации, которая сложилась в экономической жизни Европы к XVIII веку, когда было уже много капиталистов и их число возрастало, несмотря на то что между ними возникала конкуренция. Как новые предприниматели находят себе ниши для разворачивания своих производств? Эти ниши не надо было искать — они возникали сами, и их появлению содействовала всё та же наука. Дело в том, что усложняющаяся благодаря развитию науки технология требовала всё более глубокого разделения труда, а оно влекло за собой необходимость создания отдельных специализированных производств, налаживание которых и брали на себя инициативные бизнесмены. Скажем, когда некий капиталист стал изготавливать паровые котлы, и ему понадобились хорошие манометры, тут же отыскался шустрый деятель, который вложил свои деньги в их производство и тоже стал капиталистом. Спрашивается: а почему первый капиталист, продающий котлы, сам не стал делать манометры? По той причине, что тут совершенно другая технология, другой профиль, и осваивать его, отвлекаясь от своего уже поставленного на поток производства нет смысла — дешевле будет покупать манометры у того, кто занялся ими вплотную. Разделение труда оказывается более рентабельным. И всё-таки покупка манометров снижает прибыль производителя котлов. Что он должен делать, чтобы компенсировать затраты на эту покупку? У него только два выхода: либо поднять цену каждого котла, либо изготавливать больше котлов, так как при массовом производстве себестоимость каждого изделия резко снижается. Первый вариант плох тем, что удорожание товара сразу же приводит к замедлению его продаж, так что остаётся второй вариант. Так Адам Смит приходит к своему главному тезису: углубление разделения труда ведёт к необходимости расширения рынка.
Разделение труда — самый рентабельный способ производства товаров потребления, но чем оно глубже, тем большее количество людей втягивается в производство, поскольку становятся необходимы всё новые и новые профессии, а значит, требуется всё больше денег на оплату их совокупного труда. Откуда могут взяться эти деньги? Только от продажи товаров. Глубокое разделение труда, порождаемое высокими технологиями,— дорогое удовольствие, и, если общество будет продавать мало товаров, выручки на это удовольствие не хватит, и ему как воздух нужны будут внешние покупатели. Но долго выкачивать из них деньги не удастся: оценив приобретаемые товары, они захотят сами так или иначе включиться в их производство, и помешать этому никто не сможет. Зона производства начнёт раздвигаться, но на любом этапе ей будет необходима прилегающая к ней зона сбыта или дешёвой рабочей силы. Когда же окажется, что раздвигаться больше некуда, обществу не останется ничего другого, как самому покупать произведенные им товары, т.е. перейти на образ жизни, при котором по одёжке протягиваешь ножки, и либо умерять свои аппетиты, либо напряжённо работать, а и от того, и от другого оно отвыкло. Масштаб изготовления товаров, рассчитанный на его продажу другим обществам, станет ненужным, и возникнет кризис перепроизводства — главная неприятность капитализма, предсказанная и Адамом Смитом, и Марксом, и Розой Люксембург. Они не дожили до подтверждения своих прогнозов, но если оттуда смогли бы увидеть происходящее ныне, их души должны были бы исполниться гордостью: как в воду они глядели.
Европейский капитализм, ставший затем западной цивилизацией, с самого момента возникновения питался чужими соками. Сначала капиталисты действительно нещадно эксплуатировали собственных рабочих. Вечно паразитировать на своих «трудящихся» у них не получилось, ибо трудящиеся этого не позволили, их пришлось взять в долю (при этом из «трудящихся» они превратились в «средний класс»), чтобы совместно эксплуатировать колонии, которые пришлось для этого завоёвывать. Но в XX веке колонии взбунтовались против прямого ограбления, и тогда Запад изобрёл не столь явную, а потому не столь оскорбительную форму ограбления — сделал печатаемый в США доллар основной международной валютой. Но и эту хитрость сегодня все раскусили, и скоро она перестанет срабатывать.
Итак, любое рассуждение о капитализме, если довести его до конца, приводит к одному заключению: эта форма общественной жизни способна существовать только в режиме экспансии, а поскольку сфера, на которую может распространиться её экспансия, конечна, то и форма эта тоже конечна. Замечательно не столько то, что капитализм обречён, сколько то, что эта обречённость того же типа, как и та, которую несла в себе античная цивилизация. Второй языческий Рим падёт по той же причине, по которой пал первый: ему некого станет грабить. А какой главный признак делает античное язычество родственным неоязычеству Запада? Конечно, культ плоти, философский и житейский материализм. Именно он и несёт в себе собственную гибель. К этому утверждению приводят и факты, и размышления над фактами. Но стоило ли тратить так много сил на сбор фактов и на их обобщение, если ещё две тысячи лет назад самим Создателем людей было сказано: «Дух животворит, плоть не пользует нимало»? Духовное общество способно жить вечно, плотское общество неизбежно умрёт и истлеет, как умирает и истлевает плоть индивидуального человека. И если мы внимательно приглядимся к современному западному обществу, то за макияжем, которым оно старается прикрыться, начнём явственно различать признаки одряхления и приближения смерти.
Окаменение Запада
Всякая цивилизация, как и любой другой сотворённый Богом живой организм, состоит из трёх частей: духа, души и тела. Дух цивилизации — это то внешнее животворящее начало, которое ею самой воспроизводиться не может, ибо внутри неё нет его источника. Душа цивилизации — это её культура, включающая в себя изобразительное искусство, музыку и художественную литературу, а также продукты их синтеза, такие, как театр или архитектура. Тело цивилизации — государство с его силовыми и правовыми структурами. Культура, сознательно или бессознательно, питается Духом — без его притока она ослабеет и засохнет. Поэты и художники хорошо знают, как им необходимо вдохновение. Государство, в свою очередь, строит свои рабочие органы по подсказкам культуры и в соответствии с задачей её защиты.
Ничего уникального здесь нет, по схеме «дух — душа — тело» функционируют не только цивилизации, но и все живые организмы. В середине XIX века был момент, когда некоторые честные биологи на основании результатов многолетних наблюдений пришли к выводу: живое существо живёт только потому, что в него втекает какая-то таинственная невидимая субстанция, которую они именовали то «жизненной силой» (vitality), то, следуя Аристотелю, «энтелехией», то попросту «душой». В науке возникло целое направление, получившее название витализма. Но поскольку оно посягало на святая святых европейского материализма — учение Дарвина о «естественном» происхождении жизни,— то было осуждено как «идеалистическое». Заметим, что виталисты даже не заикались о Боге, они говорили только о загадочной «силе», но и этого было достаточно, чтобы перестать быть «своими» для западного общества. А для того, кто ставит истины евангельского Откровения выше тенденциозных домыслов идеологов, виталисты «почти свои», поскольку в этом Откровении сказано о предвечном Боге: «В Нём была жизнь» (Ин. 1:4). Человек, просвещённый Христом, а не Дарвином, может сказать об этом гораздо точнее и конкретнее, чем виталисты: источник всякой жизни в Троице, потому и названной «живоначальной» (берёзки, которыми украшена церковь в Троицын день, как раз и напоминают об этом), а подаёт Она её всем существам ниспосланием своего Третьего Лица, и его надо называть не «энтелехией», а Святым Духом.
Все существовавшие в истории человечества цивилизации существовали только потому, что создавали специальную службу, обеспечивающую поступление к ним животворящего Духа, устанавливающую бесперебойную связь с иным миром, откуда Он поступает. Эта служба — религия, что в переводе с латинского означает «возобновление связи». Люди, состоящие на этой службе, освобождались от всего другого и окружались почётом, общество щедро оплачивало их труд, считая его самым важным. Связь с иным миром осуществлялась сначала через шаманов (колдунов), потом через жрецов, пребывающих в специально построенных для этого святилищах (храмах). Великие цивилизации Древнего мира придавали религиозному культу государственное значение, не жалея средств на возведение храмов и содержание жрецов, и только потому они были такими долговечными.
Почему же цивилизации всё-таки уходили с исторической сцены? Иногда причины были внешними — их уничтожали враги. Но в других случаях они умирали своей смертью, и это случалось тогда, когда их религия начинала вырождаться, в результате чего приток к ним животворящего начала прекращался. Лучшим примером такого конца служит античная языческая цивилизация. На закате Римской республики и особенно в Римской империи все эти юпитеры, фебы, юноны и прочие бывшие божества деградировали до уровня развлекающих публику ярмарочных персонажей, и через них никакая «энтелехия» поступать к обществу не могла. И Европа погибла бы, если бы её не спасло широко растворённое в горний мир окно христианства. Через него хлынул такой мощный поток Святого Духа, что на месте скончавшейся римской цивилизации утвердилась несравненно её превосходящая новая цивилизация. Во всех сферах жизни — в культуре, в науке, в освоении новых земныx пространств, в материальном производстве — Дух приносил такие богатые плоды, что от их изобилия у европейцев вскружились головы, и они приписали заслугу обретения этих плодов самим себе, вообразив, будто смогут добывать их в таком же и даже большем количестве с возвращёнными декоративными юпитерами и юнонами, тени которых парили над их землёй. Начался длительный процесс закрытия окна и заклеивания всех его щелей — процесс отречения от Христа, апостасии. Он занял что-то около пятисот лет и завершился на наших с вами глазах.
В биологических организмах дело обстоит несколько иначе. Крокодилу или кошке не надо заботиться о том, чтобы к ним притекала жизненная сила,— она и так к нему притекает, это предусмотрено Творцом. И, чтобы прожить положенный срок и умереть подобно крокодилу и кошке, человеку тоже не нужно просить Бога ниспослать ему Святой Дух. Но если он хочет получить жизнь вечную, то ему надо «родиться свыше», т.е. открыть для себя источник сугубой благодати (Ин. 3:3). В беседе с самарянкой Сын Божий сказал, что только Он является источником воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4). За разрешением войти в эту воду необходимо обращаться к её подателю, установить с Ним связь. Она осуществляется через молитву и богомыслие. Как именно надо молиться, об этом сказано и Христом, и Святыми Отцами. В вечернем правиле православного христианина есть одна молитва, на которую нам стоит обратить особое внимание: «Господи, избавь меня от окамененного нечувствия». Конечно, здесь имеется в виду не эмоциональная сдержанность — сильные эмоции, «страсти» христианством как раз не поощряются, а нечувствительность к существованию иного мира. Кто «окаменеет» и перестанет ощущать присутствие где-то рядом с собой другого бытия, тот не станет искать с ним контакта, а значит, отрежет себя от продолжения своей жизни в этом бытии. Именно такое окаменение произошло с западной цивилизацией.
Окамененное нечувствие — последняя фаза апостасийного процесса, на которой он становится необратимым. Животворящая субстанция перестаёт питать душу и тело, последний её остаток расходуется, и они становятся совершенно бездуховными. А дальше происходит нечто страшное. Христос предупредил нас об этой угрозе.
«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, вошедши, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф. 12:43-46).
Как и всё в Евангелии, это и предупреждение, и прогноз одновременно. Здесь с абсолютной точностью описано то, что произошло с западной цивилизацией, с этим «коллективным человеком». Явившись на землю, Христос изгнал из языческой Европы бесов, которых она называла богами, открыв тем самым приток в неё Святого Духа, и вместе с ним она наполнилась душевным здоровьем и телесной силой. Когда же она, подобно крыловской свинье под дубом, сама перерезала питавшие её корни, бесы почуяли это и, проверив, убедились, что горница чисто выметена и в ней можно поселиться ещё в большем количестве, чем раньше.
Живя в человеке — это относится одинаково к индивидуальному и к коллективному человеку — бесы обычно сидят там тихо. Не имея собственной жизненной силы, ибо давно отпали от её источника, они могут существовать только за счёт организма, к которому эта сила притекает, паразитируя на нём. Всякий же паразит старается ничем не выдать своего присутствия в хозяине, и только внимательное наблюдение за последним может вызвать подозрение, что с ним происходит нечто неладное. Но есть верный способ выявить затаившегося в человеке беса — привести этого человека на богослужение в церковь. Если бес действительно сидит в нём, он начнёт лаять по-собачьи, густым басом (даже если это женщина) изрыгать проклятия, кукарекать петухом и визжать, как поросёнок, ибо быть рядом с Христом для него невыносимо. Такие сцены наблюдал каждый, кто регулярно посещает храм. Применённый к западной цивилизации, этот безошибочный критерий позволяет поставить ей уверенный диагноз: она уже не управляет собой, ею управляют бесы.
Здесь приходит на память эпизод, произошедший на Тайной Вечере. «И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошёл в него сатана» (Ин. 13:26). С этого момента Иуда, внешне нисколько не изменившись, перестал быть Иудой: его действиями целиком руководили бесы.
Нам неизвестно, когда и с каким проглоченным ею куском в западную цивилизацию вселились бесы, но это несомненно произошло. Только этим можно объяснить тот поразительный факт, что она буквально отшатывается от призрака Христа, где бы он ни возникал — в истории, в философии, в общественных науках, в психологии, даже в бытовых речевых оборотах. В американских школах запрещено говорить друг другу на Рождество happy christmass — надо говорить happy holiday. Огромная статуя Христа, установленная в горах близ Рио-де-Жанейро, давно вызывает раздражение, её постоянно хотят снести, и только протесты католической церкви, ещё имеющей в Латинской Америке некоторое остаточное влияние, пока мешает осуществить это намерение. Но самую откровенную, прямо-таки невероятную христофобию проявляют западные историки: они не говорят ни слова о роли христианства в становлении своей собственной цивилизации, а также о том влиянии, которое оно оказало на другие страны — например на Россию. Так не может вести себя сам исследователь, пусть и неверующий, так избегать этой темы может его заставить лишь сидящий в нём бес, который «и верует, и трепещет» (Иак. 2:19). Всё было вполне закономерным: свято место пусто не бывает. Скорее всего, дело обстояло не так, что один бес привёл за собой в освободившееся помещение сразу целый легион: они селились там один за другим, а когда именно была пройдена точка невозврата, теперь неважно — в любом случае она уже позади. Но постепенность отпадения Европы от Христа не означает, что оно было совсем незаметным. Зоркие люди, как принадлежавшие к самой западной цивилизации, так и являвшиеся сторонними наблюдателями, давно уже выражали беспокойство по поводу того, куда катится Европа. Среди них были русские философы Хомяков, Киреевский и Соловьёв, немцы Карл Маркс и Освальд Шпенглер, прямо предсказавший «закат северных стран». И конечно, это движение вниз, к преисподней, было отмечено таким чувствительным барометром, как европейская художественная литература. Лучшие её авторы — Бальзак, Мопассан, Пруст — только тем и занимались, что описывали падение нравов в буржуазном обществе и его нарастающую неприглядность. Ленин хотел избавить Россию от власти беса капитализма, но привёл её к бесу воинствующего атеизма. В общем, в предсказателях гибели западной системы недостатка не было, но, хотя все они были правы, апологеты этой системы всё громче прославляли западный образ жизни и западные ценности (среди которых первой называли демократию), якобы обеспечившие Западу лидерство в материальном прогрессе всего человечества. Это безудержное хвастовство, особенно свойственное американцам, напоминало по своей навязчивости геббельсову пропаганду превосходства арийской расы и имело такое же гипнотическое действие на умы и души, так что значительный процент жителей остального мира стал мечтать о том, чтобы переселиться в какую-нибудь из стран Запада либо в своей стране устроить жизнь по западному образцу.
Разоблачать эту пропаганду, ловя её на наивностях и неуклюжестях, совершенно бесполезно. Это лучше всего доказывает деятельность Михаила Задорнова. В своих эстрадных выступлениях он уже много лет высмеивает ложное представление об Америке как о лучшей стране на свете, а американцев изображает самоуверенными тупицами, причём делает это очень убедительно. А что толку? Публика поаплодирует ему, даже согласится с ним, а придя домой, вернётся к мечте о «тамошней» жизни. Западничество так же неискоренимо, как вера в теорию Дарвина, и причина здесь одна и та же — принятие миром ещё до преклонения перед Америкой и веры в естественный отбор материалистического мировоззрения. Бесы, угнездившиеся прежде всего в отпавшей от Бога Европе, вербовали подходящих её представителей, окружали их ореолом мудрости и гениальности и их устами внушали всем людям, что материя первична, а всё остальное производно, и не понимать этого — значит идти против научной истины, т.е. быть невеждой. И люди, по своей природе стремящиеся приобщиться к истине, усваивали этот тезис. Когда большинство его усвоило, всё пошло само собой.
Если материя первична, значит, её никто не сотворял, ибо если бы её кто-то сотворил, то он был бы первичнее материи. Но жизнь есть одна из форм существования материи (по Энгельсу — белковых тел), поэтому и её никто не сотворял. Откуда же она взялась? Ответ возможен только один: возникла в результате естественного развития из более низких форм материи. Каким же путём шло это естественное развитие? Согласно гипотезе Дарвина — путём естественного отбора. Но поскольку в рамках постулата о первичности материи лучшего объяснения никто не предложил, эту гипотезу надо считать верной. А то, что она вопиюще противоречит и фактам, и логике,— это какое-то недоразумение, в котором специалисты когда-нибудь разберутся.
Если материя первична, значит, главное в человеке — его материальная составляющая, то есть его тело. Следовательно, наилучшей жизнью надо считать такую жизнь, при которой телу доставляется максимальный комфорт. Но комфортнее всего люди живут на Западе — у них и зарплата выше, и бытовой техники больше, и автомобили у всех, и жильё удобнее, а на улицах радующие глаз чистота и порядок. Так как же не быть западником, если Запад демонстрирует нам самую лучшую жизнь? Пусть Задорнов во многом прав, и.там есть некоторые отрицательные моменты, но они всего лишь недоразумения, которые уладятся, и западная жизнь станет совсем хорошей.
Так неоязычество завершило цикл своего существования, и в ретроспективе мы теперь можем охватить взглядом весь ряд причин и следствий, приводивших его в движение. Он начался с неблагодарности: достигнув огромных успехов в духовной и материальной сферах, «новая тварь» забыла, Кто сделал её «новой», и приписала эти успехи самой себе. Это повлекло за собой впадение в гордыню и самоуверенность — мы, дескать, всё можем! Самоуверенность привела к небрежению в деле установления связи с Богом: Он нам не так уж и нужен. Это было началом апостасии, неотвратимо ведущей к полному обезбожению сознания, так как, не обращаясь к Богу с просьбой просветить его, человек погружается во тьму, теряет адекватное представление о вещах и становится всё более самонадеянным. Самонадеянность же привела к тому, что человек перестал быть внимательным к самому себе, считая, что он и так хорош. А ведь Святые Отцы прежде всего заповедовали быть внимательными к себе, ибо без самоконтроля начинается стихийный процесс деградации ума и души. Так оно и случилось: бесы, вселившиеся в обезбоженного западного человека, ускорили этот процесс, и ум бывших христиан сделался настолько невзыскательным, что согласился признать первичной мёртвую материю и принять бредовую теорию Дарвина за научную истину, а душа окаменела. Кстати, признаки окаменения европейской души с тревогой отметили ещё в середине XIX века «старшие славянофилы», а тупиковость европейской мысли вскрыл Владимир Соловьёв в своей работе «Кризис западной филисофии». Лев Толстой, посетивший в молодости несколько стран Европы, учуял присутствие там трупного запаха, о чём и написал в рассказе «Люцерн». Неслучайно именно русские наблюдатели первыми поняли, куда всё клонится: в России апостасия развивалась медленнее, чем на Западе, и зоркость взгляда в то время у нас ещё сохранялась. В своём трактате «Что такое искусство?» Толстой предсказывает дальнейшую деградацию Запада и предостерегает от того, чтобы идти вслед за ним.
Сегодня прогнозы славянофилов, Соловьёва и Толстого (мы выделили их по той причине, что они были самыми ранними — Шпенглер забил тревогу много позже) полностью сбылись. Современное западное общество, внешне оставаясь активным, подвижным и шумным, внутренне омертвело. Яркое многообразие мыслей, чувств и устремлений, которыми Бог наделил сотворённого Им человека, дающих каждой личности ощущение полноты бытия и радости жизни, а сталкиваясь и переплетаясь на уровне социума, наполняющих историю интригующим содержанием и напряжённым драматизмом, оно свело к одному-единственному всеобщему стремлению, которое подчиняет себе все мысли и чувства,— стремлению к «успеху». А «успех» — это вот что: сделаться богатым или «публичным» (впрочем, эти вещи взаимозависимы: все очень богатые люди становятся знаменитыми, а публичность приносит доход от рекламы). Природа, конечно, поставляет западной цивилизации самый разнообразный человеческий материал, дети там, как и всюду, рождаются со всякими талантами и задатками, но эта цивилизация, как никакие другие, овладела умением нивелировать души; взрослые люди на Западе внутренне все «на одно лицо». Склонному к размышлениям и тонко цувствующему человеку, приехавшему в США или во Францию из России или из Китая, там просто не с кем разговаривать, его никто не поймёт. Желать присоединиться к этому бездуховному, бесцветному стаду, ведущему растительную жизнь,— настоящее безумие, тем более что дни этого общества уже сочтены, и наиболее мудрые его представители начинают это понимать.
Цикл завершается. Что дальше?
В ноябре 2011 года на церемонии вручения ему премии Токвиля Збигнев Бжезинский произнёс речь. Тех, кто знал его как непримиримого русофоба, она повергла в изумление: в ней он предложил включить в «золотой миллиард» … Россию! Ещё вчера призывал к её расчленению и заселению её пустующих земель другими народами, а сегодня приглашает её вступить в привилегированный клуб богатых и влиятельных стран. Как он мог на старости лет так перемениться?
Никакой перемены с ним не произошло. Бжезинский как был, так и остался ревностным охранителем интересов США, и его странное на первый взгляд предложение только подтверждает это. После того, как большинство голосов на наших президентских выборах было подано за твёрдую государственность в лице Путина, он понял, что расчленить Россию не получится, а поэтому остаётся только одно: задушить её в объятиях.
Трудно предсказать, насколько интересным покажется экстравагантный проект Бжезинского американским политикам, но для нас он очень интересен, так как выдаёт сразу несколько реалий нашего времени, о которых Запад предпочитает умалчивать.
Что такое «золотой миллиард»? Это сам Запад, т.е. группа стран, которые принято называть «развитыми» и в которых уровень материального благосостояния много выше, чем у остальных семи миллиардов населения земного шара. Этот миллиард «золотой» в том смысле, что он богатый. А почему он богат? Как почему,— говорят западные идеологи,— мы лучше работаем, лучше распоряжаемся людскими и природными ресурсами, короче говоря, наш образ жизни более эффективен, чем в странах, которые живут по-другому. Мы говорим этим странам: усвойте западную культуру, интегрируйтесь в неё, измените ваш образ жизни на западный, и вы тоже станете такими же богатыми. Звучит убедительно. Но как это совместить с тем, что сказал в своём выступлении Бжезинский?
Бжезинский не правит ни Западом, ни Америкой, у него вообще нет никакой власти. Его функция в другом: он подаёт советы тем, кто правит, и правители к его советам иногда прислушиваются. В данном случае он советует этим не раскрывающим себя правителям включить Россию в западное сообщество, т.е. сделать её такой же богатой, как и нынешние члены этого сообщества, поднять уровень её материального благополучия, сделать жизнь россиян столь же комфортной, как жизнь американцев,— тогда у них появится вкус к комфорту и они станут приверженцами западного образа жизни. Это потребует определённых расходов, говорит Бжезинский, но они, по его мнению, будут оправданы тем, что Запад как экзистенциальная идея станет более прочным. Вдумайтесь только: Бжезинский предлагает правителям Запада не содействовать России стать богатой, научив её правильно организовывать хозяйство, а путём принятия политического решения сделать её такой же богатой, как Запад. Вот вам и разоблачение одного из секретов Запада: оказывается, страна становится богатой не по труду, а по постановлению его правителей. Но раз так, значит, эти правители распоряжаются мировыми денежными потоками и могут направить их туда, куда сочтут нужным. До 2011 года они направляли эти потоки в основном на себя, т.е. Запад обделял финансами весь остальной мир; теперь Бжезинский рекомендует исключить из числа обделяемых Россию и взять её в долю. Россия станет соучастницей грабежа и нарастающий в ней антиамериканизм, представляющий для Запада политическую угрозу, сойдёт на нет. Он так и говорит: нам придётся немного потесниться.
Никакой гениальности в мысли Бжезинского нет, она подсказана самой жизнью. Более того, она уже созревала в умах западной политической элиты, и Бжезинский просто дал этому мыслительному процессу ещё один толчок. Осуществление этого тактического хода вполне реально, надо только ускорить отмену поправки Джексона-Вэника, после чего открыть полноценное долларовое кредитование российскому крупному бизнесу, поставив его представителей на одну доску со своими — благо доллары печатаются на Манхэттене. Разумеется, наши олигархи, попав не в отдельный, а в основной список «Форбса», будут счастливы, разбогатеют ещё больше и на радостях частью своих прибылей даже поделятся с народом, чтобы сделать его образ жизни похожим на западный. Россия станет третьим после Евросоюза и Японии филиалом США, и все четверо образуют «Великую Америку», чьё мировое господство уже никто не сможет поколебать.
До чего же стереотипна судьба языческой цивилизации — в своём круговращении Второй языческий Рим прошёл те же фазы, которые проходил Первый. Многобожие перешло в безбожие, безбожие — в материализм, материализм — в гедонизм. Гедонистическое же общество, по самой своей сути нуждающееся в дотациях, вынуждено делать своими донорами другие общества — сначала силой, потом обещаниями, потом подачками, но рано или поздно ему приходится выполнить обещания и включить их в свой состав. Так зона гедонизма спонтанно расширяется и только благодаря этому существует. Но расширение не может быть бесконечным, и в этом заключается фатальность гибели хоть первой, хоть второй языческой цивилизации.
Мы не знаем, произойдёт ли распространение западной цивилизации на Россию — это зависит не только от США, но и от того, победят ли в ней западники почвенников,— но если произойдёт, то это будет последнее её расширение: дальше встанет железобетонная стена Китая и исламского мира. Сделать экономически мощный и умный Китай донором Запада невозможно, как невозможно мусульманам навязать западный образ жизни, ибо он представляется им аморальным и вызывает у них отвращение. Так что план Бжезинского, даже если он будет реализован, просто отсрочит крах Запада вместе с его пресловутой «демократией», которая, как показал российский экономист и философ Михаил Хазин, есть не что иное, как вольготный паразитарный образ жизни западного «среднего класса», возможный только при наличии внешних доноров. Не станет доноров, не станет и этого образа жизни, т.е. «демократии», и «среднему классу» придётся, позабыв о демократии, в поте лица своего добывать свой хлеб, как это и назначил Господь потомкам Адама.
После развала Советского Союза у Запада вспыхнула надежда, что теперь ему удастся превратить Россию в свою колонию, выкачивание средств из которой продлит ему жизнь на достаточно большой срок. Фукуяма, впав в эйфорию, объявил, что «демократия» теперь установится в мире навечно. Но русская государственность неожиданно начала потихоньку восстанавливаться, а прервать этот процесс силовыми методами Запад не решился. Сегодня он близок к тому, чтобы предложить России добровольно стать частью Запада уже на паритетных началах. Таким образом, судьба человечества в XXI веке зависит от её решения, которое должно быть принято в ближайшие годы, ибо на западную экономику надвигается кризис, и время не терпит. Перед нами встаёт дилемма: влиться в западную цивилизацию или воздержаться от этого.
Наверное, мы влились бы в неё, если бы не одно досадное обстоятельство: у нас есть своя собственная цивилизация, в которой мы живём уже тысячу лет и в которой нам, по всей вероятности, суждено жить до конца времён, ибо все попытки оторвать нас от неё и пересадить в другую цивилизацию неизменно оказывались безуспешными. Наша цивилизация обладает удивительным свойством: до какого-то предела она является податливой, пластичной и переимчивой, поэтому всё время находятся желающие вылепить из неё что-то своё, но в конце концов они натыкаются на спрятанный внутри неё абсолютно несгибаемый стержень и оставляют своё занятие. Этот стержень — евангельские заповеди Христа, по которым наш народ сознательно или бессознательно, как бы далеко ни ушёл он от них в присущих ему метаниях, в решающий момент выверяет свой исторический выбор. Когда-то этот стержень образовал вокруг себя римскую раннехристианскую цивилизацию; когда он стал для Европы чужеродным и выпал из её культуры, он оброс византийской культурой; когда Византия была уничтожена турками, он не исчез, и вокруг него сформировалась русская православная цивилизация, которая существует и поныне. Ни Золотой Орде, ни Речи посполитой, ни Петру Великому, ни Наполеону, ни большевикам, ни Гитлеру не удалось вынуть из нас этот стержень. Так неужели может это получиться у нынешнего дряхлеющего Запада?
Но на этот раз мы должны не просто выстоять. До сих пор Россия лишь хранила в глубине своей души евангельское учение о том, как надо жить человеку на земле, теперь ей нужно извлечь его оттуда и пустить в дело.
Почему с гибелью Первого языческого Рима люди, жившие на его территории, не рассеялись, не одичали, не стали вскрывать себе вены или гибнуть в бессмысленных междоусобицах? Кто вывел их из тупика материализма и гедонизма? Их вывел оттуда сошедший на землю Бог, научив тому единственному образу жизни, который даёт мир и радость здесь и вечное блаженство там. Сегодня Второй языческий Рим, а с ним и большинство человечества, которое он приохотил к материализму и гедонизму, снова зашли в тот же тупик. Но во второй раз Христос уже не сойдёт на землю — по Откровению Священного Писания Он теперь явится лишь на облаке во всей своей божественной славе, и не для того, чтобы учить, а для того, чтобы судить.
Но подумаем: есть ли такая уж необходимость снова спускаться Христу к людям и объяснять им, как следует жить? Ведь Он уже однажды дал подробные объяснения такого рода и, чтобы люди не забывали, оставил подробный их письменный свод — Евангелие. Ныне оно доступно каждому человеку, где бы он ни жил — раскрой, читай и выполняй, чего ещё надо?
Нет, всё не так просто. Одно дело — читать, другое дело — понимать читаемое, а третье дело — выполнять.
Начнём с последнего. Если ты не убеждён, что инструкции под названием заповедей даны самим Богом, точно знающим, что полезно для человека, а что вредно, ибо Он его сотворил; если ты хоть на секунду усомнишься и допустишь мысль, что Евангелие есть продукт человеческой мысли, то исполнять его трудные заповеди ты не станешь. Ты скажешь себе: пусть Иисус был гением, к тому же обладавшим высокой нравственностью, но жил он очень давно, в совсем другую эпоху, поэтому многие его поучения к современной обстановке неприменимы. Следовать всем евангельским инстукциям сможет только тот, кто поверил, что Иисус есть Сын Божий, являющийся поэтому абсолютным авторитетом в области этики. Итак, прежде всего нужна вера. Но и верующий в божественность Христа может неправильно или превратно понять записанные евангелистами Его поучения, особенно те, которые даны в форме притч. Здесь необходима помощь грамотного толкователя. С этим тоже нет проблем: пойди в воскресение в храм, на литургии священник обязательно прочитает какой-то отрывок из Евангелия, а в своей проповеди подробно разъяснит прихожанам его смысл. Если же у тебя возникнут ещё какие-то вопросы, подойди к нему после службы и побеседуй.
Однако даже наличия всех трёх условий — веры, евангельского текста и разъяснения этого текста — недостаточно для того, чтобы перестать жить по-старому и начать жить по-новому. Языческий образ существования, который ведёт современный человек, привязывает его к себе тем, что угождает его телу, потакает развитию его низменных, чисто биологических запросов и с готовностью их удовлетворяет. Моей плоти приятнее сидеть после обеда у телевизора и смотреть идиотский детектив, чем читать святоотеческие творения. Мне приятнее на католическое Рождество есть индейку, чем поститься. Плотское существование усыпляет и засасывает, и, чтобы вырваться из его трясины, нужно проснуться, понять, что она тебя губит, и почувствовать к ней отвращение. Если оно у тебя появится, ты найдёшь в своей душе и генетически переданную тебе твоими предками веру, и раздобудешь Священное Писание, и станешь ходить в церковь, даже если она находится далеко от твоего дома.
Человек — двухприродное существо, в нём есть материальная составляющая, которая роднит его с животными, и духовная составляющая, которая роднит его с ангелами. А что душа? Душа человека, т.е. внутренний, известный только ему самому, текучий мир его мыслей, чувств, побуждений, терзаний и фантазий, раздваивается между телом и духом. С одной стороны, ей жалко тела, ей хочется, чтобы ему было хорошо и спокойно; с другой стороны, благоговеет перед духом, замирает, находясь вблизи святыни… Но служить одинаково ревностно двум господам нельзя, кому-то из них надо отдать предпочтение. Душа должна сделать выбор между телом и духом, решить, кто её главный господин, кого надо обслуживать в первую очередь, а кого во вторую. Раздвоенность души причиняет ей страдания, а после того как она сделает выбор, страдания утихают. Иными словами, существуют только два устойчивых состояния человеческой души — «языческое», в котором плоть для неё главнее духа, и «христианское», при котором дух главнее плоти. Это как в модели атома Бора, где допускаются только «разрешённые» орбиты электронов, а промежуточные между ними «запрещены». То же самое относится и к коллективной душе — к общественному сознанию. Цивилизация, в зависимости от своих предпочтений может быть языческой, может быть христианской, вариант же, при котором она в равной мере тянется к телу и духу, неустойчив — по Бору, «запрещён». И для перехода из одного устойчивого состояния в другое устойчивое состояние что индивидуальной душе, что цивилизации необходим ощутимый толчок — так электрону для перехода с одной «разрешённой» орбиты на другую нужно получить или отдать порцию энергии. Как мы с вами знаем, толчком к переходу позднеримского общества от язычества к христианству послужило то, что всё большее число людей начинало испытывать отвращение к скотскому образу жизни, которым завершилась эволюция античного язычества. Человек наконец прозрел и понял, что культ обречённого на неизбежную смерть тела есть культ смерти,— и ужаснулся. И как раз в этот момент Христос предложил человеку служить не телу, а духу, то есть жить по Его заповедям. Испробовав эту новую жизнь, человек увидел, что она лучше прежней и никаких последующих толчков для того, чтобы её продолжать, ему не понадобилось.
Так завершился первый цикл европейского язычества. Ему на смену пришло христианство, и народы континента, а за ними и соседние народы вошли в новую жизнь. Всё это очень интересно, но нам гораздо интереснее было бы узнать, чем завершится второй круг язычества, на этот раз уже глобального, в котором нам с вами выпало на долю родиться,— ведь «времена не выбирают, в них живут и умирают». Возможен ли тут какой-то прогноз?
Когда синоптики осенью хотят предсказать, какой будет зима, они разыскивают в протоколах наблюдений такой год, в котором была такая же весна, такое же лето и такая же осень, а затем смотрят, какая в том году была зима, и говорят: нынче будет такая же. Это у них называется «прогнозирование методом аналогии» и этот метод у них обычно срабатывает.
Попробуем и мы воспользоваться им. Цикл современного язычества прошёл уже все свои стадии, кроме последней, и нам желательно было бы найти в прошлом завершившийся цикл с такими же стадиями, чтобы посмотреть, чем тогда он закончился.
Такая аналогия нами уже подготовлена. На протяжении всего нашего разговора мы постоянно сталкивались с тем, что ход событий времён античного язычества почти точно воспроизводился в неоязычестстве Нового времени. Убедимся в этом ещё раз, сравнивая античный и современный языческие циклы та трёх уровнях — духовном, душевном и телесном.
В духовной сфере, т.е. там, где человек мистически связан с Богом, в обоих циклах происходило одно и то же: ослабление такой связи вплоть до прекращения. Апостасия выражалась в постепенной десакрализации представления о Боге. Античное язычество возникло в тот момент, когда древние творящие космос из хаоса Боги плохо известной науке архаичной религии, отзвуки которой можно уловить в мифах об Уране и Гее, были заменены пантеоном человекоподобных существ, сидящих на горе Олимп и строящих козни друг другу и людям. Серьёзно верить в их реальность становилось всё труднее, и наконец верой стали называть спорные философские предположения о наличии «там» «чего-то такого», не способные быть движущей силой для того, кто их принимает. Ровно это же происходило и на втором витке европейского язычества.
Предшествующий Бог европейцев — Христос — уже в XIV веке начал «очеловечиваться» (в этом и заключалась суть эпохи Возрождения, или Гуманизма), в начале XVI века протестантизм запрятал Его в сердце человека, отозвав из космоса, а в XVIII веке властители европейских умов объяснили, что Его вообще не было и нет (эпоха Просвещения). Правда, позже, с развитием исторической науки и источниковедения, учёные признали, что Иисус существовал, но был просто выдающимся человеком, а все сотворённые Им чудеса сочли выдумкой. Может ли подвигнуть кого-то на что-то образ такой полулегендарной личности, жившей две тысячи лет назад?
Качество души человека можно определить по ому, что её притягивает, к чему она расположена. То же относится и к душе цивилизации: её качество таково, каково то, что ей нравится. Совокупность же того, что нравится цивилизации, характеризует её нравственность. И тут опять одинаковая картина: как в первом языческом Риме, так и во втором общественная нравственность непрерывно снижалась. В результате и античность перед самым своим концом, и современный Запад стали Содомом и Гоморрой.
Спустимся на уровень тела — биологического организма человека и государственного организма цивилизации. И в древнем, и в современном язычестве направление развития здесь одно и то же: всё полнее удовлетворять материальные потребности отдельного человека и совершенствовать материальный аспект существования государства, оснащая его новыми видами вооружения и новыми средствами связи. Однако эта качественно общая для первого и второго циклов тенденция привела к очень разным в количественном отношении результатам: новые язычники, благодаря тому, что они прошли через эпоху просветившего их сознание христианства, создали науку, а на её основе высокие технологии, что позволило им устроить для человека такую удобную среду обитания, а государству дать такую физическую мощь, о которой и не мечтали античные язычники. Но это различие непринципиально — и те, и другие эволюционировали по единой схеме: от материализма — к гедонизму, от гедонизма — к паразитизму, от паразитизма — к поиску тех, на ком можно паразитировать, и после их исчерпания к гибели. Теперь, когда аналогия подтверждена, нам остаётся лишь вспомнить, чем это кончилось тогда и сказать: этим же кончится и сейчас.
Тогда с гибелью языческой Империи населяющие её народы не погибли. Им очень повезло: как раз в то время, когда вести гедонистический образ жизни римляне уже не могли за недостатком средств, на землю сошёл Сын Божий, образовал вокруг себя «малое стадо» и сказал ему:
«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28).
Подсказанный Христом образ жизни сначала стала вести лишь небольшая группа Его учеников, но, убеждаясь в его спасительности, эти ученики учили ему других, те убеждались в том же и учили следующих, и так на месте погибшей цивилизации в Европе расцвела новая, полная жизни, любви и света.
Как хочется тут воскликнуть: так будет и сейчас! Ведь потребительский образ жизни скоро поневоле закончится. Современная кредитно-банковская экономика представляет собой гигантскую жульническую пирамиду, под которую всё время подводится расширяющееся основание, состоящее из новых вкладчиков, которые, ослепнув от жадности, не видят, что щедрые проценты верхним её частям выплачиваются из их денег, и надеются на такие же дивиденды. Когда завлекать в эту сферу станет уже некого, пирамида рухнет, как Силоамская башня, и раздавит многих. Разве это не будет толчком к решительному изменению образа жизни?
Всё повторится, кроме одного: Спаситель на этот раз не сойдёт на землю, чтобы научить нас, как именно надо жить.
А нужно ли Ему снова ходить среди нас в облике человека и говорить с нами о необходимости покаяния и изменения жизни? Ведь Он об этом уже всё сказал, и сказанное Им записано в Евангелии. Оставил Он нам и церковь православную, которую, по Его слову, не одолеют врата ада, и она продолжает учить нас тому же, чему учил нас Он, излагая Его учение, когда это потребуется, на современном языке. Есть даже и «малое стадо» — люди, ведущие истинно христианский образ жизни и на своём опыте познавшие его благодатность. Так что для полноты картины не хватает лишь толчка, а он неизбежен. Но приведёт ли он к тому же результату, что тогда?
Православные церкви существуют во многих странах — в Греции, в Болгарии, в Грузии и т.д., но наибольшими возможностями духовного окормления и учительства, а также самым крупным и самым квалифицированным богословским корпусом располагает, конечно, Русская православная церковь. У неё и самая большая в мире паства.
Как ни пропагандировал Запад «научный» и житейский материализм, как ни соблазнял человечество осязаемыми благами, а какое-то небольшое количество подлинных христиан всё-таки сохранилось. Они рассеяны по всему миру, встречаются даже и в самой Америке (пример — Серафим Роуз), но подавляющее их большинство живёт в России. И, что самое главное,— их число неуклонно возрастает. Наша страна — единственная в мире, где возводится много новых православных храмов и открываются новые семинарии. Если это не дрожжи, которым суждено заквасить всё тесто, то какой исторический смысл может иметь этот процесс?
И ещё. В Римской империи дрожжи, которыми были прямые ученики Иисуса, так быстро начали поднимать тесто не только потому, что гедонистический образ жизни стал экономически невозможным, но и потому, что он опротивел народу. Замечается ли такое сегодня?
В России надо быть слепым, чтобы этого не заметить. Наш народ в своей массе страшно недоволен, он постоянно брюзжит, критикует происходящее вокруг, ругает власть и вообще находится в самом мрачном расположении духа, как альтернативу жизни сегодня вспоминает жизнь при Советской власти. Находясь в таком унынии, не веря в будущее, он плохо работает, считает, что ему недоплачивают. А между тем, в материальном отношении он живёт теперь гораздо лучше, чем жил в годы строительства коммунизма. И никакие подачки со стороны государства не прогоняют этого упаднического настроения, лишь только его усугубляют. Дело в том, что для нашего народа главное состоит не в том, чтобы жить богато,а в том, чтобы жить правильно, и поскольку он последним из европейских народов отпал от Христа, в своём подсознании он понимает правильную жизнь как жизнь по евангельским заповедям любви к ближнему, взаимопомощи, честности, исполнению долга. Но импортированный с Запада капитализм предлагает другую заповедь: «делай деньги!», и та жизнь, которую пытаются навязать сегодня России по этой заповеди, вызывает у её народа отторжение.
Запад в последнее время начинает проникаться эсхатологическими предчувствиями. Это выражается в повышении интереса к пророчествам о конце света, в частом обращении кинематографистов к теме апокалипсиса, в явном воодушевлении, с которым в научно-популярных телепередачах ВВС рассказывается о том, как растаявшие ледники затопят Европу и как Солнце вспыхнет и сожжёт землю. Это вполне понятно: всякая чувствующая приближение своей гибели цивилизация хочет, чтобы вместе с ней погибло всё человечество — на миру и смерть красна. Но пусть Запад и не мечтает об этом — после краха его скотского потребительского жизнеустроения люди не только останутся жить, но начнут жить по-новому, восстанавливая в себе Божий образ. И, как очевидно из всего нами сказанного, выздоровление человечества должно начаться с России. А может быть, внутри вас оно уже началось, как вы думаете? Не начинаете ли вы чувствовать, что пора остановиться в погоне за всё новыми утехами для своего ненасытного тела и позаботиться о своей несчастной заброшенной душе?
Приложение
Начиная с XV века в Европе наряду с материализмом начал быстро распространяться рационализм — убеждение, что человеческий разум, если постарается, сможет понять и объяснить всё, происходящее во Вселенной. Под разумом понималась наша способность к дискурсивному (строго научному) рассуждению. Базовым языком дискурса считалась логика плюс арифметические операции с натуральными числами. На этом фундаменте, как думали учёные, зиждутся и те дисциплины, которые занимаются отрицательными, дробными и даже теми числами, что названы «иррациональными», так что вся математическая наука в целом может быть редуцирована к логико-арифметическому языку. Рационализм, особенно после победы Реформации в Тридцатилетней войне и атеистической Французской революции, неудержимо усиливал своё влияние и стал господствующей точкой зрения в теории познания. В XVII веке Декарт знаменитой формулой «Я мыслю, следовательно, я есть» провозгласил разум исходным началом людского бытия, а Лейбниц обещал дать «алгоритм вычисления всех истин». В XVIII веке Лаплас объявил, что, если бы существовал такой обширный ум, который мгновенно умел бы решать математические уравнения, ему бы до мельчайших подробностей открылось бы всё прошлое и будущее мира. А в конце XIX века Гильберт вновь поставил перед учёными задачу дискурсивного вывода всех законов природы («арифметизация физики»). И как всегда бывает со всякой разновидностью безумия, рационализм сам себя уничтожил в нескольких теоремах, опубликованных в 1930-х годах. Самой интересной из них является теорема Тарского (1936), в которой было доказано, что на языке дискурса невозможно даже ответить на вопрос «что есть истина?», не говоря о том, чтобы её отыскать.
Приведём доказательство этой теоремы. Чтобы в дискурсивное рассуждение не вкрались отголоски эмоций, догадок и художественных образов, присущих человеческой речи, формализуем его язык. Для этого нам хватит алфавита всего из девяти букв, или символов.
| Номер символа | Начертание символа | Значение символа |
| 1 | « | для всех |
| 2 | $ | существует |
| 3 | Ø | неверно, что… |
| 4 | = | равно |
| 5 | + | прибавить |
| 6 | * | умножить |
| 7 | возвести в степень | |
| 8 | х | переменная |
| 9 | 1 | единица |
Теперь высказывания о числах можно записывать в виде формул. Вот примеры:
х х1 х1 == х++1 (1)
х1 х == х1*11 (2)
Высказывание (1) утверждает, что к любому натуральному числу можно прибавить единицу, получив новое натуральное число (аксиома бесконечности натурального ряда). В нём нет свободных переменных — как х, так и x1 находятся под символами (кванторами) и . Такие высказывания касаются либо всех чисел сразу, либо отдельных конкретных чисел, поэтому они либо истинны, либо ложны. А вот высказывание (2) содержит свободную переменную х, и его истинность зависит от того, какое число мы подставим в него вместо х. Нетрудно видеть, что чётные числа обращают его в истинное высказывание, а нечётные в ложное. Это значит, что формулу (2) можно считать символическим обозначением множества чётных чисел.
По этому же правилу будем обозначать другие числовые множества: пусть формула со свободной переменной F (х) обозначает множество тех чисел, которые при подстановке в неё вместо х обращают её в истинное высказывание. Так мы получим возможность говорить на логико-арифметическом языке о разных видах чисел: простых числах, числах Фибоначчи, полных квадратах и т.д.
Но этого нам мало. Необходимо классифицировать не только числа, но и высказывания о числах, выделить те или иные их виды, например истинные высказывания. Пока наш язык способен высказываться только о числах, но есть способ заставить его высказываться и о высказываниях. Для этого нужно занумеровать высказывания, как остряки нумеровали анекдоты, и, вместо того чтобы говорить о них, говорить об их номерах. Тогда F(x) можно будет отождествлять с теми высказываниями, номера которых обращают F(х) в истинное высказывание. Так формула со свободной переменной станет критерием принадлежности высказывания к определённому виду.
Математиками были придуманы различные способы нумерации высказываний. Мы воспользуемся простейшим из них, предложенным Смульяном. Чтобы найти номер высказывания, надо подписать под каждым его символом номер этого символа и полученную таким образом последовательность цифр прочесть как число в десятеричной системе счисления, а затем прибавить к нему единицу. Для примера найдём номер высказывания (2):
х1 х == х1*11
2898589799 ++ 1 == 2898589800,
т.е. номер формулы (2) равен 2898589800.
Теперь предположим, что в языке дискурса существует критерий истинности — формула Т(х). Тогда её отрицание, т.е. формула Т(х) = L(х) будет критерием ложности: если высказывание, полученное из L(х) подстановкой в неё вместо х номера некоторой формулы обращает L(х) в истинное высказывание, значит, эта формула ложна. Подстановка вместо х в формулу F (х) числа n обозначается по Смульяну очень просто: пишется формула F (х), а вслед за нею п палочек (единиц), т.е.
(3)
Напишем вместо формулы L(х) формулу L(х * 10х). У неё есть какой-то свой номер, отличный от номера L(х). Обозначим этот номер числом n: N(L(x*10x) = n. Подставим в L(х*10х) вместо х число n. Тогда, согласно (3),
(по правилу определения номера высказывания) цифровому выражению формулы L(х * 10х), за которым следуют n девяток (цифровых выражений палочек) плюс единица, т.е. N (L(n*10п)) == цифровое выражение
Прибавление единицы к п девяткам даст п нулей, а к предыдущему разряду прибавится единица, т.е. перед нулями мы получим цифровое выражение формулы L(х * 10х) с добавлением единицы, а это — номер этой формулы, который равен п. Итак,
Обозначив число n*10п через т, получим окончательно:
N(L( m))==m (4)
Формула L(m) не содержит свободной переменной, поэтому она либо истинна, либо ложна. Предположим, что она истинна. Но L(x) — критерий лжи, её обращают в истинную формулу только номера ложных формул, значит формула с номером т ложна. Однако согласно (4) это её собственный номер. Значит, из истинности L(m) следует её ложность. Предположим теперь, что она ложна. Тогда число т не подпадает под критерий лжи, т.е. формула с номером т — а это есть она сама — истина. Явный абсурд.
Наше рассуждение было логически безупречным; единственным слабым звеном явилось в нём исходное предположение о том, что в языке дискурса понятие истинности поддаётся определению. Следовательно, его надо отбросить и констатировать тот факт, что в этом языке понятие истинности невыразимо. Теорема Тарского доказана.
Конечно, высказывания, которые в языке дискурса выводятся из аксиом, истинны. Назовём их выводимыми истинами. Они не исчерпывают всех истин, иначе истинность сводилась бы к выводимости, а поскольку выводимость в языке дискурса выразима, то и истинность была бы выразимой, что противоречит теореме Тарского. Но тогда встаёт вопрос: какую долю множества всех истин занимают выводимые истины? Сравнительно недавно доказано, что их доля ничтожно мала. В этом результате — полный крах рационализма.

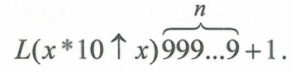
Комментировать