- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17
- Глава 18
- Глава 19
- Глава 20
- Глава 21
- Глава 22
- Глава 23
- Глава 24
- Глава 25
- Глава 26
- Глава 27
- Глава 28
- Глава 29
- Глава 30
- Глава 31
- Глава 32
- Глава 33
- Глава 34
Книга написана мамой двух аутичных деток, которых ей удалось полностью вернуть к полноценной жизни. В книге подробно описывается процесс появления самых ранних симптомов аутизма в период от 1.5 до 2 лет. Именно ранняя диагностика аутизма у детей позволила Кэтрин так эффективно справиться с проблемой, которую до этого все считали абсолютно неизлечимой болезнью.
Глава 1
– Она такая серьёзная, – заметил её отец, смущённо улыбаясь.
Мы отмечали первый день рождения Анн-Мари. На праздник собрались только самые близкие и дорогие: её мама, папа и старший брат Даниэл, которому уже почти исполнилось два с половиной года. Она сидела на своём высоком стульчике, маленькие ножки с трудом доставали до пола, ручки сложены на коленях. Она была одета в своё выходное голубое с белым платье. Мы торжественно внесли именинный торт.
Даниэл с воодушевлением присоединился к нашему пению. Под весёлые крики была задута единственная свеча. Нежное личико Анн-Мари, с фарфоровой кожей и бледным румянцем на щеках, было обрамлено тоненькими каштановыми локонами. Её зелёно-голубые глаза были торжественно устремлены на торт. Её маленькое тело было неподвижно. Улыбка не тронула её губ.
– Марк, таков её характер. Нельзя ожидать, что она будет вести себя, как Даниэл.
Несмотря на спокойный тон, моя уверенность была немного наигранной. Я и сама в последнее время была озабочена мрачным поведением Анн-Мари.
– Анн-Мари! Смотри, сладкая, это тебе! – Я протянула ей подарок: несколько ярко раскрашенных мячиков, кубиков и пирамидок, которые, соединяясь, образовывали одну фигуру.
Она взглянула на игрушки и равнодушно подвигала их минуту-другую по своему подносу. Один за другим я открыла и дала дочке и остальные подарки. Она немного подержала в руках каждую игрушку, но вскоре потеряла к ним интерес.
Она казалась грустной, может… чуть озабоченной? Я снова не смогла удержаться от молчаливого сравнения девочки с её братом: когда Даниэлу исполнился год, он с криками и воплями разорвал обёрточную бумагу своих подарков и, полный нетерпения и радости, был готов захватить и исследовать все, что бы ни было внутри. И снова я отогнала от себя неприятное сравнение и чувство беспокойства. Дело всего лишь в разнице характеров и ни в чём больше.
Кто же знает, что послужило первым знаком, и когда именно Анн-Мари начала постепенно ускользать от нас. Произошло ли это тогда, на праздновании её первого дня рождения, или позже, или, может быть, до того? Но мне кажется, вернее было бы спросить: кто знает, когда мы заметили первый знак? События кажутся гораздо понятнее, если смотреть на них по прошествии времени, а не когда они происходят.
Ранее, когда Анн-Мари было десять месяцев, я наблюдала, как она играла с кусочком пищи, лежащем на подносе её высокого детского стульчика. Мне показались очень странными движения большого пальца дочери: это выглядело так, как будто она не могла взять еду с помощью обычной хватки и пыталась поднять её большим пальцем и мизинцем.
Мимолётный, почти неуловимый оттенок беспокойства коснулся моего сознания: «Нормально ли это?… Может быть что-то не в порядке?… Эти напряжённые руки, это неестественное применение большого пальца и мизинца – всё это выглядело так… так… необычно». На мгновение ощутив, как тревога кольнула моё сердце, я приказала себе расслабиться. Скорее всего она просто играла со своими пальцами, что-то вроде осязательного эксперимента или ещё что-нибудь в этом роде…
Ещё раньше Пэтси, её няня, заметила, как легка девочка в обращении, как долго она может сидеть и играть в полном одиночестве. – Какой замечательный ребёнок! – воскликнула однажды Пэтси. – Она два часа сидела на одном месте, играя сама с собой!
Я не знаю, понравилось ли мне это наблюдение. Я тоже отметила чрезмерное спокойствие Анн-Мари, её тихие, слишком малоподвижные игры в одиночестве.
Она мало ползала и уж точно не забиралась во всевозможные ящики и шкафы, как её брат Даниэл, который сеял разрушение везде, где появлялся. Чтобы уберечь сына от возможных неприятностей, мы запирали практически все двери и ящики в квартире. Всё, что не было завинчено, заперто или убрано в недоступное для него место, оказывалось у него во рту либо падало ему на голову.
Иногда у меня возникало ощущение, что я могла бы оставить в комнате открытой коробку с порохом и спички на полу, и с Анн-Мари ничего бы не случилось: просто ей это было бы неинтересно. Она выглядела вполне довольной, когда, держа в руках какую-нибудь одну игрушку, подолгу смотрела на неё, поворачивала её в руках и возила по полу.
На протяжении всего первого года жизни дочери мы не переставали отмечать её робкость и чувствительность. «Она такая чувствительная девочка,» – говорила я своей матери. Она часто плакала, и далеко не всегда мы знали в чём причина. В первые месяцы после её рождения мы были склонны приписывать это коликам, но потом стало казаться, что частый плач – это её природная черта. Когда я попробовала усадить Анн-Мари в прогулочную коляску, её тело вдруг задеревенело. Она казалась ужасно напуганной. Я предположила, что по крайней мере иногда её плач вызван страхом не знакомого.
Но в те первые дни её жизни было так лёгко игнорировать беспокойство, дававшее знать о себе лишь время от времени. Тогда ещё не было ясно, чего мы должны опасаться. Возможно были какие-то знаки, но тогда мы ещё не знали, что они означают…
Несмотря на это, кроме грустных происшествий, мы знали и волшебные, радостные моменты.
Вот Анн-Мари в шесть месяцев: она смотрит на отца и весело смеётся в предвкушении игры – щекотки, подбрасывания в воздух и крепких поцелуев.
А вот она в тринадцать месяцев делает свои первые неуверенные шаги. Она смотрит на меня и радостно улыбается от сознания своей маленькой победы. Она так гордится собой и хочет, чтобы и я тоже гордилась ею.
Кроме того, она училась. Причём училась не только сидеть, ползать или ходить, но и запоминать слова после того, как ей исполнился год.
Никогда не забуду, как один раз, когда её отец пришёл домой, она засеменила к нему навстречу, поднимая ручки и восклицая: «Папа!» Ей было год и три месяца, маленькой дорогой папиной дочке.
Помню, она частенько приходила ко мне на кухню, когда я готовила обед, обнимала мои ноги своими ручками и смотрела на меня любяще снизу вверх своими большими серьёзными глазами, полуулыбаясь. Я брала её на руки и покрывала поцелуями: «Три, потому что ты – самая сладкая, три – потому что ты – само совершенство, три – потому что я люблю тебя!» Убеждённая в том, что всё было хорошо в её мире, она семенила обратно.
Каждое утро, как бы рано не вставал её отец, едва заслышав его шаги по направлению в ванную, она карабкалась в своей постельке, чтобы первой встретить его. Детское личико еле выглядывало из-за кроватки, тоненький голосок трогательно звенел: «Привет, папа!»
Она была хорошенькой нежной девочкой с белой кожей и тёмными волосами, воплощением некой грациозной хрупкости. Мы любили её, такой, какой она была – с её робкой неуверенностью и тихими манерами. Её странное поведение мы приписывали особенностям её характера. Кроме того, мы регулярно показывали её педиатру, и по словам доктора, девочка была абсолютно здорова.
Когда Анн-Мари пошёл второй год, мы обсуждали с доктором Бакстером, кроме всего прочего, также аспект развития речи. Мы оба с удовлетворением отметили, что она не отстаёт от нормы. Честно говоря, я полагала, что дочка даже немного опережает свой возраст в этом отношении.
– Она уже составляет сочетания из двух слов, – сказала я врачу одним июньским днём, сидя в его кабинете, когда Анн-Мари было год и три месяца. Я думала о том, как она однажды сказала «Привет, папа». Я была удивлена тем, что это вырвалось у пятнадцатимесячного ребёнка.
– Это действительно рановато, – согласился со мной доктор Бакстер. – Обычно в этом возрасте наблюдается много неразборчивого лепета и лишь несколько отдельных слов.
– Она очень много плачет, – также заметила я, – я пытаюсь вспомнить, плакал ли столько Даниэл в этом возрасте.
Мы с доктором поговорили ещё немного об этом «ужасном возрасте» – два года, когда родителей может легко ввести в заблуждение независимое поведение их чада, которому нет ещё даже двух лет. «Может быть это именно то, что происходит с Анн-Мари, – думала я. – Может быть она просто выказывает больше самостоятельности, чем обычно дети в этом возрасте».
К сожалению, мы не могли долго верить в это успокаивающее предположение. Вскоре после уже упомянавшегося разговора с доктором Бакстером, тревожные признаки стали проявляться чётче, и несмотря на то, что мы до сих пор не знали чему их приписывать, стало невозможно их игнорировать.
В том же месяце, июне 1987 года, мы должны были ехать в Париж – на свадьбу брата Марка. По мере приближения даты отъезда я чувствовала всё нарастающее беспокойство при мысли о том, что Анн-Мари останется без нас. – Что ты так переживаешь? – спросил Марк. – Она остаётся в своём собственном доме вместе с Пэтси. А кроме того, мы уезжаем всего на несколько дней… Если точнее, на четыре дня. Мы обсуждали, стоит ли превращать это путешествие в отпуск или нет, но в результате решили воспользоваться одним из вариантов, предлагаемых авиакомпаниями на выходные, в которых вылет приходится на четверг, а возвращение – на понедельник. Несмотря на это, я не переставала беспокоиться. Рой вопросов непрестанно кружился у меня в голове: «Всё ли будет в порядке с Анн-Мари? Может быть стоит пригласить моих родителей пожить у нас на время нашего отсутствия? Почему я так волнуюсь именно за неё, а не за Даниэла? Это естественно, она же такая чувствительная! И к тому же в последнее время она стала плакать ещё больше. Неужели она так и проплачет все выходные?» – Ну, разумеется, нет, – успокаивали меня родные и друзья. – С ней всё будет в порядке. Конечно, ведь я знала немало детей, которые неплохо пережили даже более долгую разлуку со своими матерями, будь то во время каникул или пребывания в больнице.
Пока мы летели во Францию, а также во время всей поездки, Анн-Мари не выходила у меня из головы. Я позвонила домой. – О, они в полном порядке! – уверила меня Пэтси. – Только вот Анн-Мари скучает по своей мамочке… – Что вы имеете ввиду? – Ну, например, сегодня утром она не хотела вылезать из своей кроватки, будто хотела оставаться там весь день. – Но сейчас-то она в порядке? – Да, конечно! И всё-таки я не могла дождаться возвращения домой.
Мы приехали в понедельник после обеда, привезя с собой небольшие подарки из Парижа для обоих детей. Даниэл встретил нас бурей восторга. Он непосредственно радовался встрече с мамой и папой и новой игрушке.
Анн-Мари сидела у Пэтси на руках и всхлипывала. Её губы дрожали. «Сладкая моя, иди к мамочке!» – умоляла я, протягивая к дочке руки. Но она всё никак не соглашалась оторваться от Пэтси. В конце концов, сама чуть не плача, я отняла её от няни и унесла в спальню, чтобы там успокоить.
Мы с Марком слышали истории о детях, которые не хотели прощать своих родителей, за то, что они «бросали» их. Моя золовка рассказывала, как её двухлетний ребёнок отказывался подойти к ней после недельной разлуки, но затем смягчился и даже соизволил поцеловать мать. Анн-Мари вовсе не казалась сердитой, она выглядела, скорее, испуганной. Я не могла позволить себе задержаться на этой мысли более двух секунд, так как поведение дочери наводило на мысль, что она не помнит, кто я такая! Я укачивала её, она же была ужасно расстроена и ни разу не взглянула на меня и не прижалась ко мне. Казалось, что единственное, чего она хочет – это вернуться в безопасность рук Пэтси.
Я держала её, качала её, пела ей в течение часа – до тех пор, пока девочка не перестала всхлипывать и прильнула ко мне.
После того, как спокойствие было восстановлено, я расспросила Пэтси по поводу прошедших выходных. – О, всё было хорошо… Анн-Мари, правда, выкинула одну забавную штуку. – О чём ты?
– Она не желала сходить у меня с рук почти всё время, что вас не было. Но это ещё не всё: стоило мне двинуть рукой, как она тут же начинала плакать. Так что, я просидела все выходные в одной позе, со руками, скрещенными на спине у девочки, и каждый раз, когда я порывалась встать, она впадала в истерику. Я много думала об этом. Тогда я не могла понять, что произошло, но, мне кажется, что сейчас, когда я знаю, что такое аутизм, я могу это объяснить. Мой отъезд был не просто тяжёлой разлукой для Анн-Мари. Это было крушением драгоценного порядка в её мирке. Она, в свойственной ей манере, пыталась сохранить привычный, предугадываемый ход событий. Нежелание сходить с рук Пэтси было попыткой ребёнка оградить себя от дальнейших потрясений.
Тогда же, к сожалению, я абсолютно ничего не понимала. Я точно знала, что что-то не так с моей девочкой, но что? Иногда у меня появлялось странное, почти пугающее ощущение, что она была мне чужая. – Я волнуюсь за неё, – вырвалось у меня как-то в разговоре с моей сестрой, Дебби. Но когда она спросила, что случилось, я не знала, что ей ответить.
Лето было в разгаре. В городе стояла жара. Я была снова беременна, Даниэл был весел и активен, Анн-Мари была несчастлива…
Проблема плача становилась всё серьёзнее. Я заметила, что слёзы вызываются любыми переменами, а также всякой попыткой заставить её сделать что-либо. Она плакала, когда я купала, одевала и раздевала её, когда усаживала за обеденный стол. Когда я поднимала её на руки она впадала в истерику, но плач только усиливался, когда я опускала её на пол. Если в дом приходил гость, неважно: чужой или друг семьи, она также начинала плакать либо полностью игнорировала его.
Совершенно сбитые с толку, мы с Марком пытались просто пережить этот трудный период в надежде на то, что скоро состояние девочки улучшится. Я рассказала о плохом настроении дочери доктору во время очередной проверки (в год и три месяца) и потом упомянула об этом ещё пару раз по телефону, но он не казался сколько-нибудь обеспокоенным. Без сомнения, это была проблема переходного возраста. Несмотря на то, что любая наша повседневная деятельность была так или иначе отмечена плачем Анн-Мари, мы всё-таки старались жить нормальной жизнью.
– Давайте мы все вместе пойдём в парк! – как-то воскликнула я с воодушевлением. Для осуществления этой идеи мне пришлось пройти тяжёлое испытание по усаживанию Анн-Мари в коляску, несмотря на её отчаянное сопротивление. На улице мы представляли собой следующую картину: один жизнерадостный мальчик, одна несчастная девочка и двое взрослых с натянутыми до предела нервами.
Мы с Пэтси вместе пытались понять причину расстройства девочки: – Она устала. – Ей жарко. – Она проголодалась. – Она не хочет идти в парк. – Она не хочет уходить из парка. Кроме того, в последнее время мы были лишены возможности пользоваться общественным транспортом, так как окруженная большим количеством незнакомых людей Анн-Мари начинала плакать ещё сильнее. Когда мы ходили за покупками, она либо всё время хныкала, либо становилась совершенно бесстрастной, уставясь ничего невыражающим взглядом в пустоту. Может быть ей было скучно? Да, скорее всего, так оно и есть: её жизнь слишком однообразна, и ей требовалось какое-то развлечение. Я стала думать, как можно было бы организовать какое-нибудь небольшое приключение. Однажды я решила, что мы пойдём через парк в Американский музей естественной истории. Даниэл пришёл в восторг при виде слонов и динозавров, ему всё очень понравилось. Анн-Мари безучастно сидела в своей коляске, её головка была опущена вниз, за всю прогулку она не проронила ни слова. – Ну, конечно, ей это неинтересно, – объясняла я, стараясь убедить в этом больше себя, чем Пэтси, – она слишком мала для таких походов. Ей просто надо ещё немного подрасти. В августе мы все вместе поехали в давно запланированный отпуск, в Испанию. Там мы должны были встретиться с родителями Марка, а также со всеми его родными и двоюродными братьями, племянниками и племянницами. Мы хотели, чтобы наши дети подружились со своими французскими кузенами и кузинами. Надо сказать, что Марк приехал в Штаты из своей родной Франции, когда ему было 21 год. Он получил степень магистра, закончив Университет Нордвестерна, факультет менеджмента, и планировал строить свою карьеру в области банковских инвестиций. Мы встретились на вечеринке нашего общего друга, посвящённой празднованию «Дня Бастилии». Я тогда как раз заканчивала Нью-Йоркский Университет по специальности «французская литература». После нашей свадьбы мы старались видеться с его родителями хотя бы раз в год. Обычно они приезжали на наши семейные торжества, например, на крещение детей, или мы ездили к ним во Францию. Будущее путешествие должно было стать нашим первым совместно проведённым отпуском. Поездка обернулась кошмаром. Пришлось разбудить детей для пересадки в Мадриде, стоять с ними в бесконечной очереди на таможне, затем идти километры до пункта выдачи багажа – и всё это в свалилось на нас в три часа утра. Даниэл и Анн-Мари – оба бились в истерике и просили, чтобы мамочка взяла их на ручки. Почему-то не оказалось ни одной тележки для багажа, так что Марку пришлось тащить на себе все четыре огромных чемодана. Мы, должно быть, представляли собой жалкое зрелище, пробираясь через аэропорт: два орущих ребёнка, беременная женщина, пытающаяся удержать их обоих и муж, качающийся под грузом багажа, с документами в зубах. Я без остановки бормотала: «Отдых? И это называется отдыхом?» Через несколько дней страсти поулеглись. Мы поселились в гостинице и приспособились к сдвигу во времени. Мы проводили всё время на пляже, как казалось, вместе с половиной населения Франции, которое ежегодно проводило свой отпуск в Коста-Брава. Каждый занимал свой квадратный метр пространства на песке и старательно игнорировал всех остальных. Наша семья, признаться, выделялась из общей массы. Мы были не только самыми бледными на пляже, но и самыми одетыми. Мой объёмистый купальник для беременных выглядел, как вечерняя мантия, по сравнению с крошечными бикини, надетыми на бронзовые тела, окружавшие нас. Однажды утром мы лениво наблюдали за детьми, которые возились в песке с разноцветными ведёрками и лопатками. Анн-Мари подобрала красную лопатку и не расставалась с ней до конца дня. На самом деле, она не отпускала её от себя до конца отдыха. Она просыпалась по утрам, и первое, что она искала взглядом, была красная лопатка. Довольная своим новым приобретением, дочь везде носила пресловутую лопатку за собой: на пляж, за стол, даже брала её с собой в постель. Её дяди и тёти, впрочем как и мы, считали, что это было очень мило. – Смотрите, вон она идёт со своей красной лопаткой! Честно говоря, эта лопатка интересовала её больше, чем её маленькие кузены. Она ни разу не подошла к ним, ни разу не проявила инициативу завязать с ними знакомство. – Это поразительно, насколько она независима! – сказала мать Марка. – Да, она независима, – ответила я, – но она очень нас любит. – Я смотрела, как она бродит по пляжу. Её вид не выражал ни капли неуверенности, она не оглядывалась посмотреть, кто за ней следует, просто шла сама по себе. Снова я поборола в себе желание броситься вслед за дочкой и привести её обратно.
Кажется, я прочла в одной из книг по воспитанию, что дети всегда проверяют, далеко ли мама, папа или няня. Куда бы они не пошли, они всегда возвращаются к определённому «базовому» месту. Возможно, эта вполне логичная мысль принадлежала Споку. Вопрос в том, когда моя дочь собиралась ей последовать?
Несколько дней спустя мы все вместе отправились за продуктами. Мы с детьми ждали в машине, пока Марк купит всё необходимое. Было жарко, и мы пытались как-то занять время. Я решила поиграть с Анн-Мари в слова: я говорила какое-нибудь слово, а она должна была повторять за мной: – Машина -… – машина. – Баба -… – баба. – Кукла -… – кукла. – Папа -… – папа. Я назвала около десяти слов – весь репертуар Анн-Мари. К концу игры я подумала: «Вот, она может говорить, я же знаю, что она может.» Я чувствовала, что, как бы, защищаю дочку. Её французские дядюшки и тётушки не уставали замечать, как молчалива была девочка. «Но если она говорит, – продолжала рассуждать я, – зачем же я сижу здесь и заставляю её повторять за мной слова?» Пугающее беспокойство смешанное с виной снова закралось в моё сердце. Считала ли я свою дочь заторможенной? Сравнивала ли я её с братом, в пользу последнего? Что-то с ней было не так… И это не давало мне покоя. Может быть что-то не в порядке со мной? Неужели я не рада своему ребёнку?
Глава 2
Вернувшись домой в Нью-Йорк, мы зажили по-старому. Лето подходило к концу, и между походами в парк, к доктору и в магазин я готовила Даниэла к поступлению в новый, подготовительный к школе, детский сад, занятия в котором начинались осенью. В то же время я подыскивала для нас с Анн-Мари какую-нибудь развивающую группу типа «мать и дитя».
Я читала всё больше книг, посвящённых развитию детей. Марк не беспокоился по поводу дочери, я же, напротив, была очень встревожена. Так, я начала рассказывать о ней всякому, кто был готов меня слушать. Я советовалась с друзьями, читала книги, наблюдала за ней. Долгожданное улучшение всё никак не наступало. Анн-Мари, казалось, становилась всё молчаливее и грустнее. Позднее, в моменты исступлённого плача или гнева, она начинала биться головой об пол.
Однажды в парке я качала дочь на качелях. Неподалёку прогуливалась женщина, которую мы часто встречали в этом месте. Анн-Мари, раскачиваясь вперёд и назад, радостно улыбалась. Женщина взглянула на нас и воскликнула: – Надо же, я впервые вижу улыбку на лице этого ребёнка! Эти слова, вызванные добрым участием, задели меня за живое. Я поняла, что пугающее, ещё не вполне оформившееся беспокойство по поводу дочери, прочно укоренилось в моём сердце. – Что не так с Анн-Мари? – в который раз спросила я мужа тем вечером. – «Не так»? Что ты подразумеваешь под этим «не так»? – Она никогда не бывает весёлой, всё время плачет или хнычет. И почему она совсем перестала говорить?
– Почему же, – возразил Марк, – у неё есть в запасе несколько слов. Она говорит «привет», «пока», «сок», «кукла» и «бука» вместо «бутылка». Она даже говорит «я тебя люблю «.
Да, это было так. Она действительно говорила «я тебя люблю», по-своему, но всё же говорила. Она произносила неопределённое «я ея юю», когда мы, обнимая и целуя, брали её на руки и говорили ей «я тебя люблю». Это было хорошим знаком, и я думала, что скоро, совсем скоро, дочка научится говорить и новые слова, самые разные, а не только те, что мы всё время приводили в пример, когда разговор заходил на эту тему. А потом она начнёт составлять словосочетания, и задавать вопросы, и даже делиться со мной своими детскими мыслями…и ещё кое-что: она позволит мне узнать её.
А пока я решила проводить с Анн-Мари больше времени «с пользой», то есть читать ей книжки, играть с ней на полу. Также я хотела как можно скорее найти подходящую развивающую группу, где бы она могла больше играть с другими детьми. Может быть в этом была проблема: ей не хватало общения со сверстниками, соприкосновения со внешним миром? Ей было необходимо видеть других детей кроме её брата. Именно общение облегчит дочери восприятие окружающей её реальности. Я знала, в чём дело: я была слишком уж заботливой матерью-наседкой. Я предупреждала любое её желание, и поэтому у Анн-Мари просто не было возможности самовыразиться. Или может быть дело было в том, что из-за того, что Даниэл был слишком активным и разговорчивым ребёнком, мы невольно уделяли ему львиную долю нашего родительского внимания. Снова и снова я придумывала новые объяснения странному поведению Анн-Мари.
Несколько наших знакомых утверждали, что всё сводилось к чему-то вполне очевидному, а именно: Анн-Мари знала о скором рождении братика или сестрёнки и заранее ревновала меня к нему, этим и объяснялось её поведение. Но я недоверчиво качала головой: психоаналитический подход Фрейда к детской психологии всегда раздражал меня, несмотря на то, что в тот момент я ещё не очень остро реагировала на этот вопрос. Мне казалось, что то немногое, что я прочитала на эту тему, было весьма неопределённо. У психоаналитиков на всё имелось своё мнение: необременённые самой элементарной заботой о практической стороне дела, игнорирующие разнообразие проявлений этой проблемы, не сознающие за собой никакой ответственности, они готовы с угрюмой озабоченностью выискивать в ребёнке стремление к самоуничтожению, подавляемые сексуальные инстинкты, или желание смерти родителей, глубоко скрывающиеся в недрах любого юного ида. Последователи этого учения рассуждают с любопытным всезнайством о внутреннем мире ребёнка, его восприятии, его чувствах и о понимании им жизни вообще.
Анн-Мари было полтора года. Даже если бы она и сообразила, что живот её матери округляется оттого, что скоро оттуда на свет появится младенец, каким мыслительным процессом она должна была догадаться (причём ошибочно), что рождение брата или сестры повлечёт для неё неприятные последствия? Разве она уже испытала появление нового ребёнка в доме? Да и какое представление о будущем времени могло быть у этого существа, кроме «время вставать», «время спать» или «время еды/сказки/купания»?
И всё же, если я и принимала в штыки метод психоанализа, с помощью которого другие пытались с лёгкостью решить все наши проблемы, я не была склонна искать другие объяснения. Я считала, что это я во всём виновата. Даже на том раннем этапе несмотря на то, что голос рассудка отвергал мысль о том, что я настолько плохая мать, что произвела на свет хронически несчастного ребёнка, на эмоциональном уровне я была вовсе не уверена в этом. Я чувствовала себя неудачницей. Что-то не давало мне покоя, и я тщательно наблюдала за ходом нашей семейной жизни, чтобы понять что это было.
Вероятно проблема была связана со мной. Я была «домашней» мамой, с самого рождения сына Пэтси была мне замечательной помощницей, так что теоретически мои дети должны были получать максимум ничем не обременённой материнской заботы и ласки. Но почему-то создавалось впечатление, что Анн-Мари не получает достаточно моего внимания. Может быть у меня не было необходимых способностей к воспитанию: возможно поэтому я недостаточно занимала её. Это по-настоящему смущало меня. Три из шести моих сестёр имели степень юристов, две из них работали адвокатами. Они проводили долгие тяжёлые часы на работе, приходили усталые домой, к детям, которые требовали к себе абсолютно всего их внимания. Это была изматывающая повседневность, и их дети проводили с матерями лишь малую толику того времени, которое проводила со мной Анн-Мари. Тем не менее, маленькие дочки Джин и Терезы говорили гораздо лучше Анн-Мари, несмотря на то, что были гораздо младше её, и казались умненькими и жизнерадостными детьми. Возможно время, которое я отдавала дочери было проведено с меньшей «пользой».
Я почти перестала расставаться с дочерью: оставляя её даже на два-три часа, я очень беспокоилась. Каждый раз, когда я должна была отлучиться куда-то, я торопилась вернуться домой как можно скорее и, возвратившись, забрасывала Пэтси вопросами о том, как Анн-Мари себя вела, и как прошло время без меня. Когда я была с ней дома, я старалась как можно больше времени проводить, играя с дочкой на полу. Проблема заключалась в том, что чем бы мы с ней не занимались, ничто не было способно привлечь её внимание более, чем на несколько секунд. Напрасно я приносила домой новые яркие игрушки и книжки, тщетными оказывались мои старания заинтересовать её совместным чтением какой-нибудь сказки. Она неизбежно поворачивалась к тем двум-трём старым игрушкам, с которыми тихо играла каждый день.
Велико было искушение взять всю вину на себя, даже ещё до того, как я узнала, что существует какая-то проблема. Это был мой ребёнок. Она была рождена моим телом. До сих пор она воспитывалась почти только мной. Поэтому если что-то с ней было не в порядке, то в этом только моя вина. Ни Марка, ни её самой, а моя. Убеждения разума не могли устоять перед тем интуитивным ощущением обречённости, той твёрдой, опасной уверенностью в том, что мой ребёнок был продуктом меня, продолжением меня. Составляющими этого чувства вины были различные отрицательные эмоции, которыми сопровождалось любое моё общение с Анн-Мари в эти дни: смущение, огорчение, грусть. Вопрос, который не давал мне покоя ещё с лета, не покидал меня: «Что было не так со мной, что я не радовалась собственной дочери, не гордилась ею?»
Я была так счастлива, глядя, как подрастает цветущий Даниэл, как постепенно раскрывается перед нами его внутренний мир – волнующий процесс, который начался буквально с того дня, когда он появился на свет. Но Анн-Мари – вот ей уже почти полтора года, а я до сих пор жду, когда же она раскроется.
Всё так запуталось! Что-то было не в порядке с ней, что-то было не так со мной – в фокусе этого «не в порядке» в моей голове каждый раз оказывалось что-то другое. Единственное, что становилось очевидным – это нетерпимая разница в моём отношении к двум моим детям. Тогда как Даниэл наполнял моё сердце радостью и гордостью, Анн-Мари будила во мне беспокойство. Чтобы справиться с этим, я решила проводить меньше времени с Даниэлом. Прикованная к тихой, невесёлой Анн-Мари, я начала позволять Пэтси заботиться о Даниэле всё больше и больше, в то время как я была с дочкой. Эта мера ничему не помогла, а только увеличила тень печали, покрывшую наш дом. Я скучала по сыну, когда он не был со мной, но не могла позволить себе радоваться мальчику как раньше.
Я продолжала думать о том, что если бы я знала в чём причина происходящего, я была бы спокойнее. Я была охвачена идеей «нормальности», параметров, которые определяли нормальное развитие и поведение детей. Я штудировала книги, посвящённые раннему детству, но ни в одной из них я не могла найти свою дочь. Большинство из них предостерегали меня от того, чтобы сравнивать своего ребёнка с другими детьми. «Если соседский Джонни сыплет целыми предложениями, тогда как ваш малыш находится на этапе «одного слова» – не волнуйтесь», – такова была основная мысль большинства этих работ. «Не сравнивайте, у вашего ребёнка своё расписание». Нигде, ни в одной книге не было и намёка на то, что у некоторых детей может возникнуть какая-либо проблема в развитии. Опасались ли авторы книг понапрасну тревожить родителей? Боялись ли того, что информация об отклонениях в развитии не будет воспринята «средним» родителем? Я искала книгу, в которой вместо обычного: «Не понижайте самооценку вашего ребёнка», приводились бы нормы по этапам овладения языком.
Но если я не могла найти Анн-Мари ни в одной из этих книг, то мои друзья забрасывали меня десятками примеров детей, которые, как они утверждали, были в точности, такими же, как она.
Я с жадностью слушала эти истории и искала людей, которые могли рассказать ещё одну, и ещё одну… о маленькой Мэри, которая не произносила ни слова до трёх лет… о Сэме, который плакал без перерыва… о Джонатане, которые не говорил до четырёх лет, а потом открыл рот, и заговорил целыми предложениями!… и о чудо-подростке, который предположительно произнёс своё первое слово в семилетнем возрасте (даже мне, готовой поверить во всё, эта история показалась несколько неправдоподобной). Снова и снова я слушала рассказ об Эйнштейне, который не говорил до того, как ему было… сколько лет? Возраст варьировался в зависимости от рассказчика, но так или иначе Эйнштейн доказал свою теорию относительности до того, как произнёс своё первое слово.
Тем временем Анн-Мари становилась всё тише и тише. Теперь я не могла выпросить у неё и слова. Я вспоминала, как она семенила к двери, встречая отца. Когда в последний это было? Когда в последний раз мы слышали её «привет» или «пока»? Когда в последний раз она сказала «я юю ея»?
Когда я отчаялась найти Анн-Мари в популярных книгах по детскому развитию, а истории многочисленных рассказчиков больше не приносили мне успокоения, я решила, что мне необходимо провести более серьёзное исследование.
Ещё со времени нашей с Марком длительной борьбы с бесплодием (первый ребёнок родился мёртвым, затем последовало три выкидыша), я была убеждённой читательницей различных медицинских текстов. Книги, статьи, учебники – я внимательно изучала всё, что каким-либо образом касалось нашей проблемы.
Моё чтение медицинской литературы происходило с определённой долей скрытности. Ещё во время моей учёбы в университете, вместо того, чтобы готовить свои тезисы, я сидела в библиотеке в уголке, перелистывая «Нью Ингланд Джорнал Оф Медицин» (?) – «Новоанглийский медицинский журнал». Моей настольной книгой был «Мерк Мэньюал» (?), я медленно и торжественно читала его, почти так же, как я читала свою Библию. Однажды, с какой-то подозрительной поспешностью, я приобрела толстый учебник по деторождению и гинекологии. У меня было чувство, что я купила нечто неприличное, как будто это было сочинение маркиза Де Сада. Но если бы кому-то пришло в голову посмотреть на отвратительные чёрно-белые фотографии учебника, то он признал бы, что нет ничего более далекого от эротики, чем эти изображения. Но что больше всего смущало меня, так это моё вторжение в пределы, куда допускаются лишь посвящённые, а я таковой не была. Не являясь врачом, я как бы незаслуженно присвоила себе какое-то право, тем самым нарушив негласное общественное соглашение, которое принято между врачами и их пациентами.
Вообще-то я была доктором, но сомневаюсь, что моя степень доктора философии хоть как-то квалифицировала меня в мире медицины. Более того, и это было сложнее, я с детства впитала в себя благоговение общества перед врачами и его пренебрежительное отношение к обладателям гуманитарного образования. В этом мире и не только во Франции доктора философии пользуются далеко не той славой, которая достаётся врачам. Честно говоря, я всегда плохо представляла себе, что мне делать со своей степенью: напечатать её большими буквами и повесить у себя над кроватью, как поступило большинство моих бывших коллег, или годами ломать голову над вопросом, для какой цели мне был присвоен титул доктора? Первый вариант выглядел неискренне и претенциозно, а если принять во внимание то, что я уже давно была «неработающей мамой», то и подавно. Второй вариант, казалось, призывал уступить социальной тенденции, которой я пыталась сопротивляться. Чаще всего я, молча, скрежетала зубами, когда какой-нибудь доктор – врач, разумеется, – обращался ко мне с той беззаботной отеческой фамильярностью, которая свойственна даже самым молодым из них, начиная с третьего курса медицинского факультета: «Привет, Кэтрин? Это доктор Джонс».
Так или иначе, но стоило мне научиться понимать специфический жаргон, употребляемый в медицинской литературе, как я обнаружила, что мне удаётся извлечь из неё нечто полезное, а именно объективность, исследование, опыт.
Когда я училась в университете, для французской литературы и критицизма было характерно обличение любого возможного знания в шатком непостоянстве.
После того, как годами я рассматривала мои любимые художественные произведения сквозь призму структурализма, постструктурализма, феноменологии, феминисткого критицизма и деконструктивизма, я накинулась на медицину, как голодная мышь(?). Я устала от того, что «правда» – это относительное понятие, отражение чьего-то взгляда на жизнь, способа мышления. Я хотела испробовать вкус фактов, информации. Наука. Собрание знаний, опирающееся на эмпирические данные, а не на талант болтливости своих последователей. Немного больше телесного, немного меньше духовного – или по меньшей мере того, что считалось душой среди левого крыла французских интеллектуалов.
– Знание – сила, – заметила одна моя подруга, выслушав рассказ о моём времяпрепровождении. Она сама принадлежала к той редкой породе врачей, которые искренне приветствуют вторжение непосвящённых в их профессиональную сферу. Другие мои друзья выказали куда меньше понимания. – Ты превратишься в ипохондричку. – Ты напрасно запугиваешь саму себя. – Не понимаю, зачем вникать в суть любой своей болячки? Это забота докторов! Но я упрямо продолжала читать свой «Мерк Мэньюал». Здоровье моей дочери было вне всякого сомнения моей заботой, и я продолжала искать ответы на вопросы, мучавшие меня. Одним сентябрьским вечером, лёжа в кровати рядом с Марком, когда год, а вместе с ним и период нашего невежества, близился к концу, я, наконец-то, нашла то, что искала. Статья называлась «Педиатрия и генетика», подзаголовок «Психиатрические состояния в детстве и юношестве», второй подзаголовок «Детский аутизм или синдром Каннера». В журнале приводилось только краткое описание, включающее в себя наиболее характерные признаки расстройства, не вдающееся в подробности, которые могли бы облегчить определение диагноза. – Аутизм, – читала я, – это синдром, проявляющийся в раннем детстве, который характеризуется чрезмерным стремлением к одиночеству (нежелание общения, неспособность к ласке, уход от зрительного контакта), склонностью к постоянству во всём (ритуалы, нетерпимость к переменам, болезненная привязанность к знакомым вещам, повторяемость действий), языковые и речевые отклонения (варьируются от полной немоты до позднего овладения речью и до очень индивидуального использования языка), а также неровные интеллектуальные проявления. Больше в книге ничего не было. В ней не говорилось о том, чем может быть вызвана болезнь, хотя и проскальзывал намёк на связь с генетикой, а также на то, что у некоторых детей возможны неврологические расстройства. Что касается прогноза, то для более, чем половины детей «прогноз однозначно пессимистический», и только около четверти из них могли надеяться на «нормальное в среднем здоровье», что бы под этим не подразумевалось. Никакого упоминания о «лечении» или «выздоровлении» в книге вообще не было, и в этом было что-то зловещее. Моей первой реакцией был пронизывающий до костей страх. Что-то в Анн-Мари в какой-то степени могло соответствовать каждому из описанных типов поведения. Я не могла окончательно и бесповоротно отогнать от себя то, о чём только что прочитала. Я не воскликнула: «Слава Богу, это её не касается!» Вместо этого что-то во мне перевернулось и в ужасе сжалось в комок. Тогда я взяла книгу и снова перечитала отрывок. «Ты с ума сошла, Кэтрин! Начни мыслить трезво. Давай, спроси Марка, что он думает по этому поводу.» – Марк, послушай меня, пожалуйста! – я прочла несколько строк. Реакцией Марка было с трудом контролируемое раздражение. – Дай-ка мне это, – попросил он. Он прочитал страницу, а потом в ярости откинул книгу. – Это не Анн-Мари! Ну конечно же, это не была Анн-Мари. О Боже, неужели я на самом деле это сделала – я только что определила, что моя дочь психически нездорова! – Ты прав, Марк. Это смешно, я имею ввиду «чрезмерное стремление к одиночеству». Это никак не оносится к Анн-Мари: она любит нас и всё время просит, чтобы её взяли на руки! Мы перебрали один за другим все четыре типа поведения. «Стремление к одиночеству» – явно нет. Она действительно стеснялась чужих, но она очень любила нас. «Речевые и языковые отклонения» – она не настолько хорошо владела языком, чтобы иметь отклонения. Она просто была из тех детей, которые поздно начинают говорить, вот и всё. «Склонность к постоянству» – что ж, надо признать, что девочка иногда вела себя подобным образом, но во всяком случае, это не доходило до крайности. Что же касается «неровных интеллектуальных проявлений», то мы не знали что это такое. Мы и не предполагали, какой коэффициент интеллекта был у дочери, но нам она казалась умненькой.
Так, мы оставили эту тему, и я снова пообещала себе, что перестану выискивать проблемы там, где их нет и «играть в доктора». Несмотря на это, на следующий день я позвонила доктору Бакстеру. – Я хотела бы договориться насчёт осмотра, – сказала я бодро. Неделю спустя мы сидели в кабинете врача, и я поделилась с ним своими волнениями. – Плач, страхи, стук головой об пол… она всё время так расстроена. Возможно ли у неё подозрение на… аутизм?
– Нет, – отрезал доктор Бакстер. – Вы когда-нибудь видели ребёнка, больного аутизмом?
– Нет, никогда. – Действительно, если подумать, я ведь практически ничего не знала об этом заболевании, кроме того, что прочитала в своём «Мерк Маньюэл». У меня сохранился только размытый образ – должно быть из какого-то давнозабытого документального фильма – ребёнка, который, забившись в угол, молча, раскачивался из стороны в сторону. – Такие больные, как правило, совершенно ни на что не реагируют. Она бы так за вас не цеплялась. Она бы равнодушно позволила врачу осмотреть себя… От внезапного облегчения я даже почувствовала лёгкое головокружение. Также мне стало немного стыдно. Когда же я, наконец, успокоюсь и приму свою дочь такой, какая она есть? Да и кто я такая, чтобы, прочитав страницу в книге, говорить об аутизме? – Что ж, слава Богу. Прошу прощения, за то, что я такая «беспокойная» мама. Я засмеялась, мне хотелось, чтобы доктор присоединился ко мне в моём самопринижении. Это было слишком маленьким наказанием за выдумывание проблем там, где их очевидно не было. Но тут я вспомнила о чём-то ещё, что тревожило меня. Это было более конкретно. Сказать или нет? – Ещё кое-что, доктор Бакстер. Мне кажется, что она стала говорить всё меньше и меньше, такое чувство, что несколько месяцев назад её словарный запас был больше, чем сейчас… Да, я в этом уверена… Сейчас от неё даже лепета не услышишь. Это было невольным проявлением инициативы к продолжнию разговора. Как бы педиатры не распознавали ранние признаки аутизма, большинство из них, я уже знала это, было научено не игнорировать ни малейшего намёка на речевые отклонения. – Как раз это необходимо проверить. Девочка должна пройти тест на слух, как можно скорее. – Он предложил в качестве места проведения проверки городское отделение колледжа Хантера, школу медицинских наук. Там, в Центре по коммуникативным нарушениям, я должна была назначить встречу в клинике по оценке речи и языка. – Конечно, я так и поступлю. И я очень рада, что мы раз и навсегда можем исключить возможность аутизма, – я выжидательно на него посмотрела. Врач колебался. – Никогда нельзя что-то окончательно исключить. Но я должен сказать, что по отношению к вашей дочери, это очень маловероятно, практически невозможно. Надо отдать должное доктору Бакстеру – он хороший и умный врач. Мне не в чем его упрекнуть, ведь ничего из того, что я ему рассказала про Анн-Мари, не выглядело странно или ненормально, кроме проблем с речью, конечно. За двадцать минут нашего разговора было очень трудно передать всю серьёзность сложившейся ситуации. Сказать «она много плачет», значило ничего не сказать для того, чтобы описать тот кошмар, в который превратилось наше с ней существование. И если, как позднее выяснилось, его описание детей-аутистов было заблуждением из-за своей обобщённости, то это возможно объяснялось тем, что так выглядели те немногие аутисты, которых доктор видел в своей жизни. Видимо медицинские школы не готовят будущих педиатров распознавать аутизм на ранних стадиях у детей в возрасте младше 5-6 лет. Во многих случаях диагноз ставится только тогда, когда ребёнок начинает посещать детский сад. Там он настолько выделяется среди своих сверстников, что ни самые невнимательные родители, ни самый бесцеремонный врач уже не могут игнорировать наличие заболевания.
Я позвонила в Хантер, чтобы назначить проверку. Я хотела поскорее покончить со всем этим. Я была противна сама себе, пора было оставить в покое Анн-Мари, у которой всё было в порядке.
Однако судьбе было угодно распорядиться иначе: через несколько дней после приёма у доктора Бакстера, мой лечащий врач сказала, что мне надо немедленно лечь в больницу. Кровотечения в течение последних трёх месяцах беременности, а также ультразвуковая проверка обнаружили у меня очень низкий уровень плаценты – это было катастрофически опасно для меня и ребёнка, так как могло обернуться внутренним кровоизлиянием. Врач-гинеколог хотела, чтобы хотя бы на ту ночь я осталась в больнице, но что ещё хуже, она не могла сказать, сколько времени я должна буду провести там. Неделю? Месяц? – Я пока ещё не знаю, – был её ответ. – Нет, – сказала я, – я не лягу в больницу. Я была в панике. Я негодовала, спорила, даже плакала. Доктор была очень сердита. Ей никогда не приходилось видеть меня в таком состоянии. – Я хочу услышать ещё одно мнение, – объявила я. – Это смешно, в конце концов. Я уверена, что вы преувеличиваете опасность. У меня двое маленьких детей дома, что прикажете с ними делать, взять и вот так оставить их одних? Конечно же, я легла в больницу, но моя истерика продолжалась и в течение первых дней моего «заключения». В какой-то момент старшая сестра этажа подошла и села возле моей кровати для того, чтобы прочесть мне лекцию о том, как полезно оставлять детей одних, а иначе как научить их быть самостоятельными? Я согласно кивала и говорила «да, да», чтобы она побыстрее ушла. А потом ещё немного всплакнула.
Как могла я объяснить Марку, врачу, сёстрам, почему я была так расстроена, если я сама этого не понимала. Не будет преувеличением сказать, что я была близка к панике при мысли, что мне придётся оставить Анн-Мари. Какой-то мрачной частью мозга я понимала то, что не проникало в мои более контролируемые мысли: она ускользала от нас, и очень быстро. Это было как барабанная дробь, как звук правды, которая должна быть, наконец, произнесена. Это была девочка, которая уходила во мрак.
Её мать стояла между ней и темнотой, чувствуя как от страха сжимается её сердце. Она попросила Господа благословить её, а потом отбыла в больницу на «неопределённый период».
Мои родители и сестра Бюрк приехали в город, чтобы позаботиться о детях в моё отсутствие. Марк каждый день отпрашивался с работы, мчался домой взять детей и привести их ко мне в час для посещений. Они навещали меня каждый день, и каждый раз Анн-Мари приходила заплаканная, во время, проведённое со мной, она больше хныкала, а покидала комнату снова со слезами. Даниэл плакал, когда надо было уходить, Анн-Мари тоже кричала и плакала, но в отличие от брата, она не протягивала ко мне рук, не обращалась ко мне умоляющим взглядом или словом. Она, как обычно, выглядела испуганной, но не находила успокоение ни во мне, ни в отце.
Меня выписали из больницы через десять дней. Опасность была позади, моё состояние стало менее критично. Когда я зашла в дом, Анн-Мари выскочила из угла и пробежала мимо меня. – Этот ребёнок чересчур стеснителен, – сказал мой отец за обедом в тот день. – Она ни разу не посмотрела на меня за всю неделю, что мы здесь! Когда мы, наконец-то, выбрались на проверку в институте Хантера, это было одним из многих разочарований, которые испытываешь, когда имеешь дело со специалистами по детскому развитию. Мы прошли тест на слух, его результаты были в полном порядке, а потом настала очередь оценки речи, которая продолжалась не менее часа. Три серьёзные молодые женщины, которые работали над своими дипломами в области детского обучения, и их наставница, сели с нами на пол и безуспешно пытались извлечь из Анн-Мари хоть слово с помощью голубых воздушных шариков, деревянного болванчика на пружине и других игрушек. В конце-концов, наставница обьявила своё заключение. – Миссис Морис, мы считаем, что у девочки есть проблема, и мы… – Какая проблема? – Мы обычно не ставим диагноз. Мы бы порекоммендовали вам встретиться с психологом, он и поставит точный диагноз. А пока мы рекомендуем вам записаться к нам на игровую терапию, дважды в неделю. – Но почему? Что это за «игровая терапия»? И зачем она нужна моей дочери? – Игровая терапия – это то, что мы имеем на сегодняшний день, и мы считаем, что это было бы полезно вашей дочери, потому что мы думаем, что у неё есть проблема… «Которую вы по доброте душевной не разглашаете, а хотите сохранить, как какую-то страшную тайну», – думала я. – Итак, миссис Морис, вы хотите записаться в группу игровой терапии? – Я полагаю, нет. Я бы хотела посоветоваться со своим педиатром. И я бы хотела иметь копию вашего заключения. – О, нет, миссис Морис. Мы пошлём копию заключения лишь вашему педиатру, и вы сможете обсудить с ним все интересующие вас детали. Но дело в том, что мы очень очень заняты сейчас, так что он получит заключение не ранее, чем через две-три недели. А пока, мы надеемся, что вы передумаете и всё-таки приведёте девочку на сеанс игровой терапии. Игровая терапия.
На глубокую рваную рану в будущем ребёнка, причиной которой был аутизм, эти очень очень занятые люди хотели налепить два симпатичных маленьких лейкопластыря. Два часа в неделю игровой терапии – помотрим, заставят ли её говорить надувание воздушных шаров или игры с мячом!
Я позвонила доктору Бакстеру. Он разделял мою неприязнь к идее игровой терапии. – На мой взгляд, она получает достаточно впечатлений и дома, от вас и своего брата.
Им нечего ей предложить, кроме того, что вы и так в состоянии обеспечить. Давайте подождём их заключения, тогда я и решу, есть ли на самом деле какая-то проблема. Если это так, то, пожалуйста, не начинайте какую-либо терапию, не встретившись с доктором Де-Карло. – Кто такой доктор Де-Карло? – Она – детский невропатолог. Каждые несколько дней я звонила доктору Бакстеру, чтобы узнать не прибыли ли результаты обследования. Тем временем, я снова начала упоминать «СЛОВО». Аутизм. В разговоре с моими сёстрами и друзьями, я начала громко произносить его вслух. Я хотела вытащить его на свет, чтобы мы все вместе могли помотреть на то, что оно из себя представляет, и дружно признать, что между ним и милым описанием Анн-Мари нет ничего общего. – Эти дети должны быть абсолютно отрешёнными, – сказала одна из моих сестёр.
Анн-Мари же, напротив, такая мамина дочка! Она просто немного стесняется чужих. Ситуация дошла до того, что, казалось, слово теперь существовало независимо от своей языковой оболочки, а мы, совместными стараниями, пытались свести на нет его силу.
Марк чувствовал примерно то же, что и я, но сильнее. Он хотел не просто встретиться с угрозой лицом к лицу и обезоружить её, как я, а пытался навсегда изгнать её из нашей жизни. – Я не хочу больше слышать об этом аутизме! – объявил он в ярости. – Я не вижу, каким образом это слово может относиться к моей Анн-Мари! Я же начала немного больше читать на эту тему. Только немного, потому что всё, что я читала было очень пугающе и безнадёжно. Появление слов «тяжёлое неизлечимое заболевание» было неизбежно. Меня пугало не столько слово «тяжёлое», сколько «неизлечимое».
В ноябре, наконец, прибыло заключение из Хантера. В тот день Доктор Бакстер сразу поднял трубку, когда я позвонила. – Да, я получил заключение обследования, и уже успел ознакомиться с ним. Не могу сказать, что я согласен со всем, что они там написали, но так или иначе, я бы хотел, чтобы вы назначили приём у доктора Де-Карло. Только она может точно поставить такой диагноз. – Какой диагноз? – Я бы не хотел сейчас говорить больше, чем уже сказал. Просто приходите и поговорите с доктором Де-Карло. Она здесь с утра по пятницам.
Я назначила приём у доктора Де-Карло на 18 декабря. Роды могли начаться со дня на день, но я непременно хотела встретиться с доктором до того. Я просто больше не могла ждать и гадать, что происходит с Анн-Мари.
Рождественский сезон был в самом разгаре, но в нашем доме не было ни ёлки, ни праздничных гирлянд, и я не купила ни одного подарка. Я будто бы погрузилась в летаргию. Тяжёлая, громоздкая, с трудом передвигая ноги, я ждала родов, как избавления. Год подходил к концу, дни становились короче, а я была объята одним только желанием освобождения. Освобождения от беременности, конечно, но также и от безумной тревоги, снедающей меня вот уже в течение года. Я хотела положить конец всему этому, но вместе с тем, я откладывала любое движение вперёд, все планы на будущее на неопределённое «потом», когда это бремя спадёт с наших плеч.
Светлый, прекрасный момент прорвался сквозь темноту, сгущавшуюся вокруг нас: родился Мишель.
Схватки начались ночью 13 декабря, около 10:30 вечера. Они усиливались и учащались в течение часа, примерно каждые пять минут. Мы приехали в Нью-Йорскую больницу в полночь, и когда мы шли по приёмному покою, я уже знала, что малыш не собирался терять времени. Он хотел выйти в мир прямо сейчас.
Мы с моими сёстрами были большими любителями поболтать о детях, и если было что-то, насчёт чего у нас было единое мнение, то это родовые боли. Мы хотели получить наш эпидурал, большое спасибо, причём предпочтительно принять его задолго до начала бури. Я уверена, что роды протекают по разному у всех женщин, и восхищаюсь теми, кто могут обойтись без таблеток вообще, а потом заявить, что «всё было совсем не плохо». Что же касается меня, то во время родов я чувствую себя так, будто какой-то злорадный великан решил медленно, равномерно разорвать все мои брюшные мышцы и органы.
Когда один за другим последовали удары тех вулканических отдающих по всему телу схваток, я подумала: «Что, чёрт побери, заставило меня снова забеременеть!» – Я хочу эпидурал! – закричала я. Но, к сожалению, было уже слишком поздно для эпидурала; ребёнок вот вот должен был родиться, а мы даже не добрались до приёмной палаты. – Марк, пожалуйста, помоги мне! – простонала я, всхлипывая от жалости к самой себе. Марк-бедняга, сам на пределе, не мог понять, как именно он должен был мне помочь. И надо же было так случиться, что именно в тот день роды принимал не мой доктор, а дежурный. Этот тип, очевидно, верил в эффективность применения приёмов футбольного тренера при родах – чем громче он кричал на меня, тем сильнее я должна была тужиться. – Ну давай же, Кэтрин! – заорал он во все лёгкие. – Когда я говорю «тужься», я имею ввиду, что ты должна тужиться! Я же не шучу с тобой!
К тому моменту я уже вовсю рыдала, но смогла совладать с собой на минуту, для того чтобы в полубреду сообщить ему, что я решила делать кесарево, и пусть он как можно скорее приведёт анестазиолога.
К счастью, прекрасный, нежный ангел сострадания в лице одной из сестёр-акушерок, вмешался в происходящее и каким-то образом убедил меня начать тужиться, причём очень эффективно.
Через несколько минут, в палате раздался крик новорожденного.
Вот он, самый прекрасный момент в родах! Когда всё заканчивается, испытываешь невыразимое блаженство. Резкий переход в страну Без Боли после того, как несколько часов подряд твоё тело разрывается на кусочки, можно описать как внезапную эйфорию. Прибавьте к этому ещё и маленький живой комочек, который кладут рядом с вами с простыми словами: «Вот ваш сын (или дочка)», и наслаждению нет предела. Я не знаю большего счастья, чем то, которое испытала на родильном столе, когда рядом со мной был каждый из моих детей, и я нежно целовала его в обе влажные щёчки.
Мишель был само совершенство. Сладкий-сладкий ребёнок-игрушка.
Мы с Марком, оба усталые, смотрели друг на друга. Каким-то чудесным образом мы – люди, полные недостатков и изъянов – смогли дать жизнь другому существу, совершенному, непередаваемо прекрасному, самой невинности, вверенной нашей заботе. Мы уже знали, что задача оберегать и направлять его по жизни была не из лёгких. Это, возможно, был наш самый тяжёлый жизненный труд. Немотря на это, мы были взволнованы тем, что нам было позволено участвовать в этом творении. Этот младенец уже жил самостоятельной жизнью, отдельной от нас с Марком, и всё-таки он был отражением того лучшего и высокого, что было в нас, символом извечного стремления человека к совершенству. Вместе с облегчением, усталостью и радостью в наших с Марком глазах светилась взаимная благодарность друг другу за то, что мы вместе вступили на эту трудную, но прекрасную дорогу, за то, что подарили друг другу чудо рождения ребёнка.
Марк взял новорожденного на руки и нежно приветствовал сына: «Michel… mon fils…»
В тишине, я прошептала благодарственную молитву, а потом позволила себе погрузиться в этот момент ничем незамутнённого счастья.
Моя радость продолжалась ещё некоторое время. Я не испытывала никакого беспокойства, на следующее утро не было и признака послеродовой депрессии, остался только отголосок вчерашней эйфории. Это было немного странно, так как первые дни Даниэла и Анн-Мари были немного омрачены моей озабочнностью тем, всё ли я делаю правильно. Я беспокоилась о том, хватит ли у меня молока, чтобы самой кормить их, я пыталась объяснить каждый их писк, чих или телодвижение. С Мишелем я уже более уверенно чувствовала себя в роли матери, я точно знала, что и как надо делать. Я наслаждалась каждой минутой в первые дни его жизни, умиротворённо баюкая малыша у себя на груди.
И я рада, что успела хоть немного побыть счастливой, так как беда разразилась ровно через четыре дня после рождения сына. Близилось печальное время.
18 декабря, всего лишь через два дня после моего возвращения домой из больницы, Марк, я, Анн-Мари и Мишель поехали в университетскую больницу, чтобы встретиться с доктором Реджиной Де-Карло, детским невропатологом. Даниэл остался дома под присмотром Пэтси. День выдался холодный и дождливый. Мы не много говорили по дороге туда, только обнимали наших детей и думали о них.
Доктор Де-Карло спокойно, доброжелательно расспрашивала нас в течение полутора часов, вникая в малейшие подробности. Наконец, она отложила ручку и посмотрела на меня. У неё был нежный серьёзный голос.
– Итак, я думаю, что могу заверить вас в том, что Анн-Мари полностью здорова в физическом отношении, она выглядит вполне бодрой и внимательной. Тем не менее…
Моё сердце забилось сильнее, ладони вдруг покрылись испариной.
– Я полагаю, что ваши подозрения, миссис Морис, в какой-то степени оправдались.
Я беру их обратно! Я сожалею о том, что вообще затеяла весь этот глупый фарс! Мои мысли в тихом ужасе пытались отвратить беду. – Анн-Мари подпадает под категорию детей с нарушениями в развитии. О Боже, только не это! – Разумеется, вам надо показать её и другим специалистам, но я считаю… Пожалуйста, не говорите этого! -…что её история болезни и все симптомы наводят на мысль о наличии у девочки аутизма.
Я ощутила почти физическую боль, как будто меня ударили кулаком в грудь. И тут же, в неосознанном самозащитном рефлексе, я попыталась стереть, уничтожить слова врача. Если бы я закрыла глаза, заткнула уши, и мы бы перенеслись назад во времени, то сейчас бы мы не сидели здесь, и доктор не говорила бы эти ужасные вещи. Сумасшедшие мысли теснились у меня в голове: «Марк, пойдём домой! Что за дурацкой идеей было прийти сюда. Почему я это сделала? Я без конца говорила об аутизме и Анн-Мари, и вот, я создала этого монстра! Я обещаю, я больше не буду из-за неё волноваться, ведь с ней всё в порядке! Я больше не буду об этом говорить, клянусь!»
Малыш заплакал. Я механически взяла его на руки, тупо уставившись на доктора. Слёзы стояли у меня в глазах. Откуда они взялись? Я не испытывала горя, только шок. И могильный холод.
Марк начал задавать вопросы. Я медленно повернулась к нему. Он выглядел так, как я видела его только один раз прежде: когда он держал в руках нашего мертворождённого первенца. Он был бледен, взгляд неподвижен, рот мрачно сжат.
Мы уже немного знали об аутизме, но это немногое было так безнадёжно.
Глава 3
Мы задали доктору Де-Карло лишь несколько вопросов, которые показались нам наиболее критическими в тот момент: – Каков прогноз? – Пока невозможно точно сказать, насколько серьёзно она больна. Девочка ещё очень маленькая. Единственное, я могу заверить вас в том, что она не является умственно отсталой. Часто дети с таким диагнозом имеют серьёзные проблемы в этом отношении. – Что нам делать? – Начните заниматься этим прямо сейчас, не ждите подтверждения диагноза. Чем раньше она получит соответствующее лечение, тем больше шансов на улучшение.
«Улучшение». Снова это вежливое слово, которое встречалось во всех статьях на эту тему, которые мы успели прочитать. Оно служило заменой для «излечения» и «выздоровления». Мы уже знали, сидя в кабинете доктора Де-Карло, что аутизм считается постоянной помехой жизнедеятельности, и, согласно принятому среди врачей мнению, нашей дочери не суждено было говорить, вести себя и любить, как все люди.
Обратно мы ехали в такси. Ни я, ни Марк не проронили ни слова. Серый холодный день продолжался так, как и начался. Раздавались автомобильные гудки, автобусы спешили в центр города, образовывая пробки, люди шли по своим делам. Жизнь – покупка и продажа, подъём и падение, вся эта суматоха – как всегда равнодушно шла своим чередом.
Но мы не были как все, что-то стало иначе. Нас выбросило из основного потока, и теперь мы принадлежали другому времени и месту, чьи законы и границы ещё не были нам известны, но где на всём лежал мрачный отпечаток горя. Есть моменты в жизни – их немного – моменты резкого, необратимого перехода из знакомого в неведомое, когда обычный, размеренный ход жизни рушится в одно мгновение, и мы переносимся в будущее, которое внезапно становится пугающим и угрожающим.
– Но я не хочу идти этой дорогой! – кричим мы в страхе. – Я хочу обратно. Пусть чей-то чужой ребёнок заболеет лейкемией. Пусть чья-то чужая мать умрёт, чей-то чужой муж уйдёт. Я ещё не готов. Не готов терять приятность своих дней, спокойствие своих ночей. Моё сердце не выдержит смерти, небытия. Я не хочу этого.
Этот крик отчаяния – старая привычка нашего мозга. Мы наивно думаем, что можем контролировать ситуацию даже тогда, когда отвратительная, невозможная правда равнодушно смотрит прямо на нас.
– Утонешь ты, или выплывешь, в любом случае ты будешь иметь дело со мной, – вкрадчиво шепчет голос катастрофы. – Хочешь ты этого, или нет, я здесь, навсегда. Ты не в состоянии меня изменить. Это я буду менять тебя.
Такой момент мы и переживали сейчас. Я не знаю, каково было Марку, но я вступила во время безвременности. Я не могла повернуть назад, а впереди, я знала это, ждала огромная ужасная потеря. Я изо всех сил старалась не смотреть вперёд, я цеплялась за настоящее, понимая, что нахожусь в атмосфере давящей нереальности, в подвешенном коконе нечувствительности и безответности, и всё-таки, смутно понимала, что снаружи мой мир безвозвратно рушился.
Мы приехали домой. Я двигалась по квартире, словно робот. Я положила маленького на стол, чтобы переодеть его. Я очень внимательно слушала то, что Даниэл говорил мне. Было очень важно ответить ему, используя правильные слова и строя фразы надлежащим образом. «Не думай об этом, не думай об этом, не сейчас», – говорил мой мозг. – Что сказала доктор? – спросила моя сестра Бюрк, которая была у нас.
Она сказала, что у Анн-Мари аутизм. – ответила я, тщательно проговаривая странные слова. Снова подступили слёзы – это было странно, ведь я ещё не позволила боли охватить меня. Аутизм. Аутизм. «А-у-тизм», – это было, как барабанная дробь. Звук раздавался вокруг меня, приближался, но всё-таки ещё не овладел мной.
Я аккуратно привела в порядок домашнее хозяйство и устроила детей.
– Сейчас пусть Даниэл и Анн-Мари пообедают, а Мишелю необходимо поспать пару часов. Я скоро вернусь, мне надо ещё кое-что сделать, – я вошла в спальню.
Марк нерешительно последовал за мной. – Кэтрин, ты в порядке? – спросил он. – Марк… я… – Что, скажи мне. – Прости меня. – За что простить? – Это я во всём виновата. – О чём ты говоришь? – Я же хотела, чтобы дети были близки друг к другу, и вот что я наделала! Это я была виновницей этого кошмара, я была в этом уверена. Либо Анн-Мари стала аутистом из-за недостатка в моём внимании, либо я просто убедила всех в том, что она больна потому что, что слишком много читала и говорила на эту тему.
Марк обнял меня, он был смущён и расстроен.
– В этом нет твоей вины, любовь моя. Мы будем бороться. Ведь должно же быть какое-то средство. Я не верю в то, что нет никакого выхода!
Но я не могла продолжать разговор. Я была не в состоянии обсуждать то, как мы будем бороться с недугом Анн-Мари, ведь я не позволяла себе даже думать о дочери. Я вышла из дома по своим делам. – Поздравляю с новорожденным, миссис Морис! – воскликнул управляющий домом, когда я проходила по холлу. – Как назвали? – Его зовут Мишель. Лицо мужчины вытянулось при звуке моего деревянного, ничего невыражающего голоса. Я знала, что мои слова звучат равнодушно и пусто, но не могла ничего с собой поделать. Он был по ту сторону холла и кричал свои поздравления через широкое пространство. Я была здесь, и мне стоило большого труда оставаться на своём месте. Я тоже должна была кричать через это пространство. Надо было соединять слова, бросать их ему и при этом стараться выглядеть нормально.
Аутизм. Женщина в банке что-то раздражённо сказала мне. Оказывается, подошла моя очередь, а я и не заметила этого. Я пробормотала извинение и прошла вперёд.
Аутизм. Неизлечимый. Безнадёжный.
Я снова попыталась собрать в одно целое фрагменты расплывающейся действительности и открыла рот, чтобы обратиться к женщине в окошке. И опять слова стоили мне слишком больших усилий. Это становилось всё труднее. Мой рот, язык и голосовые связки стали ватными, будто отмороженными; составление предложений и передача повседневной информации приобрели какой-то ненадёжный, расплывчатый оттенок. Весь мир казался очень хрупким, близким к крушению, и именно я удерживала его от этого, я отвечала на любезности, занималась делами и пыталась сохранить осмысленность жизни. – О, да я вижу у вас прибавление! – воскликнула аптекарша. – Да. Молчание.
– Мне нужно, – сказала я, с трудом концентрируясь, стараясь сфокустровать на ней свой взгляд. – Мне нужны пелёнки для новорождённого… и двенадцать сосок… и несколько бутылочек «Матерны», пожалуйста».
– Разумеется. – Она вдруг деловито засуетилась. Не напугала ли я её? Она, наверно, подумала, что с ребёнком что-то не в порядке. Надо бы её в этом разуверить. Да, очень важно не огорчать её. – Ребёнок в порядке. Он очень красивый. – О! Я очень рада. Красив, как его брат. Деликатно нежен, как его сестра. Его сестра… моя дочь… моя Анн-Мари… О, Боже! Плач подступил к горлу, терзая его. Я выбежала из аптеки, горячие слёзы застилали глаза. Не думать об этом! Не произносить её имени! Задержать это! Но Слово уже вобрало её в себя, одело её в тёмную мантию таинственнности и неизвестности. Её сладкие глаза. Аутизм. Её нежный ротик. Аутизм. Где же она – моя маленькая, чьи глаза когда-то смотрели на меня, улыбаясь? Кто она? Моя последняя защита была разрушена на той нью-йоркской улице, и я окончательно позволила Слову войти в свою жизнь, дала Ему захватить свою дочь. Да, она больна аутизмом. И, наконец, вместе с этой капитуляцией моё упрямое, так долго сопротивлявшееся сердце, начало разрываться от боли. Всхлипывая и стеная, я пошла домой, к детям. Я должна была обнять их. Дайте же мне обнять их и никогда не отпускать. Какое зло достанет их под защитой моих рук?
Глава 4
Последующие дни были нереальными, как в кошмаре.
Нам было очень трудно не потерять счёт времени, как будто мы очутились в водовороте, урагане. Мишель родился 14 декабря. 18 декбря был поставлен диагноз Анн-Мари. Приближалось Рождество. Я помню, что мои родители и семья моей сестры Дебби приезжали навестить нас девятнадцатого или двадцатого, они привезли подарки для Дэниэля и Анн-Мари, и одежду для маленького. «Слава Богу, что хоть кто-то позаботился о подарках для детей,» – думала я. На празднование дня рождения Мишеля мы получили цветы. Кто-то прислал бутылку шампанского. Ещё кто-то прислал невообразимых размеров голубой воздушный шар с надписью: «Это мальчик!» Не переставая, трезвонил телефон: это были друзья, которые сначала поздравляли нас, а потом, шокированные, выслушивали наши неловкие объяснения про Анн-Мари; доктор Бакстер, отвечающий на мои неистовые звонки; родственники из Чикаго, из Лонг-Айленда, из Клифорнии: «Мы молимся за вас», родители Марка: «L’autisme? Qu’est-ce que c’est? C’est serieux?»
Мы не знали, что говорить людям. У нас не было информации, и мы не знали, где её искать. Мы могли сказать название заболевания, которое лишило Анн-Мари будущего, но мы практически ничего о нём не знали.
До сих пор не оправившаяся от родов, с грудью, опухшей и болевшей от частых кормлений, с глазами, сухими от бессонницы, я чувствовала, как мой мир выходит из-под контроля. Слишком много всего случилось: Рождество, новорождённый Мишель и Анн-Мари, состояние которой, как казалось, ухудшалось день ото дня. Телефон, и уход за детьми, и цветы, и аутизм. Вопросы, вопросы, вопросы… и никто не может дать ответ. Даниэль, которого надо выслушать, маленький, которого надо укачать. Рождественские огни и веселье всюду кругом, и люди, с которыми надо говорить, и обеды, которые надо готовить, и сдавленный плач поздно ночью.
Потери следовали одна за другой. Первым ушло прошлое. Весь прошедший год предстал передо мной, моим глазам открылась пугающая пропасть между реальностью этого года и нашим туманным восприятием этой реальности.
Анн-Мари была не такой, как все. Она отличалась не только от других детей, но и от той маленькой девочки, которую, мы думали, что знали. Кого мы знали? Несмотря на наши волнения, мы смотрели на неё, как на нормального ребёнка с нуждами, желаниями и даже занятиями нормального ребёнка.
Но эти занятия (сейчас мы видели их в новом свете) были такими бессмысленными, такими ненаправленными, такими странными.
Снова и снова она использовала какой-то один предмет, – например, клюв своей игрушечной птицы, – чтобы с помощью него указывать и касаться других предметов. Если она не могла найти эту птицу, то подбирала какой-либо другой острый предмет – палку или ложку – и ходила по дому, молчаливо трогая им стены, мебель, ножку пианино. Она часто подходила и подолгу останавливалась напротив камина, водя пальцами туда-сюда по решётке. В её комнате мы частенько находили её забившейся под свою кроватку, где она могла бесконечно сидеть, уставившись на маленькую пружинку на перекладине кровати. Она тянула и отпускала её, тянула и отпускала, снова и снова.
Рождество пришло и ушло. Зародился серый, не предвещающий ничего хорошего Новый Год. Я смотрела на свою маленькую девочку, и видела незнакомое дитя, которое я не могла понять.
Оторванные от своих иллюзий, мы внезапно почувствовали, что Анн-Мари, будто чужая нам. Нет, она не была просто «робкой», она не испытывала ни малейшего интереса или любопытства по отношению к кому-либо вокруг, включая свою семью. Сейчас, когда это было доведено до уровня сознания, я вдруг поняла, как должен вести себя робкий ребёнок. Она бы пряталась за материнскую юбку и осторожно выглядывала из-за неё; с опаской, она всё-таки смотрела бы в глаза чужого. Её мать была бы для неё надёжной опорой. С помощью убеждений, ласки и нежных прикосновений, она бы позволила уговорить себя выйти и постепенно сдалась бы.
Но Анн-Мари была совсем не такой. Она не была стеснительной: она просто не обращала внимания на окружающих и очень часто избегала их, и её собственная мать не была исключением. Её тянуло к пустынным местам: к углам комнат, к пространству за шторами, за креслами. Она никогда не искала меня, если я находилась в какой-нибудь другой части квартиры. Вместо этого она часами играла с одной полюбившейся игрушкой или с ковром. Когда к нам приходили гости, она, в лучшем случае, бросала на них мимолётный взгляд, а потом поворачивалась и уходила, несмотря на все попытки гостей расположить её к себе. При этом её лицо абсолютно ничего не выражало.
Нет, она не была их тех детей, которые поздно начинают говорить. В её запасе было всего несколько слов, большинство – существительные, а в последнее время мы не слышали даже их.
И ещё, она почти ничего не понимала. Очень страшно было сознавать это сейчас – сейчас, когда мы столкнулись лицом к лицу с реальностью. «Конечно, нормальные дети всё понимают,» – кляла я себя за то, что не замечала очевидного. Они так рано начинают понимать, задолго до того, как произносят своё первое слово. Скорее всего, они не понимают всё, что слышат, но такие фразы, как «купание», «обед», «Хочешь гулять?», они могут распознать. Дети наших друзей, мои племянники, Даниэль – все они обнаруживали наличие этого понимания задолго до двухлетнего возраста.
Но Анн-Мари не понимала. Напрасно, взяв её за руку, я пыталась объяснить ей что-либо, используя всё более простые слова: «Доченька, ты хочешь выйти на улицу? Хочешь погулять? На улицу? Куртка?» Ничего не срабатывало, она не реагировала даже на новые «продуктовые» слова, которыми интересовалась раньше, например, «сок» или «торт», или «печенье».
Первым, кто дал мне энциклопедическое определение слова «аутизм», был мой отец. – От греческого «ауто, авто» – сам, – сказал он. – Тот же корень, что в словах «автономный», «автоматический», что значит «самодостаточный, самонаправленный, самомотивированный». Это не было медицинское или психиатрическое определение, и оно, вообщем-то, должно было быть известно мне и раньше, но оно не было. Во всяком случае, оно как-то состыковалось с тем, что я уже знала об Анн-Мари. Для меня это приобрело форму непохожести дочери, непохожести, которая увеличивалась ужасающими темпами. По сути дела, всё сводилось к следующему: Даниэль приближался всё ближе и ближе к нам, беря от жизни, любви и познания столько, сколько его душа была способна впитать. Анн-Мари была сама по себе, она молча, мягко уходила от нас, увлекаемая таинственным внутренним миром.
Общение было не единственной проблемой дочери. Иногда казалось, что она не имеет ни малейшего понятия о своём окружении. Она не пыталась выяснить, как работает её мир: понять, что двери открываются с помощью ключей, лампы погасают оттого, что нажимаешь на кнопку, а молоко и другие вкусные вещи живут в холодильнике. Даниэль, когда ему было всего годик, уже пытался сам надеть соску на свою бутылочку. Демонстрировала ли Анн-Мари хоть какое-то понимание или запоминание тех простых свойств мира, в котором она жила? Мы не замечали почти никаких признаков этого понимания. Если она фокусировала на чём-то своё внимание, то это могли быть мельчайшие частички пыли или волос, которые она подбирала с ковра и изучала с повышенным вниманием.
Хуже того, она совсем не обращала внимания на чувства других людей. Я помню наши «разговоры» с Даниэлем, задолго до того, как он начал говорить, когда он был ещё младенцем. Я помню, как я смеялась вместе с ним, разделяла его удовольсвтие, присоединялась к его восторгу, когда он впервые увидел медведя в зоопарке Бронкса. Я помню, как он пугался внезапного шума или чужих лиц, и как он пытался спрятаться за меня, когда что-то его беспокоило. Когда Анн-Мари в течение прошедшего года разделила со мной какие-то свои чувства? Когда в последний раз она отвечала мне, общалась со мной? Если за этим скорбным личиком вообще кто-то скрывался, то он – этот кто-то – не пытался вступить с нами в контакт.
С горечью сознавала я, что дочь никогда не звала меня, никогда не произносила «мама», чтобы привлечь моё внимание.
Если на то пошло, когда она в последний раз имитировала какое-нибудь слово, повторяя его за мной.
Сейчас наши глаза были широко раскрыты, и мы, с сожалением, видели гораздо больше, чем нам хотелось бы видеть: Анн-Мари не только не говорила, у неё не было и признака таких проявлений поведения, как мимика, жестикуляция. Мы никогда не видели дочь улыбающейся, кивающей головой, пожимающей плечами. Когда-то, давным давно, она махала рукой на прощанье. Сейчас же очень редко можно было заметить у неё подобие жеста. Даже указывание на предметы, которое было характерно для неё в десять-одиннадцать месяцев, постепенно исчезало. Если ей хотелось чего-нибудь – игрушку, кусок еды, бутылку – она брала за пальцы руку ближайшего к ней взрослого и показывала ею на желаемый предмет, никогда не смотря вверх на своего помощника.
Наверно хуже всего было отсутствие основного контакта – взглядом, мы замечали его у всех окружающих детей, кроме своей дочери.
Доктор Де-Карло спросила нас о зрительном контакте, и в течение первых дней после определения диагноза мы вдруг стали обращать внимание на то, что дочь почти никогда ни на кого прямо не смотрит. Дни шли, а её состояние всё ухудшалось. В сравнении с живым, пытливым взглядом Даниэля, очень странными казались всегда опущенные вниз глаза Анн-Мари. На чём бы не останавливался её взгляд, он никогда долго не задерживался. Иногда мне казалось, что она смотрит в моём направлении. Тогда я пыталась встретить её взгляд, ответить на её призыв. Но, к моему ужасу, её взгляд фокусировался вовсе не на мне, а на какой-то точке, находящейся примерно между мной и стеной позади меня. Она совсем меня не видела! Она смотрела прямо сквозь меня!
Доктор Де-Карло спросила нас также, копировала ли Анн-Мари наше поведение. Вопрос заставил нас задуматься. Копировала ли она нас? Конечно!… Я так думаю…
Мы неуверенно посмотрели друг на друга. Если хорошенько подумать, то становилось ясно, что она никого не имитировала, не в последнее время, во всяком случае. Не могли бы мы припомнить любой недавний случай такого копирования, спросила доктор. Ну… как-то не приходит в голову… Сейчас, в первые недели после того, как был поставлен диагноз, отсутствие копирования очень бросалось в глаза. Вот ей уже почти два года, а я ещё ни разу не видела, как она поднимала телефонную трубку и «болтала». Она никогда не «помогала» мне накрывать на стол, никогда не хлопала в ладоши, никогда не брала мою щётку, чтобы расчесаться самой, никогда не надевала сама свои ботинки или шапочку. Я вспомнила, как Даниэль, в год с небольшим, попытался самостоятельно подровнять свои крохотные ноготки, с помощью моей пилки. Видимо он видел, как я это делала. Я подумала обо всех двухлетних детях, которых мне приходилось видеть, и вдруг поняла, что это именно то, что они делали: копировали. Они решали, что сегодня надо непременно наделать блинов к завтраку, высыпали муку в миску и роняли яйца на пол; кухня уже была похожа на поле боя, когда вмешивался кто-то из взрослых, и деликатно помогал детям завершить их «серьёзный труд». Дети обычно приходят в восторг, если вы просите их «помочь» вам со стиркой, они радостно бросают в машину красные футболки вместе с белыми, и пытаются высыпать всю упаковку стирального порошка в небольшое отверстие. Они «бреются» вместе с папочкой по утрам, и красятся маминой помадой вечером. Им нравится быть частью жизни взрослых. Анн-Мари любила быть одна. Эта уступка заболеванию Анн-Мари, это принятие всей гаммы необычности дочери, иногда нарушались приступами отрицания. Бывали дни, когда я сидела, молча глядя на неё, и, объятая холодным ужасом, анализировала про себя каждый момент странного, асоциального поведения. Но диагноз, поставленный доктором Де-Карло, ещё не был подтверждён кем-то ещё, и в то время ещё были моменты, когда я смотрела на прекрасное личико Анн-Мари и почти убеждала себя в том, что всё это было какой-то абсурдной ошибкой, которую допустили мы с легковерным врачом. Она не казалась умственно-отсталой. Тот, кто смотрел на неё черты, видел только хорошенькую маленькую девочку. В один из дней после вынесения диагноза доктором Де-Карло, и до последующего заключения другого врача позвонила моя мать. Всегда любящая и заботливая, она очень помогла мне пройти сквозь то сумасшедшее время. Она часами сидела у телефона, слушая меня.
– Слушай, мам, – осторожно объясняла я, – этот диагноз ставится, основываясь только на наблюдении за поведением. Не существует таких анализов крови, ультразвука или рентгена, которые могли бы с точностью определить болен человек аутизмом или не нет. Я читала описания таких детей, и до сих пор считаю, что поведение Анн-Мари не вписывается в категорию людей с этим синдромом. Она не трясётся, не кричит и не вздрагивает, когда касаешься её, она не крутит вещи вокруг своей оси и не выстраивает их в ряд. Возможно, доктор Де-Карло ошиблась. И кроме того, ты же знаешь, что это я подала врачам идею об аутизме. Может быть я послужила невольной причиной тому, что они увидели аутиста в ребёнке, просто немного отличающемся от нормы. При каких бы обстоятельствах нам не приходилось говорить, моя мама всегда выслушивала всё, что накипело у меня на душе. Она разделяла мои разочарования и надежды, не слишком навязывая своё мнение. Только однажды она ненавязчиво с грустью поправила моё излишне оптимистическое замечание насчёт Анн-Мари.
– Ты знаешь, – сказала она, вздыхая, – нам с папой показалось, что она была очень себе на уме, когда мы гостили у вас. Мне оставалось только промолчать в ответ, так как я прекрасно понимала, что выражение «себе на уме» было очень аккуратным, даже снисходительным описанием поведения Анн-Мари. С нашей стороны было очень наивно полагаться на помощь профессионалов. Я искренне считала, что, едва узнав о нашей беде, наш педиатр встанет на защиту дочери, как рыцарь-избавитель и скажет, что нам делать.
– О, так всё-таки диагноз – «аутизм»? – представляла я его слова. – В таком случае вам немедленно надо показать её доктору А и доктору Б, и, не откладывая, начинайте такое-то лечение. Вот вам план действий, а вот список специалистов, с которыми вам желательно связаться. Я буду заниматься вашими делами; посылайте мне все справки и заключения. Для нас он был властью. В конце концов, он занимался всеми остальными медицинскими проблемами Анн-Мари. Увы, мы очень скоро разочаровались в своих иллюзиях. Я написала ему длинное письмо, в котором трогательно описала все «за» и «против» о наличии аутизма у Анн-Мари. Я ждала телефонного звонка в надежде, что врач по достоинству оценит мои упражнения в логике и справедливо рассудит, что да, налицо случай неправильного определения диагноза. Или, опровергнув это, подскажет, что нам делать. Наконец он позвонил, усталый после дня, занятого ушными инфекциями, простудами, свинкой и ещё, насколько я знала, необратимыми случаями детского рака.
– Я прочитал заключение доктора Де-Карло, – сказал он. – Доктор Де-Карло считает, что у девочки аутизм. – Да? И что теперь? Вы подтверждаете этот диагноз? – Как вам сказать, – ответил врач, – мы не исключаем эту возможность. Да! Мы обсуждали это, и вы отвергли этот вариант! У меня чуть не вырвался крик протеста, но я промолчала. Какой смысл спорить о прошлом? Мне нравился доктор Бакстер, и я не искала с ним ссоры. Он был добрым, внимательным врачом, и я очень уважала его за здравый смысл и профессиональные знания. Я не могла понять, почему он так отдалился от нас во время этого кризиса, который был гораздо серьёзнее всего, что нам пришлось пережить до того, включая астму Даниэля. Его голос по телефону звучал натянуто, отдалённо, официально. Да, мы обсудили эту возможность, а доктор Де-Карло превратила её в реальность. Нет смысла спорить. Нет смысла кричать от страха.
Доктор Бакстер продолжал. Он посоветовал мне посмотреть телепередачу под названием «Где-то Там». Кажется, в программе участвовал подросток-аутист. Он порекомендовал мне смотреть её, чтобы составить себе понятие, что такое аутизм вообще. И это всё что, он мог мне сказать? Поймите, что это такое, и начинайте привыкать?
Но у меня ещё не кончились вопросы. Я хотела спросить о том, что давно волновало меня, и это касалось будущего Анн-Мари. – Вы считаете, что ей придётся жить в специальном заведении? – Есть дети, которые нуждаются в подобной опеке, когда становятся старше. – Понимаю. Что… что же мы можем для неё сделать? – Я не уверен в том, что можно что-то предпринять прямо сейчас. Но я не теряю надежды. Я думаю, что через десять, может быть, двадцать лет, будет найдено средство, способное помочь таким детям. Посмотрите что стало, например, с людьми, страдающими от маниакальных депрессий после того, как был обнаружен новый препарат.
Я аккуратно положила трубку. Понятие надежды у доктора и у меня различались, как небо и земля. Его не имело ничего общего с реальностью. И если бы я хотела, чтобы мне объяснили, какова роль врача в происходящем, никто бы не смог сделать это лучше его самого. Он ясно дал мне понять, что это была не его проблема, а наша.
Когда ставится диагноз «аутизм», принято проконсультироваться как минимум у трёх, четырёх или даже пяти специалистов, чтобы удостовериться в правильности предположения. Нормальный ребёнок может показаться «закрытым» одному врачу, а на следующий день, на приёме у другого доктора будет вести себя раскрепощённо и коммуникабельно. Профессионалы обычно предпочитают быть на сто процентов уверенными в правильности поставленного ими диагноза, прежде чем произносят слово «аутизм» в разговоре с родителями. Психиатры и психологи не стремятся угодить под суд за нанесение морального ущерба из-за неправильно определённого диагноза.
Более того, поставить диагноз такому маленькому ребёнку, как Анн-Мари, было делом особенно деликатным. С одной стороны, многочисленные симптомы болезни не могут проявиться так чётко, как, например, у четырёхлетнего ребёнка. С другой стороны, в этом возрасте отсутствие речи у ребёнка не является само по себе признаком аутизма. Многие двухлетние дети не обладают богатым лексиконом и не выказывают особой общительности. Для того, чтобы окончательно утвердить диагноз, необходимо наличие других симптомов и заключение нескольких специалистов. Анн-Мари всё-таки была ещё совсем крошка, и доктор Де-Карло настоятельно советовала нам показать её другим врачам.
Доктор Берман из психиатрического отделения Нью-Йоркской больницы Пэйн Уитни, был рекомендован нам одной знакомой, которая слышала, что этот врач был «новоявленным светилом», «одним из самых лучших в своей области». (Как часто в течение этих невесёлых месяцев нам приходилось слышать утверждение ne plus ultra. «Доктор Смит – самый лучший!» «Как, разве вы не слышали о докторе Джонсе?» «Обязательно покажите её доктору Брауну. Он – первый в своей области.») Так, однажды вечером мы отправились проверить, сможет ли «новоявленное светило» чем-то помочь нам и Анн-Мари.
Когда мы шли по дорожке к дверям больницы Пэйн Уитни, я замедлила шаги. Как же так случилось, что мы оказались в этом месте, в это время? – Что случилось? – спросил Марк. – Я не хочу туда идти. Неужели мы ведём нашу малышку в психиатрическую лечебницу?
– Понимаю, – ответил Марк, зная, что мой протест был не более, чем риторическим, это был крик отчаяния.
После часовой беседы с нами доктор Берман откинулся в своём кресле. Было заметно, что врач колебался. Мы едва дышали, ожидая его вердикта.
Вердикт, однако, был неоднозначен. Сначала он сказал, что девочка больна аутизмом, потом стал доказывать обратное. В конце концов она была ещё очень маленькая. Но так или иначе в её поведении проявлялись некоторые признаки болезни, а также было очевидно отставание в развитии, что заставило его сомневаться.
Потом он с дружеским расположением добавил: «Я мог бы сказать то же самое, не беря с вас двести пятьдесят долларров за своё мнение». Чуть позже доктор попросил нас выйти из комнаты, Анн-Мари осталась с ним наедине. Он не потрудился объяснить нам, для чего это было нужно. Возможно он хотел проверить, как девочка поведёт себя в отсутствие родителей, но меня беспокоило то, что он никак не комментировал свою просьбу. Я отрицала такого рода патернализм ещё с того времени, когда мы с Марком столкнулись с проблемой выкидышей. Но тут дело было в другом: обеспокоенные, мы, будто, возвращались к старой роли послушных пациентов, которые выполняют всё, что врач прикажет, безоговорочно принимают все его слова. Примерно через четверть часа нас пригласили войти в кабинет, где мы нашли Анн-Мари за спинкой кресла. Доктор не счёл нужным что-либо объяснить, разговор продолжился, как будто ничего не произошло. – Что же такое аутизм? – спросили мы. Врач пустился в рассказ об истории изучения заболевания. «В 1943 году Лео Каннер идентифицировал его, как синдром, который он наблюдал у группы детей, первоначально считавшихся больными шизофренией… Этот синдром характеризуется определённым набором особенностей поведения… такими, как чрезмерное стремление к одиночеству и низкий уровень развития речи (вплоть до полного её отсутствия)… Никто до сих пор не знает, что является причиной заболевания, но за долгие годы, – шутливо подытожил доктор Берман, – у психиатров и психологов было с ним немало хлопот.» Мы, молча, смотрели на него. Отсутствие сочувствия у этого человека мы ещё могли понять: всё-таки после двадцати пяти лет работы, после сотен диагнозов аутизма, наверно, невозможно переживать за своих пациентов. Но даже если бы мы очень постарались, то не могли бы заставить себя шутить с ним. – Итак, если она больна аутизмом, что мы должны делать? Он сообщил нам, что прямо в Пэйн Уитни находились лечебные ясли. Он не знал, сможем ли мы попасть туда сразу, но сказал, что если мы поговорим с миссис Петерс, то она, пожалуй, возьмёт девочку следующей осенью. – Следующей осенью?! – наша с Марком реакция была одинаковой. Мы не интересовались следующей осенью, нас беспокоило то, что происходило сейчас. Как бы невежественны мы не были в отношении аутизма и его лечения, мы до сих пор верили в то, что надо было немедленно начать что-то делать с Анн-Мари. Ведь доктор Де-Карло посоветовала начать терапию, не дожидаясь окончательного заключения по поводу диагноза. А до следующей осени оставалось ещё девять месяцев. И чем конкретно они занимались в этих «лечебных яслях»? – Гм… кажется, у них есть несколько психологов и психиатров… а также социальный работник… За прогрессом детей тщательно наблюдают… Они регулярно оцениваются специалистами… Я спросила про лечение, а услышала про персонал. Кипы оцениваний, наблюдений и отчётов по улучшению. – Но что они делают? – повторила я, – в чём заключается суть «терапии»? И снова мы не получили однозначного ответа. Честно говоря, казалось, что доктор понятия не имел о том, что происходило в том отделении клиники. Он предложил нам поговорить с миссис Петерс, социальным работником, и как-нибудь посетить ясли.
Я так и поступила. Я пришла туда с Анн-Мари, два дня спустя. Там меня приветствовали три женщины, одна из которых была воспитательницей в яслях, другая – психиатром, а третья была миссис Петерс. Они не много говорили, за исключением миссис Петерс, которая отвела меня в боковую комнату, где долго расспрашивала о наших проблемах. Психиатр стала наблюдать за Анн-Мари, которую воспитательница взяла за руку и повела по комнате, пытаясь поиграть с ней.
Всё-таки я хотела чётко определить, чем занимались в яслях. Была ли там специальная программа для детей-аутистов? Был ли обеспечен индивидуальный подход к ребёнку? Были ли определены конкретные цели для каждого отдельного ребёнка? Каких именно результатов пытались добиться там? По большому счёту я хотела выяснить следующее: что они могли дать моей дочери, чего она не получала или не могла получить дома? Какая польза была от всех их учёных степеней для Анн-Мари? И каков бы ни был их опыт, могли ли они научить меня тому, что помогло бы дочери. Всё равно большую часть времени ей предстояло проводить со мной.
Их ответ разочаровал меня. По сути дела, они обещали обеспечить несколько часов в неделю любви, понимания и «принимания», а также горы бюрократии, и периодические громко звучащие «конференции», где любой прогресс будет «фиксироваться».
Я поблагодарила их за время, уделённое нам, и вышла. Первое решение было принято: Анн-Мари не пойдёт в лечебные ясли Пэйн Уитни.
Глава 5
В отличие от доктора Бермана, который до сих пор сомневался в правильности диагноза Анн-Мари, мы потеряли всякую надежду на то, что он ошибочен. Состояние дочери явно ухудшалось день ото дня. К середине января она даже перестала поднимать голову, когда кто-нибудь входил или выходил из квартиры. Часто, сидя на полу, она смотрела на мелкие пылинки, подносила их к глазам и долго разглядывала, словно под гипнозом. Она отрывала ворсинки с ковра, нитки с мебели или волосы с куклы, а потом накручивала их на пальцы и с увлечением рассматривала. В другой раз она ритмично сталкивала перед собой два предмета, заинтересованная сочетанием звука и картинки (?).
Её занятия становились всё более странными. Я почти в панике наблюдала за тем, как она сотрировала части мозаики «пазл», а потом раскладывала их по парам, всегда под прямым углом друг к другу, и неотрывно смотрела на них. Ну пожалуйста, детка, ради Бога, не делай этого! Почему ты это делаешь?
На Рождество мы подарили ей игрушечного медвежонка. Мы надеялись, что она будет обнимать и гладить его, как любой нормальный ребёнок. Вместо этого у неё появился странный ритуал: она снова и снова протаскивала медвежонка через нижние перекладины стула.
Её поведение также становилось всё более необычным. Ещё с того момента, когда дочь сделала свой первый шаг, она иногда ходила по дому на цыпочках. В последнее время это стало её постоянной привычкой. Кроме того, однажды я заметила у неё новую особенность в поведении: девочка, как всегда, сидела на полу с мечтательным выражением лица, как вдруг она вытянула шею и заскрежетала зубами. При взгляде на такое я с трудом удержалась, чтобы не закричать от ужаса. Меня переполняло сознание собственной беспомощности. Иногда я даже замечала, что тихонько постанываю, глядя на какую-нибудь новую странность.
Однажды утром безо всякой причины Анн-Мари подняла обе руки и стала бить ими себя по лицу: один, два, три удара последовало до того, как я в страхе кинулась к ребёнку, и отняла руки от лица.
Нам всё труднее становилось завоёвывать её внимание. Она либо проводила бесконечные часы, уставившись на что-то в своих руках, либо бесцельно слонялась из комнаты в комнату, обращая внимания не на людей, а на вещи.
Сколько времени прошло с рождения Мишеля? Несколько недель? Казалось, что прошла целая жизнь. Дни превратились в череду длинных пустых часов, которые надо было прожить с неумолимой определённостью. Было очень важно держаться всем вместе, делать то, что я должна была делать для всех троих детей. Я была их матерью, и они нуждались в моей заботе и любви. Я старалась не плакать слишком много в течение дня: не хотелось пугать Даниэля.
Однако, одним утром, он пришёл ко мне в спальню и застал меня в слезах. Он остановился испуганный. Мамы не должны плакать. Его тёмно-карие глаза тут же наполнились слезами. – Мамочка, ты плакаешь? – Да, милый, но сейчас уже всё прошло. Он стоял передо мной, пытаясь понять и облечь в слова то, что чувствовал. Я не могла представить, как он воспринимал окружавшую его атмосферу кризиса и страха. Мы постоянно ходили куда-то, взяв с собой Анн-Мари, говорили о ней по телефону, фокусировали на ней всё наше внимание. Это становилось похоже на манию. Даниэль до поры до времени казался достаточно довольным и спокойным, но я знала, что он был очень чувствительным и ранимым ребёнком. Я ждала, пока он заговорит. – Мамочка, ты ходить к доктору? – в его голосе была тревога. – Да. – Ты брать с собой Аммави? – Да. – Аммави заболела? Я встала на колени и взяла его руки в свои. – Она выздоровеет, мой сладкий. Не волнуйся. Мама и папа всегда будут с тобой, и Анн-Мари, и Мишелем.
Он улыбнулся мне, счастье снова восстановилось в его мире.
Я переживала за Даниэля. Надо было слишком много всего сделать, столько всего выяснить и обдумать в течение дня, поэтому совсем не было возможности проводить с мальчиком всё утро или день и отвечать на сотни вопросов трёхлетнего почемучки.
Хуже того, бывали моменты, когда малыш плакал, Анн-Мари стояла в углу, делая нечто странное, звонил телефон и Даниэль хныкал и сердился на меня. В такие минуты, я была опасно близка к тому, чтобы накричать на него. Я чувствовала, как вспышка гнева разрастается у меня в груди, вот, она доходит до моего рта, щеки, и горло, будто стягивается железными ремнями.
– Отстань от меня, – хотелось мне закричать на сына, – перестань задавать столько вопросов! Перестань без конца цепляться за мою юбку! Я не могу! Я не в силах думать ещё и о тебе сейчас!
Я научилась распознавать такие моменты и заставляла себя избегать их – уходить в свою комнату и закрывать дверь, включать телевизор, чтобы мультфильм отвлёк Даниэля, – делать всё, что могло купить несколько минут тишины и покоя, в течение которых я могла взять себя в руки. «Ты этого не сделаешь! – приказывал внутренний голос, собирая остатки рассудка, – ты не выдашь своей паники и не поднимешь голоса на ребёнка.»
Но во мне кипел гнев, и это не давало мне покоя. Я постепенно превращалась в вечно недовольного лунатика. Во мне было зло, и поэтому другое зло овладело мной. Только злая женщина может сердиться на собственного ребёнка.
Необходим был какой-то перевес, какая-то защита против опустошающей ненависти к себе, против горя, гнева, беспомощности.
Надо было научиться успокаиваться, компенсировать силы, хоть немного. Каждый день я старалась выделить хоть несколько минут, чтобы побыть наедине с Даниэлем. Эти моменты были коротки, но я старалась сделать их как можно более наполненными и умиротворёнными. За неимением другого выбора мне пришлось пересмотреть своё понятие «времени с пользой».
Мы уходили в мою комнату, в то время, как Пэтси или Марк могли заняться другими детьми. Я закрывала дверь и пыталась отключиться от мрачной повседневности для того, чтобы направить своё внимание только для радостей, забот и вопросов моего маленького сына. Мы читали книжки или говорили о чём-то, что интересовало его. Я всегда старалась обнимать и гладить его как можно больше, зная, что за день я одёргивала его гораздо чаще, чем он того заслуживал: «Не сейчас, Даниэль», «Позже», «Я это сделаю через минуту», «Мы будем печь печенье завтра», «Тихо! Мама разговаривает по телефону».
Эти светлые моменты, проведённые с Даниэлем, были, как бальзам на рану, нанесённую моему самоуважению.
По секрету от самой себя больше всего на свете мне хотелось быть хорошей матерью: терпеливой, любящей и нежной, знающей, как формировать и направлять юную жизнь, как мудро и правильно её воспитывать. Несмотря на то, что я воспринимала работу, как радость и с большим трудом достигнутое право, которое должно быть доступно каждой женщине, я знала, что если бы мне было предложено выбрать, какой дорогой пойти, то я, не колеблясь, предпочла бы карьере счастье быть с детьми. Мне не раз уже приходилось сталкиваться с полушоковой реакцией, вызванной нашим решением иметь троих (троих!) детей, да ещё и близких друг к другу по возрасту. На улицах Верхне-Восточной части Манхэттэна мне случалось слышать немало удивлённо-критических замечаний от прохожих, часто сделанных далеко не самым любезным тоном, при виде беременной женщины с двумя маленькими детьми. «Общественный контроль рождаемости», – называла это явление одна моя подруга. Это было что-то вроде полуобморочного ужаса, преобладающего среди рафинированной публики. На коктейлях и приёмах я научилась не принимать близко к сердцу снисходительность двадцатипятилетних особ в нарядах от Армани и обуви от Гуччи, карабкающихся изо всех сил по лестнице карьеры, и не тушеваться при вопросе, который был квинтэссенцией Нью-Йоркской жизни: – Чем вы занимаетесь? (Перевод: «Насколько вы привлекательны, престижны и влиятельны?») Ответ (намеренно немного провокативный): «Я – мать». – О! (Оцепенение. Как интересно. Как смело и благородно. Как скучно). Я полагала, что после того, как родился Даниэль, и я не без труда привыкла к образу жизни неработающей матери, я обеспечила себе приятное существование в зелёной долине жизни, где можно быть в миру с самой собой и своим выбором. Я была матерью – не без недостатков, но всё-таки хорошей матерью. Я смирилась с тем, что скука, одиночество и беспорядок были моими частыми гостями, но в то же время умела находить утешение в маленьких ежедневных радостях и победах.
Сейчас, мой налаженный жизненный механизм был выведен из строя. В те дни я очень остро чувствовала, что не могу наладить контакта с детьми, и это касалось не только Анн-Мари, но и Даниэля с Мишелем тоже. Что-то было не в порядке, и я постоянно сопротивлялась ощущению, что я не справляюсь с ролью матери. Я с трудом удовлетворяла нужды и просьбы своих здоровых детей и была совершенно беспомощна перед моей больной девочкой.
Так, тот час, проведённый с Даниэлем был очень ценен для меня. Возможно, что для меня он был даже важнее, чем для Даниэля. Я слушала его лепет, любовалась им, обнимала и ласкала его. В твоих глазах столько счастья, сынок! Не думай о грустном, ничего не бойся. Мы вместе, и ты счастлив.
Также, во время этого зловещего периода, у меня появилась техника по выживанию и по отношению к моему новорожденному сыну. Я была физически истощена, так как малыш не имел привычки спать долее, чем три часа подряд, будь-то днём или ночью. Он просыпался всегда голодный, и сразу начинал громко плакать, пока его не брали на руки или не давали ему поесть. По ночам я ставила его колыбель рядом с нашей кроватью, и стоило ему проснуться, как я сонно вынимала его из колыбели и клала рядом с нами на кровать. В течение дня я механически ухаживала за ним: кормила, купала, меняла пелёнки, в то время как мои мысли разбредались в тысячах разных направлений, тревожно пульсируя во всём моём теле.
Но потом обязательно наступало время, когда Даниэль и Анн-Мари мирно спали в своих кроватках, а у Мишеля сна не было ни в одном глазу. Тогда я подходила к его колыбели с желанием взять его на руки, пообщаться с ним. При звуке моих шагов, он поворачивал головку в мою сторону и его лицо, я это видела, вмиг освещалось радостью – это было его первым подарком, преподнесённым мне. Когда я брала его на руки, аккуратно поддерживая маленькую головку, его глаза удивлённо смотрели на меня, такой взгляд бывает только у младенцев в первые недели их жизни.
Я заставляла себя наслаждаться этими моментами, несмотря на то, что падала с ног от усталости. Я поднимала малыша, вдыхала его чистый сладкий детский запах и дотрагивалась своей щекой до его удивительно мягкой кожи. Его маленькие кулачки были сложены у него на груди. Всё его тело могло поместиться в одной моей ладони, настолько он был маленький.
Я нужна тебе, мой самый маленький. Спасибо тебе за это. Спасибо за то, что даёшь мне кормить тебя молоком, давать тебе своё тепло и любовь. Я обнимала его, пока он ел (?), и снова, как с Даниэлем, я утешалась тем, что он давал мне. Теперь его глаза были полузакрыты, и тело полностью расслаблено. Скоро он уснёт, тёплый и сухой, накормленный и любимый. Если ты заплачешь, я утешу тебя, если холодно – согрею. Я нужна тебе, ты нужен мне. Когда я обнимаю тебя/Моё сердце тает от любви/ Которая давно уже покинула этот мир. Мой Мишель. Обопрись на меня своей хрупкой головкой, и я защищу тебя от любого зла.
Но если от Даниэля и Мишеля исходили как стресс, так и утешение, то Анн-Мари была постоянным источником тревоги и боли. Она уходила в мир теней, и я не знала, как можно было её позвать. С каждым днём она казалась всё более погружённой в себя, в свой мир мечты, где она скиталась в одиночестве. Мы теряли её.
– Ты помнишь, как она когда-то говорила мне «Привет, папа!»? – сказал Марк однажды вечером.
Когда это было? Неужели она в самом деле была такая дружелюбная и общительная, неужели она когда-то была привязана к нам?
Мы попытались отследить момент в прошлом, когда она стала уходить в себя. Мы достали альбомы с фотографиями и видеозаписи и потратили вечер на их изучение, пытаясь что-то выяснить для себя.
Мы нашли несколько фотографий, где Анн-Мари – совсем ещё крошка – улыбалась прямо в объектив фотоаппарата, но чем старше она становилась, тем реже она смотрела на снимающего её человека, улыбаясь куда-то в сторону.
Мы также просмотрели видеозапись нашего отпуска в Испании. Всех детей собрали на пляже, чтобы сделать групповой снимок. Марк снимал на видеокамеру, а другой родственник фотографировал.
Анн-Мари, единственная из всех детей, начала плакать, когда их стали собирать в группу. Тогда мы думали, что она чем-то расстроена – чем именно, мы, разумеется, не могли знать. Может быть она устала, а может быть неловко чувствовала себя в окружении такого количества двоюродных сестёр и братьев. Возможно её беспокоил шум и беготня? Когда всё закончилось через несколько минут, она сразу же успокоилась.
Сейчас мы внимательнее присмотрелись к образу дочери на плёнке и почувствовали холодный укол прозрения. В тот короткий момент она была не «расстроена», она была до ужаса напугана: она протягивала руки в сторону, как будто хотела убежать; рот был открыт, из него был готов вырваться крик. – Ты видишь это? – едва слышно спросила я Марка. – Да. Я взала в руки несколько полароидных фотографий. Дети играли на площадке перед музеем Метрополитэн. Даниэль забавно пожимал плечами, засунув руки в карманы, он смеялся прямо в камеру. Анн-Мари сидела в своей коляске, ноги безвольно болтались, глаза смотрели в пол, кончики рта были опущены вниз.
Мы чувствовали себя непростительно виноватыми за то, что не заметили сразу, что Анн-Мари начала отдаляться от нас. Как мы могли ходить в ресторан, поехать на свадьбу Дениса во Францию, делать что-либо, в то время как с дочерью творилось нечто страшное? Как могли мы жить с ней в одном доме и ничего не замечать? Врачи, с которыми мы встречались, уверяли нас, что мы забили тревогу довольно рано, по сравнению с большинством случаев, когда диагноз ставится только в 4-5 лет, после того, как обнаруживается, что дети не в состянии находиться в яслях или детском саду. Но у нас было ощущение, что мы предали свою дочь. Мы не увидели этого в течение года, мы не прекратили этого раз и навсегда в самом начале, что бы «это» не значило.
Проблема была в том, что «этим» сейчас была наша дочь. Она «была» аутистом, как кто-то «является» мужчиной или женщиной, низким или высоким. Это было не похоже на те случаи, когда ребёнок болен раком, или СПИДом, или другой ужасной болезнью. Я ни в коем случае не хочу преуменьшить боль этих трагедий, или сказать, что такие болезни легче переносятся – на семьях, переживших такое жестокое невозможное горе, лежит особый груз. Я имею ввиду то, что аутизм овладел самой сущностью Анн-Мари. Нельзя сказать, что у неё был аутизм, она сама была аутистом. Она уже была такой чужой, такой отдалённой. Теперь в её глазах не было никакого проблеска, когда она скользила по нам взглядом, улыбка узнавания не пробегала по её лицу. Мы не могли распознать в ней личность. Сейчас она была холодной и равнодушной. У меня было ощущение, будто я держу её только кончиками пальцев. С каждым днём всё менее заметным становился трепет её души, «медленно сгущавшиеся сумерки, как опускавшиеся шторы».
Мой судорожный сон был отмечен ежедневными кошмарами. Анн-Мари в тёмном лесу, Анн-Мари одна в пустом доме, Анн-Мари, забытая в машине. Однажды мне приснилось, что мы все были на пляже и играли с летающей тарелкой. Я испытывала нарастающий страх, поскольку знала, что должна удержать всех троих детей, иначе их унесёт течением. Даниэль цеплялся за мою ногу, одной рукой я обнимала маленького, а другой держала Анн-Мари за руку. Вдруг её ладонь выскользнула из моей. Она была под водой! Я не могла найти её! Я задыхалась и кричала. Моя свободная рука скребла по океанскому дну, пытаясь нащупать её тело. Радость моя! Где ты? Кричала я. Я проснулась в холодном поту, дрожа от страха.
У Анн-Мари тоже был неспокойный сон. Одной из возможных особенностей синдрома было нарушением у ребёнка ритма сна и бодрствования, он становился произвольным и непредсказуемым. Она спала всё меньше и меньше. Иногда я вставала ночью, чтобы проверить, как она, и в два часа ночи находила её с открытыми глазами, она молча смотрела прямо перед собой.
Как-то раз она проснулась посреди ночи и заплакала – было ли это от страха? Может быть ей приснился кошмар? Я выскочила из кровати и побежала к ней в комнату. Если что-то её испугало, я хотела утешить её. Я подошла к кроватке, чтобы взять девочку на руки. Её тело задеревенело, она стала сопротивляться моему обьятию и повернула голову к стене. Затем медленно, уставившись в пустоту, она заползла под одеяло и натянула его себе на голову.
Утро не приносило облегчения. Она никогда не звала меня. Она даже перестала лепетать и шумом привлекать к себе внимание, чтобы кто-нибудь подошёл к ней и вынул её из кроватки. Она равнодушно сидела в постели, пока я не подходила, чтобы переодеть её. Однажды утром мы с Марком зашли к ней в спальню. Она стояла там, вперив взгляд в стену. – С добрым утром, сладкая моя! – позвала я. Она даже не повернула головы в нашу сторону.
Неожиданно для себя я опустилась на пол, спиной к стене.
– Это не Анн-Мари, – прошептала я. – Я не должна больше любить её, так как она не Анн-Мари. – Я была очень сердита. Вот. Она отталкивает меня; я тоже отталкиваю её. Я была очень спокойна и рассудительна. Так лучше. Это холодное равнодушие принесло облегчение. Это лучше, чем кружить, как раненый зверь, сходя с ума от боли. Я на самом деле не должна больше заботиться об этом странном ребёнке, так как она не моя Анн-Мари.
Это враждебное оцепенение продолжалось несколько часов. Потом оно было разбито вдребезги налетевшим, как шторм, горем, которое было тем тяжелее, что я пыталась игнорировать его. Нет, я никогда не смогу отвернуться от своей дочери. Она заблудилась в своём неведомом мире, и я не могла проникнуть в её чувства, но знала одно: она не была счастлива там. Мне было достаточно только взглянуть на её скорбное личико, на опущенные вниз уголки рта и на пустые глаза, чтобы понять, что где-бы не находилось сейчас это двухлетнее существо, это место не было хорошим и радостным. Моё счастье и спокойствие были неразрывно связаны с ней. У нас было общее будущее. Когда она всё дальше и дальше удалялась в этот тёмный лес, она несла в своих руках моё разбитое сердце. Никаким движением воли или разума я не могла бы приказать своему сердцу оторваться от неё. Она заблудилась, она была одна, и она не знала, как найти дорогу к нам. Я не могла отвернуться от неё.
Что если, – рыдала я на плече у Марка, – что если она больше никогда не будет любить нас?
На мгновение он задумался. – Мы научимся любить, не получая любви в ответ, – сказал он. – Но если она будет страдать до конца своей жизни? И снова он ответил так, будто уже не раз обдумывал этот тяжёлый вопрос. – Она не будет страдать. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы обеспечить ей хорошую жизнь.
Только с Марком я могла позволить себе дать волю слезам. В течение дня страх и боль копились во мне, и к вечеру я с трудом держала себя в руках. Каждый вечер он входил в дверь, и я делилась с ним снедающей меня тревогой. Ночью, он обнимал меня, и я, сотрясаемая рыданиями, выплёскивала на него всю дневную порцию боли. Он слушал меня, обнимал меня, скорбил вместе со мной. Он ничего не обещал, так как ему нечего было обещать, кроме своей преданности. Мы пройдём через это вместе, мы будем держаться друг за друга, что бы не случилось.
Глава 6
Мы очень много читали: книги, статьи – всё, что только могли достать. К этому моменту мы уже не надеялись найти в литературе какое-то чудодейственное лекарство, но всё-таки стремились узнать как можно больше о заболевании. Мой стол и тумбочка у кровати были завалены грудами книг и статей об аутизме. Я штудировала медицинские тексты, чтобы понять, что происходит с Анн-Мари, взглянуть на мир её глазами.
Часть материала представляла собой полуанекдотические истории из жизни детей-аутистов и их семей. Всё остальное можно было разделить на две категории: «руководства» и «описания». Руководства были предназначены для родителей и воспитателей. Их целью было дать понять читателям чего следует ожидать от ребёнка-аутиста, а также предложить советы о том, как «справляться со специфическими нуждами ребёнка». Для меня всё это означало безнадёжность и отказ от борьбы. Я не хотела знать, как «справляться» со сконностью ребёнка ранить себя; я хотела узнать, как избавиться от этой склонности раз и навсегда. Я не хотела знать о возможности отправить ребёнка в специальный саноторий, когда он станет старше; я хотела узнать, как сделать так, чтобы дочь росла рядом со мной, как сделать её здоровой и счастливой. Смысл этих книг был в следующем: чему быть, того не миновать, следовательно, надо приспосабливаться. Название одной книги гласило: «Аутизм – кошмар, которому нет конца».
Описательные книги и статьи, предназначавшиеся для профессионалов, анализировали симптоматику заболевания со всех возможных точек зрения. Биохимичский и неврологический, психологический, социальный и лингвистический аспекты были описаны, категоризованы и рекатегоризованы. Мы видели в этом лишь бесконечное запутывание одной неразрешимой проблемы, детальный анализ тысяч составляющих информации, гигантскую мозаику, в которой отдельные кусочки сочетаются друг с другом, но до сих пор не видно большой картины.
Кто-то потратил год на изучение одного отдельного аспекта одного отдельного симптома: эхолалии, которая характерна для речи некоторых детей-аутистов. При каких обстоятельствах наблюдаемый повторял чужие слова, как попугай? Что привело к усилению эхолалии? Что привело к её уменьшению? Была ли перестановка существительных, – например, «ты хочешь яблоко» вместо «я хочу яблоко» – признаком эхолалии?
Кто-то изучал роль определённой группы нейротрансмиттеров в аутизме. Другой исследовал редко встречающиеся примеры состояний сна и бодрствования у больных аутизмом. Также было сделано открытие об уровне серотонина в крови. У одной исследуемой подгруппы детей-аутистов было обнаружено хромосомное отклонение, получившее название «синдром хрупкого Х». Многие страницы были посвящены диагностическим критериям и бесконечным попыткам найти новые, более точные и «застрахованные от ошибок» контрольные признаки для выявления болезни.
Очевидно, часть этой информации представляла собой кирпичики, из которых через десять-тридцать лет будет построена цельная структура: общепринятая обоснованная теория о природе, причинах и даже способах лечения аутизма. Биохимическое исследование, хоть и находилось ещё в самом начале своего развития, давало надежду на такой исход.
Для нас же вся эта информация была совершенно бесполезной. Ни одна книга ещё ничего для нас не изменила. Всё, что мы читали в эти первые дни нового года, только усиливало ощущение безысходности и укрепляло уверенность в неизбежности диагноза. Мы стали узнавать Анн-Мари во всех клинических текстах.
Мы узнали, например, что не было двух похожих друг на друга детей-аутистов: если один любит возить руками по гладкой или шершавой поверхности, то другой отказывается дотрагиваться до чего бы то ни было пальцами – позже Анн-Мари стала прятать пальцы и не хотела трогать или держать в руках вещи. Если один ребёнок говорил или бормотал, не закрывая рта, то другой тихо сидел, уставившись в пустоту. Если один постоянно раскладывал предметы в ряд, то другой смотрел на лампочки или хлопал в ладоши, поднеся их к глазам, или перебирал пальцами по каминной решётке.
Это всё были различные типы «самостимуляции» – странной маниакальной склонности к стимуляции одного из органов чувств – осязания, вкуса, зрения или слуха.
Для некоторых детей была характерна дрожь во всём теле; для других – нет. Исследователи полагали, что все эти действия были своеобразной попыткой компенсировать ощущение неполноценности в движении и равновесии. Хождение на цыпочках, скрежет зубами и хлопанье в ладоши были частыми симптомами.
Действия, неоднократно совершаемые ребёнком, за исключением любого общения, назывались «повторяемыми действиями», а если они становились очень частыми, то перерастали в «стереотипные ритуалы». Я думала о поведении, которое наблюдала у Анн-Мари много раз; причём оно беспокоило меня ещё до того, как был поставлен диагноз. Она брала в одну руку свою игрушечную птицу, в другую – одну из детских книг «Золотой серии». Книгу она переворачивала вверх задней обложкой, на которой были изображены маленькие фигурки зверей, как бы бегущих по периметру. Клювом своей птицы она торжественно касалась каждой фигурки. Она всегда начинала с верхнего правого угла обложки, медленно спускалась вниз, поворачивала, шла по низу, снова поворачивала и поднималась вверх по другой стороне. Помню, как однажды я сидела и наблюдала за ней, теряясь в догадках, что бы это значило… Но тогда я ещё не слышала о таком понятии, как «стереотипный ритуал».
Мы также узнали, что многие особенности поведения, характерные для аутистов, – такие как, например, хождение на цыпочках, хлопанье в ладоши и дрожь в теле – встречались и у нормальных детей. Однако у здоровых детей, эти особенности появлялись в очень раннем возрасте, а потом постепенно исчезали. У детей-аутистов они не были преходящими – на каком-то этапе эти особенности фиксировались и со временем преобладали в поведении ребёнка. Нам стало ясно, почему неинформированному родителю было так трудно «увидеть» аутизм в ребёнке возраста Анн-Мари. Многие тревожные особенности поведения, которые начали проявляться у дочери после того, как ей исполнился год, мы наблюдали и у других детей на том или ином этапе. Было очень удобно думать, что если такое поведение характерно для нормальных детей, то и Анн-Мари была абсолютно нормальной, ведь мы так хотели в это верить.
Один момент, который особенно смущал и огорчал нас, относился к самому раннему, «нормальному» периоду развития. Она говорила раньше, а теперь нет. Куда исчезли все слова? Неужели изначально она была здорова? Возможно наличие речи в прошлом указывает на то, что и сейчас у девочки есть языковой потенциал?
Мы узнали, что дети-аутисты подразделяются учёными на несколько категорий в зависимости от возраста, в котором впервые проявилось заболевание. Некоторые дети в течение какого-то времени ничем не отличаются от своих сверстников, но рано или поздно, чаще всего около восемнадцати месяцев, их развитие замедляется, а потом и вовсе прекращается, уступая место заболеванию. Другая группа – это дети, у которых отклонение от нормы проявляется с момента их рождения. У третьей группы (так называемых «поздно проявляющихся» детей) первые признаки болезни обнаруживаются в два года. Некоторые исследователи считают, что на самом деле не существует «нормальных» периодов, то есть зачатки разрушительного заболевания присутствуют в каждом аутисте с рождения, даже у «поздних» детей. Как бы то ни было, мы не нашли особых различий в прогнозах для разных групп: для всех детей он был одинаково пессимистическим.
Так день ото дня мы становились всё более «сведущими» в вопросах аутизма, но, как ни странно, мы также чувствовали себя всё более беспомощными. Мы узнали много научной терминологии, характеризующей поведение Анн-Мари, но решительно никто не мог сказать нам, что надо сделать, чтобы вылечить её. В последнее время я часто брала новую книгу, читала предисловие и содержание, за пятнадцать минут бегло пробегала её и отбрасывала в кучу скопившейся «макулатуры». «Так много памятников безнадёжности,» – говорила я Марку.
Мы обнаружили, что исследования на тему аутизма, во всяком случае в медико-биологической области, находилось в зародышевом состоянии. Это отчасти объяснялось ранними ошибочными заключениями о заболевании. В течение двадцати пяти лет с момента открытия Каннером аутизма, почти все психологи и психотерапевты двигались в ложном направлении. Эксперты пришли к заключению, что причиной синдрома является – кто отгадает? – ну конечно мамочка! Было совершенно естественно, что матери примут на себя груз ответственности за аутизм, наряду с шизофренией, массовыми убийствами, гиперактивностью и маниакальными депрессиями, и всё это благодаря всезнающим фрейдистам.
Времена охоты на ведьм, как уверяли нас книги, прошли. Сегодня большинство специалистов сходятся на том, что аутизм – это нейробиологическое заболевание, а не психологическое расстройство, как полагалось ранее. И слава Богу, думала я, жалея тех бедных родителей в 50-60-х годах, которым приходилось не только иметь дело с диагнозом ребёнка, но и мириться с тем фактом, что они были причиной заболевания. «К счастью, мы живём в более просвещённые времена», – думала я. Я и не представляла, как недалеко мы ушли от тех дней.
Прошло не более месяца со дня визита к доктору Де-Карло, когда она впервые поставила диагноз Анн-Мари, но казалось, что прошло не менее полугода. Каждую ночь мы с Марком без устали говорили об аутизме. Мы обсуждали поведение Анн-Мари в тот день: был ли зрительный контакт с ней, говорила ли она что-нибудь, указывала ли на что-то, подходила ли к кому-либо, играла ли со своими игрушками. Мы вместе читали и краткими фразами пресказывали друг другу содержание прочитанных страниц. Мы оба чувствовали, что надо спешить, иначе будет поздно. Мы хотели как можно быстрее что-то предпринять, чтобы остановить прогрессирование болезни.
К тому времени чтение и наблюдение в достаточной степени подготовили нас к следующей назначенной проверке – теперь мы уже знали, что нет смысла надеяться на то, что диагноз ошибочен. Мы знали, что Анн-Мари больна аутизмом, нашей единственной надеждой было то, что врач скажет нам, что она находится на «границе нормальности», что это наименее серьёзный случай в его практике. К сожалению, мне начало казаться, что даже этой надежде не суждено сбыться.
Так, однажды утром я с обречённым спокойствием шагала на встречу с доктором Дубровской. Марк должен был лететь по делам в Вашингтон тем утром, поэтому с Анн-Мари пошла только я. Нам порекоммендовали больницу Альберт Эйнштейн в Бронксе как место с хорошей терапевтической программой, и когда я позвонила туда мне сказали, что нам следует обратиться к доктору по фамилии Дубровская. Она была директором отделения раннего детства в некоем Центре по Оценке и Реабилитации Детей.*
Эта встреча оказалась моим самым печальным опытом общения с врачами. Несмотря на то, что я уже успела разочароваться в отношении докторов к нашей проблеме, и убедиться в том, что профессионалы (за исключением доктора Де-Карло) в этом случае бессильны, я всё-таки не была готова к встрече со страдающей манией величия докторшей из Бронкса. «Бессильна» – это не то слово; профессиональное поведение доктора Дубровской было по меньшей мере ужасающим. Со сладкой улыбкой на губах, с плохо скрытой радостью она ухватилась за предоставившуюся возможность предаться нарцистическому самолюбованию и воздать хвалу себе любимой.
Я находилась в лобби больницы, когда услышала, как врач вошла в свой кабинет. – Она уже здесь? – спросила она. – Пусть войдёт. – Скажите мне, миссис Морис, – были её первые слова, – как вы узнали обо мне? Вопрос привёл меня в затруднение. – Ну, кто-то посоветовал мне позвонить в больницу Альберт Эйнштейн, потом телефонистка перевела разговор к другой телефонистке, и та посоветовала мне обратиться к вам.
Она казалась обиженной. – Итак, с кем вы уже говорили по поводу своей дочери? Я начала рассказывать ей о докторе Де-Карло и докторе Бермане, но она вскоре перебила меня. – Кто эти люди? Они упоминали обо мне? Они посоветовали вам обратиться ко мне? – Нет, я же сказала вам: я позвонила в справочную службу больницы Альберт Эйнштейн и от оператора получила ваше имя.
С первых моментов нашего разговора, продолжавшегося час, стало ясно, что единственным предметом обсуждения была доктор Дубровская. Диагноз Анн-Мари был лишь удобным поводом для того, чтобы перейти на действительно волнующие её темы: опыт доктора Дубровской, её профессиональные заслуги, её неповторимый талант психолога и неоспоримый авторитет. Любое упоминание о докторах Бермане, Де-Карло или Бакстере было встречено ею пренебрежительным фырканьем и гневной тирадой об их некомпетентности в области аутизма. У неё был приготовлен длинный перечень вопросов, касающихся Анн-Мари, которую увела в соседнюю комнату для осмотра её коллега, миссис Мерфи. Всякий раз, когда я порывалась ответить, она обрывала меня на середине предложения (словесная агрессия стоит не на последнем месте в моём списке обид). В какой-то момент я сдалась и умолкла. Вспомнив, что по идее, это должно было быть диалогом, она перестала рассказывать о неопытных молодых практикантах, с которыми должна была встретиться на следующий день, и устремила на меня свой взгляд. *Доктор Дубровская, чьё имя было изменено, отошла в мир иной (?). – Для чего вы пришли сюда, миссис Морис? – Я здесь, доктор Дубровская, чтобы получить диагноз, прогноз и практическую помощь для своей дочери. – Диагноз? Ну, конечно, аутизм! – Я не знала, что это настолько очевидно. – Разумеется, это очевидно! Вы мне описываете рабёнка-аутиста. Эти слова, как бы я не была подготовлена к ним, вонзились в меня, как острый нож. Я боролась со слезами, которые в последнее время были готовы показаться в любую минуту. Я скомкала одну из бумажных салфеток, лежавших на столе, и попыталась взять себя в руки. Я не собиралась отступать перед этой женщиной. С минуту мы обе молчали. – С кем, вы сказали, встречаетесь в следующий раз? – С доктором Коэном. – Кто это? Никогда о нём не слышала. – Он – глава отделения аутизма в Институте базисного исследования проблем развития. Это часть оффиса (?) по психическим заболеваниям штата Нью-Йорк, – его имя нам дала доктор Де-Карло. – Я настоятельно рекомендую вам больше ни к кому не обращаться. Вам следует прекратить это бесполезное хождение по докторам и завтра же вечером придти в нашу «родительскую лабораторию». – Что вы там делаете? – Родители говорят о проблемах, с которыми они сталкиваются. Обычно занятия веду я или меня заменяет миссис Мерфи. Наша цель – помочь родителям справиться с проблемами, связанными с аутизмом, и понять своего ребёнка. Мы встречаемся вечером по средам. – Мне не нужна такая помощь. Все пытаются «помочь» мне, в то время как нужно спасать мою дочь! У меня нет времени для ваших «родительских встреч!»
Я была близка к бешенству. Так много людей хотели оказать мне поддержку, утешить меня. Они понятия не имели, как помочь Анн-Мари, но для того, чтобы всё-таки ощущать себя нужными и значительными, они фокусировались на мне. За прошедшее время по меньшей мере десять человек посоветовали мне немного отдохнуть, сделать маникюр, съездить куда-нибудь с Марком на выходные и т.п. «Для себя и для своей семьи ты обязана на время перестать думать об этой проблеме». Я бы взорвалась, если бы ещё раз услышала фразу: «Тебе надо посвятить немного времени себе, Кэтрин». У меня не было времени. Время ускользало от нас, и никто не мог сказать, как его остановить! Пожалуйста, кто-нибудь, скажите, что мне делать! У меня нет времени, у неё нет времени для вашей многословности, вашего гонора, вашего парализующего педантизма, вашего никому не нужного опыта. У меня нет времени для анализа моих эмоций. Я хочу сейчас же знать, как помочь моей дочери, а не как помочь мне. Передо мной вся оставшаяся жизнь, а она падает в пропасть. Неужели вам нечего предложить, кроме этой «родительской лаборатории»? Я сама справлюсь со своим горем и страхом – вы же покажите мне, что делать с моей дочерью до того, как она будет окончательно потеряна для нас! Но конечно, как я могла забыть! Это же так благородно каждую неделю собирать в вашем храме несчастных родителей и снисходить до них своим божественным напутствием. – Кто оказывает вам поддержку, миссис Морис? – спросила доктор Дубровская. – Мой муж. – Ах вот как! И где же он сегодня? – Он в командировке. – В командировке, – с силой повторила она. – И кроме того, – добавила я во внезапном порыве досадить ей в этом словесном сражении, – моя вера. Вера в Бога даёт мне силы. – Меня не заботило то, что мои слова прозвучали как-то слишком благочестиво, и я больше ничего не прибавила. – Я, – сказала она, – не верю в Бога… Разумеется, вы не «верите» в Бога, ведь вы сами божество. -… но я считаю, что мы здесь для определённой цели, и эта цель – помогать друг другу.
Всё. Вопрос закрыт. Разрешили извечную проблему религии. Доктор Дубровская была психологом, и она очень высоко оценивала свой профессионализм. Будучи врачевателем душ, она чётко знала в чём смысл жизни. Очевидно для неё, это был просвещённый гуманизм. Что ж, в конце концов, власть была в её руках.
– Отцы, – процедила она. Вероятно я напомнила ей ещё одну излюбленную тему, и она пустилась в длинное повествование, в котором ум противопоставлялся глупости, проницательность – слепости. Центральным персонажем истории, хранилищем всевозможных знаний была опять же доктор Дубровская, а одураченными бедолагами были все отцы, с которыми ей пришлось иметь дело, которые отказывались принять диагноз своих детей.
– А один из них, – заключила она, – сел вон туда и сказал: «Вы не смеете утверждать, что с моим сыном что-то не в порядке».
Она удовлетворённо откинулась в кресле. Мы обе знали, каким будет конец этого рассказа. Конечно, ребёнок оказывался аутистом, а упрямому родителю ничего не оставалось, как смириться с действительностью. Врач наполнилась гордостью от сознания своего триумфа и выжидающе посмотрела на меня, а я в это время думала о том отце и о его боли…
С меня было довольно. Я чувствовала себя замученной этой женщиной, и как обычно я пыталась понять, чем заслужила такое отношение к себе. Я так и не пришла к окончательному решению. Глубоко укоренившаяся привычка к уступчивости призывала меня делать то, что мне говорят, послушаться авторитета, начать ходить на занятия и почтительно слушать доктора. Согласно общественным нормам я должна была дать ей всё, что она хотела: комплименты за точно поставленный диагноз, благодарность за чудесную поддержку. Она была такой сильной, такой уверенной в себе. Была ли она права? Очнувшись от своих мыслей, я поднялась, чтобы уйти. – Подождите, миссис Морис. Скажите мне ещё одно. Что вы думаете… обо мне? Я очень устала, противоречивые эмоции обуревали меня. Я медленно заговорила.
– Я думаю, что вы эгоцентричная и властная особа. Вы перебивали меня на каждом слове, что бы я не сказала. Меня очень обидело ваше замечание насчёт того, что муж, якобы, не оказывает мне моральную поддержку.
Она моментально отреагировала.
– Я не говорила, что ваш муж не помогает вам. Может быть это вы так видите положение или я не права?
Эта женщина была хорошо защищена. Её психиатрическое мышление без всякого колебания интерпретировало любую нападку против неё как признак паталогии «клиента», а не как её собственную проблему. Она была непроницаема для критики и упрёков. Я могла легко представить, что будет написано в её отчёте о моём посещении: «Клиентка продемонстрировала ярко-выраженную враждебность по отношению к интервьюеру. Ей следует обратиться за профессиональной помощью, для того, чтобы направить энергию неуправляемых вспышек гнева в надлежащее русло… и так далее, и тому подобное».
Появилась миссис Мерфи и не замедлила подтвердить симптомы аутизма у Анн-Мари. Обе женщины ещё раз спросили, намерена ли я присоединиться к их родительской лаборатории. «Я не знаю», – ответила я, всё ещё колеблясь между желанием кинуть в них корзиной для мусора и необходимостью капитулировать и принять их удушающие терапевтические обьятия. – До свидания, доктор Дубровская, миссис Мерфи. – До свидания, миссис Моррис. Сидя в машине по дороге домой, я чувствовала себя совершенно сбитой с толку.
Впервые после того, как выяснилось, что Анн-Мари больна, я почувствовала, как во мне пустило корни новое, незнакомое прежде чувство, и в данный момент оно было сильнее, чем горе и страх.
Это была ярость. Я не знала, что я буду делать, я не знала, кто нам поможет. Но я знала, что лечебные ясли, сеансы игровой терапии, родительские лаборатории, психологические консультации на тему «Как справиться со стрессом» – всё это не было решением проблемы. У гнева, переполнявшего меня после визита к доктору Дубровской, было лишь одно благоприятное последствие: он позволил мне, несмотря на потрясение, вызванное диагнозом, выбросить из головы их всех – всех «помощников», всех мнимых экспертов, все авторитеты, которые построили свою карьеру и своё эго вокруг безнадёжности детей, больных аутизмом, и беспомощности их родителей. Все они советовали мне примириться с неизбежностью, которая постепенно отбирала у меня мою дочь; они притворялись, что «разбирались» в заболевании, о котором не имели ни малейшего понятия. Их помощь была, как похоронный звон для Анн-Мари. Как точно заметил доктор Берман, аутизм доставил кучу хлопот многим людям на протяжении долгого времени. Во время дороги домой после посещения доктора Дубровской по крайней мере одно стало совершенно ясно: этим меня не купишь.
Глава 7
С нетерпеливостью, порождённой отчаянием, я захлопнула дверь старого мира: это было поистине отчаянным решением, так как я не знала существует ли нечто, называемое новым миром.
Я знала только то, что я ещё ничего окончательно не решила. Во всём этом было слишком много таинственности, слишком много мрака. Я блуждала, спотыкаясь, в чёрной пещере под названием аутизм. К счастью, мне рано стало ясно, что «эксперты», которые консультировали меня, понимают в этом заболевании не больше, чем я. Мой ударный курс по изучению аутизма позволил мне так же легко обращаться с научной терминологией, как и они. С помощью знаний, почерпнутых в неутомимом чтении, я могла без труда выявлять отклонения в поведении, точно так же, как и они. Единственной разницей между нами было то, что им, под прикрытием своего профессионального положения, было очень удобно подчиниться неизбежному; я же разрывалась на части. Хуже того, они с помощью своих учёных степеней и туманной многословности могли убеждать себя в том, что они «помогали». Я не могла позволить себе такого обмана.
Я бежала наперегонки со временем. Либо я найду средство, которое на самом деле поможет Анн-Мари, либо она будет навсегда потеряна для меня, третьего не дано. Что-то было в аутизме такое, что значило для меня «живой труп». Аутизм – это такое состояние, при котором ты как бы и здесь и не здесь; человек без личности; жизнь без души.
Я была поставлена на колени.
Как трудно для женщины вроде меня – образованной, нетерпеливой, азартной, принимающей близко к сердцу любую критику в свой адрес – писать о молитве. Как я заметила, в некоторых кругах существует нетерпимость по отношению к традиционным религиозным правилам и ритуалам, презрение в адрес тех, кому с безнадёжной детской непосредственностью хочется верить в существование небесного Деда Мороза, этакого вечного папочку, который может всё поправить, включая зло и смерть. В течение нескольких лет я пыталась уйти от этого цинизма, научиться не обращать на него внимания. Я провела большую часть своей взрослой жизни в борьбе против всего того, что угрожало моей вере.
Одной из таких угроз было моё близкое знакомство (после двадцати лет католического образования) с недостатками моей любимой церкви: внутренние распри, воинственные клики, каждая со своей правдой, проблема власти, вопрос «божественного слова». Консерваторы и либералы поносят политику друг друга с одинаковыми воплями. Это продолжается вот уже две тысячи лет и будет продолжаться ещё две тысячи. Церковь, слава Богу, всё переживёт.
Другая угроза атаковала извне: в извращённом, урбанизированном обществе, в котором вращались мы с Марком, к приверженцам католической веры относились примерно с таким же уважением, как к динозаврам.
Для меня религия значила многое, причём не всё отличалось чрезмерной добродетелью или заслуживало похвалы. Религия была бельмом на глазу у антирелигиозной культуры, моим личным утешением в часы одиночества и грусти, свидетельством моему умению выбрать направление и следовать ему, определить цель жизни – цель, которая выше оценки окружающих, выше соблазна власти. Религия была вероучением жизни и любви, спасением, убежищем, опиумом, основополагающим принципом в мире хаоса.
Но иногда бывали моменты, когда религия давала мне нечто большее, что питало мою несовершенную веру и заставяло меня забыть об оборонительной тактике и пугающей потребности в упорядоченности и комфорте. Моя вера давала мне никак не меньше, чем соприкосновение с Богом.
Иногда в моей молитве проскальзывали моменты, когда в тишине я чувствовала, что могу открыться, услышать и постичь, мимолётно и пронзительно, голос, не принадлежавший мне, присутствие Иного. Это то, что невозможно передать словами. Я могу только сказать, последуя премеру гораздо более талантливых и благочестивых, чем я, что это чувство – не счастье, хотя в нём есть элементы радости, – это, скорее, трепетный страх. Мы так бедны духом, так не приспособлены к свету и красоте. Рудольф Отто говорил о «mysterium tremendum» – нечто столь величественном и непостижимом, что душа склоняется в благоговении и трепещет перед своим Создателем.
Этот свет, эта любовь так далеки от нашего понимания, они проникнуты святостью, недоступной нам. Я поняла для себя следующее: во-первых, я никогда не смогу лишиться этого света. Я бы с радостью провела остаток своей жизни в ожидании и надежде когда-нибудь полностью отдаться его сиянию. Во-вторых, этот момент невозможно продлить. Молитва закончится, церковь опустеет, на улице станет смеркаться. Мне надо будет ещё забежать в магазин, забрать ребёнка из детского сада – словом, вернуться к повседневным заботам и обязанностям. Почему-то живой человек не может обладать этим светом, в лучшем случае нам остаётся лишь тосковать по нему и хранить своё знание, и только время от времени обращать к нему свои мысли и душевные порывы.
Но сейчас, перед лицом нашего горя, моё решение обратиться к вере было подсознательным, интуитивным. Я держалась за молитву, как утопающий держится за плавучее бревно на поверхности бушующего моря. Моя молитва была невинной просьбой. Я была далека от поклонения, от созерцательного обожания, от безмятежной радости перед Богом. Моя молитва была неистовым плачем, отчаянной просьбой. «Господи, пусть это всё окажется неправдой! Верни мне мою доченьку. Отдай её мне. Не дай этому случиться. Останови это. Пожалуйста…»
Каждую ночь я просыпалась от плача Мишеля или из-за своих судорожных, кошмарных сновидений. Этапы возвращения к бодрствованию были всегда одними и теми же.
Сначала приходило осознание того, что я спала, а теперь пробуждаюсь. Этот этап продолжался несколько секунд, в течение которых я ещё плохо понимала, кто я. Действительность была расплывчатой и туманной, сны всё ещё царили в мыслях. Затем внезапно меня охватывало физическое ощущение тревоги. Оно начиналось с кожи на лице, такое нервное покалывание. Руки непроизвольно тянулись вверх, чтобы резкими, судорожными движениями отогнать его. Вдруг ощущение появлялось в груди – пульсирующая боль, выброс адреналина. В момент моего окончательного пробуждения, ощущение совершенно завладевало всем моим существом. Это было понимание того, что что-то было не так! Что же это было?
А потом наступало полное осознание «этого». Ах, да. Анн-Мари. Анн-Мари больна аутизмом. И я пытаюсь бороться с этой волной, накрывшей её.
Единственное, что спасало меня во время этих ночей, – это молитва. Она была похожа на жалобный плач ребёнка, проснувшегося среди ночи от страшного сна. Это было постоянно повторяющейся просьбой об одном и том же: «Боже, сделай так, чтобы всё прошло. Мне страшно.»
После визита к доктору Дубровской я была сама не своя. На следующее утро я была в ужасном состоянии, ни в чём не находила утешения, не видела смысла продолжать борьбу. Конечно, я знала, что всё равно буду продолжать; у меня не было другого выбора. Но я не хотела этого. Жизнь причиняла слишком много боли, в ней не осталось ни капли радости, ни одного просвета надежды. Я не могла смириться с потерей Анн-Мари, но всё говорило о том, что это неизбежно. Я знала, что проживу следующий день, но не хотела этого.
Было около часа ночи. Я не могла уснуть. Я не могла плакать. У меня больше не осталось слёз. Я была измучена, опустошена, испугана. На моей тумбочке стояли свеча и икона. Я зажгла свечу и смотрела на её теплый мягкий свет. Марк и дети мирно спали. Я сидела в маленьком кружке света и пыталась почувствовать присутствие Бога.
– Господи, мне так нужна твоя помощь…, – я снова просила Его вмешаться в ход жизни. – Пожалуйста, пусть диагноз окажется ложным, пусть она опять будет здорова. – Эта ночь была особенной. Я должна была попросить ещё что-то. – Господи, дай мне… наполни меня… Твоей силой… Твоим спокойствием… Даруй мне силу и спокойствие, и я выдержу.
Но я должна была сказать ещё что-то очень тяжёлое и ужасное. Вперив взгляд в пламя свечи, я подняла сведённые вместе руки и наклонила голову в знак веры в Его любовь. Затем я прошептала слова, которые ненавидела всем сердцем: «Да будет так,» и внезапно была переполнена чувством облегчения.
Я познала радость ребёнка, который, блуждая в темноте, вдруг попадает в обьятия любящих рук. Любовь растопила моё сердце, утешила душу. По всем моим жилам текла какая-то новая для меня сила, рождённая в бурной молитве. Бог есть, Он знает, Он слышит. Он смотрит на нас; «Он не дремлет, не спит».
Я потушила свечу, легла в постель, и впервые за последние несколько недель уснула глубоким сном. Всхлипывая от страха, спотыкаясь, я нашла выход из чёрной пещеры, ведомая Провидением.
Я не специалист в теологии и никогда не задумывалась над причиной существования самых ужасных форм зла, как то: эксплуатация детей, неизлечимые болезни, обвининение невинных, триумф несправедливости. Но я не думаю, что Бог желает нам зла. Как сказал Реббе Кушнир: «Он страдает от зла так же, как и мы». «Да будет так» не значит для меня то, что Бог хочет, чтобы Анн-Мари и мы страдали. Это – способ сказать, убедить себя в том, что если мы будем верить в Его всемогущество, в Его любовь к нам, то зло не сможет поглотить нас. Если мы отдадимся Его воле, Он поможет нам. Он даст нам силы и мужество справиться с невзгодами и возвыситься над злом. Я ещё не знала, значило ли это, что мы найдём силы и мужество смириться с недугом дочери или, что чудесным образом вылечим её.
На следующее утро я проснулась освежённая, более умиротворённая, чем после рождения Мишеля. В уголках моего сознания ещё клубились остатки страха и горя, и им суждено было оставаться там ещё многие месяцы. Но на сердце у меня стало более спокойно. Моя рука покоилась в руке Господа. Он проведёт меня и мою семью через эту раскалённую пустыню; Он возвратит нас к жизни. И когда-бы страх не овладел мной, я остановлюсь и стану молиться, помня в Чьи руки я вверила своих близких. «Если Бог за нас, то кто может быть против нас?» Что может сокрушить нас, уничтожить нас? Мы найдём выход, мы мы вверимся Ему.
И тогда появились первые сладостные ростки надежды. События вдруг последовали один за другим.
На следующий вечер я была на кухне, когда позвонила моя кузина Мария из Чикаго. Я держала Мишеля на одном плече, а другой рукой перемешивала содержимое кастрюли. Было время ужина детей, всегда проходившего в возбуждении и шуме. Зазвонил телефон. – Кэтрин? Привет. Это Мария. Как дела? – Всё нормально. – У тебя усталый голос. – Немного. – Послушай. Джек наткнулся на одну статью, пока ждал своей очереди у дантиста, и он говорит, что тебе стоит её прочитать. Это о докторе Ловасе, из ЮСиЭлЭй (?). В статье говорится, что ему удалось вылечить нескольких детей от аутизма. – Вылечить детей от аутизма? – Да. Тут прямо так и сказано. Экспериментальная программа. Сорок часов в неделю терапии «один-на-один». Статья называется «Спасти Грэйс». Послать её тебе?
– Да. Да, конечно, пошли мне её. Но сначала расскажи о ней поподробней. – Излечение детей от аутизма? Никто из тех, с кем мы говорили, не упоминал слово «излечение». Может ли это быть правдой?
Вместе с Марией мы прошлись по статье. Он была напечатана в журнале «Психология сегодня», в декабрьском выпуске 87 года, как раз в том месяце доктор Де-Карло поставила Анн-Мари диагноз. Автор, Поль Чэнс, описывал маленькую девочку по имени Грэйс, которая принимала участие в экспериментальной программе для детей-аутистов доктора Ловаса. Доктор Ловас атаковал детей бихевиористической терапией «один-на-один» по много часов в неделю. Основным принципом его подхода являлось то, что все, кто так или иначе были связаны с окружением ребёнка – родители, воспитатели, сиделки – следовали определённым инструкциям: практиковать и поддерживать, с высокой степенью постоянства, учебную программу, специально разработанную для каждого ребёнка. В эксперементальной группе было 19 детей (один прервал эксперимент на ранней стадии), и ещё по двадцать детей было в каждой из двух контрольных групп. Дети в эксперементальной и контрольных группах были диагностированы независимыми специалистами. Главным различием между эксперементальной и контрольноыми группами состояло в количестве часов терапии. Эксперементальная программа стремилась окружить ребёнка, практически каждый час бодроствования, терапевтическим окружением, в то время как в контрольных группах дети получали только несколько часов в неделю такой терапии, и лечение не проводилось в их домах.
Результаты превзошли все ожидания. Почти половина (девять из девятнадцати) детей, учавствоваших в эксперементальной программе, достигли «нормальной мыслительной деятельности». По всем стандартным меркам умственных способностей и сообразительности они были нормальными. Но вылечелись ли они на самом деле? Были ли у них друзья, относились ли они нормально к другим людям? Согласно статье, сейчас дети были уже в подростковом возрасте, они без проблем переходили из класса в класс обычной школы, обучались у разных учителей. Кроме того, по предварительным данным некоторые пост-эксперементальные долгосрочные исследования показывают, что дети действительно стали неотличимы от своих сверстников, как в умственном плане, так и социальном. У Грэйс, которая хоть и была робкой девочкой, были свои друзья, а также она хорошо успевала в школе.
Я уже слышала о бихевиористическом подходе (модификации поведения), но знала о нём очень мало. Из всего того, что мы с Марком читали, мы постепенно поняли, что в этой стране существовало три основных терапевтических подхода в отношении аутизма: фармакологический, или лекарственный; психоаналитический и бихевиористический. Фармакологический подход до сих пор не достиг каких-либо многообещающих результатов, а в некоторых случаях наблюдались тяжёлые побочные эффекты. Мы уже решили не подключать (давать) (?) Анн-Мари к халдолу или фенфлорамину из-за страха токсического воздействия этих препаратов.
Психоаналитический подход обычно пытался распознать, почему дети психически нездоровы. В аутизме он видел демонстрацию проблемы эго. Терапевт-психоаналитик, аккуратно, без нажима пытался вызвать в ребёнке симпатию, понимание и принятие окружающего мира с помощью игр с кубиками, песком и т.п.
Бихевиористы же, напротив, не интересовались причиной заболевания. Какой-бы она ни была, для них это не имело значения. Терапист-бихевиорист работал в настоящем, его целью было исключить нежелательное поведение и привить ребёнку наиболее подходящие навыки для жизни и учёбы. Он исследовал поведение ребёнка, а не его психику. Его подход к обучению был максимально стуктурирован и последователен, разбивая весь процесс на самые маленькие шажки и «формируя» поведение ребёнка почти так, как формируют или дрессируют поведение собаки.
Стивен Блостайн, специалист по языковым и речевым патологиям, с которым я консультировалась, подтвердил наличие этих трёх подходов, и, к счастью, ясно дал понять какого подхода он советует придерживаться. Все данные, говорил он, указывали на то, что бихевиористический подход даёт наиболее эффективные результаты, наилучший прогресс.
Мы с Марком очень признательны этим редким специалистам, которые решились отдать свой голос в защиту бихевиористического метода, так как тогда он казался нам просто отвратительным. Наше расплывчатое представление об этом подходе – одно название которого казалось холодным и расчётливым – состояло из образов собак Павлова, тренированных моржей, крыс в лабиринтах. «Что мы будем делать? – спрашивала я Марка. – Дрессировать её разговаривать, любить нас, чувствовать, быть человеком?» Мне уже не нравилась идея модификации поведения, а нам ещё предстояло пройти через первые занятия с Анн-Мари.
Тем не менее, если кому-то удалось вылечить детей с помощью модификации поведения, то и мы должны отнестить к этому со всей серьёзностью. Я позвонила в клинику Ловаса и долго говорила с женщиной по имени Джоан. Она была очень осведомлённой и вежливой, но с сожалением заметила, что в данный момент у них нет для нас места. Статья, напечатанная в «Психология сегодня», привлекла очень много внимания к клинике, и её работники с трудом пытались отразить напор телефонных звонков. Она объяснила мне, как заказать обучающий справочник и посоветовала подать заявку на двухдневные курсы под руководством специалиста клиники.
20 января у нас была назначена четвёртая из пяти оценочных консультаций. Мы должны были встретиться с доктором Коэном в институте базисного исследования в области проблем развития, в Статен Айленде. Итак, мы прибыли в огромное, подавляющего вида, строение, со строгой процедурой входа-выхода в целях безопасности. Мы шли по мрачному коридору по направлению к отделению аутизма. По пути нам встретилось несколько детей и взрослых, которые выглядели более, чем больными. Один человек, по виду ему было около тридцати лет, шёл вместе со своей сиделкой: его язык вываливался наружу, глаза бесцельно блуждали по стенам. «Держись, Кэтрин, – уговаривала я своё сильно бьющееся сердце. Научись смотреть на этих людей с любовью, не с ужасом».
К этому времени состояние Анн-Мари настолько ухудшилось, что весь приём она пролежала, скорчившись на полу в зародышевом положении, отказываясь открыть глаза. Мы должны были уйти ни с чем и вернуться на следующий день. В этот раз она вела себя немного лучше, хотя всё время плакала и отказывалась смотреть на кого-либо. Мы провели у доктора Коэна два с половиной часа. Он снимал Анн-Мари на видеокамеру через одностороннее зеркало, расспрашивал нас, пытался привлечь её внимание и провёл тест на выявление отклонений развития, который назывался Vineland Adaptive Scales. В конце концов он посуровел и замолчал. – Давайте, – сказала я ему, – вы можете это сказать. – Я считаю, что девочка больна аутизмом. – Да. Мы знаем. Позднее, доктор Коэн отметил в своём отчёте, что Анн-Мари не проявила «ни малейшей способности к нормальному общению». К тому моменту мы на это уже и не надеялись. – Насколько тяжело её состояние? Это один из тяжёлых случаев в вашей практике? Из лёгких? Он сказал, что не мог с точностью предсказать, как будет прогрессировать болезнь, а также то, что Анн-Мари была ещё слишком маленькой для того чтобы серьёзно проверять её умственные способности. Тем не менее он согласился представить нам результаты теста Vineland: по большому счёту её навыки общения и социализации соответствовали уровню годовалого ребёнка.* Что касается двигательных навыков и повседневных навыков (есть с помощью ложки, пить из чашки и т.п.) она была более близка к своей возрастной норме, но также ниже её. Эта неровность в развитии была характерна для аутизма вообще: так, частичное овладение речью в раннем возрасте сменилось регрессией и потерей речи. Доктор Коэн казался объективным и знающим. Я колебалась, но затем всё-таки решилась спросить его о том, что на самом деле хотела выяснить. – Вы слышали о докторе Ловасе, которому, якобы, удалось вылечить несколько детей?
– Да, – ответил он. – Да, по-видимому, есть надежда в этом направлении. А вы читали статью? Она вышла совсем недавно, в декабре.
Я почувствовала, как забилось моё сердце и поэтому попыталась придать голосу будничное выражение. Всего-навсего два знающих человека обсуждают интересную статью.
– Я только слышала пересказ статьи, которая, должно быть, была предназначена для широкой публики, она была напечатана в журнале «Психология сегодня». А где вышел научный вариант статьи? – В журнале «Консультирующая и клиническая психология». – Не могли бы вы прислать мне копию? – Разумеется. Мне было трудно поверить, что этот разговор – реальность. Неужели один профессионал предлагал помочь нам, обещая послать работу другого профессионала? Это было непохоже на ту высокомерность и эгоцентричность, с которыми мы столкнулись у доктора Бермана и доктора Дубровской. Неужели он сказал «разумеется»? – Вы полагаете, что ему на самом деле удалось вылечить несколько детей? – Его данные выглядят неопровержимо и кажутся очень точными, так что я думаю, это вполне возможно…
Я ловила каждое слово. – Не забывайте, – продолжал врач, – все его дети были очень очень маленькими – обычно не старше трёх с половиной лет. – А это важно?
– С точки зрения неврологии, в этом возрасте мозг всё ещё формируется. Он обладает определённой пластичностью, податливостью. Болезнь ещё не укоренилась в организме.
Идея казалась обманчиво простой. Возьмите маленького ребёнка, чьё развитие ещё не закончено, окружите его со всех сторон очень специфической и очень интенсивной терапией и посмотрите, что произойдёт. Возможно, мозг человека (по крайней мере так мы с Марком верили и напоминали себе это на протяжении последующих месяцев) обладает скрытой и редко используемой способностью к самолечению. – Что же нам делать? Доктор Коэн не выбирал слова. – Достаньте книги, кассеты и приступайте к работе. Вы когда-то преподавали. Почитайте, разберитесь, потом найдите студентов-помощников, введите их в курс дела и начинайте домашнюю программу.
– Хорошо. – Я с трудом сглотнула и отогнала от себя волну сомнения и неуверенности. Хорошо. Это реально. Мы без труда овладеем в одну ночь этой теорией, станем в ней экспертами и даже будем обучать других. Никаких проблем. Спасибо. Спасибо тебе, Господи; спасибо, доктор Коэн; спасибо, доктор Ловас, кем бы вы ни были, за то, что дали нам хоть какую-то надежду.
Прошло несколько дней пока мы решились произносить вслух слово «излечение». Это казалось невозможным в свете того, что мы читали и слышали. Осмелились ли мы начать надеяться? Для этого мне было необходимо найти других людей, которые знали о работе доктора Ловаса и которые могли подтвердить полученные им результаты.
Через пару дней мне позвонила миссис Мерфи, из клиники Альберт Эйнштейн.
– Здравствуйте, миссис Морис. Мы хотели узнать, каково ваше решение насчёт наших родительских семинаров. *Тест Vineland Adaptive Scales основан на клинических наблюдениях и опросах родителей. Несмотря на то, что Анн-Мари «не проявила ни малейшей способности к нормальному общению» во время самого тестирования, подробный опрос в течение интервью показал, что тест, проведённый в домашней обстановке дал бы гораздо более лучшие результаты. (?)
– Что же это такое?- подумала я. – Им нужны свеженькие тела вокруг их круглого стола, иначе их бюджет понесёт потери? – Нет, спасибо, миссис Мерфи. Но будьте любезны, скажите, может быть вы слышали о докторе Ловасе и о том, как от излечил несколько детей от аутизма?
Последовала продолжительная пауза.
– О, да, – ответила она. – Но вы знаете, все ведь знают, что он заранее отобрал только самых перспективных детей.
Воистину, не было границ раздражению, которое эти люди были способны вызвать во мне. Кто были эти «все» и откуда они «знали», что доктор Ловас отобрал лишь самых перспективных детей? Обе статьи – для широкой публики и научная – вышли в свет совсем недавно. Неужели «все» немедленно бросились в Калифорнию, взяли интервью у этих семей, просмотрели все материалы, касающиеся эксперимента? Да даже если бы это было так, может быть Анн-Мари как раз была «перспективной»?Если Дубровская и Мерфи на самом деле знали о статье, то почему они не рассказали мне о ней, чтобы я хотя бы знала, какие существуют возможности? В конце концов мы же говорили о будущем моего ребёнка.
Я бросила трубку, трясясь от ярости, и села, пытаясь собрать вместе свои мысли. Тяжело избавляться от старых привычек, начала понимать я. Я всё ещё действовала, наивно уповая на то, что придёт «эксперт» и скажет, что мне делать. Я брала свою надежду и несла её к «авторитетам». Я просила их поставить штамп одобрения. Я просила их разрешения верить.
Но мне не нужно было их разрешение. Если Дубровская, Мерфи и другие им подобные не хотели помочь нам или хотя бы ободрить нас в нашем намерении начать программу домашней терапии, то мы просто оставим их и обойдёмся своими силами.
Возможность испытать в деле это ощущение независимости представилась несколько дней спустя. Я говорила с доктором Перри – ещё одним психиатром, встреча с которым была назначена у нас на следующей неделе. Я объяснила ему, что мы слышали об успехе доктора Ловаса, и что мы хотели бы начать программу домашней терапии так скоро, как найдём специалистов. – Дети, больные аутизмом, неизлечимы, – холодно сказал он. Я помню рефлексивный страх, чувство поражения, полного разгрома, вызванного абсолютной непоколебимостью его голоса. Я склонилась перед его словом. Но тут же встряхнула головой, пытаясь снова подняться. Нет. Он может верить в это, но он не может сделать это правдой. Это слова человека, не Бога. Мне была дарована надежда, я знаю, что вдохновлена высшей силой. У меня есть начало разгадки, и Бог покажет нам, как сделать, чтобы это осуществилось. Для Бога нет ничего невозможного. Как много раз я должна была повторить себе этот девиз в течение последующих месяцев. Там, где есть жизнь, есть надежда; и всё возможно, если веришь.
Однажды отдавшись в руки надежды, нет дороги назад. Будут отклонения от пути, какие-то ошибочные начинания, потраченная зря энергия, но есть только одна цель. Она реальна и возможна. Мы устремили свой взгляд на вершины гор, на сами звёзды. Анн-Мари будет нормальной. Она будет говорить и улыбаться, и любить. Она вылечится .
Глава 8
Решить – это одно; воплотить идею в жизнь – совсем другое. Начало бихевиористической программы было настоящим испытанием для всех нас.
Марк заказал книгу и кассеты по экспресс-почте.* Доктор Коэн прислал нам статью из «Журнала консальтирующей и клинической психологии». Мы с Марком работали вместе по вечерам, обрабатывая материалы, обсуждая и анализируя их. Я начала рассылать объявления о работе во все учебные заведения города, на факультеты специального воспитания и психологии.
Статья звучала многообещающе. Марк, неплохо понимающий в математике, расшифровывал для меня статистические данные. Мы прочли статью так много раз, что практически выучили её наизусть. Мы обнаружили информацию, которая ещё более обнадёжила нас: оказывается, состояние детей в эксперементальной группе, даже тех, кого не удалось вылечить, значительно улучшилось. Многие из них были распределены в классы для детей с отставанием в развитии речи. Фактически, только десять процентов попали в классы для отсталых детей/детей-аутистов. Я хотела, чтобы Анн-Мари выздоровела, но меня утешало и то, что с помощью этого метода, она сможет хотя бы общаться на относительно нормальном уровне.
Чтение статьи уменьшило мою панику и возродило уже было потерянную надежду. Но книги и кассеты были другое – мы ненавидели их. Мы ненавидели вид этих детей – у всех них было мрачное выражение лица и деревянные движния. Мы ненавидели голос терапевтов. Я помню одну сцену, где терапевт просил маленького мальчика найти одинаковые карточки. «Положи на такую же», – снова и снова гнусавил терапевт. – «Положи на такую же. Положи на такую же». Мальчик без улыбки брал каждую карточку и клал её в нужную стопку. В другой сцене мать держала на руках маленькую девочку. Терапевт стоял лицом к девочке. Я не помню, какую именно команду он давал, это было что-то вроде: «Хлопай в ладоши». Каждый раз, когда звучала команда, мать поднимала ручки девочки и «подсказывала» ей нужное движение. Потом терапевт клал девочке в рот какую-то клейкую еду. Мы чувствовали отвращение. Эта терапия казалась нам самым манипулятивным и антигуманным «лечением», которое мы могли себе представить. Мы вспомнили, что в статье Поля Чэнса в журнале «Психология сегодня», упоминалось о физическом наказании, которое применялось в случаях, когда неблагоприятное поведение повторялось особенно часто. В эксперементальной программе наказанием служил один шлепок по бедру.
– Ни одного, – поклялась я Марку, – я не подниму руку на собственную дочь. – Сама идея казалась мне оскорбительной.
Муж был согласен со мной, он тоже не испытывал ни малейшего энтузиазма по поводу того, что мы видели и читали. Тем не менее в наших полуночных дискуссиях мы пришли к выводу, что по крайней мере нам стоит попробовать. В конце концов занятия будут проводиться у нас дома. Естественно, мы сможем контролировать происходящее под нашей крышей.
Через неделю-две после визита к доктору Коэну я стала получать отклики на объявления о работе и начала проводить собеседования с некоторыми студентами. Они все казались доброжелательными молодыми людьми и были полны энтузиазма, но ни один из них прежде не работал с детьми-аутистами. Мы подумывали о том, чтобы нанять одного-двух и тем самым окончательно подчинить себя тому факту, что мы, сами не зная толком, что надо делать, должны были научить других, как спасти нашу дочь. Всем студентам я дала копию руководства доктора Ловаса «The Me Book», попросив тщательно изучить его, и пообещала вскоре позвонить. * «The Me Book», стандартное руководство доктора Ловаса по лечению аутизма бихевиористическим методом, наряду с серией вспомогательных видеозаписей, можно заказать по адресу:
Pro-Ed 8700 Shoal Creek Boulevard Austin, TX 78758-6897 Tel. (512) 451-3246 Fax. (512) 451-8542
Через какое-то время мы познакомились с Бриджит Тэйлор. Это было воистину даром провидения. Тогда же я не видела в ней ничего особенно хорошего. В те первые недели всё было так мрачно и запутанно, что я бы не отличила слитка золота от куска угля, и только благодаря воле Божьей мне удавалось принимать верные решения. В самом начале Бриджит казалась мне необходимым злом, и я с трудом терпела её.
Ей было двадцать-три года. У неё были длинные светлые волосы, голубые джинсы, высокие кожаные спортивные ботинки. Она заканчивала степень магистра на факультете специального воспитания, в педагогическом колледже колумбийского университета. Она выглядела ребёнком. Я сразу же невзлюбила её. Что эта пигалица могла знать о детях, не говоря уж о детях-аутистах? Я строго допрашивала её. Она отвечала с серьёзной сдержанной вежливостью. Она не была ни дружелюбной, ни враждебной, но казалось, что она была вполне довольна самой собой и своими знаниями.
И она-таки знала немало об аутизме. Она была единственной из всех, откликнувшихся на наше объявление, кто работал один на один с детьми-аутистами разных возрастов. Она также знала о методе модификации поведения: «Это то, чем я занимаюсь», – доложила она мне. Я достала «The Me Book» и пустилась в рассказ об этом подходе и его техниках. Она перебила меня: «Я знаю эту книгу вдоль и поперёк. Все, кто используют бихевиористический метод в работе с детьми-аутистами, знакомы с этой книгой и доктором Ловасом «.* Потом она выложила передо мной рекомендательные письма из агенств, на которые она работала.
– Итак, – сказала я, – я хочу кое-что прояснить. – Я была холодна к ней и очень напряжена. – Это мой дом. Я ответственна за эту программу. Никто не применит физического наказания по отношению к моей дочери.
– Хорошо, – спокойно ответила она, – я и так не применяю наказания. По крайней мере до сих пор не было такой необходимости.
Я была немного смущена. Я не ожидала такой лёгкой победы в вопросе наказаний. Я приготовилась к спору, но не встретила никакого сопротивления.
– Вы слышали об эксперименте доктора Ловаса, в результате которого ему удалось вылечить несколько детей от аутизма? – спросила я её. – Да, – ответила она, – но я ещё не читала статьи. У вас есть копия? – Да. Я дам вам одну. – Я помолчала, а потом решила испытать её. – А вы верите в то, что выздоровление возможно?
Повисла минутная пауза.
– Я никогда этого не видела, – сказала девушка. – Некоторые дети действительно функционируют на очень хорошем уровне, но у них всё равно имеются остаточные социальные дефекты, несмотря на их неплохие языковые способности. (?)
– Я верю в выздоровление, и Анн-Мари обязательно выздоровеет, – сказала я, протягивая ей «Спасти Грэйс» и статью из научного журнала.
Она не ответила.
Мы с Марком решили нанять Бриджит, основываясь её опыте. Я позвонила ей на следующий день и предложила начать работать, как можно скорее. Она с радостью согласилась. Это приятно удивило меня, так как я бы на её месте несколько раз подумала прежде, чем согласилась работать у такой нервной, заранее недовольной работодательницы, как я. Она была бедная студентка, пробивающая себе дорогу в педагогическом колледже. Может быть она решила, что эта работа принесёт ей хороший опыт и неплохую оплату, а за это можно было потерпеть даже такую несносную мать, как я.
Первой подготовкой Бриджит к работе с Анн-Мари было наше обсуждение типов поведения дочери.
Девушка попросила меня написать список «типов поведения, от которых мы хотели избавиться» и список «типов поведения, которых мы хотели добиться». Я посчитала, что это странный и неприятный способ воспринимать Анн-Мари. Я просто хотела, чтобы аутизм ушёл, и она превратилась в гармоничную личность, чем быстрее, тем лучше. Идея рассматривать её как множество хороших и плохих типов поведения казалась мне холодной и неестественной.
Мало того, Бриджит попросила написать список так называемых «поощрений»- предметов, которые мы могли использовать в качестве «наград» для Анн-Мари за хорошее поведение и послушание. Очевидно, Анн-Мари была равнодушна к словесной похвале, так что мы предполагали начать с «первичного поощрения»: кусочков печенья, шоколада, глотков сока.
«Замечательно, – думала я. – Мы спасём нашу дочь от аутизма с помощью упаковки шоколадных конфет и баночки яблочного сока. Так же как дрессированный тюлень выполняет трюки за кусок рыбы. А как насчёт любви? Было ли в этом всём место для любви? Без всякого желания я приготовилась писать списки, всё ещё уговаривая себя, что вся эта жуткая терапия – совсем ненадолго, просто потому что у нас нет другого выбора.
Я сидела против белого листка бумаги, сознавая всю абсурдность ситуации. Какого типа поведения я хотела бы добиться? «Я хочу, чтобы она говорила», – написала я. Неужели Бриджит на самом деле хотела, чтобы я писала такие очевидные вещи? «Я хочу, чтобы она нормально играла с игрушками, я хочу, чтобы она любила нас». О, нет. Это последнее пожелание было слишком чувствительным, недостаточно «поведенческим». Я зачеркнула его. «Я хочу, чтобы она смотрела на нас – разглядывала нас. Я хочу, чтобы она улыбалась». Что же ещё? Я хотела, чтобы она проявляла какую-то инициативу, радость в своём мире; как я могла выразить это с помощью бихевиорических терминов? Также, было бы хорошо, если бы на определённом этапе, она проявила интерес к своим братьям, но я догадывалась, что было ещё слишком рано думать об этом.
«От какого поведения я хотела избавиться? Я хотела, чтобы все симптомы аутизма исчезли!»- думала я сердито. Но я взяла ручку и заставила себя подумать о чём-то конкретном.
«Я хочу, чтобы она перестала так много плакать… чтобы перестала закручивать нитки… чтобы перестала скрежетать зубами… чтобы перестала сидеть в углу спиной к комнате…»
Я перечислила все примеры «стереотипного поведения» и «самостимуляции», которые наблюдала у дочери за последнее время.
Потом я написала свой лист «поощрений» и передала его Бриджит со строгим увещеванием не перекармливать дочь, не давать ей слишком много сладкого и чего доброго не привить ей зависимость к этим печенью и крекерам. «Да, да», – сказала Бриджит. Ей, наверное, не раз приходилось это слышать. «Я буду давать ей очень маленькие кусочки. За двухчасовое занятие она съест максимум два печенья и десять маленьких крекеров.
Мы договорились, что Бриджит начнёт работать так скоро, как сможет, то есть через две недели. Мы решили начать с трёх занятий в неделю, по два часа каждое. Вскоре она перейдёт на пять раз в неделю.
Мне вдруг пришло в голову, что ни один двухлетний ребёнок не в состоянии выдержать два часа терапии подряд, но довольно быстро я отогнала от себя эту мысль.
Прежде всего я обсудила этот вопрос с Джоан из клиники Ловаса, и она уверила меня в том, что дети могут приспособиться к этому: если занятия не были однообразными, и время от времени ребёнок мог передвигаться от стола на пол и обратно, то двухчасовая терапия была вполне приемлима.
Но не только поэтому я не стала спорить насчёт продолжительности занятий. Основной причиной было то, что у нас не было выбора. Эта терапия была единственным методом, который возможно обещал больше, чем «прогресс». Я приняла это как необходимость. Я бы чувствовала то же самое, если бы хирург сказал мне, что необходимо делать операцию для того, чтобы исправить повреждённый клапан в сердце. Хотела бы я, чтобы по отношению к моему ребёнку было применено хирургическое вмешательство? Как бы я отнеслась к мысли, что надо отдать мою девочку в руки чужих людей с ножами? Думала ли я, что ей понравится быть распростёртой на операционном столе и быть напичканой наркотиками до потери сознания? Врядли. Но если бы от этой операции зависела её жизнь, то для меня не было бы никаких сомнений на этот счёт. Два часа, десять часов, сорок часов терапии, которую придётся выдержать Анн-Мари – количество часов не играло для меня большой роли. Это и так было ужасно. Но если это необходимо, то мы сделаем столько, сколько нужно.
Стояли первые дни февраля. Всё происходило слишком быстро, так быстро, что я не успевала отслеживать то, что мы чувствовали и думали в течение этого времени. Страх? Разочарование? Гнев? Надежду? Снова страх? В драме, в которую превратилось спасение Анн-Мари, все актёры постепенно собирались за кулисами. Только что был выход Бриджит. В последующие три недели, остальные действующие лица выйдут на сцену, и будут приняты самые важные решения.
Глава 9
Перед тем, как непосредственно начать занятия, мы должны были совершить небольшое путешествие во Францию. Мы уже давно решили крестить нашего младшего сына во Франции, с семьёй Марка. Все приготовления были сделаны несколько месяцев назад.
– Что мне делать? – спрашивала я свою подругу Эвелин. – Я знаю, что такое путешествие выбьет Анн-Мари из колеи. Но я не выношу мысли о том, что придётся поехать без неё. Что хуже, оставить её дома или взять с собой? Может быть нам вообще всё это отменить? – Я не знаю, – сказала Эвелин. – Думаю, что всё-таки стоит оставить её дома. После долгих мучений мы с Марком решили взять Анн-Мари и Мишеля с собой в четырёхдневную поездку, а Даниэля оставить дома с его тётей Бюрк. Она планировала активно провести выходные, чтобы он не успел соскучиться.
По дороге туда Анн-Мари плакала без перерыва – так же, как по дороге в Испанию. Но в этот раз было гораздо труднее успокоить или отвлечь её. Я и Марк по очереди держали её на руках, но она всё никак не успокаивалась. Дочка зарывалась головой в плечо отца или в моё плечо, но стоило нам заговорить чуть громче или сделать резкое движение, как она снова пускалась в плач.
В довершение всего трое из нас – Марк, я и Анн-Мари – подхватили какой-то ужасный вирус, от которого наши головы и горла были скованы болью, а грудь поминутно сотрясалась приступами кашля. Я никогда не забуду этот полёт: плачущая Анн-Мари, кричащий маленький Мишель, больной Марк и я с натянутыми до предела нервами и пульсирующим от боли телом. Мы с Марком переглянулись через проход. Он только прикрыл глаза и откинулся на своём кресле, не сказав ни слова.
Это был один из тех случаев, когда нужно просто терпеть, ждать пока всё закончится. Надо всё время думать о том, что в этот момент кому-то в мире приходится страдать гораздо сильнее. Я сконцентрировалась на попытке оторваться от своего тела, уплыть куда-то за пределы времени и пространства и просто отдалилась от всего и всех, включая саму себя. Первый день, проведённый с семьёй Марка был напряжённым и немногословным. Весть о диагнозе Анн-Мари была уже известна здесь, и это омрачило то, что должно было быть светлым праздником. Одна из гостей осложнила и без того непростую ситуацию высказыванием своего собственного мнения насчёт того, что случилось. – Oui, c’etait le choc psychologique. – Какая психологическая травма? – спросила я с ужасом. Какой информацией она располагала, а я нет?
Эта женщина не первая, и, скорее всего, не последняя из тех, кто утверждает, что причину ненормальности Анн-Мари следует искать в её окружении. Оказалось, что она прочитала французский перевод сочинения психоаналитика Бруно Беттельгейма под названием «Пустая крепость». Этого было достаточно, чтобы она решила, что причиной аутизма Анн-Мари была какая-то эмоциональная травма. Само собой разумеется такой причиной было рождение Мишеля.
Это лишь одна из всевозможных напастей, с которыми приходится сталкиваться родителям детей-аутистов. Неожиданно наша жизнь превратилась в игру, открытую критическому взгляду всех желающих, и все точно «знали», в чём причина нашей проблемы. Друзья, и даже случайные знакомые, не стеснялись высказывать своё мнение как насчёт причины заболевания, так и насчёт лечения. Если у вашего ребёнка есть отклонения, то очевидно вам необходим совет каждого, пусть он даже абсолютно не разбирается в этом.
Кроме того, на каждого, кто разъясняет вам причину заболевания ребёнка, приходится двое таких, кто утверждает, что вся проблема – это ничто иное, как вымысел, порождение вашего больного воображения. Моя соседка по дому, с которой я неосторожно поделилась своим несчастьем на следующий день после визита к Де-Карло, решила, что может и должна устранить такое глупое недоразумение. На следующий день она остановила меня в подъезде: «Я рассказала всё мужу, и он сказал, что это полная ерунда. С вашей дочерью всё в порядке». Учитывая тот факт, что её муж ни разу не посмотрел на Анн-Мари, мне оставалось только вздохнуть и напомнить себе быть более осмотрительной в будущем.
– Хочешь знать, что я об этом думаю? – сказала одна моя подруга. – Я думаю, что весь этот аутизм – полная чушь. На мой взгляд, она выглядит прекрасно!
– О, то же самое случилось с одной моей знакомой маленькой девочкой, – сказала другая приятельница. – Это произошло как раз после того, как у её мамы появился новорожденный, и девочка стала ревновать и даже остановилась в развитии. Она перестала ходить в горшок, постоянно писелась – и всё это, чтобы привлечь внимание матери! Не волнуйся, скоро это у неё пройдёт.
Эти замечания, которых становилось всё больше и больше с течением времени, были невыносимы для меня. Вместо того, чтобы успокаивать, они только усиливали моё ощущение одиночества. Сведение к минимуму или отрицание проблемы, возможно, помогает кому-то почувствовать себя комфортнее; для Марка и меня это лишь усиливало сознание нашей отчуждённости от общества.
Но во Франции для нас было важно, чтобы хотя бы семья мужа поняла всю серьёзность ситуации. В этом я полагалась на Марка. Я пришла к выводу, что не способна объективно и разумно говорить об аутизме. Когда я пыталась что-то разъяснить своим французским родственникам, я замечала, что начинаю дрожать при попытке говорить спокойно, с клиническими интонациями.
А ведь у нас даже не было точного медицинского заключения. Как могли мы разъяснить другим то, на что даже врачи не могли дать ответ. Марк старался как только мог, объясняя, что исследование ведётся в нескольких направлениях: биохимическом, метаболическом и структуральном; что учёные полагают, что существуют различные формы аутизма, и это, видимо, объясняется различными видами исследования. Ясно было только то, что мы имеем дело с ещё неизученным заболеванием центральной нервной системы. Что конкретно случилось с Анн-Мари, мы не знали.
Родители Марка и его девяностолетний дедушка Папари слушали со вниманием и участием.
– Quel dommage, – пробормотал Папари. Он смотрел на Анн-Мари, и я заметила грустное выражение в его старых усталых глазах.
На следующий день после крещения Мишеля, мы поехали в Париж, чтобы посетить собор Нотр Дам.
Нотр Дам, в своей неземной красоте и прохладной гулкой торжественности, всегда успокаивал меня и давал силы. В этом соборе есть что-то, ободряющее мой дух: символ национального почтения Божьей Матери; образ того, что человек, служащий идеалу, может принести на алтарь Господа: высочайшее искусство, поразительную изобретательность, изнурительный труд, неустанное поклонение.
Но более того; в Нотр Дам я чувствую неизъяснимое блаженство: присутствие, через многие века, Нашей Дамы – царящей там во всём своём блеске, приветствующей всех, кто ищет у неё утешения: угнетённых, несчастных, потерянных.
Миновав статую Карла Великого (?), мы вошли в собор через главный портал и очутились во внутренней части, погружённой в полумрак, освящённый пламенем сотен свечей и светом, проникающим через замысловатые витражи высоко наверху. Мы оставили Мишеля с родителями Марка и вместе с нашей маленькой девочкой пошли поклониться Божьей Матери.
Против статуи Марии я едва могла сформулировать слова молитвы, даже про себя. Я чувствовала себя так, как будто внутри меня существовал шлюз, и стоило мне открыть его, как я знала, что это вызовет новый прилив горя.
Я зажгла свечу и передала её Анн-Мари, в то время как её отец взял другую. Личико Анн-Мари было мягко освещено мерцающей свечой; она спокойно смотрела на свой огонёк.
Я не сказала, а выдохнула несколько страстных слов. «Пожалуйста…Божья Матерь…пусть она вернётся…»
Глава 10
Вернувшись в Нью-Йорк и оправившись от поездки и от гриппа, мы приступили к борьбе, которую на время оставили.
К середине февраля мы показали Анн-Мари пяти специалистам.
Регина Де Карло, доктор наук, невролог-педиатр: «История болезни ребёнка и симптомы указывают на наличие детского аутизма».
Ричард Перри, доктор наук, психиатр*: «Всё говорит о наличии у Анн-Мари (первичного?) нарушения развития: детского аутизма».
Нина Дубровская, доктор наук, клинический доцент педиатрии и психиатрии, медицинский колледж Альберт Эйнштейн: «Она производит впечатление ребёнка, страдающего pervasive (первичным?) нарушением развития с характеристиками синдрома детского аутизма».
Айра Коэн, доктор наук, глава отделения аутизма, нью-йоркский институт базисного исследования нарушений развития: «Диагноз: возможный аутизм».
Как ни странно и парадоксально это звучит, я чувствовала облегчение от того, что четыре из пяти специалистов поставили один и тот же диагноз.** По крайней мере больше не будет этой неопределённости, этого метания от надежды к отчаянию.
Облегчение с одной стороны, а с другой – волны ужаса: ведь Анн-Мари продолжала падать в пропасть. Единственные люди, которые умели спасать детей от аутизма, – команда Ловаса – были недосягаемы для нас. Неужели мы действительно надеялись избавиться от этого «неизлечимого» психоза с помощью академической статьи и двадцатитрёхлетней студентки?
Моя мама подытожила вместо меня: «Мы должны молиться так, как будто всё в руках Господа, а работать так, как будто всё в наших руках».
У нас не было недостатка в помощниках по молитве. Мои родители, родители Марка, друзья и родственники – все они сплотили свои ряды и потрясали Небо своими молитвами. В Ист Хэмтоне, где у нас была дача, сёстры Св. Жозефа, ведомые сестрой Дамиан, повесили в своей часовне фотографию Анн-Мари и каждое утро, стоя на коленях, молились за возвращение маленькой заблудившейся девочки. На юге Франции тётя Марка, монахиня-кармелитка, собирала сестёр на ежедневную молитву, и они все вместе шептали имя девочки, которую никогда не видели.
Что касается работы как таковой, то она ещё не начиналась, если не принимать в расчёт нашего с Марком безостановочного чтения. Бриджит должна была начать занятия через несколько дней, но я чувствовала навязчивую необходимость предпринять что-то самой. Я не могла вынести сознания своей беспомощности при виде своей угасающей дочери. «Господи, пожалуйста, научи меня, что делать, – молилась я, – я не знаю, что делать!» Это, конечно, было замечательной идеей: начать бихевиористическую программу, но я до сих пор не верила в то, что в моих силах было что-то изменить.
Однажды вечером, в очередной раз перебирая кипу книг на моей тумбочке, я наткнулась на одну книгу, которая неожиданно открыла мне глаза на новый образ мышления о состоянии моей дочери. «Осада», книга Клары Парк о её дочери, больной аутизмом, впервые позволила мне поверить в то, что я не беспомощна, что я могла влиять на ситуацию.
«Осада» была написана в то время, когда психоанализ был самым распространённым образом мышления о детях-аутистах, и единственным подходом к болезни было терпеливое понимание. Симпотмы ребёнка-аутиста воспринимались, как нечто, требующее разъяснения, как обдуманные знаки, посылаемые в мир. В этой книге особое внимание уделялось аутизму, как идее выбора, – «желаемая слепота», «желаемая глухота», «желаемая слабость», «желаемое одиночество». Многие страницы были посвящены мучительным попыткам матери постичь мир своей дочки, понять, что у неё на уме и на сердце. * Доктор Перри – руководитель отделения детства и юношества в главной городской больнице Нью-Йорка. Необходимо отметить, что все доктора, упомянутые в этой книге под своим настоящим или вымышленным именем, занимали высокий пост в престижных медицинских учреждениях и имели обширный клинический опыт в диагностике детей-аутистов. Я подчёркиваю этот момент сегодня, так как часто предполагается – обычно людьми практически незнакомыми с нашей историей – что Анн-Мари был поставлен неверный диагноз. ** Я не получила копию отчёта доктора Бермана до тех пор, пока не запросила его через три с половиной года, во время написания этой книги. Тогда доктор Берман написал, что у Анн-Мари идентифицирован «Pervasive (?) отклонение развития – конкретнее не указано». См. Приложение 1 для полного описания критериев и терминологии диагностики. В книге описывается, как медленно и настойчиво, кирпичик за кирпичиком, матери удалось разрушить стены, которые окружали её ребёнка. Атака матери – самая эффективная, так как несмотря на усталость, у неё большой запас терпения. В одной сцене миссис Парк пытается уговорить свою трёхлетнюю дочь бросать камешки в пруд. В течение некоторого времени она сама давала дочери камни; потом решила подождать. Вот они, камни, совсем рядом, в кучке. Протянет ли Элли руку, чтобы самой взять свой камешек?
Нет, она не сделает этого. Не сегодня. Я не давлю на неё. Я знаю, что другого ответа не будет. Моя неподвижность – отражение её неподвижности (?). Я научилась ждать. (стр. 50-51) С самого начала идея «осады» представлялась мне более насильственной, чем созерцательное и терпеливое наблюдение, описанное в предыдущей сцене. Тем не менее, именно в книге миссис Парк я впервые нашла признание того, что и мне была отведена роль в борьбе за свою дочь. По мере того, как я читала книгу, две новых мысли поразили меня: во-первых, то, что Анн-Мари была окружена невидимыми стенами; во-вторых, то, что я должна была разрушить эти стены, причём не с помощью терпения, обихаживания и ласкового обмана, а, применяя гораздо более жёсткие способы сокрушения этой твердыни.
Будто подталкивая себя к менее миролюбивому толкованию слова «осада», в конце книги миссис Парк цитирует сонет Джона Донна, моего любимого поэта, к которому я часто обращаюсь в своей жизни.
По словам миссис Парк, этот сонет не раз поддерживал её в течение бесконечной битвы за любовь дочери. Интересно, мечтала ли она о том, что через двадцать пять лет после того, как она написала эту книгу, другая мать другой дочери склонит голову в знак признательности за идеально подобранный образ.
Стихотворение Донна стало моим собственным боевым кличем. Оно более, чем «поддерживало» меня, оно вдохновляло меня начать то, что должно было стать «штурмом» моей дочери, штурмом любви, после которого не останется ни одной закрытой двери.
Я не училась ждать; я училась подкрадываться и нападать, я училась завоёвывать.
Это стихотворение было для меня как бы словами Анн-Мари, обращенными к нам, людям, любящим её. Жестокость образов сонета – сражение, покорение, сжигание, поражение и финальное насилие – была пугающей. Но не более, чем аутизм.
С самого начала я чувствовала, что что-то «овладевает» моей дочуркой, и если бы она знала и могла говорить о том, что с ней происходит, она бы, без сомнения, позвала на помощь. Я была уверена, в том, что и сейчас в ней существовала маленькая испуганная девочка, и если для того, чтобы добраться до души Анн-Мари надо было сразить, покорить, сжечь, сломить и уничтожить часть её, поражённую болезнью, я бы, не колеблясь, сделала это.
Она принадлежала сейчас чему-то «иному», и если мы не вырвем её из цепких лап аутизма, то она никогда больше не будет свободна.
Тем вечером я набросала первые заметки в свой журнал, первый черновик плана сражения.
«Она не будет сидеть в углу. Она не будет играть с нитками. Она не будет не смотреть на меня. Она не будет молчать. Как бы ей этого не хотелось. Я не позволю. Она будет втащена, пусть визжа и отбрыкиваясь, в человеческое состояние». (?)
Я знаю, что иногда употребляю такие термины, как «личность», «часть личности», «личность аутиста», и всё это необъяснимые, размытые понятия, не обозначающие ничего такого, что могло бы быть показано или имело действенную силу. Это только символические обозначения. О том, что такое «личность», я знаю не больше, чем о том, что такое «душа». Я живу своей жизнью, думаю о чём-то своём, как будто знаю, что всё это значит. Я использую слова, значения которых менялись со временем и будут продолжать меняться. Когда я говорила, что «личность» Анн-Мари исчезает, это частично потому, что я верила в это – она была самостоятельной личностью до того, как началась регрессия, и моя девочка стала гаснуть на глазах, – и частично оттого, что мне очень хотелось верить в то, что там ещё был кто-то; маленький человечек, который будет ждать пока мы пробьёмся к нему, кто-то, ради кого были выплаканы все эти слёзы.
Даже в самом начале я никогда полностью не доверяла идее психоанализа о ребёнке, запертом в стенах добровольно выбранного им аутизма. Сегодня же я открыто порицаю этот подход и считаю, что он причинил огромный вред. Но тем не менее, родителям, которые решили бороться за своего ребёнка, необходима некоторая видимость стен, в которых этот ребёнок заперт и ждёт освобождения.
Этому ребёнку принадлежит наша любовь. Какое влияние, автономию и право выбора мы готовы предоставить этому ребёнку, и когда, – это уже другая история.
После Бриджит Тэйлор, следующим актёром на нашей сцене была Робин Розенталь – специалист по языковым и речевым патологиям, которого нам порекоммендовал Стивен Блостайн. Ни я, ни Марк не знали, чем занимаются специалисты такого профиля, особенно с детьми, у которых функция речи и языка почти отсутствует. Но я доверяла совету Стивена, и это давало мне ощущение, что я делаю что-то конкретное на пользу Анн-Мари. Само собой я не надеялась, что придёт врач, и Анн-Мари волшебным образом заговорит, но я предполагала, что лишняя стимуляция, направляемая специалистом, не повредит.
Уже в конце января, до нашей поездки во Францию, я провела собеседование с тремя терапевтами; у всех имелись учёные степени самых престижных университетов. Но никто из них и не представлял, что делать с Анн-Мари! Они ходили за ней по всему дому, пытались говорить с ней, но их слова проплывали над головой девочки. Форма их монологов изначально была вопросительной.
– Что ты делаешь, Анн-Мари? Протаскиваешь мишку через стул? Ты любишь это делать? Мне это тоже нравится. Давай играть вместе? Как зовут твоего медвежонка? Это очень красивый мишка. Сколько ему лет? А сколько тебе лет? Может быть, найдём одеяло для мишки? Укроем его?
Посреди этой тирады Анн-Мари вдруг поднималась и выходила из комнаты, не обращая внимания на вихрь вопросов, нёсшихся ей вдогонку.
Терапевты очень нервничали и испытывали определённое неудобство, так как знали, что им не пробиться к Анн-Мари.
– Я никогда раньше не работала с детьми-аутистами, – извиняющимся тоном призналась одна женщина, когда я сказала ей, что ничего не получилось. Мне было немного жаль её.
– Всё в порядке, – сказала я, – я найду ещё кого-нибудь.
Она обернулась перед тем, как уйти. Её глаза были полны слёз. Она сказала, что у неё тоже была маленькая дочка. – Я просто… Я просто хотела пожелать Вам удачи, – выдохнула она и быстро вышла. – Спасибо, – прошептала я, когда за ней захлопнулась дверь. Потом, сразу после того, как мы вернулись с крещения Мишеля, появилась Робин. Она пришла к нам как-то вечером после своего рабочего дня в госпитале Мт. Синай, в центре нарушений общения. (?)
Как и Бриджит, она была очень молода – двадцать с небольшим, как мне показалось. Она была небольшого роста, с коротко остриженными тёмными волосами и глубокими, красивыми карими глазами.
Она вошла в гостиную, села и начала говорить со знанием дела и с благожелательностью. Во время разговора она подалась вперёд, готовая как информировать, так и слушать. Она не стала углубляться в какую-то общую тему, например, как я заботилась о себе и думала о своих нуждах. Прежде всего она заговорила о том, чем она занималась и какую помощь могла предложить Анн-Мари.
Она объяснила, что специалист по речевым и языковым патологиям был (обычно) обучен разрешать не очень сложные проблемы как речевого (физическое воспроизводство артикулятивных звуков), так и языкового профиля (связь между информацией и идеями). Ей удалось передать мне свою мысль о том, что, да, аутизм действительно являлся серьёзной проблемой, так что нам лучше было приступить к делу: у нас было чень много работы.
По словам Робин, большинство детей-аутистов всё-таки имеют какие-то элементраные навыки общения. Даже крик, визг и бессмысленные фразы можно считать формами произвольного общения, особенно если они усиливались в присутствии другого человека. Главная функция речевого специалиста – попытаться направить это общение в более приемлимые и полезные формы.
Как она это собирается делать? Она начнёт с того, что будет создавать такие ситуации, в которых Анн-Мари будет мотивирована (?) что-то сказать или попросить. Даже если на этом этапе Анн-Мари ничего не скажет, а только укажет на что-то, дотронется до чего-то или издаст звук для того, чтобы получить желаемый объект или привлечь к чему-то внимание Робин, это всё равно будет считаться «произвольным общением». Даже если она значительно посмотрит на Робин, чтобы та надула её воздушный шарик, например, это будет считаться попыткой к общению: провербальной формой общения.
Основной же целью было увеличить частоту и приемлимость каждого акта общения. Для этой цели Робин уточнит конкретные задания, над которыми мы все будем работать в течение каждой недели.
В течение первой недели мы начнём с моделирования звука «еее…» вместо «ещё», каждый раз, когда Анн-Мари хотела сока, еды или игрушку.
Смысл был ждать, держать в руках желаемый предмет и чётко повторять звук, пока Анн-Мари по крайней мере не посмотрит в глаза взрослому.
Я сказала «хорошо». Идея казалась мне неплохой, хотя и напоминала мне что-то наподобие того, что я пыталась делать сама, но безрезультатно. Но Робин говорила о конкретных лингвистических целях. Казалось, у неё был разработан план действий, а также она хорошо знала каковы нормальные этапы осовоения языка у очень маленьких детей.
Мы проговорили около получаса. Затем Робин спросила, не могла бы она прямо сейчас поработать с Анн-Мари. Я согласилась и провела её в комнату дочки.
Я наблюдала за тем, как она вынула из сумки шарики и надувные игрушки. Робин приступила к работе, пытаясь привлечь внимание Анн-Мари. Естественно, в то первое занятие я не увидела большого прогресса в общении, но Анн-Мари хотя бы не сопротивлялась. Она осталась в комнате и даже немного поиграла несколькими игрушками Робин. Она была спокойна, не плакала, несмотря на то, что рядом с ней находился абсолютно чужой для неё человек.
Через некоторое время Робин положила игрушку в пластиковый пакет и поднесла его к лицу девочки. Анн-Мари заингригованно смотрела на игрушку. Робин протянула ей пакет. Анн-Мари попыталась открыть его, но у неё ничего не получилось. Огорчённая, она принялась хныкать. Она схватила руку Робин и попыталась положить её на верх пакета. Робин сопротивлялась до тех пор, пока Анн-Мари, наконец, не взглянула ей прямо в глаза. Сразу после этого Робин улыбнулась ей и сказала: «Открой!» Затем она окрыла пакет и протянула игрушку Анн-Мари.
Я выскользнула из комнаты и продолжала слушать из коридора. Никакого плача или даже хныканья. Только короткие замечания Робин. Всё, на что падал взгляд Анн-Мари, она описывала короткими фразами («Я надуваю шарик») или одним словом («машинка»). Её голос звучал ясно и чётко. Я вдруг поняла, что она, как бы, возвращалась к самым истокам языка.
Она говорила с Анн-Мари так, как бы мать говорила с десятимесячным младенцем. Она говорила высоким голосом – так, как мать обращается к своему малышу. Её язык был сфокусирован и понятен. Самые длинные предложения, которые она строила, состояли из трёх-четырёх слов. Но, в отличие от матерей, Робин избегала в своей речи вопросы и большинство местоимений, включая местоимение «ты». Анн-Мари ещё не была готова к ним. Лексикон Робин был гораздо более ограничен, чем лексикон матери. Мать тоже использовала бы простые, состоящие из одного слова, указательные предложения при общении со своим ещё не начавшим говорить ребёнком, но также она употребляла бы фразы, которые, она знала, находятся за пределами понимания малыша. Она бы не стала редактировать свой язык, подстраиваясь под уровень ребёнка. Скорее всего во время обычной материнской болтовни она бы невзначай ввернула несколько слов, которые не были бы понятны ребёнку.
Одной из моих первых песенок для Даниэля (когда ему было всего два месяца) была: «Я люблю моего Даниэля/ Мой Даниэль любит меня…», несмотря на то, что я, конечно, знала, что он не может «вникнуть» в суть семантических трансформаций, присущих местоимениям «я», «мой», «меня», и что понятие «любовь» он осваивал через интонации моего голоса, тепло моего тела, объятие моих рук, нежели посредством самого слова.
Язык Робин был чище и понятнее: речь матери без всяких сбивающих с толку излишеств. Речь матери в сочетании с конкретной лингвистической целью в голове. Речь матери, направленная на простейшие языковые единицы: обозначения, состоящие из одного слова («кукла»), или просьба («ещё»). Видимо мы нашли кого-то, кто знал, что делал.
В любом случае, мне так нравилось профессиональная заботливая манера поведения этой молодой женщины, что я и так была готова взять её. То, что кому-то удалось хотя бы на короткий промежуток времени занять чем-то Анн-Мари, само по себе казалось большим достижением. Это и было большим достижением.
Робин была первой, кто смог (хотя бы на сорок пять минут) снять с моих плеч непосильный груз. Когда он пошла в ту комнату вместе с Анн-Мари, я почувствовала, что снова могу дышать. Я могла просто оставить всё, как есть. Кто-то другой заботился сейчас о моей дочери, кто-то, кому я доверяла. Я не знала приведёт ли речевая терапия Робин к тому, что Анн-Мари заговорит, но я знала то, что она хотя бы не даст ей сидеть в углу и стучать предметом о предмет. По понедельникам, средам и пятницам, когда приходила Робин, бодрая, заботливая, искрящаяся энергией, я забирала Даниэля в свою спальню и просто ложилась на кровать, абсолютно обессиленная. Я обнимала сына, пока он беззаботно болтал. Иногда у меня возникало ощущение, что эти сорокапятиминутные занятия Робин с Анн-Мари были необходимы мне: как будто, если бы она не пришла и не принесла этого облегчения, то я бы разбилась вдребезги на тыячи бесполезных кусочков.
– Вы уверены, что не сможете работать двадцать часов в неделю? – спросила я её со всей серьёзностью.
– Нет, – ответила она. – Вам действительно необходимо составить специальную программу для Анн-Мари и найти кого-то вроде меня, кто бы обеспечил необходимую терапию.
Я рассказала ей про программу доктора Ловаса, которую мы собирались начать. Она вежливо выслушала, но, так же как и Бриджит, ничего не сказала про шансы на выздоровление.
Робин хотела помочь нам. Для меня было очевидно, что она будет использовать всё своё знание и умение для того, чтобы облегчить кризис, в котором оказалась наша семья. Но она не станет покупать нашу благодарность и любовь, обещая то, что она не могла нам дать. Я поняла, что мне это подходит. Я всё равно хотела, чтобы она была на нашей стороне, чтобы она боролась за Анн-Мари вместе с нами.
Так что всё шло неплохо. У меня уже был один человек, в котором я была уверена; один тип лечения, насчёт которого не возникло мгновенных сомнений или оговорок.
Бриджит должна была приступить к работе на следующей неделе. По плану она должна была приходить заниматься с Анн-Мари пять раз в неделю, по два часа в день, пока мы искали других терапевтов, которые могли уделить нам больше времени. А пока мы сами должны были научиться некоторым техникам, наблюдая за Бриджит, а также следовать программе, обеспечивая её исполнение в течение дня Анн-Мари.
Двадцать второго февраля я привела дочку в её комнату на её первое занятие с Бриджит. Я очень нервничала. Да, штурм; да, радикальный подход. Но с моей помощью, без вмешательства чужих и без этой «модификации поведения». Бриджит разложила по комнате разные игрушки: мозаику «паззл», игрушки с кнопками, пирамидки, игру по составлению фигур и специальное кольцо, которое издавало звуки различных животных при дёргании за шнур, исходящий от него.
Я заметила, что все эти игры были предназначены для детей в возрасте от 12 до 18 месяцев. Я сделала достаточно логический вывод: раз Анн-Мари не играет так, как следует, ни с какими игрушками, то нам лучше попробовать научить её играть с игрушками для совсем маленьких детей, чем сразу объяснять девочке все премудрости игры в куклы. Снова имелась тенденция возвращения к началу: повторение уже пройденных этапов роста и развития в определённых видах жизнедеятельности с целью достичь норм её возрастной группы.
Анн-Мари уже начала хныкать. Бриджит была очень серьёзной. Она пугала меня. В отличие от Робин, она не пыталась успокоить и задобрить Анн-Мари с помощью воздушных шариков и забавных игр. Она должна была работать. Она знала, что у нас нет времени. Нам пора было начинать. Никаких задушевных разговоров с матерью. Нельзя терять ни минуты.
На столе она разместила предметы поощрения: яблочный сок, крекеры, разломанное на кусочки шоколадное печенье. Она достала тетрадь и ручки. Также она вынула часы и положила перед собой. Она поставила два стула – один для себя, один для Анн-Мари – близко друг от друга, лицом к лицу.
Наблюдая за этими приготовлениями, в то время как Анн-Мари скорчилась от плача на полу, я чувствовала себя как ошеломлённый и не верящий ни во что уцелевший участник катастрофы. Передо мной была моя напуганная дочь. Также передо мной был представитель медиков – холодный контроль, быстрые и уверенные решения, точно рассчитанные движения. Всё это уже делалось сотни раз раньше. Извините, дамочка, истерики никому не помогут, так что отойдите в сторонку и не мешайте нам делать своё дело.
Как только Бриджит посадила Анн-Мари на стул напротив себя, плач перешёл в истерику. Анн-Мари пыталась слезть со стула; Бриджит жёстко усаживала её обратно. Она упала на пол; Бриджит подняла её и снова посадила на стул. Она попыталась закрыть лицо руками; Бриджит отняла руки от лица и держала их ей на коленях.
Анн-Мари была ужасно напугана и поражена. Она повернулась и посмотрела прямо на меня, впервые за многие недели. Её рот подёргивался.
От напряжения я покрылась холодным липким потом. Было ли правильно то, что мы делали? Правильно ли я поступала? Но я же сама хотела штурма, атаки. Не я ли так недавно решила, что мы «вытащим» дочь из аутизма? О, Господи, что я хотела?
Применение физической силы для того чтобы заставить ребёнка сделать что-то против его воли (особенно ребёнка, казавшегося беззащитным, напуганным до ужаса) – это противоречило всему, что я когда-либо слышала о воспитании детей. Что я говорила этим своей дочке? Она обращалась ко мне за помощью. Как я могла отказать ей? Я глубоко выдохнула и удержала себя от побуждения броситься на помощь дочке.
Первая программа была очень простой: «Посмотри на меня».
Бриджит повторила эти слова десять раз подряд, держа предмет поощрения на уровне глаз, а другой рукой поднимая подбородок Анн-Мари. Каждой из десяти «отдельных попыток» давалась оценка в тетради. Плюс – если Анн-Мари посмотрела добровольно, минус – если она не посмотрела вообще и «плюс с натяжкой» – в случае, если она посмотрела с помощью физической подсказки или поощрения в качестве еды. Я то входила, то выходила из комнаты. Оставаться там и наблюдать было очень тяжело. Я была не в силах видеть Анн-Мари в таком положении и сознавать, что ничем не могу помочь ей. Но я заключила соглашение с собой, с Марком, с Бриджит о том, что мы дадим шанс этой терапии, а если мы решили попробовать, то я должна была, как минимум, дать Бриджит завершить занятие.
Казалось, Бриджит абсолютно не трогал плач Анн-Мари. Как она могла оставаться такой спокойной? У неё, должно быть, не было сердца. Она продолжала занятие, как будто ничего не случилось. После каждой попытки типа «посмотри на меня», она предлагала Анн-Мари крекер и хвалила её: «Хорошо смотришь, Анн-Мари!» или «Мне нравится, как ты смотришь!» Анн-Мари отказывалась брать крекеры, но Бриджит это нимало не беспокоило. Она продолжала давать девочке еду и хвалить её, несмотря на то, что она сама «подсказывала» ей движение, а сама Анн-Мари и не думала смотреть на неё. – Бедный ребёнок, – вздохнула Пэтси. Анн-Мари плакала вот уже в течение часа. – Я знаю, Пэтси. Но мы должны… больше ничего нет… Бриджит не причинит ей вреда, она просто усаживает её на стул.
В конце концов плач стал утихать. «Хорошая тишина! Мне нравится эта хорошая тишина, Анн-Мари!» – говорила Бриджит, каждый раз когда плач прекращался. Она очень конкретно называла действие или поведение, которое хвалила в Анн-Мари. Это была какая-то неестественная манера обращаться к ребёнку, и я не представляла, как скоро мы с Марком начнём упражняться в этой рефлексивной похвале и перечислении действий Анн-Мари.
Я снова вошла в комнату.
Второй час прошёл немного лучше, чем первый. Теперь уже Анн-Мари принимала некоторые первичные* предметы поощрения из рук Бриджит, а её рыдания превратились в спорадические всхлипывания. Каждая минута двухчасового занятия была потрачена на конкретную, структурированную деятельность. Занятие состояло из десяти повторений «Посмотри на меня», сидя на стуле, потом следовал перерыв на игру на полу – «пазл» или игрушка – затем опять занятие на стуле. Но даже во время игры, Бриджит руководила действиями девочки, складывая фигуры в её руках, направляя её руку к крышке коробки с фигурами. «Хорошо складываешь круг!» «Хорошо складываешь квадрат!»
В какой-то момент Анн-Мари решила, что её хочется кусочек печенья. Она схватила руку Бриджит за запястье и показала ей на еду.
В тот же момент я увидела, как Бриджит отдёрнула руку и схватила руку Анн-Мари, также за запястье, и вытянула её вперёд.
– Вот. Ты хочешь это. Покажи. – Она сформировала указательное движение из пальцев Анн-Мари. *Под «первичными» предметами поощрения подразумеваются кокретные «награды», например, конфеты, глотки сока, даже маленькие надувные игрушки. «Вторичным» поощрением являются более абстрактные понятия, они включают в себя социальные «награды», такие как похвала или объятия. Я с трудом контролировала себя. Мне очень не понравилась самоуверенная узурпация Бриджит воли Анн-Мари, её физического контроля. Неужели я должна позволить этой женщине продолжать в том же духе?
Одним делом было принять решение об особом отношении к Анн-Мари, но совсем другим – видеть, как совершенно чужой человек навязывает ей свою волю. Я буквально разрывалась на части.
После занятия Бриджит была полна энергии, как и до него. Я же была опустошена. – Всё прошло довольно хорошо. – Но ведь она ненавидела это, – сказала я, – она проплакала целый час. – То, что она плакала час, вполне предсказуемо. Никто прежде не заставлял её обращать внимание на что-то конкретное. Эти дети очень сопротивляются внешнему вмешательству, а тем более тем интенсивным заданиям, которые мы им даём.
Только благодаря тому, что в своё время мне пришлась по душе идея «атаки», я смогла убедить себя не сопротивляться методу модификации поведения.
Да, видимо, нам не придётся нежно и ласково вывести Анн-Мари из аутизма. Я понимала это. Если бы любовь и понимание могли вылечить ребёнка от этого психоза, у болезни не было бы столь печального прогноза. Даже если предположить,что находились такие холодные, чёрствые родители, которые не смогли окружить своего малыша любовью и заботой, существовала целая армия психологов, психиатров и социальных работников, которые тоже пробовали пойти этим путём и не добились никаких результатов. Некоторые из них до сих пор предпринимали безуспешные попытки в этом направлении. «Дети-аутисты неизлечимы» – было их девизом.
Я уже убедилась в том, что какое-то радикальное усилие было необходимо. Но какое именно усилие, что за «осада»? Я сомневалась, что модификация поведения была правильным способом. Я чувствовала на себе непосильную тяжесть ответственности. Мы были обязаны принимать правильные решения. Будущее Анн-Мари зависело от решений, принятых мной и Марком сейчас.
В таком расположении духа – в неуверенности, тревоге – судьба привела меня к Марте Велч и терапии объятия. Я испытывала необходимость смягчить идею насильственного вмешательства идеей любви, и поняла, что в терапии объятия я нашла идеальную комбинацию. Я была настолько уверена, что терапия объятия была нашим «спасением», нашим «магическим амулетом», что почти потеряла нашего главного союзника, Бриджит.
Глава 11
Один наш друг позвонил, чтобы сообщить новости о новом виде терапии – терапии объятия. Практически невозможно передать, как быстро всё происходило. Робин приступила к работе, Бриджит приступила к работе, я читала «Осаду», а также я была впервые представлена доктору Велч и узнала о терапии объятия – и всё это произошло в двухнедельный отрезок времени, в две последние недели февраля. Озарения, размышления, принятие и пересмотрение решений валились на нас один за другим с головокружительной скоростью.
Наш друг рассказал нам о книге Нико и Элизабет Тинберген под названием «Дети-аутисты: новая надежда на выздоровление». Супруги Тинбергены были учёными-этологами, и их основным полем деятельности было изучение птиц, но они заинтересовались детьми-аутистами, так как заметили, что существует много общего в поведении птиц и детей-аутистов.
Тинбергены презрительно отзывались о нейробиологическом исследовании в аутизме, который получил широкое распространение за последние пятнадцать лет, и разбивали его в пух и прах на нескольких страницах своей книги. Они предполагали, что аутизм – это «эмоциональный конфликт, в основе которого лежит страх», вызванный, в основном, неудачным контактом матери и ребёнка в первый год жизни, а ключ к пониманию симптомов аутизма лежит в конфликте «избежание контакта». Его суть в следующем: ребёнок с одной стороны хочет испытать новое социальное общение и приобрести новый опыт, но с другой стороны он чувствует гораздо более сильную потребность избегать новых контактов. Не имея прочной связи с матерью, у этого ребёнка нет основы для уверенности в собственной безопасности, для того чтобы постигать мир, как все дети. Результаты катастрофичны. Психика ребёнка, как бы, фиксируется на младенческом этапе: где-то между одним и двумя годами. Он не может отучиться от привычек, характерных для этого возраста (ходить на цыпочках, тянуть разные предметы в рот). Они становятся постоянными и неуправляемыми до такой степени, что их можно определить, как ритуальные действия.
Вооружённые этой теорией, Тинбергены были уверены, что раскрыли тайну поведения больных аутизмом. Так, в кружении на одном месте они видели первый этап попытки сближения, за которым следовал первый этап отказа от общения/отдаления. Эти движения повторяются снова и снова, так что ребёнок начинает кружиться волчком. Точно так же дрожь в теле рассматривалась как «последовательность попыток сближения и отдаления». Привычка стучать предметами друг о друга объяснялась детским осязательным любопытством, с единственным отличием от обычных детей в том, что дети-аутисты не осмеливались пойти в своих исследованиях дальше этих опытов: прикосновения-отдёргивания, прикосновения-отдёргивания. Подвёрнутые внутрь пальцы, свойственные большинству детей-аутистов, – это фиксированная позиция пальцев, которая иллюстрирует как попытку к сближению, так и к отдалению: ребёнку хочется что-то взять, но он не осмеливается.
А как насчёт припадков, которые иногда охватывают больных детей? Уж они-то точно не объясняются намеренными попытками к сближению в сочетании с чрезмерным страхом. Однако, по словам Тинбергенов, именно так и объясняются. Большинство припадков могут расцениваться как «вид конфликтного поведения, в основе которого – сильное, но подавляемое желание сбежать, спрятаться».
А как быть с отсутствием речи? Это было очевидно. Дети-аутисты просто-напросто «отказываются» говорить. Они прекрасно понимают всё, что говорится вокруг них и вполне способны отвечать, но не осмеливаются сказать и слова, настолько они парализованы своим страхом.
На этом Тинбергены не останавливались. Эта книга была моим первым серьёзным знакомством с психогенической теорией аутизма. Очередь Бруно Беттельгейма ещё не наступила.
Но всё это звучало очень убедительно! Я верила, что нашла ответ! Почему? Разве это не было таким же причудливым, необоснованным анализом, который совсем недавно я отвергла с таким негодованием? Не удивило ли меня это возвращение к прошлой эре, когда матери считались причиной заболевания?
Сейчас всё это отошло на второй план.
Тинбергены говорили о том, что я так жаждала узнать: как понять своего ребёнка и как его вылечить.
Идея того, что Анн-Мари была, как бы, парализована страхом была более менее приемлима для меня. Это давало мне объяснение, хотя бы на первое время, некоторым её привычкам. Я и сама думала о том, что то, что девочка избегала любое общение, было как-то связано со страхом, и я уже была готова поверить в то, что все другие симптомы были связаны с одним, главным.
Но ещё труднее было сопротивляться уверенности Тинбергенов в возможности выздоровления. Подзаголовок их книги гласил: «Новая надежда на выздоровление». Они говорили: «Вы сможете вылечить своего ребёнка от аутизма, если заново наладите с ним «взаимоотношения». Если матери удастся наладить этот контакт, то спираль будет перевёрнута, и ребёнок будет спасён от болезни».
А как ей налаживать эти «взаимоотношения»? С помощью терапии «объятия». Сущностью книги Тинбергенов, их средством от аутизма была терапия объятия.
Марта Велч, детский психиатр, – была главным «проповедником» терапии объятия в США. Ей уделялось немалое внимание в книге Тинбергенов. Собственное сочинение доктора Велч о терапии объятия приведено в одном из приложений в конце этой книги.
Объятие нужно практиковать каждый день, по часу или более в день. Мать с силой держит ребёнка напротив себя и таким образом позволяет ему узнать о своих подлинных чувствах. Поначалу таким чувством может быть даже гнев из-за того, что ребёнок «отталкивает» её. Каждое объятие заканчивается, когда матери удаётся добиться какого-то «решения»: ребёнок льнёт к телу матери, смотрит на неё, исследует её лицо пальцами и (теоретически) начинает говорить с ней.
Книга Тинбергенов полна забавных историй о бывших детях-аутистах и об их чудесном выздоровлении посредством объятия. Я с жадностью набросилась на эти истории. Я перечитывала их по многу раз поздно ночью. Я читала их вслух Марку. Мы сошлись на том, что возможно, доктору Ловасу удавалось вылечить некоторых детей, следовательно выздоровление возможно, а эти Тинбергены нашли альтернативное решение проблемы.
Я не понимала, как с помощью медвежьего объятия можно передать ребёнку какие-то эмоции, но намеренно избегала все логические вопросы такого типа. Я быстро пробежала те части, в которых проглядывало возвращение к издержкам психодинамического метода, вместо этого сосредоточившись на главах, где говорилось о выздоровлении. Ничто не могло омрачить моего энтузиазма, моей веры.
Я объяснила эту теорию своим родителям. Их ответ был гораздо более сдержанным, чем я ожидала. – Звучит интересно, – сказала мама. Интересно? Неужели она не понимала, что это и есть то чудесное средство, которое мы искали? Я прочитала вслух несколько страниц Бюрк, моей сестре. – Я в это не верю, – вяло сказала она, – как именно тебе не удалось «наладить контакт» с Анн-Мари?
Я нетерпеливо решила не пытаться объяснять этим Фомам (?) неверующим, что теория с небольшим изъяном может предлагать весьма эффективную терапию.
Так или иначе идею контакта матери и ребёнка было гораздо проще понять и принять, чем бихевиористический подход. Мне было необходимо верить в то, моя любовь спасёт мою дочь – только моя любовь, а не заученные, механические занятия с чужим человеком. (?)
Если книга Тинбергенов стала моей библией, то Марта Велч стала моей наивысшей духовной наставницей: непогрешимой, обладающей способностью проникать в души детей.
– Здравствуйте, доктор Велч? Это Кэтрин Морис. Моей дочери недавно поставили диагноз аутизм, и мне бы очень хотелось встретиться с вами…
– Поезжайте с ней в Материнский Центр, в Коннектикут. Там вы найдёте много таких же матерей, которые занимаются терапией объятия со своими детьми. – Я бы не хотела этого делать. Мне необходимо поговорить с вами о вашей работе. – У меня нет времени прямо сейчас… Сколько лет, вы сказали, вашей дочке? – Почти два года. Последовала пауза. – Ну хорошо. Приводите её. Очаровательная, излучающая энергию доктор Велч без конца расточала объятия и нежные спонтанные ласки. Без малейшего стеснения или сомнения она могла погладить меня по волосам или, к моему смущению, взять мою руку в свою и долго не отпускать её. В её оффисе – маленькой комнате в её квартире на Пятой авеню – всюду на полу были разбросаны подушки, а стены пестрели от надписей, оставленных благодарными клиентами. У неё не было секретаря, как и не было никаких бумаг, кроме как счёта, который выписывался после каждого занятия. Она не просила показать диагноз Анн-Мари или заключения других врачей. – Какая очаровательная мамочка у Анн-Мари, – промурлыкала она, улыбаясь мне в глаза и не отпуская моего взгляда. А потом прибавила с грустным выражением: «Какое тяжёлое время вам пришлось пережить!»
Мои глаза наполнились слезами, но я не собиралась скрывать их, только не перед этой любящей женщиной. Какой она была заботливой, какой естественной, какой сочувствующей. Я превратилась в капельку желе, вся моя сердитая самозащита растаяла под волной теплой искренности.
Что касается Анн-Мари, то, конечно же, она вылечится! Дрожь надежды пробежала по моему телу. Моё дыхание участилось.
– Откуда вы знаете? – почти шёпотом спросила я доктора Велч, ненавидя себя за то, что задала такой циничный вопрос, за намёк на то, что я позволила себе усомниться в ней. – О, она выглядит, как одна из этих перспективных детей. Ну хорошо. Эта доктор Велч была очень опытной. Она, наверняка, знала о чём говорила. Я спрошу её о том, что она имела ввиду… в другой раз.
– Сколько детей в вашей практике вам удалось вылечить? – я предположила, что хотя бы это я могу спросить. – О, вы… Да я вижу, вы из тех, кто всегда интересуется цифрами и статистикой… Её тёплая улыбка могла победить любую критику. Я виновато опустила глаза. Это было правдой. Я всегда интересовалась цифрами и информацией. Я была такая холодная. Доктор Велч всё ещё спокойно смотрела на меня и улыбалась.
– Хорошо, я отвечу на ваш вопрос: пятьдесят процентов вылечившихся детей. И я имею ввиду на самом деле вылечившихся! Они говорят! Думают! Чувствуют! Как мы с вами!
Моё сердце вздрогнуло от этих завораживающих слов. О Боже… Я сделаю всё… всё. Только научите меня, что делать, доктор Велч.
– Позвольте мне показать вам видеозапись. На ней одна мать занимается терапией объятия со своим ребёнком… Вы увидите прелестную картину.
Я смотрела на экран, где мать обнимала свою дочку. Девочка неплохо говорила. «Мои руки! Отдай мои руки!» – кричала она поначалу. После нескольких перематываний кассеты вперёд девочка на видео казалась гораздо более спокойной и говорила своей матери, какая она красивая.
– Да, – я легко сдалась. – Несомненно, это очень сильно, очень трогательно… но… но скажите мне, сколько лет этому ребёнку? – Два года. – Два года!…Но она говорит! Она так хорошо говорит! Доктор Велч сказала, что она действительно была очень развита для своего возраста. – Господи. Она тоже больна аутизмом? Когда ей поставили диагноз? – Нет, она не аутист. Я просто хотела показать вам, как выглядит типичное занятие. – Понимаю, – сказала я, но при этом чувствовала себя немного обманутой. Почему она не показала мне занятие с ребёнком-аутистом? Разве это не то, о чём мы говорили? Мне хотелось услышать ребёнка-аутиста, который бы так говорил, так спокойно, уверенно. Но я быстро отогнала от себя эту критическую мысль. Скорее всего у неё просто не оказалось такой кассеты сегодня. – Когда придёте в следующий раз, приводите и мужа. Я буду ждать вас в понедельник. – Конечно. Спасибо. Огромное вам спасибо. Когда я уходила, доктор Велч вспомнила, что хотела показать мне ещё кое-что. Она подошла к двери с изданием журнала «Лайф» и сказала, что там описана её работа с ребёнком-аутистом, и я могла прочитать статью, если хотела.
Конечно, я хотела. Я прочитала её, со рвением новообращённой. Я была ошеломлена и возбуждена. Статья описывала девочку по имени Кэти. В раннем детстве ей был поставлен диагноз аутизм. Потом она встретила доктора Велч, и та, по словам девочки, была «первой, кто отнёсся ко мне как к человеку». Согласно статье, под заботливым присмотром доктора Велч и посредством терапии объятия, Кэти «выбрала» мир человеческого общения вместо аутизма. Её состояние настолько улучшилось, что теперь она занималась письменным анализом своей собственной болезни.
Статистика, приведённая в статье, была ещё более устрашающей, чем даже в медицинской литературе, которую читали мы с Марком. В упоминании о бихевиористическом подходе тоже было мало обнадёживающего:
… ограниченные результаты, которых добились специалисты по бихевиористическому методу, а также по лекарственной терапии… привели к тому, что аутизм принято считать неизлечимым заболеванием. Если учесть, что 95 процентов из всех взрослых-аутистов в той или иной степени нуждаются в госпитализации, такой пессимистический прогноз врядли кого-то удивит.
Но с помощью терапии объятия, статья не уставала повторять, Кэти удалось избежать этого печального прогноза.
… если судить по улучшению состяния Кэти – чьё красноречие на письме переопределяет аутизм, как ужасный выбор между безопасностью и свободой – это (пессимистическое видение проблемы) несколько преждевременнно. (?) Я не могла оторваться от чтения. Я очень обрадовалась, увидев подтверждение этому сказочно высокому проценту вылечившихся: «Пятьдесят процентов пациентов доктора Велч смогли начать жить нормальной жизнью». Пятьдесят процентов! Это был такой же результат, как и у Ловаса. Я немедленно отксерокопировала статью и послала её моей матери. Но когда спустя несколько дней я позвонила ей, то снова была разочарована её реакцией. Она была такой недоверчивой, такой сдержанной. Хорошо, ну и что, что это не «Нью Ингланд Джорнал оф Медисин»! Неужели она не видела, что это Бог внял нашим молитвам? Она сама говорила мне много раз, что пути Господни неисповедимы. (?) Где же была её вера? Кроме того, в статье несколько раз приводились стихи Кэти. Это была поэзия явно зрелого человека. Отношение Марка к статье было примерно таким же, как и матери: нейтральным, сдержанным. Тем не менее я смогла убедить его пойти со мной на следующую встречу с доктором Велч. Встреча проходила в напряжённой обстановке: мы с Мартой занимали одну теоретическую позицию, Марк – другую. Ему вообще не нравилась идея налаживания контакта с ребёнком посредством насильственных объятий. – Можете ли вы обнять Кэтрин, независимо от того, что она скажет здесь? – спросила доктор Велч. – Можете ли вы прислушаться к её чувствам и передать ей свои чувства? В терапии объятия самым важным моментом является то, что все должны обнимать всех, иначе лечение не принесёт никакой пользы. Мать должна обнимать ребёнка, отец – мать, бабушка – мать, мать – отца. Если хотя бы один человек из окружения ребёнка не обеспечивает надлежащюю поддержку, то результат терапии находится под угрозой. – Всё, что она скажет? Что например? – спросил Марк. Что Марта имела ввиду? Я тоже терялась в догадках. Я очень нервничала. Я должна была сделать это правильно. Я должна была убедить её в том, что могу с этим справиться. Если бы я призналась в каком-то страшном грехе, то смогла бы откупиться, и вернуть обратно свою дочь. (?)
– Ты помнишь, Марк? – сказала я, повернувшись к нему. – Когда Анн-Мари только родилась, я сказала тебе, что боюсь,что никогда не полюблю второго ребёнка так как Даниэля. – Да, ну и что? – начал Марк. – Можете ли вы обнять её, когда она говорит нечто подобное? – перебила Марта.
Марк неохотно послушался. Он не привык обнимать свою жену, когда это было какой-то показательной сценой. Я была совсем разбита. Я знала, как неудобно он сейчас себя чувствует. Он был таким закрытым человеком, и вот я заставляла его говорить на темы «чувств» и «взаимоотношений» перед абсолютно чужим человеком. Было ли это правильно?
Марк продолжил.
– Многие женщины испытывают похожие чувства после рождения второго ребёнка. Ты сама рассказывала мне, что твоя сестра пережила примерно то же самое, когда родилась Ребекка. Это вовсе не означает, Анн-Мари получила меньшую долю любви, чем Даниэль. – Эти дети такие ранимые, – сказала нам Марта. – Нужно быть такими осторожными при общении с ними! Одна из моих маленьких пациенток как-то призналась мне, что услышала, как её родители говорили о ней, когда она ещё была в лоне матери. Её очень ранили слова родителей, и так она стала аутистом.
– Я не верю в то, что новорожденный может читать мысли матери! Или в то, что ещё не родившийся ребёнок может понимать речь! – запротестовал Марк.
– А что скажет Кэтрин? – спокойно спросила Марта, поворачиваясь ко мне с улыбкой.
Я представляла собой жалкое зрелище. Мне не нравилось, что Марк спорил с нашей спаситильницей. Я хотела, чтобы аутизм Анн-Мари был результатом неналаженных «взаимоотношений». Так я хотя бы могла что-то предпринять. Может быть я была слишком начитанная и холодная, и поэтому так опрометчиво отвергла психоаналитический подход. Может быть я действительно не смогла наладить правильные взаимоотношения с Анн-Мари, когда она была совсем маленькой.
– Я не знаю, – сказала я, – может быть я на самом деле не уделяла дочке столько внимания, сколько Даниэлю.
Я не думаю, что ты в какой-то мере пренебрегала Анн-Мари, – сказал Марк невыразительно. – Я был там. Я видел, как ты вставала по ночам. Я видел, как ты держала её на руках, как ты пела ей… – Совсем расстроившись, он замолчал.
Он спросил доктора Велч, имелась ли у неё какая-то документация о случаях выздоровления, какая-то информация, доказывающая эффективность её подхода. Он сказал ей, что в конце концов нам необходимо выбрать между этим методом и терапией доктора Ловаса, у которого с документами и статистикой всё было в порядке.
– Эх, вы, – снова засмеялась она. И она нежно и ласково пожурила нас за нашу тягу к цифрам. Доктор Велч, сидя на полу на подушках, подалась вперёд, чтобы взять руку Марка в свою, и объяснила нам, что она не была исследователем. Она была врачом, а если кому-то хотелось заниматься статистикой и подсчётами, то она была только за, но это вовсе не являлось предметом её занятий. Она должна была сосредоточиться на этих детях, на этих бедных крошках и их страдающих родителях.
Даже Марк был обезоружен. В эту минуту мы оба подумали, не перемудрили ли мы со всем этим, и не лежит ли это в корне проблем Анн-Мари. (?) Мы не очень настаивали на вопросе. Заставить психиатра говорить о шансах на выздоровление было хрупкой, практически невыполнимой задачей. Едва ли нам было мало одной такой напряжённой ситуации.
Что касается метода модификации поведения, то доктор Велч довольно резко о нём отзывалась. Она была против того, чтобы чужой человек приходил в дом и подвергал нашу девочку этому жестокому лечению. Как я могла надеяться на установление новых взаимоотношений с Анн-Мари, если я сама посылала её на пытку?
Мы слабо пытались защищать эксперимент Ловаса.
Доктор Велч сказала, что мы не должны были её спрашивать об этом; она недостаточно знала об этом методе. Единственное, что она слышала, это то, что эти дети не выздоравливают по-настоящему. Они, фактически, функционировали, как роботы выского класса.
Слова доктора Велч очень сильно поразили меня. Она сказала, что Анн-Мари ещё очень мала, совсем крошка. Она сейчас нуждалась только в своей мамочке, и больше ни в ком. «Да, это так,» – думала я, почувствовав прилив жалости к моей маленькой девочке. «Просто обнимайте её, – не уставала повторять доктор Велч. – Просто обнимайте её, попытайтесь заново наладить с ней взаимоотношения, а всё остальное – всё остальное придёт само. Единственный тип терапии, которую я бы одобрила, – в её голосе зазвучали властные нотки, – это ненавязчивая игровая терапия, и только из-за того, что я знаю, что вы не можете проводить с дочкой целый день. И будьте осторожны с Пэтси, – предостерегла она меня, – многие матери, которых она знала слишком полагались на воспитателей и нянек. Анн-Мари нужна мамочка. Мамочка, чтобы обнимать её. Мамочка, чтобы общаться с ней. Приклейтесь к ней, – приказала она с предельной серьёзностью. – Но Марта! – попробовала протестовать я. – Что вы скажете о матерях, которые с утра до ночи пропадают на работе и оставляют своих детей на весь день под присмотром нянь?
– Я знаю, разве это не ужаснейшая несправедливость? – она повысила голос. – Вас это, наверно, очень задевает.
Ну… да, наверное. Я думала, что это действительно немного задевало меня, но я говорила совсем не об этом. Я пыталась сказать, что у таких матерей прекрасные дети, которые вполне здоровы – ну да не важно. Я больше не хотела спорить. Я не хотела поставить под угрозу наш шанс на выздоровление. Я была наполовину влюблена в доктора Велч. Она показала мне другие стихи, которые девочка Кэти посвятила ей, и я была поражена чистым, зрелым стилем, богатым воображением, словами любви и хвалы доктору Велч. «Вот доказательство, – подумала я. – Эта девочка, аутист в прошлом, была живым свидетельством чудесному таланту врачевателя Марты Велч».
– Принимая во внимание ваше душевное состояние, думаю, что нам следует встречаться как минимум два раза в неделю.
Да. Разумеется. Всё, что скажете. Всё.
Никогда ещё я не встречала человека, который бы излучал такое понимание и такую заботу. Она казалась такой самоотверженной, так искренне озабоченной – мной и Анн-Мари. Как бы скептично или враждебно я не была настроена сначала, она приняла меня с присущим ей шармом и обезаруживающей теплотой. Она приветствовала мои аргументы (мои жалкие попытки быть объективной) не только с терпеливостью, не только с симпатией, но с откровенной лестью: снова и снова я слушала про то, как умно и грамотно умела я выражать все свои сомнения. Как восхитительно было обсуждение сложных аспектов биологии и психологии с таким проницательным человеком, как я. Лесть и абсолютная уверенность в том, что конечной станцией нашего путешествия будет полное выздоровление Анн-Мари.
Марта Велч очень контрастировала с представителями основного профессионального потока, которые не только не скрывали своего холодного безразличия к вам, но и спокойно ставили вас в известность о том, что ваш ребёнок безнадёжно болен. По сравнению с такими специалистами доктор Велч была оазисом любви и доброты. Мои последние сомнения развеялись после того, как я начала практиковать с дочкой терапию объятия. Результаты, которых я добилась, хоть и не идеально, но подтверждали правдоподобие теории Тинбергенов-Велч. (?)
Первое занятие я провела после первого визита к доктору Велч. По утрам, пока Даниэль был в детском саду, а Пэтси сидела с Мишелем, я брала Анн-Мари в свою комнату. Там я усаживала её напротив себя и обнимала так, что её руки лежали под моими. Я держала её голову так, чтобы она смотрела на меня, и даже если она отводила глаза в сторону, я всё равно настаивала на своём. «Посмотри на меня, Анн-Мари! Посмотри на меня! Мамочка любит тебя. Не отворачивайся от меня. Пожалуйста, детка! Ты нужно мамочке. Посмотри на меня.» Проходило десять минут. Пятнадцать. Она начинала сопротивляться изо всех сил. Затем она начинала плакать и брыкаться. Если ей удавалось освободить руки, то она добиралась до моего лица. К концу первых двух недель мои щёки, нос и лоб покрылись царапинами. Пару раз ей удалось даже укусить меня.
Продолжительность одного занятия составляла от получаса и до трёхчасового марафона. Обычное занятие продолжалось час. Во время объятий мать должна выплеснуть весь свой гнев и раздражение на ребёнка, но я ни разу не смогла заставить себя зайти так делаеко. Как бы доктор Велч не уверяла меня в том, что Анн-Мари понимала всё, что я говорила, я не могла высказывать свои взрослые горести двухлетнему существу и направлять против неё гнев, который не испытывала. Уже то, что с помощью физической силы я заставляла её сидеть в такой тесной близости от себя, было на границе моих сил.
После тридцати-сорока минут напряжённой борьбы обычно и Анн-Мари, и я были доведены до слёз. Я должна была добиться «решения» – почему же этого не происходило? Так могло продолжаться бесконечно.
После двух или трёх безуспешных попыток добиться «решения» я попробовала нечто новое. Когда Анн-Мари бушевала, ревела и царапалась, вместо того, чтобы насильно держать её против себя, я взяла её на руки, как младенца. Теперь вместо того, чтобы командовать ей: «Посмотри на меня!», я укачивала её, гладила по головке и бормотала нежные слова: «Я люблю тебя, деточка. Ты нужна мне. Пожалуйста, посмотри на мамочку». Казалось, она становилась всё тише и спокойнее. Я начала напевать ей. Почему-то мне пришла в голову кантата Баха «Овцы спокойно пасутся» (?), и не смотря на то, что мой голос не был ни сильным, ни уверенным, я пела эту песню снова и снова. Она стала нашим гимном надежды.
Овцы спокойно пасутся там, где обитает Господь;
Всех овечек Он охраняет. (?) Иногда, когда я пела дочке эту песню, она спокойно лежала и слушала; и не смотря на то, что ни тогда, ни многие недели после этого она так и не посмотрела на меня, она расслабилась у меня на руках и не старалась так неистово оттолкнуть меня. Потом, когда я, наконец, отпускала её, она убегала, очевидно, стремясь сбежать, скрыться, как можно быстрее. Но – чудо из чудес – в течение следующего часа или около того на самом деле казалось, что она находится в большем соответствии со своим окружением. Она была чуть более внимательна ко мне и другим людям, и даже иногда поднимала взгляд, когда я звала её по имени. Терапия объятия крепко завладела мной. Это было ответом на мои молитвы, моим чудесным лечением. Бог послал мне доктора Марту Велч, которая научит меня, как спасти мою дочь от аутизма.
Глава 12
Итак, мы были в конце февраля и терапевтическая программа была официально начата.
Ни я, ни Марк не представляли чётко, что мы делали.
Мы наняли Бриджит, но не доверяли ни ей, ни бихевиористическому методу.
– Мне она не нравится, Марк. Мне не нравится отдавать девочку Бриджит. Она слишком строга с Анн-Мари. Я не могу видеть такое обращение с двухлетним ребёнком.
– Дай ей ещё несколько дней. Она только начала. Может быть Анн-Мари скоро привыкнет к этим упражнениям.
Мы также наняли Робин, и с ней как раз всё было в порядке, у нас не возникало никаких трудностей с речевой терапией. Мы только хотели бы, чтобы она могла приходить чаще.
Также мы контактировали с доктором Велч и начали практиковать терапию объятия.
– Это так естественно, что мать должна наладить связь со своим ребёнком, не так ли, Марк? Это – способ достучаться до Анн-Мари. Это выглядит гораздо более логично.
Мы ужинали, но я с трудом могла есть, так как во что бы то ни стало хотела объяснить свою точку зрения. – Более логично, чем что? – спросил Марк. – Чем отдавать её в распоряжение совершенно чужого человека! – Ты считаешь, что терапия объятия даёт какие-то результаты? – Да, я так считаю, – сказала я и тут же подумала, – или может быть нет? – Я почувствовала себя очень несчастной. Может быть я в это верила, так как мне очень хотелось в это верить? Но нет. Ведь она действительно становилась другой после объятий. – Она смотрит на меня, когда всё заканчивается. Она выглядит менее погружённой в себя. Она выглядит… более внимательной, как мне кажется. – Я доверяю тебе, Кэтрин. Если ты считаешь, что от терапии объятия есть какой-то толк, то, ты, возможно, права. – Я знаю, что я права. И я очень люблю Марту Велч, – я знала, что Марк не разделяет моих чувств к доктору Велч, но это меня вполне устраивало: я хотела, чтобы у него составилось собственное мнение о том, что происходило. Мне была необходима его объективность. Но мне также было необходимо его понимание. – Она даёт мне такую надежду, такое успокоение. Я доверяю ей, Марк. Марк отложил свою вилку и дотронулся до моей руки. На его лице была только любовь. – Если она помогает тебе, то мне этого достаточно. Я чувствую себя таким беспомощным, когда вижу тебя плачущей каждую ночь. – Она хочет, чтобы мы приходили к ней в оффис дважды в неделю. – Всё, что захочешь, – заверил меня Марк. – Делай всё, что считаешь нужным для себя и для Анн-Мари.
Сказать, что Бриджит начала работать при неблагоприятных обстоятельствах, значит ничего не сказать. Я не только не доверяла ей и её программе, но и влюбилась в психиатра, которая уклончиво рассказывала мне о том, что бихевиористическая интервенция психологически вредит процессу налаживания «взаимоотношений».
Я помню вторую неделю работы Бриджит. Мы с Анн-Мари как раз вернулись от доктора Велч и заканчивали обед за кухонным столом. Бриджит постучала в дверь, и я впустила её. – Привет, – сказала она. – Привет. Ни одна из нас не улыбнулась. – Заходи. Мы как раз заканчиваем обедать. Садись. Бриджит села, немного нетерпеливо, как я подумала. – Мы только что от доктора Велч, – сообщила я Бриджит. Я уже вкратце описала ей книгу Тинбергенов, терапию объятия и доктора Велч. – Вот как? И как всё прошло? – Прекрасно. Мы поговорили о детях, которых она вылечила. Хочешь посмотреть статью в журнале «Лайф» про девочку, о которой я тебе рассказывала? – Да… конечно. Я пошла за статьёй, потом снова села за стол и приготовилась поболтать о чуде терапии объятия. – Хочешь кофе? – спросила я Бриджит. Она посмотрела на свои часы. – Вообще-то я бы хотела начать сейчас занятие. – Не раньше, чем она закончит есть, – сказала я с раздражением. «Я решу, когда Анн-Мари пойдёт в эту комнату,» – сердито думала я.
В тишине мы закончили наш обед; потом я провела её в комнату пыток. Снова как только мы усадили её на стул, она начала всхлипывать и пытаться слезть на пол.
Бриджит разложила свои игрушки, тетради и предметы поощрения. Не моргнув и глазом, она подняла Анн-Мари, посадила её обратно на стул и оторвала её руки от лица.
– Посмотри на меня,- скомандовала она, и двухчасовое занятие началось.
На первых порах я не могла присутствовать на занятиях дольше пяти минут: отчасти потому, что не выносила этих упражнений, а отчасти потому, что, казалось, что когда я находилась в комнате, плач Анн-Мари усиливался. Обычно я бесцельно слонялась по квартире и сердилась на Бриджит за то, что она такая холодная и бесчувственная.
Мои встречи с доктором Велч, напротив, продолжали проходить в тёплой и доверительной атмосфере. Мы ходили к ней вместе с Анн-Мари два раза в неделю. Там не было никаких формальностей, никакого заранее установленного порядка. Мы приходили, садились на подушки или на кушетку, и я рассказывала доктору Велч о своих чувствах, в то время как Анн-Мари играла с кубиками, сидя на полу. Я приняла как должное то, что основной ролью доктора Велч было морально поддерживать меня для того, чтобы у меня хватило душевных сил продолжать заниматься с Анн-Мари, даже когда она «отталкивала» меня. Для этой цели разговор о моём страхе и моих переживаниях казался вполне оправдан.
Я много рассказывала доктору Велч о том, как проходили сеансы терапии объятия. Я описывала своё огорчение от того, что «решение» никогда не наступало, и свою радость от повышения уровня бдительности к окружающим у дочери после каждого сеанса.
Я также поговорила с ней о бихевиористической программе. Не очень долго, так как несмотря на свою враждебность к Бриджит, я не хотела избавляться от неё. Я не хотела, чтобы доктор Велч нападала на неё, как и не хотела, чтобы она снова посоветовала мне прекратить этот вид терапии Анн-Мари, ещё не настало время.
Так что когда мы с доктором обсуждали бихевиористический метод, то я больше говорила о книге доктора Ловаса «The Me Book» и о видеозаписях, иллюстрирующих его обучающий метод. Я принесла на одну из встреч эти кассеты, и мы говорили о том, какими бесчеловечными и отталкивающими были некоторые картины.
С самого начала я дала ей знать о своих сомнениях насчёт теоретического обоснования терапии объятия. Однажды я даже с некоторой агрессией сказала ей, что полагаю, что идея о «плохо налаженных взаимоотношениях» – это одна из теорий, типа «обвини мать, и всё в порядке», и что меня этим не купишь. – Вы абсолютно правы! – согласилась она. – Это вовсе не ошибка матери! Ничто не могло её обидеть или вывести из равновесия. Она умела мастерски приспосабливаться к любой ситуации, могла уговорить кого-угодно, всегда восхищалась клиентом, но что самое важное, всегда была готова заверить меня в оптимистичном взгляде на будущее Анн-Мари. (?) Она рассказала мне о других семьях, с которыми работала, и что ей удалось наладить самые тёплые, дружеские отношение с детьми, которых она вылечила от заболевания. В благодарность за вдохновление, которое она мне давала, и за её любовное терпение в ответ на мой скептицизм, я решила отплатить ей тем же: я по-новому сформулировала теоретическую базу терапии объятия, сделав её более приемлимой, по крайней мере для меня. – Я думаю, что кое-что поняла насчёт терапии объятия, – сказала я Марку однажды вечером. – Слушай. Тинбергены и Марта утверждают, что неумение налаживать взаимоотношения с ребёнком и есть причина аутизма. В чём-то они правы; но они открыли только часть правды. Они ошиблись в том, что обвиняют мать. Отсутствие контакта с ребёнком – это не ошибка матери. Это первичный симптом аутизма. Его источник нейробиологический, химический, какой-бы то ни было. Ребёнок рождается с этим изъяном, этой недостаточностью, а все остальные симптомы исходят от этого основного. – Да, это звучит логично. – Итак, ты видишь, что если мы сможем наладить контакт с ребёнком, то сможем спасти её. – Может быть, – сказал Марк, – так это или нет, но я рад, что в последние дни, тебе гораздо лучше. Я объяснила свою теорию доктору Велч. – Ну конечно, вы правы. Разумеется, никто не обвиняет матерей. Как умно с вашей стороны разобраться в этом нюансе. Это так. Никто не обвиняет матерей. Я ничего нового не открыла. Каждый раз, когда я приводила какой-нибудь не дающий мне покоя пример в теории Тинбергенов, она уверяла меня в том, что никогда не обвиняла матерей; она просто чувствовала, что мать – это самый подходящий человек для того, чтобы спасти ребёнка от аутизма. Иногда доктор Велч просила меня провести сеанс терапии у неё в оффисе. – Вы слишком вежливы! Слишком цивилизованны! – говорила она. – Как она узнает о ваших чувствах, когда вы говорите с ней так ласково? – Она же не понимает того, что я говорю. – Ну конечно же, она понимает! Дайте ей узнать, как вы несчастны. Дайте ей узнать, как вы сердитесь на неё. – Я не сержусь на неё. – Вы сердитесь. Загляните глубоко в себя. Неужели вы не испытываете гнев от того, что она не смотрит на вас, что она не улыбается вам? Неужели вы не сердитесь оттого, что она никогда не говорит «мама», неужели нет?
– Хорошо, вы правы. Может быть я сержусь. Но не на неё. Она не виновата. Она не может говорить.
– Перестаньте говорить ей, что она не может говорить! Вы думаете, что она не слышит вас? Вы думаете, она не обижается, когда вы так о ней отзываетесь?
– Я не знаю… Я просто ничего не знаю! Я не представляю, что она чувствует, и о чём она думает!
Я обняла Анн-Мари и попробовала послушаться доктора Велч. Может быть она была права. Почему я была уверена в её неправоте? Это было бы замечательно, если бы Анн-Мари действительно понимала.
– Анн-Мари! Анн-Мари! Я хочу, чтобы ты посмотрела на меня. Почему ты не говоришь со мной? Мама обижается. Мама любит тебя.
Рядом со мной на кушетке доктор Велч тихо приговаривала: «Сердитая Анн-Мари. Испуганная Анн-Мари. Одинокая Анн-Мари».
В присутствии доктора Велч я была полна надежды и веры в потенциал Анн-Мари, но в то же время испытывала постоянную вину. Однажды в её оффисе, когда со мной были Марк и Анн-Мари, я держала на руках маленького Мишеля и пыталась обратиться к дочке, как меня учила доктор Велч.
– Посмотрите скорей на Мишеля! – вдруг перебила Марта. – Неужели вы не видите, что он смотрит на вас?
Я посмотрела на Мишеля. Его шоколадные глаза блуждали по моему лицу. Я почти запаниковала.
– Здравствуй, мой сладкий, – промурлыкала я, – мамочка здесь. Я люблю тебя. – Я слышала собственный голос. Он звучал высоко и натянуто от напряжения.
– Будьте очень, очень осторожны, – строго предупредила доктор Велч. – Никогда не забывайте о том, что он тоже в вас нуждается.
– Я смотрю на него и часто обнимаю его! Просто в тот момент я обратила внимание на Анн-Мари. – Я знаю это. Вы знаете это. Но понимает ли это младенец? Понимает ли он, что когда его мать отворачивается или не отвечает на его взгляд, она не отталкивает его? Вы никогда не узнаете, как ребёнок интерпретирует ваши действия.
На мгновение я очень рассердилась на доктора Велч, но тут же почувствовала укол вины. «Не делай Мишелю того, что сделала Анн-Мари,» – неумолимо твердил внутренний голос.
– У меня в семье было пять детей; у тебя – десять, – сказал Марк тем вечером. – Неужели ты на самом деле думаешь, Кэтрин, что наши матери уделяли нам внимание в течение всего дня?
– Я знаю, Марк. Я знаю, что это может показаться крайностью. Но в этом может скрываться суть проблемы. Возможно некоторые дети рождаются более чувствительными или ранимыми. Что-то вроде предрасположенности к заболеванию.
Марк молчал.
– Ты не возражаешь, – сказал он через несколько минут, – если я больше не буду ходить с тобой к доктору Велч? В её присутствии я чувствую себя очень неловко. – Не возражаю. Во время сеансов терапии объятия в оффисе доктора Велч реакция Анн-Мари оставляла желать лучшего. Большую часть времени она хныкала и вырывалась. Но домашние сеансы шли гораздо лучше. Я никогда не добивалась «решения» в чистом виде, как описано у Тинбергенов – Анн-Мари никогда не смотрела на меня подолгу и не начинала вдруг гладить моё лицо, говорить и т.д. и т.п. Но когда она расслаблялась в моих руках и чуть дольше смотрела на меня, чем обычно, я была убеждена, что происходит что-то наподобие решения. Каким-то образом она становилась более внимательной, более отзывчивой.
В течение двух недель нашей комбинированной терапии я каждый день вставала с мыслью, что сегодня уволю Бриджит.
Наконец, я решила исполнить задуманное. Марк постоянно заверял меня в том, что полностью полагается на меня. Пришло время разрешить этот неприятный конфликт. Однажды, после занятия Бриджит с дочерью я попросила её присесть на несколько минут.
– Бриджит, – сказала я ей, – я думаю, что мы не будем продолжать бихевиористическую программу. Марта говорит, что это плохо сказывается на процессе налаживания контакта с Анн-Мари. – Я не очень хотела говорить всё это. Какую бы враждебность я не испытывала к Бриджит и её методам, я понимала, что у неё было своё обязательство в отношении Анн-Мари, и что сейчас я выводила её из борьбы, которая едва началась. (?)
Она не протестовала.
– Вы должны делать то, что считаете нужным, Кэтрин. Это ваш ребёнок. Это ваше решение.
Я опустила глаза. Я не ожидала такого профессионального, контролируемого ответа.
Мой взгляд упал на игрушки, которые она принесла с собой и разложила по комнате. Многие были явно новыми. Неужели она принесла их специально для Анн-Мари и заплатила за них из своего кармана? – Ты купила все эти игрушки, – сказала я. Бриджит говорила очень чётко. – Вы не должны про это думать. Вы должны чувствовать себя комфортно с этой программой. Не думайте про игрушки или мои чувства, или ещё что-то. Вы должны делать так, как лучше для Анн-Мари.
Я посмотрела на записи, которые держала в руке. После каждого занятия Бриджит давала мне подробные письменные отчёты. Девушка тщательно описывала каждое упражнение, тип и частоту каждой аутистической привычки поведения. Я подумала о параде незадачливых студентов без всякого опыта, которые приходили ко мне на собеседование, и уже не была уверена в том, что принимаю правильное решение. По правде говоря, это вполне могло оказаться неверным шагом. Во мне постепенно зрело ощущение беспомощности. Если бы только я могла положить голову на плечо человеку, которому я доверяла и поделиться с ним: «Что мне делать? – слёзы подступили к горлу. – Пожалуйста, подскажите мне, что делать!» – Я позвоню тебе, – сказала я Бриджит. Тем вечером, уложив детей спать, я подошла к Марку. – Ты думаешь, мы должны прекратить бихевиористическую программу? Марта считает, что это может навредить Анн-Мари. – Нет, – ответил он. – Я так не думаю. Он встал и вышел из комнаты, а через минуту вернулся, неся в руках статью Ловаса из профессионального журнала.
– Смотри, – обратился он ко мне, – я не знаю, в чём причина аутизма. Я не думаю, что кто-то это знает, включая Тинбергенов и Марту. Но я могу понять числа, и эти числа говорят сами за себя.
Марк остановился. Он тоже не был полностью уверен в себе. Он тоже гадал, не уделял ли он слишком много внимания аналитической стороне дела, цифрам и фактам, и не было ли это также одной из причин заболевания Анн-Мари. Беспомощный перед состоянием дочери, и зная, как отчаянно я цеплялась за доктора Велч, он не хотел плохо говорить о ней. Невзирая на свою французскую сдержанность, он позволил чужому человеку вмешаться в свою личную и семейную жизнь, копаться в своих чувствах. Но он не собирался позволять этому зайти слишком далеко. Он не хотел уходить от действительности, которую признавал.
– Этот человек, – начал Марк, указывая рукой на статью Ловаса, – поставил хорошо-организованный эксперимент. У него было две контрольных группы. Он вёл подробную документацию как во время самого эксперимента, так и после его окончания. (?) Его контрольные и эксперементальная группы отвечали всем возможным требованиям и стандартам. Он показывает, как пришёл к своим результатам, и это – хорошие результаты. Нет, это отличные результаты.
Я молчала.
– Я знаю, как ты доверяешь Марте, и я верю, что терапия объятия помогает Анн-Мари, – сказал он. – Но я не хочу возлагать все наши надежды только на терапию объятия. Давай дадим шанс Бриджит и методу Ловаса.
Я обхватила голову руками. Я была очень смущена. Всё случилось слишком быстро. То, во что я думала, что верила, – что частная жизнь семьи неприкосновенна, что психоанализ – это глупо, что я была хорошей матерью, – всё это растворилось и исчезло. Идеи о том, что хорошо, а что плохо для Анн-Мари, кружились вокруг нас, беспорядочно сталкиваясь между собой. Теоретически, метод модификации поведения был полной противоположностью терапии объятия. Кто же был прав? Какой-то сумасшедший из Калифорнии, который замучил детей до послушания роботов, или Марта Велч, чьё ласковое послание говорило о том, что только любовь матери (под чутким руководством Марты) может творить чудеса? Моё сердце говорило мне пойти по пути Марты, несмотря на то, что это могло свидетельствовать о том, что мне не удалось наладить с дочерью контакта. Рассудок же говорил последовать методу Ловаса, несмотря на то, что мне была ненавистна мысль о том, что я могу навредить Анн-Мари, отдав её в руки Бриджит.
Я взглянула на статью, которую Марк положил передо мной. Я посмотрела на него и вспомнила нечто несоответствующее моменту, но всё-таки связанное с ним. Я вспомнила одну из причин, по которой я полюбила Марка.
Марк научил меня, что правду можно найти не только в поэзии, в молитве или в чём-то возвышенном, но и в науке, в природе, и в числах. Он мыслил логически, признавал только факты, даже кричащие политические идеологии не могли смутить его. Он удовлетворял мою жажду к реальному – жажду человека, который провёл значительную часть своей жизни в царстве идеалов. Он дополнял меня, не зная, как мне не хватало его до того, как он вошёл в маою жизнь.
Я смотрела на него, своего проводника в этой темноте. Он был так же потерян, как и я, так же испуган и неуверен. И тем не менее он принимал решение. Мы не будем сворачивать с полпути, мы не будем прекращать бихевиористическую программу.
Я вложила свою руку в его. До сих пор он доверял всем моим решениям, сейчас моя очередь довериться ему.
– Ты прав, – сказала я, – мы узнаем только по прошествии времени. Тогда может быть действительно пока оставим Бриджит и посмотрим, что из этого выйдет.
Какое бы напряжение и смущение не были вызваны этим мгновенным процессом принятия и отмены решений, какой бы страх мы не испытывали каждый день перед возможностью сделать неверный шаг, тем не менее нам удалось выбрать свой путь. Куда он вёл, мы ещё не знали. Но скоро нам было суждено это узнать. Совсем скоро Анн-Мари сделает свои первые неуверенные шаги к здоровью.
Глава 13
– Посмотри на меня! Все мы – Бриджит с помощью бихевиористических упражнений, Робин посредством весёлого, доброго убеждения Анн-Мари, я – во время терапии объятия, Марк – когда приезжал домой на выходные – начали требовать её взгляда.
Так как она совершенно не реагировала на наши приходы и уходы, то мы подходили к ней, опускались на пол так, чтобы находится в поле её зрения, и, держа в руках её лицо на расстоянии нескольких сантиметров, заставляли её замечать нас: – Привет, Анн-Мари, я уже вернулась. – Анн-Мари, папа уходит. – Анн-Мари, посмотри: Даниэль дома. – Пэтси пришла. – Бриджит уходит. – Робин в дверях. Мы не сдавались, пока не видели хотя бы мимолётную искру узнавания в её глазах.
Первым вернулся её взгляд.
Наша радость от первых проблесков сознания Анн-Мари сравнима по силе только со страхом потерять её. Она начала пробуждаться к нам и к миру. Каждый знак этого пробуждения был очень сильным переживанием для её отца и для меня.
Однажды я шла с дочкой по улице, чтобы забрать Даниэля из детского сада. Прошло около двух недель после начала нашей комбинированной программы. Мы были на Пятой Авеню, как раз напротив музея Метрополитан. Работали фонтаны, брызги воды летели вверх, к солнечному, но всё-таки ещё зимнему мартовскому небу. Анн-Мари ехала в своей коляске, как всегда она была погружена в себя. Но вдруг она посмотрела на струящуюся воду, что само по себе было улучшением по сравнению с её обычным состоянием.
Затем, неожиданно, она протянула одну руку по направлению к воде и повернулась ко мне, устремив на меня свой взгляд!
Я почувствовала трепет. – Да, водичка! – я почти кричала, смеясь от радости. – Какая хорошая девочка! Хорошо показываешь маме водичку!
Прохожие с недоумением смотрели на нас, пока я радовалась этому чудесному проявлению выздоровления моей дочурки. Спасибо тебе, Господи, за эту воду. Спасибо за то, что Анн-Мари увидела этот фонтан!
А она всё смотрела на меня, полуулыбаясь; её глаза были широко раскрыты и осмысленны. Она протягивала руку по направлению к воде, а глаза смотрели на меня с выражением любопытства. Никакие слова не могли говорить более красноречиво: «Видишь ли ты то, что я вижу, мамочка? Ты разделишь со мной эту красоту?» Я чувствовала, будто я смотрю в эти голубые глаза и вижу в них возродившуюся надежду. Я видела, как моя маленькая девочка посмотрела на меня. Я опустилась на колени рядом с ней, взяла её личико в свои руки, и прижалась щекой к её щёчке. – Это вода, моя радость, фонтан с водой, – выдохнула я, пытаясь держать себя в руках. Потом я почти бежала всю дорогу к детскому садику Даниэля. Счастье и надежда переполняли меня, и я не могла перестать улыбаться.
Несмотря на внутренние теоретические противоречия между тремя видами терапии, Бриджит, Робин и я смогли по крайней мере найти нашу общую цель: мы исследовали, каждая по-своему, внутренний мир Анн-Мари, и пытались штурмовать её самопроизвольное одиночество. В этом отношении Робин была самой мягкой из всех нас, но с помощью сильно сфокусированного умения и энергии, ей тоже потихоньку удавалось выводить Анн-Мари из состояния отрешённости.
По мере того, как конечная цель становилась более понятной для меня, я делала Анн-Мари всё меньше и меньше поблажек в течение дня. Я не давала ей расслабиться, всё время отвлекала её, не давала ей быть одной. Я отложила в сторону свою неуместную надежду на то, что она сама по себе вернётся ко мне, и вместо этого усвоила более «тираническую» манеру поведения.
Вдохновлённая ли чтением «Осады» или терапией объятия, или бихевиористическим подходом Бриджит, или всеми тремя методами, постепенно во мне сформировалась одна главная идея: «Моя воля победит, а не твоя, малышка».
В начале марта я уже не позволяла ни одного самостимулятивного поведения. Когда я видела, что она делает что-то странное, то брала её на руки, уводила её в другое место и, как Бриджит, физически подсказывала ей более уместную игру. Она часто хныкала и сопротивлялась, но я не сдавалась. Я пыталась помешать(?) даже этому мечтательному взгляду в никуда. Он слишком пугал меня. Если я узнавала у дочки такой взляд, то я делала всё, чтобы вывести её из-под этого гипноза: смеялась и пела, изображала клоуна, несколько раз подкидывала её в воздух.
Очень важен был физический характер этой интервенции. Совершенно неуместно было сидеть в нескольких метрах от неё и приговаривать: «Анн-Мари, что ты делаешь? Посмотри на мамочку!» Нет. Я должна была физически войти в её пространство, например, посадить её к себе на колени, или сесть рядом с ней, обняв её, направляя движения её рук, или, очень часто просто пытаясь заставить её обратить внимание на себя и на окружающий мир.
В пределах наших возможностей она не должна была оставаться одна надолго. «Надолго» – значило более, чем на полчаса, а «одна» – не вовлечённая кем-либо в активную игру или занятие.
Общение один-на-один стало краеуголным камнем всего, что мы делали. Я передвинула её кроватку в комнату Даниэля, так что сейчас она не оставалась одна даже по ночам. Когда с ней не занимались терапевты, она была со мной; когда она не была со мной, она была с отцом. Я передала Пэтси большую часть домашнего хозяйства, чтобы посвящать всё время и энергию трём своим детям
День ото дня мы становились всё более требовательными к Анн-Мари. Не позволялись взгляды в пространство, скрежетание зубами, игры со своими руками, своеобразное прикосновение к поверхностям, всё, что выглядело признаком аутизма. Благодаря тому, что у дочери эти привычки ещё не укоренились, как у многих более старших детей-аутистов, отвлекать и перенаправлять её внимание было не такой уж трудной задачей. (?)
Это было постоянной работой, но наша работа приносила нам скорую и сладкую награду. Эти яркие, сознательные взгляды сначала были спорадическими, потом стали более частыми. Мои родители не видели её с прошлого Рождества, сразу после её первого диагноза. Тогда она полностью их игнорировала. Но однажды в марте большая часть моей многочисленной семьи собралась на воскресный обед в доме у моей сестры Дебби, на Ойстер Бэй. Анн-Мари вошла в шумное собрание со страхом. Я ожидала обычных слёз и хныканья, или пустого равнодушия. Вместо этого она лишь немного поколебалась у порога гостиной Дебби, обозревая картину тёть, дядь и детей.
Неподалёку сидели её бабушка и дедушка. Медленно, уставившись прямо на них, она пошла в их направлении, её глаза засветились узнаванием.
– Здравствуй, Анн-Мари, – нежно сказали они оба, улыбаясь ей в ответ.
У всех работавших с Анн-Мари проявлялась такая же парадоксальная нежность каждый раз, когда она каким-то образом открывалась для нас. Парадоксальная, потому что наше собственное обращение с ней становилось всё более жёстким, повелительным, недопускающим никаких поблажек. Но каждый раз, когда она, по своей воле, делала эти робкие жесты, направленные в мир, мы инстинктивно реагировали с безграничной нежностью. В Анн-Мари было что-то очень хрупкое. Её новое, распускающееся сознание было таким пугливым. Сейчас я могу объяснить это явление тем, что мы были очень грубы с аутистической частью её сознания, но старались поддержать развивающуюся часть сознания Анн-Мари с безграничной заботой, так, как держат новорожденного.
От взглядов на родных она перешла на взгляды на чужих.(??) Люди часто по-дружески обращались к Анн-Мари, как это часто делают с маленькими детьми: «Здравствуй, хорошенькая девочка!» «Пока, сладкая!» «Привет, большие глазки!» В ответ она всегда отворачивалась в сторону в каменной тишине, или хуже, устремляла взгляд в пустоту. Однажды днём, когда мы зашли в магазин оптометриста, женщина за стойкой вышла поприветствовать нас.
– Какая славненькая! – сказал она. – Здравствуй, малышка!
Анн-Мари робко улыбнулась. Она уткнулась головой в мою шею, но продолжала смотреть на женщину.
– Она смотрит на Вас! Она улыбается! – закричала я.
Женщина непонимающе посмотрела на меня.
– Ну конечно, она улыбается. Почему бы ей не улыбаться? – спросила она с бруклинской недоверчивостью. Возможно она думала: «Эти невозможные мамочки! Они готовы соревноваться абсолютно во всём: они даже подсчитывают, сколько раз их чадо соизволило улыбнуться!»
Одним утром я проснулась от какого-то звука – он был не новым для, но я очень давно его не слышала: Анн-Мари лепетала, проснувшись в своей кроватке. Я на минуту прислушалась, с трудом веря своим ушам. Потом встала, прошла в её комнату, и сонно обняла её. – Доброе утро, любовь моя.
Никакой реакции, никакой улыбки. Пока ещё нет. Но и это придёт, сейчас я в это твёрдо верила. Наконец, она осчастливила меня взглядом, который я приняла как драгоценный подарок.
– Люблю тебя, детка. Я горжусь тобой. – прошептала я в её ароматные волосы. – Не сдавайся, малышка. Ты сможешь, я знаю. – Её руки не обвили мою шею, но она спокойно стояла в своей кроватке и даже, казалось, ждала близкого объятия.
Через две или три недели после начала терапии я заметила, как она поставила игрушечный паравозик на рельсы и толкнула его. Это было первым спонтанным признаком чего-то, напоминающего нормальную игру. Ещё через несколько дней она начала имитировать какие-то каждодневные (?) действия, которые ей приходилось видеть в доме: например, она толкала пылесос по полу или один раз даже вытерла салфеткой пыль со стола. Как-то вечером во время купания она сделала то, что видела много раз. Она взяла чашку с водой и попробовала опрокинуть её на голову Даниэля, имитируя шампунь. Я подумала, что во всех этих жестах проявлялась её заинтересованность нами, нашими привычками и жестами. Как все дети двух лет она вдруг начала подражать нам, – конечно, не в пределах нормы, но какая-то имитация всё же присутствовала. (?)
В течение всего первого месяца терапии я была очень низкого мнения о бихевиористической программе. Я всё ещё думала, что она может плохо повлиять на эмоциональное состояние Анн-Мари, и к тому же этот метод казался гораздо менее привлекательным, чем терапия объятия.
Анн-Мари начала говорить некоторые слова, причём ни Бриджит, ни Робин не учили её им. Каждые несколько дней она демонстрировала понимание слова или фразы, которые никто с ней не учил и не практиковал. Также каждые несколько дней она произносила слова, которые мы не слышали от неё уже много месяцев. Я понятия не имею, что происходило на нейрологическом уровне. Это выглядело так, как будто определённые слова и фразы всё это время где-то хранились, и когда она стала возвращаться к нормальному состоянию, эти слова сами собой «всплывали» в её сознании. Первыми словами, которые вернулись в лексикон Анн-Мари, были те слова, которые она говорила в возрасте пятнадцати месяцев и которые постепенно вымерли, когда ей пошёл второй год.
Одним из первых вернувшихся слов было «пока». Хоть когда она впервые после долгого перерыва сказала это слово, она не произнесла его вслух, а только сформировала губами, но всё же именно «пока» сложилось в её губах, когда её маленькая ручка неуверенно поднялась помахать отцу.
День за днём возвращались и другие слова: «ба-ба», «со» (сок), «пее» (печенье). Каждый день я записывала все новые слова. Я держалась за них, как за спасательный круг. Если она произносила только два новых слова в день, я расстраивалась и впадала в панику. Если новых слов было пять, я была счастлива.
Сегодня я признаюсь, что не понимаю феномена вспышек понимания и речи; тогда же я точно «знала», что происходит: мне постепенно удавалось наладить контакт с Анн-Мари, и эмоциональный аспект этого контакта каким-то образом проявлялся в таких «озарениях». А как иначе она могла усваивать новые, незнакомые ранее слова без участия формальных терапевтических занятий?
Я была готова предоставить Бриджит шанс с Анн-Мари, но ни под каким видом я не хотела признать важность её вклада в общую терапевтическую программу. То что делали Бриджит и Робин ни шло ни в какое сравнение с теми успехами, которых добивалась я с помощью терапии объятия. Я была уверена в этом. Эти слова, зрительный контакт, повышенное внимание – всё это появилось только благодаря моему вмешательству, а не их. Я ставила доктора Велч в известность о каждом новом успехе и уверяла её в том, что на мой взгляд, главным составляющим нашего комбинированного подхода была терапия объятия. Доктор Велч скромно принимала изъявления признательности, и от случая к случаю дразнила меня за первоначальные сомнения.
Словарный запас Анн-Мари всё время увеличивался. «Ещё» было вполне ожидаемым словом, так как Робин работала над ним каждое занятие. «Открой» и «помоги» тоже появились довольно скоро, так как оба терапевта подолгу тренировали эти функциональные глаголы. Появлялись также совершенно новые, несвязанные с терапией слова. Однажды, когда я складывала игрушки в тумбочку под телевизором, я услышала, как Анн-Мари встала с пола и подошла ко мне. – Уи-се? – услышала я и повернулась к дочке. – Что, Анн-Мари? Что ты сказала? – Уи-се? Она переводила взгляд от меня на телевизор и обратно. Ожидание застыло на её лице. – «Улица Сезам»! – догадалась я. Прекрасно! Новое слово! Зрительный контакт! Просьба! Я стала торопливо переключать каналы, я была счастлива выполнить её просьбу. К счастью программа как раз шла. После этого случая я часто оставляла Анн-Мари смотреть её. Она, конечно, видела и раньше «Улицу Сезам», но она всегда так невыразительно смотрела на экран, что я никогда не знала, получает она от этого удовольствие или нет. Потом, после того, как ей был поставлен диагноз, я ликвидировала все мультфильмы и видеопрограммы, поскольку опасалась как бы они не усилили её привычку спать наяву. Но сейчас она просила конкретную передачу, и я была только рада подчиниться. – Это действует, Марк. Терапия объятия действительно помогает. Я просто не могу поверить!
Глава 14
В последние три недели марта наши отношения с Бриджит были очень натянутыми.
К счастью, наше решение дать ей шанс получило одобрение со стороны. Доктор Коэн из Института базисного исследования и Стивен Блостайн, специалист по речевым патологиям, который порекомендовал нам Робин Розенталь, оба сообщили нам, что по всем данным бихевиориститческий подход к аутизму считался самым эффективным. Кроме того, в результате нашего чтения, исследования и расспросов, мы находили всё больше профессионалов, которые поддерживали этот метод. Все они были людьми, которые сами работали с детьми, а не строили о них теорий. Далеко не все они были из Нью-Йорка – известного, как центр твердолобых фрейдистов. Мы узнали, что несколько из наиболее признанных программ в Нью-Джерси и на Лонг-Айленде уже несколько лет использовали бихевиористический подход, а сейчас пробовали копировать опыт Ловаса, чтобы добиться таких же успехов. Спасибо Господу за эти несколько голосов разума в темноте.
Но не целый батальон психиатров, ратующих за бихевиористический подход, убедил меня в том, что это наилучшая программа для Анн-Мари. Что окончательно убедило меня – это ежедневное наблюдение за работой Бриджит.
Так как я пообещала себе, что мы попробуем этот метод, я стала всё чаще присутствовать на занятиях Бриджит. День ото дня, в конце марта, начале апреля моё недоверие и подозрительность таяли, постепенно сменяясь уважением. Может быть, но только может быть, я могла ошибаться насчёт Бриджит. Конечно, тому, что она делала было далеко до терапии объятия (я продолжала в это верить), но всё же Анн-Мари реагировала на программу гораздо лучше, чем я могла себе представить.
Плач постепенно сменился редкими всхлипываниями. Бриджит смогла добиться и поддерживать в Анн-Мари состояние бодрого внимания и готовности к сотрудничеству, что повергало меня в изумление.
Как ей это удавалось? Я наблюдала за ней и училась. Какой-то внутренний инстинкт – слава Богу, он у меня был – подсказывал мне тихонько сидеть на занятии, внимательно смотреть на происходящее, и то, что я видела, очень впечатляло меня.
Бриджит более, чем кто-либо другой, научила меня, что можно быть твёрдой и требовательной, не являясь при этом грубой. Во время еждневных наблюдений я видела, какой строгой, неподатливой она была с плачущим ребёнком, но никогда не позволяла гневу или даже имитации гнева овладеть ситуацией. Также она никогда не позволяла себе поддаться разочарованию, которое нередко было характерно для меня.
С тех пор я повидала немало детей-аутистов, которых заставляли делать что-либо против их воли. Это всегда было пугающим и болезненным зрелищем. Ребёнок мог молча дрожать от панического страха или кричать и корчиться на пол, объятый гневом. При виде этого легко потерять самообладание. Любому захочется вмешаться, успокоить и приласкать ребёнка. Или не вмешиваться, но по крайней мере пообещать себе никогда больше не подвергать ребёнка такому истязанию. Необходимы мужество, тренировка и уверенность в себе (Бриджит обладала всеми этими качествами), чтобы переступить порог и сказать: «Я выйду победителем в этой борьбе. Я дотронусь до тебя: твои крики не выведут меня из себя, не запугают, не рассердят».
Бриджит игнорировала хныканье и сопротивление Анн-Мари. Она спокойным тоном повторяла свою просьбу снова и снова, подсказывая девочке во время всех заданий.
– Она не умеет сосредотачиваться, – объясняла мне Бриджит, – мы должны помочь ей научиться этому. – Она физически исправляла все странные, неприемлимые движения, подсказывая Анн-Мари сидеть прямо на стуле, смотреть вверх и не отводить от неё взгляда. Она постоянно заставляла Анн-Мари обращать внимание на себя и только на себя, ограничивая физическое и ментальное пространство девочки, захватывая её в узкий, напряжённый круг, состоящий из Анн-Мари и Бриджит. Девушка использовала своё тело, лицо, руки, голос для того, чтобы Анн-Мари спокойно сидела и слушала. Затем она заполняла это состояние внимательности безупречно организованной и точно выверенной программой, согласно индивидуальному плану. Чтобы мотивировать Анн-Мари она использовала не только первичные предметы поощрения, но и маленькие надувные игрушки, игрушки-попрыгунчики и много устной похвалы.
Бихевиористическая программа обычно состоит из двух компонентов: структурированных программ – они часто преподносятся в виде упражнений – и «случайного обучения».
В течение первых двух месяцев акцент структурированных программ ставился на следующем: уменьшить количество и частоту определённых привычек поведения – таких, как постоянных повторяемых действий, удары по лицу и вспышки гнева, – и выработать другие привычки – такие, как зрительный контакт, обращение внимания, использование языка (включая невербальный язык, например, указывание на что-то) и игровые навыки. Большинство из этих начальных программ были взяты из книги Ловаса «The Me Book». Его двадцатилетнее исследование послужило основой для нас. Мы брали его материалы и создавали свои собственные вариации программ.
Одной из первых целей Бриджит в области рецептивного языка* было научить Анн-Мари распознавать разные названия для разных предметов.
В бихевиористической терапии все задания разбиваются на простейшие элементы. Бриджит начала с визуального и конкретного («кукла» сопоставлялась с «радостью») и с минимального количества предметов: одного. Перед тем, как начать упражнения на распознование, она должна была научить Анн-Мари последовательно реагировать на указание «дай мне».
Это выглядело так. Бриджит поставила предмет, игрушечную лошадку, на стол. Она добилась зрительного контакта и внимания Анн-Мари с помощью указания: «Посмтори на меня». Потом она сказала: «Дай мне лошадку». (Снова всё как можно проще: она не сказала: » Анн-Мари, не могла бы ты передать мне эту лошадку со стола?»)
Бриджит ждала. Анн-Мари не реагировала.
Бриджит повторила команду, потом взяла руку Анн-Мари, положила её на игрушку и направила её руку с лошадкой в свою руку. Потом она очень специфично похвалила её: «Хорошо, ты дала мне лошадку!» – несмотря на то, что Анн-Мари не дала её по своей воле.
Они проделывали это снова и снова, занятие за занятием. Вскоре Анн-Мари стала иногда давать лошадку сама, без физической подсказки Бриджит. Они повторяли это до тех пор, пока данные (а эти данные тщательно фиксировались в течение каждого занятия) не начали отражать тенденцию к постепенному повышению выполнения действия без подсказки. (?) В двадцати процентах, а потом тридцати, пятидесяти, восьмидесяти, девяноста процентах «отдельных попыток», Анн-Мари давала Бриджит один конкретный предмет, лежавший на столе. Так она училась реагировать на команду «дай мне».
Следующим шагом Бриджит было научить Анн-Мари различать между двумя названиями. Она поставила на стол лошадку и чашку. Команда была та же: «Дай мне лошадку», однако теперь чашка служила отвлекающим предметом. Снова, все первые попытки выполнялись с помощью подсказки; затем количество физических подсказок значительно снизилось (или, если выражаться бихевиористическими терминами, «ослабло») как только звук «лошадка» начал ассоциироваться у Анн-Мари с соответствующим предметом. Когда задание стало выполняться без подсказки сто процентов попыток в течение нескольких дней, они начали всё сначала со словом «чашка». Когда девочка овладела ассоциацией с этим предметом (для этого потребовалось немалое количество упражнений) Бриджит начала тренировать то же самое упражнение, называя эти два предмета в разном порядке.
Потом, постепенно, на стол добавлялись всё новые предметы, пока через несколько недель усиленных упражнений Анн-Мари не начала различать семь или восемь разных предметов без физической подсказки. Каждая отдельная попытка, в течение каждого упражнения, неделя за неделей, начиналась приказанием: «Посмотри на меня». Зрительный контакт был основным условием каждой попытки и каждого упражнения.
Бриджит одновременно работала ещё над несколькими программами. Мы с Марком уже поняли, что бихевиористическая терапия – это не просто способ «скорректировать поведение ребёнка». Этот термин относится к стилю обучения: отдельные попытки, расчленение заданий на простые элементы, систематическое использование предметов поощрения. Сама программа обучения была, в основном, лингвистической и когнитивной.** * Под «Рецептивным языком» подразумевается понимание языка. Оно противопоставляется «экспрессивному языку» – разговорному использованию языка. ** Описание всех программ – бихевиористической, социальной, лингвистической, когнитивной, игровой – содержится в Приложении 2.
По мере того, как продвигался этот болезненный и тяжёлый процесс, скорость, с которой Анн-Мари усваивала новые слова, увеличивалась. Постепенно мы перестали надеяться на то, что серьёзный сдвиг в состоянии дочери произойдёт за одну ночь, и стали радоваться каждому новому шажку вперёд. Возможно упражнения, с помощью которых она училась были непрывычными, «неестественными», но главным было то, что она училась. Время покажет, каких успехов она добьётся.
Второй основной компонент программы Бриджит подразумевал менее структурированное обучение. Некоторые терапевты в начале программы практикуют только упражнения, объясняя это тем, что детям трудно концентрироваться, но Бриджит считала, что с самого начала надо совмещать обычные занятия со случайным обучением.
Термин «случайное обучение» обозначает, что терапевт использует каждую естественную возможность в окружении ребёнка, чтобы добиваться поставленных целей, или даже спонтанно использует ситуацию для введения новых понятий. «Естественной возможностью» называется всё, что может привлечь внимание ребёнка, даже на минуту. Например, если Бриджит помогала Анн-Мари заниматься с коробкой по подбору форм, она использовала эту возможность для того, чтобы попрактиковать предлог «в», несмотря на то, что по программе они его ещё не проходили: «Я кладу квадрат в коробку». Она также работала над названиями форм: «квадрат», «круг», «треугольник» и т.д.
Практически всё могло быть возможностью для случайного обучения: «время заниматься», «время играть», «время петь» – каждый переход в бихевиористическом занятии мог быть просто и последовательно описан. Случайное обучение могло происходить где угодно и когда угодно, его могла проводить Бриджит, я, Марк, Пэтси. Смысл был в том, чтобы помочь Анн-Мари сосредоточиться на каком-то определённом аспекте общения или социальных интеракций или символической игры, когда представлялся такой случай, а потом устно охарактеризовать для неё то, что произошло. Прогулка на свежем воздухе в коляске могла быть использована для того, чтобы показать Анн-Мари окружающий мир и устно описать то, на что мы пытались обратить её внимание: «Это автобус. Он – большой. Он быстро ездит.»
Вообще-то все родители знакомы со случайным обучением; только нам приходилось делать это много и постоянно. (?) Мы должны были научиться атаковать её пустое равнодушие, холодную отдалённость, максимально используя малейший интерес дочери к чему-либо. Первоначально она, как-бы, не замечала многих вещей, теперь же мы заставляли её замечать эти вещи, а также реагировать на людей, а когда она это делала, то мы хватались за эту возможность. Мы использовали малейшее проявление заинтересованности чем-либо и активно превращали его в нечто гораздо более продолжительное и памятное, причём нашему вмешательству всегда сопутствовало чёткое описание: «Ты складываешь в «паззл» мишку… тигра… льва…»; «Это ложка… это тарелка…»; «Ботинки. Мы надеваем ботинки».
В марте и апреле экспрессивный язык Анн-Мари продолжал развиваться. Двадцать пятого марта я зарегестрировала двадцать пять слов в своём журнале. С начала марта её словарный запас увеличивался в среднем на одно слово в день, примерно половину из них она учила с терапевтами, а вторую половину узнавала из своего окружения. За исключением «привет», «пока», «ещё», «открой» и «помоги», над которыми терапевты подолгу работали, все остальные слова были существительными.
Однако рецептивное понимание языка Анн-Мари было всё ещё очень ограниченным, и ещё долго продолжало быть проблематичным. Мне казалось, что дочка «застряла» в конкретном, в здесь и сейчас. (?) Если я указывала на книгу, добивалась её внимания и говорила слово «книга», то она демонстрировала понимание этой языковой функции, и даже могла сама повторить слово «книга». Но что-то более сложное, как «Положи книгу на стол» – команда «действие с предметом», как её называла Робин, – казалось, была выше понимания Анн-Мари. Вопрос «Где Даниэль?» – не вызывал ни ответа с её стороны, ни даже взгляда или указывания. Я привыкла вздрагивать, когда чужие люди спрашивали у дочери: «Как тебя зовут?» или «Сколько тебе лет?» На эти стандартные обращения к двухлетнему ребёнку она до сих пор реагировала молчанием и пустым взглядом. Прошло ещё немало времени, пока она стала понимать даже самые простые абстрактные формы, выводы или причины. «Мы должны идти домой, потому что холодно», «Какое страшное чудовище!», «Папочка скоро придёт» – такие фразы, которые, как я помню, двухлетний Даниэль понимал без труда, были за пределами возможностей Анн-Мари. Она называла предметы; и больше ничего.
Доктор Велч продолжала убеждать нас в том, что Анн-Мари понимала абсолютно всё, но нам с Марком было всё труднее и труднее в это верить. Иногда, когда внимание Анн-Мари было повышено, она, казалось, пыталась понять наши слова, но не могла. Как будто у неё был повреждён какой-то процесс расшифровки. Книга Тинбергенов продолжала настаивать на том, что аутист – это нормальный ребёнок, запертый в им же самим выбранных стенах, не желающий разговаривать и намеренно обращающий пустой взгляд, если с ним заговаривают.(?) Но время шло, и мы с Марком всё более уверялись в том, что проблемы с языком вовсе не были самопроизвольными. Мы видели, как она сама старается понять смысл множества звуков, окружающих её, но у неё ничего не получается.
В апреле я была уже очень скептично настроена в отношении теоретического обоснования терапии объятия, и всё большей сипатией проникалась к методам Бриджит, несмотря на то, что упражнения больше напоминали механическую зубрёжку, чем терапию. Тем не менее я и недумала расставаться с доктором Велч и её терапией. Я всё с таким же религиозным чувством посещала её оффис, всё так же каждый день практиковала терапию объятия с Анн-Мари, всё так же клялась себе в том, что видела, как после каждого сеанса повышалась внимательность дочери.
Но потом я шла наблюдать за ежедневными занятиями Бриджит, и мне всё труднее становилось отрицать пользу(?) от бихевиористического подхода. Я была поражена тем, что Бриджит удавалось добиться от Анн-Мари (будь-то во время упражнений или случайного обучения) больше новых слов на каждом занятии, улыбок, повышенного внимания, приемлимых игр, инициативы.
Мы с Марком постоянно обсуждали все виды терапии. Мы оба терпеть не могли ощущение непонимания того, что мы делали.
– Ты знаешь, Марк, давай на время отложим вопрос о налаживании эмоциональных взаимоотношений. Я ещё не совсем разобралась в этом. Но может быть здесь работает ещё что-то.
Он ждал. – Что-то вместо или вместе с налаживанием контакта. – Что например? – Ну, ты же знаешь,что я всегда говорю, что Анн-Мари кажется болеевнимательной, менее сонной после каждого сеанса объятия. – И что? – Так вот я занимаюсь этой терапией по утрам, здесь или в оффисе у Марты. Анн-Мари потом находится в состоянии повышенного внимания. Потом мы передаём её в руки Бриджит, которая умело заполняет это состояние структурированной программой и обучением нон-стоп. – Мне кажется, я тебя понял, – сказал он. – Терапия объятия помогает ей проснуться. Бриджит помогает ей заполнить пробелы. – Возможно, это по крайней мере часть того, что происходит, – я подумала минуту и продолжила. – Мы, как бы, заставляем её сосредотачиваться, а потом максимально увеличиваем её внимание с помощью специальных занятий. – В любом случае, – добавил Марк, – бихевиористическая программа не причиняет ей вреда, наши опасения не оправдались. – Я не думаю, что она плохо влияет на эмоциональное состояние Анн-Мари, – согласилась я. – Я довольна Бриджит; она знает, что делает. – Ты «довольна Бриджит»? Ты уже не считаешь её бесчувственной и злой? – Я это говорила? – Да. – Гм… сейчас я так не считаю. По правде говоря, Анн-Мари казалась менее сонной, более спокойной и дружелюбной после занятий с Бриджит. Несмотря на то, что меня очень радовали улучшения в поведении Анн-Мари, что на самом деле успокаивало меня, это то, как она реагировала на Бриджит. Я наблюдала за дочкой во время занятий и в обычной обстановке, и обнаружила, что она не только «терпела» терапию, но ей даже нравилась эта предсказуемая, устойчивая, структурированная обстановка, которую обеспечивала Бриджит. Она всё ещё плакала, когда Бриджит только входила в двери, но через минуту-другую, когда она шла с девушкой в комнату, плач переходил в лепет и разговор. Её уже не надо было силой удерживать на стуле, пока Бриджит раскладывала свои принадлежности на столе. Однажды она даже сама принесла два маленьких стульчика, везя их за собой по полу и устанавливая один напротив другого. Когда Бриджит начинала занятие, Анн-Мари становилась внимательной и заинтересованной. По ней было видно, что она была очень довольна, когда ей удавалось правильно выполнить задание или верно ответить на вопрос.
Было непросто продолжать считать бихевиористическую модификацию «ужасным» методом, причиняющим вред личности Анн-Мари, даже принимая во внимание то, что мне всё-таки было трудно принять механичность подхода.
Однажды Бриджит пришла на занятие после обеда. Раздался дверной звонок. Я уже пошла встречать её, но остановилась и оглянулась. Я увидела, как Анн-Мари шла к Бриджит, смотрела прямо ей в глаза и улыбалась.
Мои сомнения насчёт Бриджит и бихевиористического метода были постепенно лишены оснований. Я пробовала ненавидеть эту терапию; теперь я была вынуждена признать её эффективность. Я верила, что этот метод только отдалит от нас Анн-Мари. Теперь она сама разными способами говорила мне, что нуждается в нём и в Бриджит.
Глава 15
Для Анн-Мари тоже наступила весна. Апрель и май были месяцами её цветения; дочка постепенно открывалась миру и нам, любящим её людям. Её языковые навыки и социальное поведение улучшались день ото дня. В ретроспктиве прогресс шёл очень быстро, но тогда нам казалось, что всё происходит напротив, очень медленно. Не было выздоровления за одну ночь, как и не было внезапного откровения потерянного ребёнка. Шаг за шагом она возвращалась к нам, но мы не знали радоваться или нет, так как ещё не были уверены в успехе. (?)
Марк был однозначно оптимистичен. «Она выздоровеет, – уверял он меня, – смотри, как быстро она прогрессирует. Посмотри, чего она добилась за каких-то два месяца».
Я же наблюдала за ней со смешанным чувством недоверия, неуверенности и надежды. Иногда я гадала, не придумала ли я себе сказочного чуда исцеления и не наступит ли момент, когда я пойму, что действительность далека от моей хрупкой мечты. Несомненно её состояние улучшалось, но врядли язык и социальные навыки дочери уже можно было назвать нормальными. Её маленькие победы перемежались с постоянными аутистическими привычками поведения. Я очень хотела увидеть хотя бы одного вылечившегося ребёнка-аутиста, поговорить с его родителями и расспросить их о каждом моменте этого робкого рассвета (?), но всё, что я знала, это 47 анонимных процентов доктора Ловаса. Это было время как горячей молитвы и неуверенности, так и напряжённой работы и надежды.
Тем не менее я постепенно успокаивалась. Сомнения и тревога уступили место вере, которая становилась всё крепче. Каждый день Анн-Мари дарила нам что-то новое, что поддерживало в нас надежду. Это могло быть новым словом, более продожительным зрительным контактом, вспышкой интереса к братьям или даже повышенным интересом к окружающему её миру. Её состояние явно улучшалось.
Сейчас мне нравилось брать её на прогулки в коляске. Она так радовала меня, когда с любопытством смотрела на витрины магазинов или указывала на собак на улицах. – Собачка, – говорила она. – Да, радость моя. Это – собачка. Голубь, переваливаясь, прошёлся перед её коляской. – Ва-и! – закричала она. Я засмеялась. – Да. Oiseau! Птичка! Oiseau было единственным французским словом, которое она знала. Оно исчезло где-то между шестнадцатью и двадцатью месяцами, вместе со всеми остальными словами.
Она всё ещё не делала никаких самостоятельных попыток пообщаться с братьями, но мне казалось, что в последнее время она хотя бы реагировала ни их присутствие. Иногда она смотрела прямо на Даниэля, когда он радостно болтал, играя или рисуя. Также она научилась играть в одну игру с братом: догонялки. Он бегал по комнатам, визжа и смеясь. Это возбуждающе действовало на Анн-Мари, и она начинала бегать за ним. Потом он поворачивался и догонял её. Мы с Марком никогда не возражали против этой шумной беготни, Анн-Мари выглядела счастливым, нормальным ребёнком, когда играла с братом.
Правда, она всё ещё полностью игнорировала Мишеля. Она обходила его маленький стульчик, как будто его и не было. Когда я держала его на руках, она не выказывала никаких признаков ревности; казалось, он для неё не существовал. Однажды утром я сидела в гостиной с детьми. Мишель сидел на детском стульчике, а Анн-Мари случилось пройти прямо перед ним. Внезапно он радостно задрыгал маленькими ручками и ножками и подарил сестрёнке огромную счастливую улыбку. Он продолжал улыбаться и поворачивал голову вслед за ней, пока она не исчезла из его поля зрения. Она, конечно, не обратила внимания. Казалось, что она вообще его не видела. Я думала, что он слишком мал, чтобы беспокоиться из-за такого «пренебрежения», но всё-таки мне стало обидно за сынишку. Я взяла его на руки и улыбнулась ему. Мне очень хотелось, чтобы он понял, что кто-то заметил, каким он был любящим малышом.
Затем через несколько дней Анн-Мари всё-таки заметила Мишеля. Я держала его на руках, когда она вдруг встала, подошла к нам и попыталась отпихнуть брата и забраться самой ко мне на руки. Это очень обрадовало меня. Любой знак братской ревности был хорошим признаком у ребёнка, который совсем недавно был таким равнодушным ко всем окружающим. Я обняла её одной рукой, другой взяла Мишеля и села с чувством умиления и счастья с двумя младшими детьми. (?)
Одним вечером мы с Анн-Мари шли по Мэдисон авеню. Мне надо было забежать в продуктовый магазин, купить молока. Я оставила мальчиков с Пэтси и сказала, что вернусь через четверть часа. Марк в тот день пришёл домой пораньше и вышел ненадолго по своим делам.
Я везла Анн-Мари в коляске, думая о чём-то своём, как вдруг услышала тихий смех дочурки. Я посмотрела на неё. Она смотрела на вечернюю улицу. Её глаза были неотрывно устремлены на что-то; она улыбалась и смеялась сама с собой. – Что там, Анн-Мари? Она указала на что-то. Я последовала за её взглядом. Навстречу нам шёл Марк. Он увидел нас и протянул к нам руки. Я опустила дочку на землю и смотрела, как она бежала навстречу отцовскому объятию. Марк шёл мне навстречу, неся дочь на руках. Мы посмотрели друг на друга. – Ты это видел? – спросила я. – Да. Она знает своего папу. Марк обнял меня одной рукой, держа в другой Анн-Мари. Мы немного постояли молча, охраняя хрупкий мир нашего кружка на городской улице. Ночь опускалась на город. К середине апреля влияние Бриджит на меня усиливалось с каждым днём.
Как-то утром я вошла столовую и увидела, как Анн-Мари кружилась на одном месте в углу, уставясь в пол. Следуя минутному побуждению я подхватила её, подбросила в воздух и крикнула: «Мы едем вверх!» Потом, опуская её на пол, я сказала: «Мы едем вниз!» Я повторила игру несколько раз, укоротив реплику до «Вверх!» и «Вниз!» Ей понравилась новое развлечение, она возбуждённо визжала и смеялась с каждым броском в воздух. В конце концов я задержалась на нижнем пассаже, держа её в руках и выжидательно смотря ей в глаза. Что-то сработало. (?) «Рее!», – закричала она свою версию слова «вверх!». – Хорошо, Анн-Мари! Хорошо говоришь «вверх!» На верхнем пассаже я снова остановилась, держа её наверху в воздухе и заглядывая ей в лицо. «В-в-в-в…», – подсказала я. – Вии! – закричала она. – Эй! Хорошая девочка! «Вниз!» Мы проделывали это снова и снова, пока у меня не заболели руки. Но мне это понравилось. Я начала понимать, как совмещать зрительный контакт, удовольствие, поощрение и словесную подсказку, точно так, как Бриджит это делала на занятиях. Один раз усвоив технику, я начала находить сотни способов её применения в течение дня.
Бриджит начала окрашивать моё мышление и другими способами (?). Сразу после того, как Анн-Мари был поставлен диагноз, я начала вести дневник. Первые записи были беспорядочными и немного дикими – чувства, вышедшие из-под контроля, прыгающие вверх-вниз по странице буквы. Но время шло, и я становилась всё более объективной. Я стала систематически отслеживать симптомы болезни и признаки улучшения у Анн-Мари. В игре, языке, социальном общении и имитации – во всех областях, которые я могла выделить, я училась отмечать как слабые, так и сильные стороны дочери. Несмотря на то, что это было непросто, я стала более бесстрастно и безжалостно относиться к болезненным недостаткам Анн-Мари, которые я не могла помочь ей преодолеть. (?) Была доля иронии в том, что именно за это я мысленно бичевала Бриджит, когда она попросила меня написать списки, а сейчас я сама училась смотреть на слабость дочери и отмечать все аутистические привычки поведения так, как это делала Бриджит во время занятий. Такая клиническая объективность по отношению к тому, что ещё месяц назад вызывало острую боль, оказалась возможной, я полагаю, благодаря тому, что состояние Анн-Мари постепенно улучшалось.
Анн-Мари училась играть так же, как и делать всё остальное: Бриджит разбивала деятельность на маленькие несложные элементы, а потом физически помогала преодолеть каждый элемент. Если, к примеру, они составляли «паззл», то сначала Бриджит направляла руку Анн-Мари так, чтобы каждый кусочек встал на соответствующее место. Постепенно, по мере того, как девочка приобретала необходимый навык, Бриджит оставляла её играть одну, наблюдая со стороны. Всё абсолютно подсказывалось, физически и устно. Если это звучит надуманно и насильственно, то потому что это так и было. Но в любом слоучае это было лучше, чем смотреть, как она сталкивает кусочки от «паззла» в нескольких сантиметрах перед глазами.
Теперь я подсказывала ей подобным образом постоянно. Я помню, как сидела с ней, направляя её руки, чтобы положить мишку в постель, укрыть его, приложить к его рту игрушечную бутылочку. Сейчас меня меньше беспокоило то, ничего не происходило спонтанно. Я видела, как Бриджит подсказывала ей всё, начиная с экспрессивного языка, и заканчивая танцами и пением, а также я видела, что чем дальше, тем меньше Анн-Мари нуждалась в такой помощи. Достаточно было раз подсказать и подтолкнуть её к действию, как она сама начинала проявлять инициативу.
Постепенно я отдалялась от соблазнительного психоаналитического подхода, пытающегося выяснить, почему Анн-Мари стала аутистом, и стала, как Бриджит, концентрироваться на том, как именно я могла способствовать прогрессу в каждой конкретной области языка, поведения и социального общения. Я начала, как и Бриджит, не только останавливать самостимулятивное поведение, но и подсказывать и формировать более приемлимые навыки и привычки.
У подталкивания и подбадривания было много форм. Не без помощи уговоров, она начала пробовать разные виды еды. Я клала немного кетчупа (который она любила) на что-то новое, и вкладывала ей в рот. Я не позволяла ей зацикливаться на каком-то одном виде пищи, игрушке или деятельности. Сначала она яростно сопротивлялась каждому моему нововведению, но сейчас, казалось, она становилась более гибкой, без особого расстройства переходила от одного занятия к другому. Бриджит часто делала акцент именно на гибкости во время занятий. Она не просто требовала внимания, но и способности переключать внимание, легко переходить от одного вида деятельности к другому. Они делали несколько упражнений, сидя у стола, потом переходили на пол и выполняли там часть программы, затем снова возвращались к столу. Иногда Анн-Мари привязывалась к какой-то одной игрушке. Бриджит позволяла девочке играть с ней в течение какого-то времени, а потом объявляла: «Хорошо, сейчас время играть с формами!» Анн-Мари могла хныкать и сопротивляться, но они переходили к игре по сортировке форм.
Я тоже начала настаивать на переменах. Реньше Анн-Мари всегда хотела носить одну и ту же одежду и обувь. Покупать что-то новое было трагедией для всех нас – меня, Анн-Мари и продавца, который недоумевал, почему ребёнок плачет, кричит и катается по полу. Если мне случалось купить для неё новую пару штанов или новую кофточку, я могла быть уверена, что меня ожидает длительная истерика. Не зная, что делать, я просто позволила ей постоянно носить одни и те же два-три костюмчика. Но сейчас я начала одевать дочку в разную одежду, невзирая на её слёзы. Попробовав один раз, я проделывала это со всем – свитры, ботинки, разноцветные носки вместо стандартных белых, платья вместо униформы, состоящей из штанов и футболки, новые пижамы и т.д. Через несколько недель она уже спокойно носила, все, что я надевала на неё.
Я помню те далёкие дни в парке, когда я сидела с ней смущённая и расстроенная, потому что она не переставала плакать. Даниэль весело и с энтузиазмом хотел попробовать все развлечения сразу. Но когда-бы я не пыталась посадить Анн-Мари на качели или на горки, она плакала и сопротивлялась.
Теперь в эти свежие апрельские денёчки, после обеда и сеанса терапии я, уже более уверенная в себе, брала её в парк и игнорировала плач, пока мне не удавалось убедить её попробовать что-то новое. Я должна была подтолкнуть её переступить порог страха, физически помочь, пока она делала первые шаги, а когда она будет готова – предоставить ей действовать самой. День, когда мне, наконец, удалось посадить её на качели и на горку без плача был небольшим триумфом.
Если я видела, что у неё формируется привычка, развивается мания, ритуальное действие, я тут же вмешивалась, переключая её внимание на что-то другое. Она хотела постоянный, неизменяемый мир, и сейчас я гораздо лучше понимала, как с этим бороться. Я должна была взять её на руки, физически подсказать, подтолкнуть, помочь ей пойти в правильном направлении. Я должна была научить её подниматься и опускаться, гнуться и качаться, танцевать танец жизни. Она хотела постоянства, я же, с помощью Бриджит, принуждала её принимать не только мою любовь, но перемену за переменой.
Я также научилась принуждать её проявлять определённую решительность, если можно так выразиться. Однажды в доме у моего отца Анн-Мари подошла к тарелке с сыром и крекерами. Она стояла и смотрела на еду; было видно, что ей очень хотелось попробовать. Мой папа сразу наклонился к девочке. Большинство наших друзей и родственников, знавших о болезни Анн-Мари, всегда уделяли ей особенное внимание. Они пытались помочь ей всеми возможными способами. Отец протянул ей крекер.
– Подожди секунду, папочка, – сказала я. Я подалась вперёд и взяла руку Анн-Мари в свою. – Хочешь крекер, Анн-Мари?
Она ничего не сказала, но взволнованно посмотрела на меня.
– Вот, радость моя, – сказала я, протягивая её руку по направлению к крекерам, остановившись на полпути до тарелки. – Возьми его. Давай. Возьми крекер.
Анн-Мари выглядела так, будто кто-то собирался укусить её, но всё-таки она собрала всё своё мужество и взяла крекер.
– Хорошая девочка. Ты видишь? Ты можешь взять крекер. Ты это сделала. Ты сама взяла крекер.
Внезапно я поняла, что только что воспользовалась одним из приёмов физической манипуляции, которые произвели на меня такое отталкивающее впечатление, когда я впервые увидела Бриджит за работой. Теперь это стало обычным делом. Я «лепила» поведение дочери разными способами, но чем больше я это делала, тем более смелой и самостоятельной она становилась. Угрызения совести, вызванные чрезмерной властностью (?) бихевиористического подхода, уступили место практической реальности, которая доказала, что что-то работает. Анн-Мари прогрессировала очень быстро. Так считала Бриджит, так считала Робин, даже я и Марк начали в это верить.
Поначалу не видя в бихевиористической терапии ничего, кроме грубого вмешательства в личность Анн-Мари, теперь её отец и я начинали видеть в этом радикальное, но необходимое средство помочь дочери сформировать личность.
Мы не заключали её в тюрьму; мы выводили её к нормальной жизни.
Мы не управляли ей (?), мы помогали ей освободиться от нездоровых привычек и равнодушия аутизма.
Мы направляли её, как все родители направляют своих детей, подсказывая путь, устанавливая ограничения, мотивируя, с разницей лишь в том, что Анн-Мари была гораздо более беспомощна, чем другие дети. Но для неё наступит время свободы, самостоятельности и выбора. Сейчас, пока она была всё ещё очень маленькой, мы должны были вырвать её из объятий болезни и направить правильной дорогой, нашей дорогой.
Глава 16
– Вы всё ещё держите у себя эту бихевиористку?
Тем апрельским днём я сидела в кабинете у доктора Велч. – Да. – Я надеюсь, что вы не давите на ребёнка этой зубрёжкой, о которой вы мне рассказывали? Эта женщина занимается с ней? – Бриджит, вообщем-то, ничего, – пробормотала я. – Она неплохо ладит с Анн-Мари. – Я прошу вас, будьте очень осторожны с Анн-Мари. Не забывайте, какая она чувствтительная!
Я нуждалась в Бриджит. Сейчас я была в этом уверена. Позже я с большим волнением спорила с доктором Велч о том, что в терапии аутизма должно быть место для подхода Бриджит, также как и для теории эмоционального контакта.
Но я всё ещё любила доктора Велч. Я любила её за то, что она сделала для меня, как она заставила меня почувствовать надежду, когда будущее казалось таким мрачным. Я всё ещё не могла ослушаться её приказаний. Я колебалась, признаться ли ей в том, что сейчас Бриджит приходила уже пять дней в неделю, и что я позволяла ей заниматься с Анн-Мари механичной зубрёжкой звуков и слов и упражнениями на подбор цветов и форм. Тем более мне не хотелось говорить ей о том, как много техник Бриджит я переняла и использовала в повседневном общении с дочерью.
– С ней всё в порядке, – сказала я и сменила тему. – Я думаю съездить через несколько дней в Коннектикут. Мне бы очень хотелось познакомиться с другими семьями, которые практикуют терапию объятия. – Непременно, – ответила Велч. – Как насчёт 9 мая? – Почему именно 9 мая? Доктор Велч объяснила мне, что в этот день из Би-Би-Си приедут снимать документальный фильм о терапии объятия в Материнском Центре, в Коннектикуте. Она рассказала продюсеру обо мне, такой умной и образованной, и продюсер был бы рад поговорить со мной.
– Вы уверены, что они захотят выслушивать мою критику в адрес теории о плохо налаженном контакте матери с ребёнком? – спросила я.
Доктор Велч уверила меня в том, что я могла говорить всё, что угодно. Она бы хотела, чтобы я рассказала о том, как всё происходило у нас, и про свои чувства по отношению к самой терапии.
Я согласилась поехать. Не столько из-за того, что мне очень хотелось давать интервью на таком раннем этапе выздоровления Анн-Мари, как потому что мне очень хотелось встретиться и поговорить с другими родителями, которые занимаются этой терапией. Мне было интересно, использовал ли ещё кто-нибудь из них комбинированный подход, как это делали мы? Прогрессировали ли их дети так же быстро, как Анн-Мари? Ещё быстрее? Должна ли я была по-другому вести себя во время сеансов для достижения лучшего решения?
Я была уверена, что встречу родственные души – людей, которые верили в практику терапии объятия, но имели определённые сомнения на счёт её теоретической основы.
Я не могла быть более далека от истины. Люди, которых я там встретила, были непоколебимы, слепы в своей вере в доктора Велч, Тинбергенов и в убеждении в том, что их неумение наладить взаимоотношения с ребёнком послужило причиной аутизма.
Съёмочная группа Би-Би-Си как раз прибыла на место, когда я подошла к комфортабельному дому среднего класса на тенистой улице в одном из пригородов Коннектикута. Мы шли с Анн-Мари по дорожке к дому, и я пыталась выглядеть естественной, так как оператор уже заметил нас и начал снимать. Мы вошли в дом, где нас встретила доктор Велч, казавшаяся красивой и взволнованной. Она была тщательно накрашена и причёсана так, что её светлые волосы стояли ореолом над головой, её глаза сверкали. Она была уверена в себе и грациозна.
Мы расцеловались и поздоровались друг с другом. Она представила мне двух женщин, которые вошли в комнату с веранды. Женщины вели за руку своих детей, мальчика и девочку. «Скажи: «Привет, Кэтрин», – подсказывали они. Девочка лет десяти-одиннадцати сказала: «Привет, Кэтрин», не посмотрев на меня. Мальчик лет шестнадцати-семнадцати не вымолвил ни слова.
– Марта, Дезмонд ждёт! – крикнула женщина из кухни. Доктор Велч извинилась и вышла поговорить с продюсером Би-Би-Си, Дезмондом Вилкоксом. Одна из матерей объяснила мне, что женщина на кухне – это мать доктора Велч. Это был дом её родителей, и они помогали в работе Материнского Центра.
Я прошла на веранду, где не было почти никакой мебели, но было разбросано множество подушек вдоль стен. Я, немного нервничая, обратилась к другим присутствовавшим родителям. Там было восемь-десять матерей, столько же детей и три или четыре отца. Возраст детей был разным: от трёх лет и до возраста подростка, которого я только что видела.
Первое, что поразило меня, так нуждавшуюся в поддержке, это то, что никто из детей не выглядел выздоравливающим. Я видела хлопки в ладоши, прыжки на месте и пустые взгляды. Старшие дети немного говорили, но их речь звучала неестественно и не соответствовала уровню их возраста. Я не увидела никого, кто бы обнадёжил меня. Моя тревога возросла.
Я спросила мать одного из младших детей о том, где все вылечившиеся дети. – Если они вылечились, то им, разумеется, нечего здесь делать! Конечно. Почему я об этом не подумала? Но что некоторые матери делают здесь так много времени? Две из них сказали мне, что приходят сюда уже в течение десяти лет. Как долго предполагается лечение терапией объятия?
– Видели ли вы кого-то из вылечившихся детей? – спросила я женщину, с которой говорила до этого. – Нет, но доктор Велч рассказывала мне о Марке К. Я тоже слышала о Марке К. Много раз. Я ужасно хотела увидеть его, а также других выздоровевших детей.
Тем временем родители завели разговор о своих детях. Сначала я слушала с интересом, но постепенно во мне нарастало возмущение. Почти все матери рассказывали о том, как им не удалось наладить контакт со своими детьми. Их рассказы звучали довольно бодро: они знали, что несут ответственность за болезнь своих детей, но только охотнее обсуждали это. О, конечно, это не было их виной, но неосознанно они сделали что-то такое, что превратило их нормальных детей в аутистов. Отцы поддакивали всему, что говорили женщины. – У меня была депрессия, а я даже не знала об этом, пока не встретила доктора Велч. – Представляете, я перестала кормить её грудью, когда ей было всего годик! – Я никогда не носила дочь в «нательной сумке», как делала со старшим сыном. – Я уехала в путешествие, а когда вернулась, она уже ушла… просто ушла. – Я была так занята нашим переездом, что не уделяла ему достаточно внимания. – Да, – подтвердил муж этой женщины. – Она была тогда очень раздражённой и отстранённой.
– Как-то ночью он плакал в своей кроватке, а я не успокоила его, так как мой муж сказал, что мы должны научить его спать по ночам.
Я больше не могла терпеть.
– Плохо налаженный контакт – это симптом заболевания, а не причина! – выпалила я, перебив беседу. – Это не наша вина, как и не наших детей. Причина – в повреждённой нервной системе! Пустые взгляды обратились ко мне; я почувствовала враждебность. Да за кого она себя принимает? За доктора? За психиатра? Я предприняла ещё одну попытку, но уже менее уверенно. – Почему бы нам просто не попытаться снова наладить взаимоотношения с нашими детьми, вместо того, чтобы копаться в ошибках прошлого и заниматься самоанализом? Тишина. Потом вежливая перемена темы. Я понимала их, так как одной ногой тоже была в их лагере. Я убеждена в том, что неприятие некоторыми родителями идей генетической или другой органической причины аутизма объясняется уверенностью в том, что если причина заболевания биохимическая или метаболическая, то они просто ничего не смогут сделать. Когда изьян неявный, невидимый, – а у большинства детей-аутистов это именно так, – то мы ещё можем цепляться за нашу веру в силу любви; в то, что любовь и только любовь сможет вылечить ребёнка. Надежда, предложенная родителям Тинбергенами, доктором Велч и всеми психотерапевтами, которые ратуют за старый психодинамический подход к аутизму, основывается на убеждении в том, что если мы – причина этого, то мы это и поправим. Да, я виновата. Извините меня. Покажите мне, пожалуйста, как быть хорошей матерью. Я очень прошу. Все эти родители, и я в их числе, сроднились с этой виной, потому что верили, что через признание собственной вины придёт спасение. Но вот настало время для группового сеанса. Сейчас группа Би-Би-Си находилась с нами в комнате. Все родители, казалось, чувствовали себя уверенно и знали, что делать. Они сняли обувь и расселись на подушках на полу. Я последовала их примеру. Мы обняли своих детей. А затем последовал такой визг, крик и плач, какого мне не доводилось слышать в своей жизни. Мы с Анн-Мари были обе так напуганы, что вскочили с наших мест и выбежали в смежную комнату. Но ассистентка доктора Велч последовала за нами и твёрдо провела нас обратно в группу. Я попыталась сосредоточиться на Анн-Мари и на своём обычном: «Мамочка любит тебя, посмотри на меня», но было совершенно невозможно сконцентрироваться. Мать шестнадцатилетнего подростка, сидящая напротив меня кричала: – Один случай и ты решил навсегда покинуть нас? Ты разрушил нашу жизнь! Другая пара сидела с новорождённым младенцем на руках у отца и с трёхлетним мальчиком в объятиях у матери. – Посмотри на меня! – кричала мать мальчику. – Посмотри на неё! – орал отец. Мальчик дрожал и всхлипывал. Младенец также зашёлся в плаче.
– Думаешь, что только о тебе надо заботиться? – кричала мать своей плачущей дочери. – А как же другие? Кто будет заботиться о нас?
Я обнимала Анн-Мари и старалась успокоить её. Она была напугана и плакала. Я разрывалась между желанием сбежать из этого сумашедшего дома и упрямой верой в то, что если бы мне удалось выбросить из головы все свои интеллектуальные сомнения и просто верить так, как эти страстные родители, то моя дочь выздоровела бы.
Доктор Велч ходила между нас, спокойная и безмятежная; она улыбалась и подбадривала нас. Её неизменным наказом было выразить перед ребёнком наши истинные чувства – «дать волю гневу и боли». Только после этого мог иметь место настоящий контакт с ребёнком.
Камера Би-Би-Си следовала за ней, пока она переходила от группы к группе, опуская слово тут, улыбку там, а то и команду особо непослушному ребёнку посмотреть сейчас же на свою мать!
В конце концов всё закончилось. Люди расслабили объятия, сели поудобнее, стали спокойнее говорить с детьми. Я не знаю, почему это кончилось именно тогда, может быть из-за того, что закончилось отведённое для этого время, или потому, что одна из наиболее опытных матерей подала остальным знак «время вышло». Мне показалось очень странным, что все должны были закончить сеанс в одно и то же время. Я оглянулась проверить, достиг ли кто-нибудь желанного «решения», но не увидела ни одного ребёнка, ведущего задушевную беседу со своим родителем. Изменение в отношении, тоне, уровне шума проистекало от родителей, так же как это было во время моих домашних сеансов терапии объятия.
Вокруг было много улыбок и вздохов облегчения. Дети действительно выглядели более спокойными и расслабленными на руках у родителей.
Затем последовала ещё одна групповая дискуссия, на этот раз её вела доктор Велч.
– Послушайте меня. Я уже говорила это и скажу ещё раз. Эти дети не идиоты. Они прекрасно понимают, что происходит…
После, стоя на лужайке перед домом, я давала интервью Дезмонду Вилкоксу. Возможно чересчур педантично и «объективно», я описала свои сомнения по поводу теории эмоционального контакта, а также свою нервную реакцию на то, чему только что была свидетелем.
Доктор Велч стояла за съёмочной группой и улыбалась мне.
– Но, – сказала я, ловя её взгляд, улыбаясь в ответ её любящим глазам (?), – теперь позвольте мне рассказать, что доктор Влеч сделала для нас, для нашей семьи.
В мае была кульминация моего поклонения перед доктором Велч. Я хотела петь ей дифирамбы не только перед камерами Би-Би-Си, но перед всеми, кто был готов слушать. Фактически, я считала своей обязанностью нести в мир её послание надежды. Я решила написать письмо одному из самых известных исследователей в области аутизма, доктору Бернарду Римлэнду.
В начале года я немного слышала о докторе Римлэнде, а может быть мне встречалось где-то его имя; я думаю, что читала его статью о витемине В6 и о лечении аутизма. Но я не обратила на него особого внимания до того, как мне в руки попал опубликованный им квартальный бюллетень, Autism Research Review International.
В процессе чтения я была поражена тем, сколько информации содержалось в этих четырёх-пяти страницах. Этот доктор Римлэнд не поленился прочесать все издания, которые в последнее время публиковали статьи об аутизме. Потом он изложил результаты исследования в удобной для чтения форме, большую часть текста снабдил содержательными комментариями, и опубликовал всё это в одном отчёте. Теперь в мае, когда я перечитывала этот отчёт, я решила связаться с этим знающим и объективным человеком.
В длинном, восторженном письме, экстравагантном хвалебном гимне доктору Велч – с коротким упоминанием о Бриджит и Робин, конечно, – я выложила доктору Римлэнду всю нашу подноготную. Я написала об истории и о диагнозе Анн-Мари, о том, какие виды терапии мы использовали, о значительном улучшении состояния дочери, о некоторых моих сомнениях насчёт терапии объятия, о моих страхах и надеждах на будущее.
Я написала, что вне всяких сомнений, быстрый темп прогресса Анн-Мари был благодаря доктору Велч. В заключение я подытожила: работа Бриджит и Робин тоже, конечно, была очень важна, но основным лечением, главным в его успехе была терапия объятия.
Перед тем, как послать письмо доктору Римлэнду, я показала копию Бриджит, а потом доктору Велч.
– Что-ж, – спокойно сказала Бриджит после прочтения письма, – вы действительно с большим энтузиазмом относитесь к терапии объятия. – Но я также подчёркиваю, как важна ваша работа, Бриджит, – сказала я в защиту себе. – Да. – В любом случае, профессионалы должны принимать всерьёз такой вид лечения, как терапия объятия. С её помощью дети вылечиваются от аутизма! – Вы видели этих детей? Я почувствовало нарастающее напряжение. Я на самом деле верила в выздоровление, чёрт побери! Плевать я хотела, верила в это Бриджит или нет!
Бриджит продолжила, разбив враждебную тишину, установившуюся на минуту.
– Я думаю, что терапия объятия возможно оказывает эмоциональный или психологический эффект на вас обеих, – сказала Бриджит. – Я просто не знаю, насколько можно доверять этому методу, когда речь заходит об обучении ребёнка приемлимому поведению или общению. – Но ведь у меня есть вы десять часов в неделю. – Да, и у вас также есть вы, Кэтрин. Ведь вы работаете над программой гораздо больше, чем десять часов в неделю.
Я показала письмо доктору Велч. Она прочитала его, на мгновение замолчала, потом подняла на меня глаза. – Могу я оставить себе копию? Я согласилась. Через несколько дней она рассказала мне, что её отец, который помогал ей в работе Материнскего Центра, размножал письмо и распространял его среди энтузиастов терапии объятия по всей стране. – Неужели? – сказала я. Что-то внутри меня неприятно сжалось. Хотела ли я, чтобы все эти мысли, моё имя, имя Анн-Мари распространялись подобным образом? Я была очень признательна Марте; она спасла мне жизнь. Но неужели она не могла, не должна была спросить меня?
На пъедестале, который я воздвигла для неё, появились первые трещины.
Распространение моего письма беспокоило меня больше, чем я хотела в этом признаться. Я позвонила женщине, с которой познакомилась в оффисе у доктора Велч. Её дочери, больной аутизмом, было три с половиной года.
Женщина практиковала терапию объятия чуть больше года. Девочка, правда, не выздоровела, но у неё появилась эхолалическая речь, а количество припадков уменьшилось. – Вы верите в то, что терапия объятия полностью вылечит вышу дочь? – спросила я. – Вы верите в терапию объятия?
Последовала тишина, не очень дружелюбная. – Я в своей жизни ни во что так не верила, – ответила она. – А вы нет? – Да, да, – поспешно сказала я, – конечно, я верю, что это работает в какой-то степени. Просто я пытаюсь понять, благодаря чему состояние Анн-Мари улучшилось: бихевиористическому подходу или терапии объятия. – Какое вам до этого дело? – Есть дело! Я хочу знать, от чего моей дочери лучше. Я хочу знать, выздоровеет ли она, и что я могу для этого сделать!
– Я очень рада прогрессу своей дочери, и я никогда не подвергну её этим бихевиористическим штучкам. Был один терапевт, который как-то пришёл к нам и стал заниматься с ней этой ерундой, и поверьте мне, я больше никогда его не приглашала. – Нет? – а может вам следовало бы, подумала я. – Нет, я этого не сделала. Материнский инстинкт всегда прав. Мой инстинкт говорит мне, что только терапия объятия может помочь моей дочери.
В этой женщине, как и в других приверженцах этой терапии, я заметила нечто отталкивающее, но свойственное и мне самой: слепую веру, идеализацию человеческого индивидуума, нежелание признать тот факт, что мы совершаем ошибки решая, что хорошо, а что плохо для наших детей.
Но до того, как правда выйдет на поверхность, а я пойму, кто на самом деле был подарком судьбы для моей дочки, пройдёт ещё несколько месяцев. Это были две молодые женщины, Бриджит и Робин, которые час за часом, день за днём работали с ней, не разгибая спины. Они не совершали чудес; они просто учили её, шаг за шагом.
Перед тем, как мои отношения с доктором Велч подошли к концу, мне было суждено понять, что значит попасть под влияние кумира. Тем, кто мечется между страхом и отчаянием, трудно сохранять здравый смысл, объективность и трезвость суждений. После того как мы, родители из Материнского Центра, были брошены в пучину страданий, мы обрели великое облегчение от спокойных уверений и сладких обещаний нашей спасительницы.
Глава 17
За трёхмесячный период (март, апрель, май 1998 года) словарный запас Анн-Мари очень сильно вырос. Когда в своём дневнике я насчитала более сорока новых слов в день, я перестала записывать.
Но всё-таки ещё нельзя было считать, что всё нормально.
За исключением нескольких глаголов, которым мы специально учили её, девяносто пять процентов лексикона дочери составляли существительные, причём существительные, обозначавшие предметы, а не имена людей. Она говорила «пока» и начала повторять за нами «мама» и «папа», так как мы снова и снова работали над этими словами. Но всё же это были только существительные. Более того, чаще всего они произносились не спонтанно, а подсказывались нами.
Сорок слов, пятьдесят слов, всё ещё почти все существительные. – Когда обычно дети начинают составлять словосочетания? – спросила я у Робин. – Когда они знают десять-пятнадцать одиночных слов, – ответила Робин. Она всегда была честна со мной.
Шестьдесят слов, семьдесят слов, восемьдесят слов. До сих пор почти все существительные. Сейчас любимым занятием Анн-Мари стало называть предметы по именам – всё, что было в квартире.
– Рубашка, – говорила она, хватая отца за рубашку. – Рубашка. Рубашка. Рубашка. Рубашка. – Ботинок. Ботинок. Ботинок. Ботинок. – Ручка. Ручка. Ручка. Сначала воодушевлённые, мы скоро увидели склонность к закреплению этой новой привычки и всеми силами старались хоть немного разнообразить мышление дочери. «Да, Анн-Мари. Это моя рубашка. Я надел рубашку». Укоренившаяся привычка называть предметы, (так было написано в книгах), которые я читала, была основной характеристикой аутистической речи, и это беспокоило нас. Вокруг себя мы слышали, как двухлетние ребятишки выражали свои мысли с помощью комбинаций двух-трёх слов: «Хочу мячик». «Папа иди». «Я хочу сок». «Собачка иди на улица». Начнёт ли Анн-Мари когда-нибудь так говорить? Это было бы такой радостью, если бы она спонтанно поздоровалась со мной или со своим отцом, когда мы возвращались домой, или, однажды задала бы простой вопрос, как например: «Где куртка?» – это казалось невозможным. И хотя бы раз позвала меня: «Мама!» Что бы она не давала мне, я хотела ещё большего. Я была ненасытна. Я хотела, чтобы она стала живой, любящей, говорящей, смеющейся дочкой. Когда она делала новый шаг, я устремляла свой взгляд на следующий уровень и увеличивала свои запросы. – Начнёт ли она когда-нибудь сама составлять словосочетания и предложения? – спросила я. – Я думаю, да, – сказала Робин. – В последнее время мы много работаем над фразами из двух слов. – Во время игр с Анн-Мари Робин обращала особое внимание на составление таких максимально упрощённых фраз, как: «иди машина», «пока трамвай», «ещё печенье». Но, казалось, что Анн-Мари вполне нравилось просто называть снова и снова всё, что она видела вокруг себя. Её даже не заботило, слышал ли её кто-нибудь. Она не нуждалась в ответе. «Машина. Машина. Машина. Шапка. Шапка. Шапка». Бриджит также работала над фразами, состоящими из двух слов, и короткими предложениями с помощью упражнений на словесную имитацию. Наблюдая за их занятиями, не составляло особого труда понять, почему эффект от бихевиористической программы часто сравнивался с поведением робота. Речь Анн-Мари звучала очень натянуто и неестественно. То, чему её учила Бриджит, выходило наружу без малейшего изменения. В помине не было никаких творческих преобразований речевых форм. Запишите информацию на магнитофон, и получите её обратно в том же виде: «Печенье». «Сок». И позже: «Я…хочу…сок». Мы с Марком не верили в то, что такой неестественный, ограниченный язык был вызван бихевиористической программой – это было одним из симптомов аутизма, – но всё же мы пытались понять: не укрепляла ли его программа? Анн-Мари многому училась от Бриджит, но станет ли когда-нибудь её язык естественным, удобным для общения? Сможет ли она когда-нибудь поддерживать разговор? Что мы должны были сделать: дать ей запас из 500 предложений на все случаи жизни? Лингвистические и социальные навыки – это не просто некоторое количество заученных наизусть фраз, но постоянные творческие преобразования согласно определённому набору правил. Я прямо спросила об этом Бриджит и Робин; без напора, как я это делала пару месяцев назад, а очень неуверенно. Они ответили, опираясь на свой опыт работы со многими детьми, что ещё никому не удавалось вылечить ребёнка от аутизма. Некоторые из них прогрессировали, одни меньше, другие больше, к более высоким уровням общения. Они помогли мне увидеть, что нашей конкретной задачей было нечто большее, чем простая словесная имитация. Любым способом мы должны были добиваться от Анн-Мари функционального использования слов – Робин называла это практикой общения. Когда Анн-Мари выучила слово «открой», мы уже не позволяли ей стоять перед дверью и хныкать. Она должна была посмотреть на нас и сказать: «Открой!» В различных контекстах, в различных ситуациях, в течение всего дня, Анн-Мари должна была практиковать новые слова. Бриджит обучала её новым словам с помощью словесной имитации, но потом использовала любой шанс, чтобы потренировать их употребление. Робин и все остальные работали над обобщением любого слова, которое Анн-Мари учила. Прагматическое обобщение состояло из постоянного использования слова в разных контекстах и семантических структурах. Постепенно, шаг за шагом, мы перешли от конкретного и простого «открой это» к более сложным конструкциям: «Открой коробку». «Открой глаза!». «Магазин открыт?» – Что мы надеемся произойдёт, – сказала как-то Робин в долгой беседе со мной одним майским днём, – так это то, что Анн-Мари начнёт узнавать слова сама от своего окружения. Сейчас она очень быстро усваивает новые слова и понятия; мы же хотим увидеть, как она будет узнавать новые слова не только на занятиях, но и от окружающих людей, и сама научится делать обобщения этих слов.
– Мы хотим научить её учиться, – сказала я. – Я думаю, что это сказал Ловас, или я прочла это в какой-то книге. – Да. Я думаю, это очень хорошо сказано. Она учится учиться. Позже вечером я продолжила этот разговор с Марком.
– Возможно с помощью этой зубрёжки мы запускаем некий соединительный механизм в её мозгу. Знаешь, видимо благодаря этим программам что-то начинает происходить на нейрологическом уровне. Марк согласился. Он тоже думал, что у дочери есть нейрологическое повреждение. Но мы помогали Анн-Мари преодолеть это повреждение или компенсировать его с помощью постоянной тренировки. – Иногда даже люди с очень суровыми повреждениями речевого центра учатся говорить без операции, посредством естественной тренировки, правда? – сказал Марк. Мы вспомнили одну телевизионную передачу, в которой рассказывалось о девочке, у которой отсутствовала часть мозга, но тем не менее она не была умственно отсталой. – Другие части её мозга в какой-то степени взяли на себя всю работу, – сказала я. Я вспомнила это из той передачи. Наши размышления, разумеется, не основывались ни на какой достоверной информации. Но нам было необходимо дать какое-то разумное объяснений феномену, суть которого мы не понимали, и наверно никогда не поймём. Наша вера в то, что «мозг сам себе поможет» делала возможной надежду на полное выздоровление дочери. Двадцатого мая Анн-Мари дала новую жизнь нашей надежде. Робин, я, Даниэль и Анн-Мари сидели на полу учебной комнаты после занятия по развитию языка и речи. Даниэль и Анн-Мари увлеклись игрушкой, принесённой Робин, а мы с Робин болтали об успехах Анн-Мари. Мишель дремал с соседней комнате. Ключ повернулся в двери, и Марк вошёл в квартиру. «Всем привет,» – крикнул он из коридора. Анн-Мари подняла головку. Марк вошёл в комнату. Она повернулась и посмотрела прямо ему в глаза. Последовала пауза, прерываемая только сердцебиением, а потом она заговорила. Её слова прозвучали тихо и неуверенно. – Привет… папа. С минуту все молчали, потом у нас с Робин вырвался крик радости, и на некоторое ремя мы впали в состояние легкомысленной эйфории. Даже Даниэль, который не понимал из-за чего весь шум-гам, смеялся при виде общей радости.
Марк опустился на пол и взял свою малышку на руки. – Привет, Анн-Мари, солнышко моё, – взволнованно прошептал он, обнимая её. Так прошло несколько минут. Отец и дочь здоровались друг с другом. И всё-таки всю весну положение продолжало оставаться неустойчивым. Каждому признаку улучшения и здоровья сопутствовал знак непроходящей болезни. Каждый раз, когда мы чувствовали сдвиги в какой-то одной области поведения Анн-Мари, мы начинали беспокоиться за другие области. Даже после таких значительных улучшений в области языка, новые и старые симптомы болезни продолжали появляться, исчезать и снова появляться.
Количество припадков и истерик значительно уменьшилось (причём больше в повседневной жизни, чем на занятиях), но мы всё также ничего не могли поделать с плачем и хныканьем. Мы с Бриджит сделали вывод, что негативное отношение к окружающему у Анн-Мари вызвано чрезмерными требованиями, предъявляемыми к ней в течение дня.
Снова стали заметны старые симтомы: хождение на цыпочках, скрежет зубами и дрожь в теле. На какое-то время у неё появились странные грудные звуки, которые я называла «медвежьим ворчанием». Иногда им на смену приходили звуки, похожие на мышиный писк. Я никогда не могла углядеть в них смысла или ритма. Были ли это попытки самостимуляции с помощью звука и ощущения собственного голоса? Мне оставалось только догадываться. Кто знает, что происходило в закрытом внутреннем мире аутиста?
Одна пугающая привычка, которая усилилась в последние недели, была удары по лицу. Я покрывалась холодным потом каждый раз, когда я видела это. Этот симптом больше всех вводил меня в панику. Вид маленьких ручек, бьющих детское круглое личико, порождал во мне страх, граничащий с ужасом, желание сбежать из комнаты, из квартиры, бежать куда глаза глядят подальше от неё.
Реакция Бриджит была куда более спокойной. Для неё это было не более, чем одним из проявлений болезни, которое мы должны были пресечь в корне. «Теперь насчёт ударов по лицу, – сказала она как-то в конце занятия, и, несмотря на моё бешено бьющееся сердце, я заставила себя выслушать её, посмотреть на проблему с клинической точки зрения, как это делала она. Бриджит вела ежедневную запись частоты повторяемости определённых привычек поведения и старалась выяснить, чем они обусловлены. В отличие от психоаналитиков, которые обычно выискивают связь между аутистическими привычками и эмоциональными ранами, полученными в прошлом, бихевиористы наблюдают за происходящим в настоящем, чтобы найти причины поведения ребёнка. Потом они стараются либо изменить что-то в окружающей обстановке, чтобы таким образом повлиять на поведение, либо изменить само поведение, с целью придать ему более приемлемые черты. Способствовало ли что-то в окружении Анн-Мари тому, что она била себя по лицу каждый раз, когда это случалось. Что провоцировало такую реакцию дочери?
– Кажется, она бьёт себя всякий раз, когда недовольна заданием, – сказала Бриджит. Она так вела себя практически всегда в начале новой программы или во время осключительно трудного задания. – Но мы же не можем отказаться от введения новых программ, – сказала я. – Нет. И ей придётся научиться справляться с какой-то степенью недовольства и огорчения, не прибегая к такой реакции, – ответила Бриджит.
– Но если мы оставим всё как есть и позволим ей делать это каждый раз, когда она огорчена, то это только обострит проблему, – заключила я.
– Именно. Она бьёт себя по лицу, мы спешим облегчить ей жизнь – таким образом мы, как бы, награждаем её за такое самобичевание.
– Она в какой-то мере начинает ставить нам условия, – я становилась настоящим бихевиористом.
Бриджит засмеялась, немного грустно, как мне показалось. Она сказала, что, к несчастью, она знала немало семей, которые попались на эту удочку. Всякий раз, когда ребёнок впадал в истерику, они спешили успокоить и обласкать его. Довольно скоро ребёнок начинал использовать истерику как средство добиться желаемого. – Я могу понять, что нет смысла поощрять такие припадки, – сказала я. – Мы всё время должны это иметь ввиду… но что же нам делать, когда она начинает бить себя по щекам?
Мы решили, что на данный момент нашей стратиегей будет отнимать руки от лица и перенаправлять их, пока она не прекратит это делать.
Каждый раз, когда она била себя по щекам, мы спокойно отнимали руки от лица, клали их на колени девочки и удерживали в таком положении две-три секунды, не говоря ни слова. Потом, через пару секунд, мы хвалили её, используя специфический конкретный язык бихевиористического поощрения. «Хорошо руки внизу».
Бриджит объяснила, что бихевиористическая программа содержала множество вариантов исправления неверного поведения. Если бы этот способ перенаправления рук Анн-Мари не сработал, то мы бы придумали ещё что-то, например, твердо сказать: «Не бить!» и немедленно прижать её ладони к столу. Также мы могли, говоря специальным языком, «обречь эту привычку на вымирание». Это значит – полностью её игнорировать: ни награды, ни поощрения, ни даже внимания не уделяется неверной привычке.
Несмотря на то, что я была готова сотрудничать с Бриджит, я каждый день переживала, правильно или нет мы поступаем, принимая то или иное решение. Я до сих пор склонялась к мысли о том, что каждый симптом аутизма был вызван моей ошибкой или ошибкой Бриджит. Всякий раз, когда признаки негативного поведения усиливались, я снова начинала обвинять себя или бихевиористическую программу. Конечно, Анн-Мари многому училась, даже всё больше использовала язык в общении, – но может быть наше вмешательство послужит причиной новых эмоциональных травм.
Такие мысли приходили в голову, так как было очевидно: чтобы добиться успехов в социальном/эмоциональном плане, нам надо было ещё долго и тяжело бороться. Социальные интеракции – психологи называют это «привязанностями» – были, очевидно, камнем преткновения для Анн-Мари.
Как мы заставим её полюбить нас? На этот вопрос у меня не было чёткого ответа. То, что она казалась такой равнодушной к любящим её людям, было основным источником грусти для меня. Она всё ещё почти никогда не заговаривала с кем-либо спонтанно, без подсказки, никогда сама не подходила к нам. Только потому, что однажды она сказала «Привет, папа», мы не могли быть уверенными в том, что сделает это ещё раз. Всё ещё были такие дни, когда она была так же равнодушна ко всем, как в худший период болезни.
Выражение её лица было всё так же пустым, даже грустным. Практически всегда я могла сказать, взглянув на её лицо, была она «с нами» в тот момент или блуждала где-то в своём мире. Каждый раз, когда она улыбалась, это было таким событием, что я отмечала это в своём дневнике.
Ночью я укладывала её в кроватку, укрывала её, просила посмотреть на меня и говорила, как сильно я люблю её. Потом я уходила, с грустным осадком от того, что она никогда не окликала меня. Я думала о том, будет ли она когда-нибудь любить меня и нуждаться во мне в своей жизни? Будет ли она когда-нибудь подходить ко мне так, как Даниэль? Неужели ей безразлично дома я или нет? Даниэль и Мишель так нуждались во мне. Их глаза светились радостью, когда смотрели в мои глаза; они любили, когда с ними говорили, играли, обнимали их. Будет ли она когда-нибудь такой же?
Я снова и снова убеждалась в том, что не в силах дать ответы на все эти вопросы. Я занималась с Анн-Мари, мечтая об общении с ней, желая научить, заинтересовать её. Но когда надо было заставлять её «любить» нас, я больше полагалась на молитву, чем на себя. Я делала всё, что могла, а потом передавала Богу эту тайну.
И вот, наконец, когда весна сменилась летом, настал момент, которого я так долго ждала. Однажды вечером дочке нездоровилось: её лихорадило, бросало в пот, она плакала. Я долго укачивала её до того, как уложила в постель. Я гладила её больное тельце и пыталась передать ей всю любовь и желание защитить, которые я испытываю по отношению к ней. Я положила её, полусонную, на кровать, укрыла одеялом и пошла к двери. – Мама. Я замерла. Она позвала меня. Первый раз в своей жизни она позвала меня. Это слово вибрировало в моём сердце. Я опустилась рядом с ней, обняла её и прошептала: «Мама здесь, малышка. Мама любит тебя…».
Я оставалась с ней, пока она не уснула, прижимаясь щекой к её щеке, как когда она только родилась и её, совсем крошку, впервые положили рядом со мной. Я обнимала её, оберегая только что родившуюся хрупкую необходимость во мне, начиная верить…
Глава 18
Стоял июнь. Состояние Анн-Мари улучшалось день ото дня; с двумя другими детьми тоже всё было хорошо. Даниэль посещал подготовительную группу детского сада, где очень успешно занимался. Он до сих пор широко улыбался, и я надеялась, что нам удавалось сохранять его мир в целости и сохранности.
В течение дня всегда было несколько критических моментов, когда я пыталась заниматься с Анн-Мари, а Даниэль всё время мешал, требуя поиграть с ним, уделить ему внимание. Это было совершенно невыносимо: если я поворачивалась к одному ребёнку, то чувствовала себя так, будто бросала другого; Анн-Мари всё ещё не была в состоянии играть вместе с ним. Единственным выходом было прибегать к помощи других взрослых, чтобы такие моменты возникали как можно реже. Проблема состояла в том, что даже если рядом был другой взрослый – Марк, или Пэтси, или одна из наших помощниц, или моя сестра Бюрк – я всё равно чувствовала необходимость обнимать и ласкать каждого ребёнка самой. Я жила в страхе, что недодаю внимания своим детям.
Мишель был счастливым малышом. Он хорошо спал, просыпаясь не более двух-трёх раз среди ночи для кормления. После этого он сразу снова засыпал, часто уютно разместившись между Марком и мной на нашей кровати. Он очень много улыбался. Он одаривал своей широкой, лучащейся радостью улыбкой, словно говорящей: «Я люблю» всех, кого встречал в течение своего очень занятого малышового дня. Сестра, брат, Пэтси, я, папа, продавец в продуктовом магазине, лифтёр, газетчик – все до одного получали безграничное одобрение Мишеля.
Нельзя сказать, что Анн-Мари полноценно общалась с братьями, но в последнее время она стала уделять им больше внимания. Однажды, затаив дыхание, я наблюдала, как она подошла к Мишелю, села рядом с ним на пол и мягко положила ладошку ему на макушку. Я также заметила, что с какой бы игрушкой она не играла, она стала приносить её в то место, где играл Даниэль. Вместо того, чтобы сидеть в своей комнате и играть одной, она всё чаще искала нашего общества.
Для того, чтобы улучшить навыки социального общения, Бриджит неустанно добивалась того, чтобы Анн-Мари отвечала ей, а не просто крекеру или конфете. Я никогда не слышала, чтобы кто-то вкладывал столько энтузиазма и теплоты в похвалу каждого маленького шага ребёнка. Была ли я в коридоре или занималась домашними делами в другой части квартиры из комнаты занятий я всё время слышала: «Молодец, Анн-Мари! Ты сделала это!» Эти радостные крики превратились в постоянный фоновый шум.
Несмотря на то, что Бриджит всё так же очень специфично называла все действия, выполняемые Анн-Мари, она стала добавлять и более естественные слова ободрения, например: «Кто умная девочка? Ты – умная девочка!» или «Потрясающе!»
Также Бриджит постоянно находилась в близком физическом контакте с девочкой. Она считала, что объятия, поцелуи, подбрасывание в воздух были не менее важны, чем устная похвала.
Разумеется, к июню мы с Марком были совершенно другого мнения о Бриджит. Наблюдая за тем, сколько нового Анн-Мари узнавала от неё, мы не испытывали ничего, кроме радости от того, что такой сильный воин сражается за нас. Мы были уверены, что бихевиористическая программа так же важна, как терапия объятия. Может быть, только может быть, она была даже более важна.
К сожалению, мы продолжали слышать нападки на Бриджит и её методы лечения. Казалось, что наши прежние предрассудки разделялись большим количеством людей, и далеко не все из них считали нужным сообщать нам об этом в мягкой форме.
Одна мать, Люсиль, обратилась ко мне с просьбой посоветовать лечение для её дочери, больной аутизмом. Как часто поступали со мной, во время моей собственной поисковой одиссеи, я послала ей всю литературу, которая у меня была, и уделила ей время, чтобы помочь найти терапевтов. Тем временем, такая же наивная, как я когда-то, она позвонила посоветоваться в больницу Пэйн Витни. Молодая доктор выслушала её объяснение о том, что она пыталась сделать для дочери. Мне случалось встречать эту женщину. Холодно и отстранённо она выслушала тогда описание нашей домашней программы с плохо скрытым пренебрежением.
– Бихевиористическая модификация, – сейчас она холодно информировала Люсиль, – достойна только порицания. Одна моя подруга зашла как-то ко мне на чашку кофе и во время разговора деликатно намекнула на то, что бихевиористическая программа не принесёт ничего хорошего Анн-Мари.
– Почему нет? – спросила я, полагая, что мне просто надо рассказать ей немного о том, как программа работала и какой эффект оказывала. Я напомнила себе, что совсем недавно я сама относилась к этому методу с подозрительностью и отрицала его с философской точки зрения. – У меня есть подруга, которая имеет степень доктора психологии. Она считает, что никто, кто знает хоть немного о детях, не подвергнет ребёнка лечению с помощью бихевиористической модификации. – «Никто, кто знает»… У неё есть дети? – Нет. – Она когда-либо работала с детьми-аутистами? – Я не думаю, но она очень много читала… – Скажи мне, что же она рекомендует? – Психотерапию, разумеется. После этого разговора я долго слонялась без дела по дому. «Пусть сначала эта доктор психологии родит ребёнка, пусть её ребёнок окажется аутистом, а потом пусть хоть до посинения лечит его психотерапией,» – злилась я. Я хотела здорового ребёнка.
Мы с Марком постоянно выслушивали нечто подобное. Нам сообщали, что мы превращаем своего ребёнка в робота, что мы занимаемся только симптомами и оставляем без внимания корень болезни. В Нью-Йорке в особенности, слово «бихевиористический» звучало, как анафема. Некоторые родители давно говорили мне, что в других штатах они не сталкивались с такой враждебностью по отношению к бихевиористической терапии, но здесь, находясь в своей «святая святых», главные фрейдисты страны вот уже сорок лет цеплялись за одни и те же идеи.
Мы поняли, что немалая доля такой враждебности объяснялась ложным убеждением, что основным составляющим бихевиористической программы было огромное количество ужасных физических наказаний – от шлепков и до электрошока. В нашей домашней программе никто из терапевтов никогда не использовал физические наказания. Самым насильственным действием было держать Анн-Мари на стуле, в то время как она вырывалась и сползала на пол. Хотя иные могут посчитать и это физическим наказанием. Насильственное удерживание, применяемое в терепии объятия, было больше похоже на физическое вмешательство, чем всё, что делалось в рамках бихевиористической программы.
Я понятия не имею, что бы мы делали, если бы Анн-Мари была склонна к саморанению до такой степени, что мы бы не могли пресекать это с помощью перенаправления рук. Так что я воздержусь от резких суждений о применении наказаний, особенно там, где остальные подходы доказали свою несостоятельность. Мы видели видеозапись, на которой описывались случаи саморанения, которые в течение нескольких лет постоянно пресекались с помощью мягкого наказания: громкого «Нет!» и шлепка по бедру. Я полагаю, что всё зависит от того, что вы подразумеваете под физическим наказанием. Один считает таким наказанием малейший физический дикомфорт, другой сочтёт неприемлимым устный выговор, третий считает, что к детям с проблемами в общении вообще неприменимы никакие требования. Мнения на эту тему очень неоднозначные. Группа профессионалов, убеждённых в том, что они всё знают лучше и заботятся о детях-аутистах больше, чем их родители, резко порицают использование физических наказаний.
Но суть враждебности к бихевиористической терапии лежит гораздо глубже, чем вопрос о наказаниях. Её корни идут глубоко к конфликту между двумя способами восприятия детей и работы с детьми, причём речь идёт не только о детях-аутистах, но и даже в более широком плане – об обычных детях. С одной стороны – бихевиористический подход, тщательно разработанный для изменения поведения аутиста и усваивание им нормального, приемлимого поведения. С другой стороны – разнообразие психодинамических подходов, все построенные на «понимании», анализе, налаживании контакта и «внутреннем прозрении».
Мы жили и дышали этим конфликтом. Мы обнаруживали, каким влиянием пользовались психодинамические подходы много лет спустя после того как Беттельгейм был дискредетирован. В какой-то момент мы поймём, почему сторонники этих подходов так яростно сопротивлялись методу, который был способен вытащить ребёнка из аутизма.
Глава 19
К середине июня Анн-Мари уже использовала довольно много комбинаций из двух слов: «привет (плюс имя человека)»; «пока (плюс имя человека)»; «ещё (плюс существительное)»; «все ушли». Робин и Бриджит без устали тренировали с девочкой подобные фразы. Всякий раз, когда Робин откладывала в сторону куклу или игрушечного зверя, она произносила: «Пока, Мики!» «Пока, Плуто!» «Пока, птичка!» Мы с Марком также при любой возможности тренировали эти слова. «Скажи привет Бласу!» «Скажи привет Джорджу!» Все лифтёры и швейцары в нашем доме уже привыкли к тому, что мы всё время подсказывали Анн-Мари таким образом. Она никогла не здоровалась с ними спонтанно. «Она такая стеснительная!» – сказал как-то Блас. Доктор Велч была очень довольна прогрессом Анн-Мари и уговаривала меня свозить её в Материнский Центр.
– Хорошо, – согласилась я, почему-то несколько напряжённо. Мне совсем не хотелось возвращаться туда, но чтобы не обидеть доктора Велч я должна была съездить к ней ещё хотя бы пару раз. Кроме того, я подружилась с двумя женщинами, которых встретила в Материнском Центре. Эти матери были очень заинтересованы в применении комбинированного подхода, как и мы с Марком. Я обещала Марте, что приеду.
Сеансы терапии у неё в оффисе проходили без особого успеха. Мы всё больше спорили о вопросе материнского контакта. Я была не в восторге от того, что увидела в Материнском Центре и расспрашивала доктора Велч о детях, которых там видела.
Я также перечитывала книгу Тинбергенов, пытаясь укрепить свою пошатнувшуюся веру в них. Когда-то я недооценила Бриджит. Может ли быть, что я также ошибалась насчёт Тинбергенов? Возможно, я переоценила убедительность и проницательность их суждений? Я пыталась понять причину неудачи налаживания взаимоотношений и почему эта неудача приводит к аутизму, но чем больше я читала, тем больше объяснения в книге казались поверхностными и спекулятивными. Всё интрепретировалось в свете принятой априори теории, которая по какому-то негласному соглашению преподносилась как аксиома. Всё выглядело очень просто. Слишком просто: вот причина аутизма, а вот его лечение.
Однажды я дошла до главы, посвящённой саморанению.
Удары по лицу у Анн-Мари прекратились примерно к середине июня, но воспоминание об этом было всё ещё очень свежо и болезненно. Но меня одолевали и другие мучительные образы подобного рода. Сразу после того, как Анн-Мари был поставлен диагноз, мы с Марком смотрели документальный фильм об аутизме. Камера была направлена на мальчика с тяжёлыми отклонениями, ему было примерно четыре года. Отец привёз его в бостонский лечебный центр в надежде, что там смогут остановить самобичевание ребёнка. Камера зафиксировала чрезвычайно продолжительный кадр, в котором мальчик с силой бил себя по голове, с одной и с другой стороны, снова и снова. Тах, тах, тах. Можно было услышать удары, следующие один за другим. Можно было увидеть лицо ребёнка, обезображенное болью, как будто он хотел перестать, но не мог.
Мы видели также другого мальчика, лет восьми, в другом документальном фильме. Он уже содержался в специальной больнице. Его руки были замотаны специальными бандажами, так как видимо никто не мог остановить непрекращающиеся удары по ушам. Его лицо было маской острой боли, а руки всё били и били по ушам.
Я знаю, что многие дети-аутисты не чувствуют боль в чистом виде, но какая-то форма мучения читалась на лицах тех маленьких мальчиков. Это был один из тех образов, которые хочется показать Богу и спросить: «Почему, Господи? Почему ты допускаешь такое страдание?»
У Тинбергенов, разумеется, и на это имелось объяснение. Подобное саморанение, на их взгляд, было формой «перенаправленной агрессии», вызванной огорчением или унижением, причиной которых являлись взрослые, присутствующие в окружении ребёнка – «например, если они говорят уничижительным тоном в пределах слышимости ребёнка… Так как ребёнок не осмеливается направить агрессию на человека её вызвавшего, он перенаправляет [агрессию] на себя».
Такое объяснение покажется бессмысленным даже тому, кто пытается убедить себя в том, что необходимо соглашаться во всём с этими людьми, так как от этого зависит будущее его ребёнка. Я часто была свидетелем тому, как родители унижали своих детей, называя его или её плаксой, трусом, ябедой и т.п. Я видела, как родители на людях бьют своих детей, и каждый раз я вздрагивала при мысли о том, что же происходит у них дома. Я видела, как детей позорят при всех за то, что они делают в штаны. Я беспокоюсь за эмоциональное состояние этих детей и знаю, что в их душе остались неизлечимые раны. Но я никогда не видела ребёнка, направляющего такое чудовищное насилие на себя, какому бы унижению он не подвергся. Более того, идея обвинения родителей в этой трагедии казалась мне лишённой всякого основания. Примерно тогда же я пыталась понять корни психогенического направления терапии аутизма. Я взялась за книгу, принесённую Марком в начале нашего исследования. Это была «Пустая крепость» Бруно Беттельгейма, возможно самая популярная книга об аутизме. Я не потрудилась прочитать её до того, так как два или три психолога, с которыми мы советовались, уверяли нас, что это было вчеряшним днём. «Никто больше в это не верит,» – сказали они. Но я не была в этом уверена. Тинбергены и доктор Велч подчёркивали, что по их мнению, поведение матери играло не последнюю роль в развитии аутизма у ребёнка. Разве не то же самое говорил Беттельгейм? В чём разница? Что изменилось?
В течение многих лет Беттельгейм считался неоспоримым авторитетом в области аутизма, и вот что он писал: «Детский аутизм – это психологическое состояние, которое развивается вследствие пребывания в экстремальной, абсолютно безнадёжной ситуации».
Термин «экстремальная ситуация» очень напоминает определение, употреблявшееся в нацистских концентрационных лагерях во время Второй Мировой Войны: «… все психически нездоровые дети страдают оттого, что были подвержены экстремальным жизненным условиям… им всем свойственна одна черта: беспрестанный страх за свою жизнь». Также как и некоторые заключённые концлагерей они страдают от «убеждённости в неминуемой смерти», и эта убеждённость приводит к «кататонии (?)… регрессии к детскому поведению, характерному для младшего возраста… полному эмоциональному истощению…»
Медленно, неизбежно обвиняющее око опускается на Мать:
Обращаясь к истокам экстремальных ситуаций в раннем детстве, можно сказать, что тут немалую роль играет поведение матери, и во многих случаях её обращение с ребёнком являет собой пример исключительно ненормального отношения… Я считаю, что главной причиной заболевания ребёнка является способность правильно интерпретировать негативные эмоции, с которыми основные люди в его окружении относятся к нему…
Но Беттельгейм спешит добавить: мало того, что это её вина, она ещё и ничего не может с этим поделать. Просто всё, что она делает выходит немного неправильно, немного ошибочно, как-то неуклюже, – например, оставляет ребёнка на всю ночь в холодной комнате, а ребёнок воспринимает это, как катастрофу. Матери тоже свойственно ошибаться, у неё тоже есть какие-то человеческие недостатки, которые, к несчастью, могут довести её ребёнка до состояния кататонического (?) страха. Беттельгейм прощает как ей, так и отцу ребёнка.
Родители детей-аутистов просто жили своей жизнью, реагируя на различные события согласно своему эмоциональному складу. По правде говоря, они часто поступали во вред своему ребёнку, но они этого не знали. Он очень старается простить их. По доброте душевной он уверяет читателя, что та конкретная пара, которую он описывал, вполне могла выражать ненависть по отношению к своему ребёнку, но «никогда родители не доходят до идеи изжарить ребёнка в печке и съесть его…» И всё-таки иногда Беттельгейм теряет своё милостивое терпение по отношению к этим ненормальным родителям, и воздаёт им – особенно матери – «по заслугам».
Я подчеркну, что фигура матери-разрушительницы (Бабы-Яги) – это плод воображения ребёнка, несмотря на то, что источник этого образа находится в реальности – в основном, в негативном поведении матери… На протяжении всей этой книги я отстаиваю свою точку зрения, согласно которой первоосновой детского аутизма является желание родителей, чтобы этого ребёнка не было на свете.
Через несколько месяцев после прочтения этой книги, я познакомилась с одной трогательной женщиной. Её дочери было сейчас около двадцати лет, она жила в специальной лечебнице. У неё обнаружили аутизм в пик славы и влияния Беттельгейма. Эта женщина рассказала мне, что тогда абсолютно все верили ему. Родители верили тому, что им говорили профессионалы, а профессионалы верили Беттельгейму. Никто не подвергал сомнению его авторитет. Психиатр приказал ей приводить дочь пять раз в неделю для «анализа». Матери не разрешалось сидеть даже в приёмной комнате, так «любезны» были с ней помощники доктора. Медсёстры и администраторы сообщили ей, что она может оставить девочку у дверей и подождать её на улице. Они никогда не смотрели на мать, не здоровались и не прощались. Она – причина такого ужасного состояния ребёнка, и она не заслуживала человеческого снисхождения. Она рассказала мне, как стояла там – в снег, в дождь и в жару – и плакала. – Как же вы выжили? – спросила я её. – Я выжила, – мягко ответила она. – Я знаю, что некоторые не смогли. – А потом, позже, вы чувствовали гнев? – Да, я чувствовала гнев. Но через какое-то время я взяла свой гнев обратно и выбросила его куда подальше, – она замолчала, а потом прибавила: – Вы должны продолжать жить. Она же сосредоточилась на своей дочери, пыталась обеспечить для неё лучшую жизнь и до сих пор старалась сделать всё возможное, чтобы быть уверенной, что и после её смерти о её дочери будут заботиться.
Я молчала. Мне нечего было сказать этой женщине. Нечего сказать о страдании и мужестве, о которых она знала не понаслышке.
Естественно, что Беттельгейм и Тинбергены были не высокого мнения о бихевиористической модификации. Вот как об этом говорит Беттельгейм.
Программы с обусловленной реакцией превращают детей-аутистов в существ, чуть более гибких, чем роботы… дети-аутисты доведены до уровня собак Павлова… Лучше было бы дать [ребёнку-аутисту] самому решать, какую реакцию он чувствует… чем тренировать его жить в обусловленной среде только из-за того, что окружающие его люди находят это удобным.
Тинбергены, в свою очередь, отпускают унизительные замечания о том, как скучно для детей «учиться навыкам» и намекают на пытки электрошоком. Снова и снова они доказывают, что если кому-то удастся поправить эмоциональное повреждение, то все эти навыки придут сами собой.
Я отправилась к доктору Велч. Я заметила много параллелей, которые мне совсем не нравились. «Почему вы и Тинбергены продолжаете обвинять родителей?» – спросила я. «Вы не очень-то отличаетесь от Беттельгейма».
– Мы не обвиняем родителей! – вскинулась она, на мгновение теряя свой обычный улыбчивый шарм. – Никто не обвиняет родителей.
Может быть я что-то не так прочитала?
Я вернулась к тексту.
С огромным огорчением Тинбергены не могли не привести факты печальной действительности: «Поведение родителей, в особенности матери» напрямую связяно «с основной психогенической причиной аутизма».
Если мы должны выбрать одно из двух: задеть чувства некоторых матерей или спасти многих детей от аутизма… мы чувствуем, что у нас нет иного выбора, кроме как быть суровыми с матерями. Но как же мать толкает своих детей в пропасть аутизма? В дискуссии о роли матери явно слышатся нотки Беттельгейма. Некоторые вещи, происходящие между матерью и ребёнком; некоторые вещи, которые мать делает или даже неосознанно чувствует являются… довольно опасными. Мать может и не предполагать, что её слишком интеллектуальная натура окажет такой катастрофический эффект. Мать, конечно, не хочет, чтобы её ребёнок стал аутистом, но на деле черты её поведения говорят о недостаточном внимании, уделяемом душевному равновесию ребёнка. Список Тинбергенов, содержащий «аутизмогенические» факторы, собирался по частям, о чём они без устали напоминают читателям, за долгие годы тщательного и терпеливого наблюдения. Хотя они включили в этот список и не относящиеся к матерям обстоятельства – такие как развод, переезд, частые путешествия, жизнь в высотном доме – большая часть факторов была напрямую связана с матерью. Ошибки матерей – это трудно протекающие кормления, кормление из бутылочки чаще, чем грудью, «слишком интеллектуальные матери», матери в депрессии, скучающие матери, матери, которые оставляют своих детей на чьё-то попечение (у няни или в яслях), неопытные матери, беспокойные сверх меры матери, матери, которые читают слишком много книг о материнстве, слишком серьёзные или рассеянные матери.
Те же, кто отрицают этот психогенический подход, по мнению авторов, поступают так из «антинаучных, нерациональных побуждений», пряча голову от своего собственного «чувства вины».
Именно оно [чувство вины] делает практически невозможным для родителей детей-аутистов принять теорию психогенической основы аутизма даже перед лицом абсолютно очевидной действительности. [С помощью проверки удалось установить, что эта «недопускающая возражений действительность» ненаучна и нерациональна; она основывается исключительно на субъективной (но очень уверенной) интерпретации Тинбергенов поведения аутистов.]
Да, но это были Тинбергены. Что по этому поводу скажет доктор Велч? Её работа о терапии объятия помещалась в конце книги Тинбергенов. «Причиной аутизма, – писала она, – является неумение матери наладить контакт с ребёнком». В доказательство этому утверждению она приводила тот «факт», что у детей, «вылеченных» с помощью терапии объятия, не наблюдается никакого органического повреждения, что доказывает то, что интеракции между матерью и ребёнком играют основную роль в развитии аутизма. Но опять, мать прощена. Опять всё сводится к тому, что она не могла поступать по-другому: она – жертва, также как и её ребёнок. На этой благородной ноте доктор Велч заканчивала своё сочинение.
Таким образом, формально, мать была оправдана. Тем не менее в книге доктора Велч, в главе под названием «Избранные истории из практики» проступки матери подвергались гораздо более острой критике.
– Мать Н. М. держалась холодно, отстранённо и была интеллектуалкой. – Мать П. Р. была излишне строга и холодна по отношению к мальчику. – В одном из самых тяжёлых случаев аутизма… ребёнок сделал двадцать попыток сближения с матерью, в то время как мать – только одну.
Моё ощущение неудобства по отношению к терапии объятия усиливалось, поскольку здесь ненавистная мне идея об обвинении матери звучала ещё чётче, чем в тоерии «аутизмогенезиса» Беттельгейма. И всё-таки мне надо было ещё много увидеть и осознать. Тяжело расставаться с обещанием о чудесном средстве. Я спрятала подальше свою неприязнь к доктору Велч и ещё давжды съездила в Коннектикут – один раз с Марком и Анн-Мари, второй – только с Анн-Мари. Но то, что происходило там, нам было слишком тяжело перенести – слишком тяжело понять, принять, простить. Первый эпизод был связан с трёхлетним мальчиком – Сином. Я очень беспокоилась за него. Его случай был одним из самых тяжёлых в Материнском Центре. Он был постоянно в движении, танцуя на цыпочках, хлопая в ладоши, визжа, тряся головой, прыгая вверх-вниз: маленький мальчик-марионетка, полностью замкнутый в своём собственном мире. Его мать беспокоила меня ещё больше. Я едва могла смотреть на неё. Она была абсолютно измождена своим горем: серая кожа, пустые глаза, рот, сжатый в узкую полоску боли. Она и её муж пытались заниматься терапией объятия с Сином. Ничего. Ни зрительного контакта, ни перерыва в визге и тряске, ни знака, что он признаёт их. Это повторялось снова и снова. «Син, посмотри на меня. Пожалуйста. Пожалуйста. Син. Посмотри мне в глаза». Неожиданно Син ударился головой об угол шкафа. Его мать остановилась, обеспокоенная моментально разбухшей шишкой. «Дайте мне льда! Мне нужен лёд. Он повредил голову». В тот день доктор Велч отсутствовала. Вместо неё подошла ассистентка. «Мэри, – сказала она, – эта шишка – пустяк, по сравнению с теми неприятностями, которые вы навлечёте на сына, если не добьётесь от него решения». – Я не могу добиться этого чёртова решения! – крикнула Мэри и начала всхипывать. Все сидели тихо, притворяясь, что не обращают внимания на эту болезненную драму. Внезапно ассистентка доктора Велч повернулась ко мне и сказала: «Кэтрин, Мэри считает, что одна из причин, по которой она не получает решения от Сина – это недостаточная поддержка от её мужа. Может быть вы поделитесь с нами, каким образом ваш муж оказывает вам подержку?»
Марта Велч, как известно, утверждает, что если отец враждебно настроен по отношению к терапии объятия или не оказывает необходимую поддержку матери, то выздоровление невозможно.
– Я не думаю, что ей нужно читать лекцию о браке! – выпалила я. – Я считаю, что вам следует прекратить говорить, что она должна добиться решения.!
Я сердито вопрошала саму себя: «Как кто-либо может позволять этой женщине думать, что вся тяжесть заботы о ребёнке с такими серьёзными отклонениями должна пасть только на её плечи? Мальчику необходима интенсивная терапевтическая программа. Почему об это никто не позаботился? Что было бы, если бы мы по моему настоянию в самом начале решили отказаться от Бриджит? Что было бы, если бы нам приходилось надеяться только на терапию объятия?»
Теперь я начинала понимать, что идея о том, что мать способна вылечить своего ребёнка не менее пагубна, чем идея о том, что мать – причина аутизма. Меня сильно поразило то, что на уже согнутую от горя спину Мэри хотели водрузить ответственность за прогресс её сына да ещё и заставляли её добиваться «решения» от тяжело-больного ребёнка.
Второй инцидент произошёл во время нашей третьей и последней поездки в Коннектикут. В него был вовлечён другой мальчик – Тим, примерно десяти лет.
Когда его мать попыталась обнять его, он стал сопротивляться, и они начали бороться. В результате борьбы оба оказались на полу, мать кричала на Тима, Тим молча вырывался. Мать, уже заметно раздражённая, уселась на мальчика верхом, а затем налегла на него всем своим весом, чтобы держать его руки прижатыми к полу. Вдруг ничего не выражавшее до этого лицо Тима искривилось от боли, и он, обессиленный, начал плакать. «Нет!» – выдохнул он.
Я оглянулась вокруг. Доктор Велч наблюдала за сценой и, как обычно, улыбалась.
Мы покинули Материнский Центр и никогда больше не возвращались туда. Мы пришли в уныние от того, что там видели: матерей, обвиняющих в своей беде не только самих себя, но и своих детей. Несмотря на то, что я всё-таки считала себя в какой-то степени виноватой в болезни Анн-Мари, я никогда и не думала обвинять её в чём-либо.
Вскоре после этого, в начале лета, Доктор Велч уехала из города. Она должна была отсутствовать весь июль, а в августе она планировала поехать в Англию, где компания Би-Би-Си хотела продолжить съёмку документального фильма о терапии объятия. Её слава росла.
Я чувствовала облегчение от того, что она уезжает. Последние сеансы у неё в квартире проходили в напряжённой, раскалённой от споров обстановке, прерываемой постоянными телефонными звонками от юристов, агентов, издетелей и журналистов. Когда-бы речь не заходила об Анн-Мари, её совет был неизменен. – Анн-Мари боится ходить по улицам, – сообщала я. – Обнимайте её каждую ночь, – было ответом. – Язык Анн-Мари всё ещё очень ограниченный и неестественный. – Обнимайте её и она заговорит, когда будет готова к этому. Я надеюсь, вы не давите на неё этими упражнениями. – Анн-Мари всё ещё не подходит ко мне, когда я прихожу домой. – Просто побольше обнимайте её. По сравнению с тем, что давала нам бихевиористическая программа, этот совет начинал звучать слишком неопределённо.
Несмотря на моё разочарование в докторе Велч, часть меня всё-таки ещё хотела в неё верить. Даже не столько в терапию объятия, как в неё саму. Несмотря на изъяны в теории Марты, я считала её искренним человеком, и она очень помогла мне, когда я очень нуждалась в её помощи. Более того, я всё ещё верила в то, что терапия объятия чего-то стоит. Я решила продолжать заниматься ею (согласно своей собственной версии). Я буду продолжать проводить сеансы терапии летом, позволяя при этом Бриджит управлять тяжёлым процессом прививания всех этих «навыков» которым, надо признаться, я уделеляла большое внимание.
Глава 20
Я не уверена, что когда-нибудь узнаю, что значит жить «нормальной жизнью», но одно было ясно: мы с Марком были за обочиной. Мы жили, дышали, разговаривали и мыслили аутизмом. У Марка хотя бы была его работа, чтобы отвлечься, но даже он признавался, что между телефонными звонками и встречами, навязчивые мысли об аутизме неизменно лезли в голову.
Стоял июнь. Мы жили каждым днём, радовались тому, что он дарил нам, стараясь не задумываться о том, что готовило нам завтра.
Я жаждала тишины и была счастлива, если в течение дня или вечером выпадали моменты, когда я могла побыть наедине с собой. Я сидела на диване или забиралась под одеяло: не читала, не разговаривала, просто пыталась оторваться от реальности, балуя себя минутами тишины и спокойствия.
Часть моих дружеских отношений распалась. У кризиса есть характерная черта: устраивать проверки на прочность дружеским отношениям. Часть выдерживает, часть – нет.
После того, как наш первенец родился мертворождённым, я, с присущей мне наивностью, ожидала определённого понимания со стороны наших друзей. Я была в шоковом состоянии, возможно одном из самых тяжёлых в своей жизни, а мне пришлось столкнуться с самым что ни на есть циничным отношением взрослого мира. (?) После всего, что было сказано и сделано – после всех замечаний, типа «не волнуйся, родишь ещё» – я признала горькую правду: большинство людей не могут сострадать тому, что не пережили сами. И если только они не поставят себя на место человека, понёсшего утрату, они не почувствуют всю горечь потери или тяжесть кризиса. Но они не хотят этого делать.
Никто из нас, включая меня, не хочет принимать на себя чужую боль. В таких случаях в расчёт могут идти другие причины. Если мы не можем поправить что-то в жизни своих друзей, мы чувствуем себя беспомощными. Если мы знаем, что помочь нечем, то притворяемся, что ничего не произошло. Мы не знаем, что сказать. Мы испытываем недостаток в словах. В нашей жизни и так хватает горя и боли. Если мы видим нищету, то стараемся по крайней мере помочь деньгами, даже если знаем, что наше финансовое положение оставляет желать лучшего. Но если мы становимся свидетелями драмы, большинство из нас даже менее эффективны: мы пытаемся разговором отвлечь человека от его горя. Может быть нам всем давно пора понять, что у страдания нет «решения». Каждый сталкивается с ним, рано или поздно. Единственное, что может помочь, это два или три человека, которые пытаются тебя понять, которые способны просто держать тебя за руку, пока не преодолеешь это.
Во время своих ужасных беременностей я научилась обращаться к женщинам – к женщинам, которые прошли через то же, что и я, или просто к женщинам, которые были способны понять, что можно испытывать чувство нежности и любви к малышу, которого никто не успел узнать, которого я видела и держала на руках только одну минуту, но какую трагичную минуту! Некоторые женщины понимали это, так как сами чувствовали себя подобным образом, так как знали, что такое навсегда полюбить новорожденного и скорбить о потере жизни, которая едва успела начаться.
Но для других, как мужчин, так и женщин, то, что было понятно и видно глазу, – как, например, в самом начале нашего брака, моя сломанная нога, – вызывало в десять раз больше сочувствия и соболезнования, чем страшные, внутренние и иногда вызывающие стыд (?) травмы. Сегодня я иду по улице с большим животом и здороваюсь со всеми соседскими приятелями и продавцами. Спустя неделю я иду по той же улице без живота и без ребёнка, и никто мне не скажет ни слова. В таких случаях имеет место вежливое отворачивание глаз в сторону. Она сделала аборт? Ребёнок умер? Лучше не говорить об этом; это только огорчит её. Ничего, родит ещё одного. Тогда, после той первой беременности бывали моменты, когда мне хотелось повесить на шею табличку с надписью: «У меня был ребёнок. Это был мальчик. Он был самим собой; незаменимым; навсегда уникальным». Меня обуревало желание поделиться своей болью. Ведь это случилось. Это было на самом деле. Мне плохо. Пожалуйста, не делайте вид, будто ничего не произошло.
Когда был поставлен диагноз Анн-Мари и после этого, некоторые мои хорошие подруги, как Эвелин и Даниэла, старались выслушать и понять меня. Мои сёстры не только слушали, они скорбили вместе со мной.
Но мне было необходимо найти способ защищаться от иных. Иногда, когда я пыталась поделиться своим беспокойством об аутизме с кем-то из друзей или знакомых, я сталкивалась с почти враждебным, упрямым сопротивлением идее, что вообще что-то было не в порядке. «На мой взгляд она выглядит замечательно,» – эту фразу мне приходилось слышать, увы, очень часто. Или: «Я уверена, что это у неё возрастное. Она просто немного робкая».
С одной стороны, я могла понять такое сопротивление. Анн-Мари была очень маленькая, мы выявили болезнь на очень ранней стадии, а сейчас уже казалось, что девочка на пути к выздоровлению. Для человека, не живущего с ней в одном доме, было трудно поверить в то, что у двухлетнего ребёнка, уже составляющего словосочетания, что-то не в порядке. Они не могли в один момент узнать всю её историю или то, насколько далека она была от норм социального и лингвистического развития. Откуда они могли знать о редкости спонтанного зрительного контакта, об ограниченности языка, об избегании социальных контактов с людьми? Они судили по тому, что видели, а для обычного наблюдателя девочка теперь выглядела вполне нормально. Они полагали, что отрицание и сведение к минимуму проблемы, о которой я болтала без умолку, поможет мне.
С другой стороны, такое отношение возбуждало во мне ответную реакцию, похожую на защитную паранойю. Они думали, что я всё это выдумала? Да, жизнь очень скучна для матери-домохозяйки. Дай-ка я устрою так, чтобы несколько неврологов, психиатров и других профессионалов определили, что моя дочь больна аутизмом. Надо же как-то разогнать скуку.
Естественно, что недоверие, с которым мы столкнулись на том этапе, было ничто, посравнению с тем скептицизмом, с которым люди относились к прогрессу Анн-Мари. Это же невозможно. Такого не может быть. Этому ребёнку, наверно, был неправильно поставлен диагноз. Дети-аутисты неизлечимы.
Но до этого было ещё долго.
Тогда же я держалась за людей, которые были готовы разделить со мной неуверенность и тревогу, я очень ценила их понимание. Однажды весной мы с Марком и с детьми отправились в гости к моей сестре Джен. Я была очень благодарна ей за то, что она ничего не сказала о том, что я снова и снова вставала с места, чтобы вернуть Анн-Мари в комнату, где все сидели. Очень часто люди не могли понять необходимость быть всё время начеку и настаивать на своём. Они повелительным тоном приказывали мне вернуться на своё место. – Сядь! Дай детям спокойно поиграть! – Раслабься, Кэтрин! – Оставь её в покое! Она же хочет заняться чем-то своим. – Неужели они не понимают, – спрашивала я Марка в отчаянии. – Как они могут не понимать, что в этом всё дело – всё время быть с ней, не давать ей быть одной?
У неё будет достаточно времени, чтобы спокойно играть одной. Перед ней была вся жизнь, чтобы быть нормальным ребёнком и расти к независимости и самостоятельности. У нас же было только это маленькое окошко возможности вернуть её к нормальной жизни, небольшой период времени (год-два, на мой взгляд) пока это было возможно. Для меня ещё не настало время сидеть, сложа руки, и расслабляться.
– Нет, – отвечал Марк, как будто это было само собой разумеется, – они не понимают. Либо мы будем объяснять им всё от начала до конца, либо не позволим себе беспокоиться по этому поводу.
– А я всё-таки беспокоюсь по этому поводу. Мне и так непросто весь день следить за нездоровым ребёнком, а меня ещё и считают мамочкой-наседкой. Почему они не могут понять, что мы находимся в кризисной ситуации, и что ей необходим постоянный надзор? «Сядь, расслабься, проще относись к этому и каким-то образом спаси ребёнка от болезни, которую сама же придумала». Вот всё, что у них на уме! Кретины! Идиоты! Ненавижу их всех! – Ты ненавидишь их всех! – рассмеялся Марк. Я тоже засмеялась. – Да! Заткнуть их! Побить их! Поджарить их на раскалённом масле! Наши прогулки с Анн-Мари также давали пищу различной критике. Ещё с тех пор, когда Даниэль был совсем маленьким, я поняла, что люди чувствуют себя очень неуютно, когда слышат плач младенца. Я думаю, что у них срабатывает родительский инстинкт. Когда маленький ребёнок начинает кричать или плакать, взрослые, находящиеся в пределах слышимости, испытывают тревогу и страх и начинают носиться и толкаться вокруг него, как стадо слонов, унюхавших опасность. Если Даниэль начинал плакать в продуктовом магазине, к нему тут же подскакивала какая-нибудь пожилая женщина и начинала трясти у него перед лицом связкой ключей, приговаривая: «У-тю-тю, маленький! Хватит плакать!»
Кроме того, конечно же, у каждого имелось своё мнение о том, как надо заботиться о ребёнке. Когда Даниэль был маленьким у него была сильная экзема на голове. Наш врач-педиатр порекомендовал мазь, которую я должна была втирать в кожу головы мальчика. Эта мазь оказала побочный эффект, окрасив кожу головы сына в розовый цвет. Тогда врач посоветовал подставлять его головку солнечному свету.
Но население Гринвич Виллидж, где мы тогда жили, так не считало. Я везла своего розовоголового мальчика в коляске по парку, и буквально каждый прохожий делал мне замечание. – Наденьте на него панаму! – Ребёнку необходима защита от солнца! Моим единственным утешением было то, что по крайней мере они это делали из лучших побуждений!
Когда же я вела на прогулку Анн-Мари проблема становилась ещё серьёзной. Она не хотела ходить. Она была непротив того, чтобы её несли на руках или везли в коляске, но наотрез отказывалась идти сама. Её коленки подкашивались; она падала на тротуар и громко плакала. Тогда я не знала, что это обычная проблема с детьми-аутистами. Несколько матерей четырёх-пятилетних детей рассказали мне, что каждый раз, когда их ребёнок выходил на улицу, им приходилось силой тащить его.
Я не знала, что делать. Не могло быть и речи о том, чтобы ждать пока это у неё пройдёт само. Я уже решила, что никогда не буду ждать, пока что-нибудь у неё пройдёт само по себе. Проблемы только обострялись, если мы не принимали никаких мер.
Бриджит предложила, чтобы я заставила её идти. – Как я могу заставить её идти? – Ну, – ответила Бриджит, – я бы взяла её за руку и повела за собой. Если бы она распласталась на тротуаре, то я бы поставила её на ноги. Если бы она сделала движение вперёд, я бы похвалила её. Я бы абсолютно игнорировала её слёзы. Если бы плач не прекращался, я бы всё равно прошла с ней по крайней мере квартал, а потом вернулась бы домой.
Я попробовала последовать её рекомендациям.
Это никуда не годилось: Анн-Мари ревела посреди улицы, я пыталась поставить её на ноги, снова и снова, и твёрдо повторяла: «Мы должны идти. Пойдём, время гулять».
Прохожие глазели на нас. – Бедный ребёнок. – О, бедная маленькая девочка! По моему лбу стекали капли пота. Это было так ужасно! Неужели я на самом деле должна была делать это? И неужели я должна была делать это у всех на виду?
В конце концов она сделала несколько шажков вперёд. – Хорошая девочка! Ты ходишь! Ты хорошо ходишь! Чудо, но это сработало! Мы прошли полквартала, Анн-Мари иногда всхлипывала, но казалась более спокойной и уверенной. Я подняла её и остаток пути до дома пронесла её на руках. Я решила, что мы будем учиться постепенно. Полквартала сегодня, квартал – завтра. Было очень важно сделать первый шаг – сделать так, чтобы она захотела попробовать пойти сама.
Через неделю она уже ходила со мной забирать Даниэля из летнего детского сада. Мой имидж хорошей матери сильно пострадал в глазах соседей, зато мой ребёнок спокойно и с удовольствием шагал со мной по городской улице.
Я вообще очень часто оказывалась «между молотом и наковальней»: меня окрикивали, когда я бегала за ней; изумлённо смотрели, если я применяла строгость, как того требовало большинство упражнений бихевиористической программы. Я бы хотела быть одним из тех людей, у которых есть талант просто и, не испытывая неудобства, объяснять самые запутанные ситуации. Поскольку я так не умела, я очень хотела научиться не обращать внимания на то, что думают другие люди.
Через некоторое время мир профессионалов, знакомых и друзей разделился на два лагеря: те, кто создавали нам трудности, и те, кто помогали. Первый лагерь был гораздо более многочисленным, чем второй. Но несмотря на недостаток сочувствия, с которым нам часто приходилось сталкиваться, нам – мне, Марку и Анн-Мари – очень повезло с людьми, которые нам действительно помогали, каждый по-своему.
Доктор Де-Карло выявила диагноз на ранней стадии – немалая помощь, учитывая то, от скольких семей я слышала, что их годами успокаивали фразами, типа: «С ним всё будет в порядке, просто дайте ему подрасти!» Аутизм прогрессирует в течение первых пяти лет жизни, чем раньше его выявить и начать лечить, тем больше шансов на выздоровление.
Доктор Коэн был практически единственным, кто не исключал шанса на выздоровление, а также дал объективную оценку работе своих коллег. Теперь многие профессионалы берутся утверждать, что аутизм излечим, тогда же, в далёком 1988 году, таких врачей были единицы.
Что касается лечения, то мы были благословлены парой прекрасных терапевтов: Бриджит и Робин. Они вошли в нашу жизнь через несколько недель после того, как стало известно о болезни Анн-Мари, и стали совершенно незаменимыми во время всего процесса лечения. Теперь я знаю, что в этой области очень мало хороших специалистов, и что в них нуждаются многие многие семьи.
Не раз я сталкивалась с бесцеремонными замечаниями или молчаливым осуждением друзей или незнакомых людей по поводу моего обращения с Анн-Мари. Но всё-таки были и такие люди, которые понимали и слушали с симпатией и тактом. И когда бы я не впадала в гнев или отчаяние, всегда рядом со мной был Марк, который поддерживал меня и даже умел обратить моё раздражение в смех.
В своё время мне было суждено узнать ещё много хороших людей. Они помогали нам словом и делом на протяжении всего пути, очень облегчив тяжесть нашей задачи. Некоторые из них были психологами.
Раньше ещё до того, как Анн-Мари заболела я была склонна считать всех людей, принадлежащих к этой специальности, эгоцентричными дураками. В моих глазах все они были проповедниками собственной эгоистичной религии, фальшивыми попами и пророками, вдохновлёнными дутой властью, божками популярной американской культуры. Особенно меня раздражали женские журналы, которые по каждому вопросу обращались к «мнению эксперта»; за ними всегда было последнее слово. Но по прошествии месяцев я познакомилась с несколькими психологами, мужчинами и женщинами, которые сознавали ограниченность своего могущества, обладая при этом обширными теоретическими знаниями и богатым опытом работы, что позволяло им по-настоящему помогать нам. Вместо того, чтобы педантично читать мне лекции на, якобы, хорошо известные им темы, они обсуждали со мной насущные проблемы. Они являлись редкими представителями «професии помощников», которые действительно умели помогать.
Одним из таких людей был доктор Бернард Римлэнд. С его помощью я поняла, что если психолог плохой, то он плох во всём, а хороший специалист может быть также вполне приятным человеком. Он получил моё письмо, в котором я описывала терапию объятия и доктора Велч, и ответил мне. Его письмо было вежливым, содержательным и искренним. Сказать, что я была приятно удивлена, значит ничего не сказать – я была почти в шоке! Зачем ему было брать на себя труд с таким продуманным красноречием отвечать на письмо, написанное абсолютно незнакомым человеком? Более того, меня поразило с каким уважением он, профессионал, обращался ко мне, «простой смертной», ведь в мире аутизма это было совершенно не принято. Его тон был не просто вежливым, но живым, заинтересованным, интеллектуально-любознательным: как я отнесусь к этому; что я думаю о том? Этот человек на самом деле интересовался моим мнением! В заключение он предложил мне продолжить переписку.
Эта переписка оказалась такой полезной и интересной! Бриджит и Робин работали, не покладая рук, выполняя «чёрную» работу с Анн-Мари. (?) Доктор Римланд со временем стал моим лучшим учителем и советчиком. Его знания поражали своей обширностью, его объективность была настолько очевидна, что я почувствовала, что, наконец-то, нашла человека, с которым можно было серьёзно обсуждать все плюсы и минусы используемых нами способов лечения.
Его статья о терапии объятия, напечатанная в 1987 году, в осеннем выпуске Autism Research Review International, которую он прислал мне вместе с первым письмом, внесла ясность в этот сложный вопрос. Наконец-то, кто-то смог описать контекст, в который логично вписывалась терапия объятия. Кто-то очень образованный был солидарен со мной в том, что терапия объятия действительно эффективна, но причина этого не имеет ничего общего с неумением матери наладить отношения с ребёнком.
По большому счёту доктор Римлэнд полагал, что если терапия объятия и эффективна, то скорее в физиологическом плане, чем в эмоциональном. Основываясь на многолетнее исследование, которое обнаружило, что у детей-аутистов нарушена органическая деятельность мозга, он выдвинул гипотезу, что насильственное объятие в какой-то мере стимулирует мозг сопротивляющегося ребёнка, а вовсе не влияет на «эмоциональные взаимоотношения».* * Autism Research Review International, vol. 1, no. 3, Fall 1987. Я сама всё-таки считала, что терапия объятия оказывает положительный эффект на эмоциональный контакт матери и ребёнка – в конце концов наши с Анн-Мари сеансы объятий обходились без насилия или излишней твёрдости – наряду с физиологическим эффектом, описанным доктором Римлэндом.
Так или иначе, его идеи расширили моё мышление в отношении аутизма, а наши продолжительные телефонные разговоры помогли мне окончательно избавиться от чувств вины и беспомощности. В конце концов мы пришли к обоюдному согласию, что терапия объятия, – возможно, неплохой способ привлечь внимание ребёнка-аутиста, а это основное условие для любого обучения.
Чем больше я общалась с доктором Римлэндом, тем больше училась объективности. Он был первым, кому удалось внушить мне то, что психология может стремиться к строгой методологии – неопровержимым данным, достоверности, конролируемому исследованию, открытости критическому разбору коллег – ни чуть не меньше, чем любая другая наука. Римлэнд требовал этих качеств от себя, как от психолога, и четверть века потратил на то, чтобы добиться этого от своих коллег. Все это очень контрастировало с моим прежним представлением о психологии, как о кружке болтливых терапевтов, получающих деньги за свою «необыкновенную» проницательность.
Можно сказать, что публикация в 1964 году работы доктора Римлэнда под названием «Детский аутизм»** была в своём роде похоронным звоном периоду неограниченного властвования Беттельгейма. Как сказал один журналист: «Римлэнд свёл теорию Беттельгейма к нулю». После «Детского аутизма» с его тщательно обоснованным, сдобренным фактами, анализом всего, что к тому моменту было известно об аутизме, никто уже не осмеливался утверждать, что природа синдрома психогенична. Несмотря на то, что некоторые староверцы ещё долго оставались верными старой идеологии (нам с Марком пришлось убедиться в этом на собственном опыте), большинство профессионалов считали Римлэнда крупным учёным, который наконец-то направил исследование в области аутизма в правильное русло и убедительно представил правдоподобную нейробиологическую базу заболевания. Сегодня его работы высоко ценятся. Его предвидение не только помогло в обнаружении настоящих причин и способов лечения, но его книга была также запоздалым плачем (?) жалости и справедливости по отношению к родителям, которые годами обвинялись в болезни своих детей.
Доктор Римлэнд был мудрым и щедрым учителем, а в конце он стал мне настоящим другом. Даже если бы он собственноручно не принял участие в спасении Анн-Мари, то этому бы поспособствовало дело всей его жизни. Его уверенность во мне поддерживала мою силу воли и мою собственную уверенность в своих силах и в принятых решениях. Когда я впервые встретила его, я разрывалась между неуверенностью и тревогой. После каждой беседы с ним я приобретала спокойствие и чистоту мыслей. Делая сильной меня, он делал сильной мою семью. ** К сожалению, книга сегодня не печатается, но до сих пор доступна в библиотеках. В профессиональных кругах считается одной из самых значительных работ в этой области.
Глава 21
В течение лета мы оставались в городе, чтобы не отдаляться от Бриджит и Робин, и иногда по выходным ездили в Ист Хэмптон. Я выросла там, в сотнях миль от Нью-Йорка, на южном берегу Лонг-Айленда, и меня всегда тянуло туда – к голубой воде, к неподвижному звёздному небу, к мирному лесу. Марк всегда называл это место раем. Как бы населено оно не было сейчас, для нас оно всегда оставался самым чудесным местом на земле.
В течение недели в Нью-Йорке Даниэль посещал игровой лагерь, и каждый день мы с Анн-Мари ходили забирать его. По утрам я занималась с дочкой, гуляя с ней, играя на полу, пытаясь вовлечь её во всё, что я делала. Теперь я могла всё больше и больше играть с ней: я удерживала её внимание гораздо дольше, чем раньше. У Бриджит и Робин я училась извлекать максимальную пользу от проведённого с дочерью времени, поощрать и обогащать её язык.
Пение оставалось одним из лучших способом привлечь её внимание и поработать над языком. Любая песенка, которая сочеталась с физической игрой, типа «летела ворона…» (?) очень заводила её. Почти всегда, когда я пела ей, она сидела у меня на руках, лицом ко мне. Так я добивалась от неё максимум внимания и зрительного контакта.
Танцы ей тоже нравились. Может быть я – самый неуклюжий танцор в мире, но я знаю основные па вальса: раз-два-три. Я брала её на руки, и мы вальсировали по комнате под звуки вальса из фильма Уолта Диснея «Спящая красавица». Лиричность музыки выражала нежность и надежду, подходящую нашему танцу.
Пластилин обеспечивал разнообразные занятия, они были особенно хороши для прививания девочке начал творческой игры. Мы могли делать много всего с помощью пластилина: лепить змеек и с шипением пускать их по столу и по её руке, делать гамбургеры и притворяться, будто мы их едим, вставлять свечки в пластилиновый торт и праздновать день рождения одного из игрушечных зверей, лепить маленьких человечков, заставлять их ходить и разговаривать друг с другом…
Мы также любили играть с кубиками. Сначала мы строили высокую башню, а потом Анн-Мари разбивала её. Это всегда очень забавляло её. «Бух!» – смеялась она. Потом мы снова отстраивали нашу башню, на сей раз превращая это в игру «моя очередь/твоя очередь». «Моя очередь класть кубик,» – говорила я. Потом я направляла её руку: «Твоя очередь класть кубик». Потом слова «моя очередь/твоя очередь» опускались, и мы продолжали играть с помощью прикосновения к её руке и обязятельно зрительного контакта.
Многое в этих играх я взяла от Бриджит и Робин. Постепенно мне стало проще добиваться внимания Анн-Мари, формировать её язык, вовлекать её в игры, основанные на взаимодействии. Но больше всего мне нравилось то, что у каждого из тех, кто работал с Анн-Мари, был свой собственный стиль: Бриджит была самая последовательная, она всегда могла заинтересовать девочку трудными мыслительными заданиями. Нежной и весёлой Робин часто удавалось сообщить ей хорошее настроение и таким образом способствовать развитию словесного общения. И я, несмотря на свои строгие требования, несмотря на постоянно изменяющийся статус то тирана, то няньки, ухитрялась давать ей ощущение того, что она любима и находится в безопасности. Сейчас она часто хотела быть рядом со мной и иногда говорила Бриджит после занятия: «Хочу маму».
Рисование и раскрашивание всё ещё находились на очень раннем этапе, но мы развивали эти навыки, как и все остальные. Мы начали с того, что контролировали и направляли её руку, придавали правильное положение пальцам, когда она держала карандаш, учили её имитировать горизонтальные линии, вертикальные линии, круги и квадраты. Потом мы перешли к рисованию круглых лиц и показывали ей, где рисовать глаза, нос и рот.* Через несколько недель мы постепенно переставали контролировать, хвалили и ободряли её при каждой малейшей попытке к самостоятельному творчеству. К счастью, ей очень нравилось рисовать и раскрашивать, и вскоре эти занятия сами стали видами поощрения. *Когда мы работали с пластилином, рисовали или раскрашивали, то старались больше концентрироваться на изображении человеческих лиц, чем на неодушевлённых объектах. Мы хотели обратить её внимание на людей. Мне казалось, что после того, как мы так сильно нажимали на неё и заставляли обращать внимание, остальное было делом техники: нам надо было занять это внимание чем-то, что могло заинтересовать её, в особенности вызвать в ней интерес к нам и к языку общения. После того, как мы добились её внимания, нам надо было помочь ей научиться переключать своё внимание. Программы должны были быстро сменять друг друга. Деятельность во внешнем мире должна была быть разнообразной. Даже во время занятий мы должны были следить за тем, чтобы она не «зацикливалась» на какой-то одной игрушке или игре.
По мере того, как её состояние улушалось, наш язык в разговоре с ней должен был расширяться. Мы больше не ограничивались короткими «телеграфными» фразами, типа: «Потрогай нос»; наша речь должна была постепенно приближаться к «нормальной»: «Передай мне это, пожалуйста, Анн-Мари».
Все мы, Бриджит в в структурированной программе, Робин и я в более общей игре, не переставали спрашивать себя, каковы её слабые черты, как с лингвистической, так и с точки зрения поведения. К чему она уже готова? Чем мы можем заинтересовать её? Каким трудным заданием она может увлечься?
Бриджит приходила заниматься с Анн-Мари каждый день после обеда, Робин приходила в понедельник, среду и пятницу по вечерам, после ужина детей. Жизнь вошла в свою колею. Мы с Марком даже выбрались в кино как-то вечером, впервые за семь месяцев. Мы снова почти почувствовали себя уверенно. Наши дни стали спокойнее, ночи больше не приносили кошмаров, наши дети росли и цвели – все до одного.
Мишель был счастливым улыбчивым малышом. Он был миниатюрной копией своего отца: прямые светлые волосы, полный французский рот, карие глаза. Как и Даниэль, он был высоким для своего возраста, хотя всё ещё был младенчески округлым, а не стройным, как его брат. На домашних видеозаписях видно, как он ползает вокруг своего стульчика, хватает разные предметы, лепечет на своём языке, реагирует на звуки наших голосов, исполненный любопытства к окружающему миру. Зрительный контакт с ним, за которым мы, наученные опытом, следили с большим вниманием был живым, ясным и заинтересованным. Его тёплая улыбка была всегда наготове. Мы с Марком часто чувствовали облегчение, когда наблюдали за ним или играли с ним. Мы знали, что вероятность того, что в одной семье появятся два ребёнка, больные аутизмом, очень мала, но и тогда и позже мы чувствовали небольшие приступы страха за него. Мы часто обсуждали его развитие, сравнивая с Анн-Мари в её первый год жизни. Что если… в конце концов у Анн-Мари ухудшение началось поздно…О, Господи, это невозможно. Слава Богу, в нём нет и знака этого.
Лето было в разгаре, а мы всё чаще чувствовали себя счастливыми. У Анн-Мари всё шло так хорошо, она так сильно прогрессировала. Мы до сих пор не знали, как далеко она зайдёт, но она так быстро училась, так быстро возвращалась к нам. Люди, которые долго не видели её, ещё сильнее чувствовали прогресс, чем мы – те, кто жил с ней и видел её каждый день.
Как-то в субботу в июле мы стояли около здания Ист Хэмптон. Подъехала моя мама. Она вышла из машины и пошла по направлению к зданию. К нашему изумлению, Анн-Мари оторвалась от своего занятия и побежала к бабушке.
– Ба-ба! – сказала она. Это была её версия «бабушки». Лицо моей матери озарилось радостью. – Анн-Мари, – просто ответила она. Я как раз устанавливала трёхколёсные самокаты для Даниэля и Анн-Мари. Анн-Мари начала хныкать от нетерпения попробовать прокатиться на своём самокате. Моя мать не переставала восхищаться этим. – Но что в этом такого? – спросила я. – Неужели ты не помнишь, ещё несколько месяцев тому назад она бы и внимания не обратила на всё это?
– Ты права, – сказала я. Я вспомнила Рождество, сразу после того, как ей впервые поставили диагноз. Вечером в праздник мы притащили домой огромную ёлку, сознавая, что у детей всё равно должно было быть хотя бы подобие праздника, даже если взрослые нахдятся на грани шока. Когда мы внесли и установили большое зелёное дерево, Анн-Мари даже не взглянула на него.
Бриджит стала с большим восторгом отзываться о прогрессе Анн-Мари во время занятий. «Она просто перепрыгивает через эти программы!» – говорила она мне. Но это было не единственной меркой успеха дочери: она становилась более социально открытой. Теперь Бриджит не пользовалась первичными предметами поощрения так часто, как в первые недели программы. Сейчас казалось, что водушевлённая похвала: «Хорошая работа!» нравилась Анн-Мари не меньше, чем шоколадное печенье или надувная игрушка. Мы видели, как начинал формироваться её характер. Больше всего это проявлялось в её любознательном взгляде и в слабых улыбках, которые появлялись на её лице, если ей удавалось правильно выполнить какое-то задание. Мы видели первые ростки личности там, где раньше не было ничего, кроме равнодушия.
Гораздо позже Бриджит призналась мне, что в самом начале ей было очень трудно работать с Анн-Мари. «Я не могу пробиться к ней» – жаловалась она своему другу Джону. «Она учится, но без увлечения, её лицо ничего не выражает». Теперь же яркий, любопытный взгляд Анн-Мари радовал и оживлял всех нас.
Однажды я сидела с ней на полу, мы играли, и дело дошло до слова «масло». – Ма-са, – сказала она. – Масло, – поправила я. – Ма-са, – повторила она. – Мас-ло, – настаивала я. – Ма-са! – крикнула она. Смысл был ясен: «Ну хватит, мам! Я говорю, как слышу!» Я любила эти вспышки независимости. После того, как в феврале я передвинула кроватку Анн-Мари в комнату Даниэля, чтобы она не оставалась одна по ночам, их заинтересованность друг в друге возросла. Потом, в начале июня, она стала выказывать гораздо более острый интерес к своему старшему брату. Мы очень радовались этому. Она стала искать его по квартире, шла к комнате, где он играл. Это ещё не было полноценной игрой с взаимодействием, но это были семена совместной игры, и они росли с каждым днём. Совсем скоро она стала копировать жесты и действия брата.
Если он скрещивал ноги, играя на полу, она изучала его, а потом точно так же скрещивала свои ноги. Если он прыгал от радости, она тоже начинала прыгать и прекращала только тогда, когда останавливался он. За завтраком нас одновременно забавляло, ободряло и приводило в замешательство то, как дочка, не отводя глаз, смотрела на Даниэля, наблюдая за каждым его движением и преданно повторяя за ним всё, что бы он не сделал. Он брал ложку каши, она брала ложку каши, её глаза прикованы к нему. Он положил ложку и двумя руками поднял стакан сока. Она тоже положила свою ложку и взяла свою чашку. Он опустил стакан; она сделала то же самое.
– Пока мы просто понаблюдаем за её поведением, – сказала Бриджит. – Посмотрим, к чему это приведёт. – Нам вообщем-то нравилось, что Анн-Мари подражает брату. Мы не хотели обескураживать её, даже если она немного преувеличивала.
Я думала, что нормальные двухлетние дети всегда имитируют других детей. Если у неё это доходит до крайности, может быть из-за того, что она навёрстывает упущенное.
Однажды я привезла Даниэля домой, он был в гостях у своего друга. Видимо Анн-Мари слышала звук поворачивавшегося в двери ключа, потому что когда дверь открылась, она стояла около входа, выжидательно смотря вверх. (Даже эта маленькая деталь наполнила меня радостью). Мы с Даниэлем вошли в квартиру. До того, как кто-нибудь успел поздороваться, Анн-Мари подошла к брату и обняла его. – Я ея люю! – сказала она. – Я тебя люблю! – весело ответил он, как что-то само собой разумеющееся. Затем они вместе куда-то пошли, не обратив внимание на то, что их мать стяла, спрятав лицо в ладони.
Даниэль был очень хорошим помощником в лечении. Он не осознавал, что с его сестрой что-то было не в порядке. Он не был смертельно задет недостатком внимания с её стороны. Если она не смотрела на него, он просто громче кричал. Будучи открытым, легко возбудимым, весёлым ребёнком, он добивался внимания сестры так же, как внимания всех остальных. «Анн-Мари! Иди сюда! Подержи это!» Он всегда что-то мастерил из конструктора или деревянных кубиков, или бумаги и клея. Ему не хватало напарника в игре, помощника или зрителя, для него не составляло труда заставить её участвовать в его играх. «Посмотри на меня!» – командовал он, частично имитируя нас, взрослых, постоянно требующих взгляда Анн-Мари. «Анн-Мари, ну смотри же!»
Мешало ли ей такая тирания вокруг? Казалось, что ей она нравилась. Она стала почти неразлучна с Даниэлем, ища его сразу после окончания сеанса терапии, всё более заинтересованная в его проектах и играх.
Однажды в конце июля Анн-Мари занималась с Бриджит. Мы работали над несколькими различными программами, включая так называемую «именную» программу: мы учили её называть всех, присутствующих в доме по именам и использовать имя каждый раз, когда ей что-то было нужно. Даниэля она называла «Ё-ё». Я думаю, что она получила это из последнего слога («-эль»). Анн-Мари услышала, как Даниэль играл в коридоре, разволновалась и стала хныкать. – Что ты хочешь, Анн-Мари? Скажи словами. – Ё-ё. Хочу Ё-ё. – Молодец, Анн-Мари! Хорошо попросила Даниэля. И Бриджит позвала Даниэля закончить вместе с ними занятие. Может быть из-за того, что он был маленьким, как она, может быть из-за того, что делал столько шума, а может быть из-за того, что он так агрессивно требовал её общения – какой бы ни была причина, но когда Анн-Мари выступила из мрака, она вложила свою руку в руку брата, и по сей день не отпускает его.
Анн-Мари быстро прогрессировала, но мы не давали ей покоя. Тревога всё ещё одолевала нас – частично из-за того, что мы не имели ни модели, ни другого вылечившегося ребёнка, с которым мы могли бы сравнивать. Будет ли перерыв в её прогрессе? Достигнет ли она определённого уровня, и в какой-то момент её развитие прекратится? Её язык заметно улучшился, но всё ещё звучал немного неестественно. Её социальное поведение улучшалось, но будет ли она когда-нибудь такой же спонтанной, любопытной и общительной, как другие дети? Будет ли она когда-нибудь способна понять всё богатство языка, как разговорного, так и письменного? Будут ли у неё когда-нибудь друзья, будет ли плакать над чужой болью, полюбит ли когда-нибудь?
Несмотря на то, что я старалась быть благодарна – я была благодарна – за невероятные достижения дочери, я никогда не знала, потеряет ли она их не следующей неделе, через месяц или, может быть, назавтра. Но эти страхи никогда не оправдывались. Иногда развитие замедлялось, иногда останавливалась. До сих пор бывали дни, когда она не произносила ни слова или ни с кем не общалась. Всё ещё были дни, когда «аутистическая сущность» пересиливала «сущность Анн-Мари» и снова и снова она возвращалась к прежним стереотипным привычкам, и снова и снова я вытаскивала её из этого поведения.
Но она никогда не отступала назад. Под этим я имею ввиду то, что если она усваивала что-либо новое, то уже не забывала это. После того, как она заинтересовалась Даниэлем, она больше никогда не игнорировала его. После того, как она начала составлять словосочетания, она продолжала это делать, сначала спорадически и только с помощью имитации, потом всё более и более часто и спонтанно.
Тем не менее оставалось преодолеть ещё немало препятствий. За время этого периода интенсивного, ускоренного развития Анн-Мари научилась делать много всего, что делали нормальные дети её возраста, но иногда впадала в крайности. Взять к примеру привычку эхообразно повторять слова за другими людьми. Для нормальных детей двух лет эта черта характерна, но в малой степени; согласно книге «The Me Book» эта лингвистическая особенность пропадает у них примерно после тридцати месяцев после рождения. Им очень нравится повторять оброненные кем-то фразы, но нормальные дети смешивают услышанные от кого-то слова с более спонтанным и творческим языком. У Анн-Мари привычка эхообразно повторять слова появилась в июне, и через некоторое время приобрела характер навязчивой идеи. Как-то Робин заметила, что Анн-Мари повторила 90 процентов всего, сказанного ею за время занятия. Иногда девочка начинала повторять за нами ещё до того, как мы успевали закончить предложение. Когда она стала произносить слова, несоответствующие своему значению, я сочла это «словесным стимом»*. Однажды вечером Марк вернулся домой с работы и прошёл в ванную, где я купала дочку. – Привет, Анн-Мари. – Привет, Анн-Мари, – ответила она. – Скажи: «Привет, папа». – Скажи: «Привет, папа». – Могу я тебя поцеловать? – Я тебя поцеловать? Ему ничего не оставалось, как просто поцеловать её. Мы старались не уделять особого внимания этой новой привычке, так как на нашем недельном совещании о программе Анн-Мари мы решили игнорировать её. Нам было достаточно сложно научить её повторять слова, и мы не хотели теперь отучать её от этого. *Специальный жаргон вскоре становится привычкой. «Стим» означает «самостимулятивная привычка поведения». Бриджит, Робин, Марк и я – все мы говорили о словесных стимах, тактильных стимах, зрительных стимах, так, как другие люди говорят о погоде. Проблема же становилась всё серьёзнее и серьёзнее, постепенно эхообразная речь стала преобладать над нормальной. Мы решили сменить тактику: Бриджит должна была заниматься этим во время сеансов в то время, как мы, в нашем «внешнем» мире, продолжали игнорировать привычку. Программа «Нет эхо» была следующей: каждый раз, когда Анн-Мари начинала повторять слова, Бриджит должна была говорить: «Нет эхо» и прикладывать палец девочки к губам.
Эхообразная речь стала исчезать, когда Анн-Мари приобрела определённые навыки общения, хотя я определила, что пока привычка окончательно исчезла прошло около шести-десяти месяцев.
Но тут нас ожидала ещё одна проблема. Когда язык Анн-Мари приобрёл определённую уверенность, она начала делать нечто странное: она стала пищать. Вместо того, чтобы произносить слова обычным тоном, её голос был очень высоким. «Хочешь обедать?» – спрашивала я её. «Да,» – пищала она. «Хоцу обедать». Нам не оставалось ничего иного, кроме как моделировать низкий тон голоса. Иногда я пробовала сделать это в игровой форме: я говорила что-то очень высоким голосом, потом смеялась над этим, потом произносила то же самое низким голосом. Мы проделывали это упражнение снова и снова, я старалась научить её различать между двумя звуковыми регистрами, пытаясь заставить её копировать меня. Довольно скоро мы уже умели использовать подсказку: «Скажи это низко» (это тоже говорилось низким голосом), и, наконец, она стала поправлять саму себя.
Страхи оставались серьёзной проблемой, они часто являлись причиной сильнейшей паники. Однажды я гуляла с ней и Даниэлем по парку в Ист Хэмптоне. Вдруг откуда-то выбежала маленькая чёрная собачка. Она приветливо лаяла и виляла хвостом. Анн-Мари, испугавшись, начала плакать. Это только возбудило собаку, и она стала прыгать на неё и на Даниэля. Собака не могла причинить вреда, это был всего лишь маленький щенок, который хотел с ними поиграть. Но дети запаниковали и принялись бежать. «Не бегите! – крикнула я. – Он вас не тронет».
Но было уже поздно. Дети кричали, собака бесновалась, и вся ситуация выходила из-под контроля. Я подняла Анн-Мари, взяла за руку Даниэля, и попыталась спокойно пойти домой. Но Проклятье Баскервилей не отставало и прыгало мне не ноги, пытаясь достать до Анн-Мари. Она уже билась в истерике.
Наконец-то я добралась до дома с двумя плачущими детьми. Марку пришлось выйти на улицу, чтобы отогнать собаку, которая продолжала лаять и прыгать около входной двери. Это было уже слишком для нашей тихой прогулки.
Даниэль поплакал пять минут и успокоился. Анн-Мари проплакала все оставшиеся выходные.
Только ей стоило начать успокаиваться, как она видимо вспоминала всё снова, и опять впадала в слёзы, трясясь от ужаса, всё время повторяя «собачка, собачка». Я пыталась успокоить её. Я обнимала её, говорила с ней, пыталась рассказать, как собаки лают и прыгают, когда хотят поиграть. Ничего не помогало. Любое напоминание о собаках только усиливало её панику. Она плакала долго ночью, пока не уснула от усталости. На следующее утро она проснулась со слезами и дрожью, и всё началось по новой. Теперь я постаралась полностью игнорировать плач, занимаясь своими делами, будто ничего не произошло. Мне это давалось тяжелее, чем ей, и не приносило никакого результата.
В понедельник утром, моё терпение было на исходе. Вдруг мне в голову пришла идея. Почему бы не «дедраматизировать» ситуацию? Надо, чтобы всё произошло снова, но чтобы на сей раз дочь смогла контролировать ситуацию. Я посадила её к себе на колени и стала рассказывать «Сказку о Собаке».
«А потом пришла собака! Она так сильно шумела! Гав, гав, гав, гав! Пришла Мама, пришёл Папа и Даниэль пришёл, и мы все сказали собачке перестать. А потом пришла Анн-Мари, самая храбрая из всех! И она сказала: «Уходи, собака! Перестань лаять!»
Она перестала плакать. Она слушала. И она понимала – по крайней мере суть сказки. – И пришла Анн-Мари. И Анн-Мари сказала: «Перестань, собака!» Я увидела, как слабая улыбка тронула уголки её губ. – А потом! Ты знаешь, что сделала Анн-Мари? Она внимательно слушала. – Она наклонилась и шлёпнула собачку по голове! Это, конечно, не решило сразу проблемы. Но в течение следующих нескольких дней каждый раз, когда она, вспоминая о происшествии, начинала плакать, я рассказывала сказку о храброй Анн-Мари, и она переставала плакать. Позже, когда мы встречали собак на улицах, она опять впадала в панику. Но мы каждый раз останавливались, смотрели на собаку и даже дотрагивались до неё. Мы с Марком не считаем, что ревущих испуганных детей надо бросать в воду или заставлять гладить животных – на наш взгляд, это жестоко. Но есть такие ситуации, когда надо помочь сделать ребёнку первый шаг, чтобы преодолеть то, что вселяет в него ужас. После того, как однажды мы немного подтолкнули её, чтобы она перестала паниковать и не боялась собак, мы с удивлением наблюдали, как быстро она решила доверять им и любить их. Сначала она до ужаса их боялась, потом с опаской наблюдала за ними и в конце концов радостно смеялась над их игривостью.
У Анн-Мари было очень много страхов после того, как она стала возвращаться к нам. Она болась всего, что выглядело необычно – очень высокого мужчину, возможно, женщину в чересчур вычурной шляпе. Как-то к нам в гости зашёл наш знакомый священник. Отец Мюррей был под два метра ростом, одет во всё чёрное, с чёрными волосами. Один взгляд на него – и Анн-Мари тряслась от страха. Мы неудобно себя чувствовали, сидя за столом с бокалом вина и пытаясь поддерживать обычный разговор, в то время как Анн-Мари плакала и дрожала каждый раз, когда смотрела на него.
– Я надеюсь, вы не принимаете это близко к сердцу, – сказала я извиняющимся тоном. – Могу я благословить её? – спросил он. – Думаю, стоит подождать, пока она уснёт. Как-то мы ехали домой на автобусе и сидели напротив женщины, на которой был надет весьма экстравагантный рыжий парик. Анн-Мари посмотрела на неё, уткнулась лицом мне в плечо, зажмурила глаза и заплакала. По-видимому у неё сформировалась идея нормальной физической внешности, и она не переносила никаких отклонений. Теория Тинбергенов об «эмоциональной неустойчивости с преобладанием страха» мне казалась оправданной в случае Анн-Мари. Гораздо позже, общаясь с родителями других детей-аутистов, которые никогда не испытывали такую паническую боязнь, я поняла, что если страхи и были симптомом болезни, то они вовсе не характерны для всех больных детей. Когда я как-то спросила одного отца, что он предпринимает по поводу страхов у своего сына-аутиста, он переспросил: «Каких страхов?» Это был умный человек. Я думаю, что если бы у его сына были такие страхи, как у Анн-Мари, он бы об этом знал.
Мои частые разговоры с родителями других детей служили не только для моих нападок на поверхностные теории об аутизме, но и помогали мне понять, что дети-аутисты очень разные, каждый из них индивидуален.
Как-то летним утром мне позвонила моя сестра Бюрк. – Ты читала утренний выпуск «Таймс»? – спросила она. – Ещё нет. А что? – В разделе науки напечатана статья от аутизме. В ней рассказывается о человеке по имени Корчесн из Калифорнии, который проводит исследование на тему аутизма. Я не знаю, стоило мне говорить тебе об этом, или нет, так как это не очень хорошие новости.
Я пошла читать статью. Доктор Эрик Корчесн обнаружил аномалию мозжечка у четырнадцати из восемнадцати людей, больных аутизмом. Предыдущие попытки изучения мозга аутистов с помощью Х лучей (?) или даже САТ (?) излучением заканчивались ничем. Корчесн, использовавший в исследовании приём магнитного резонанса, первый получил чёткое изображение неврологической патологии у людей, болных аутизмом.
Я перезвонила Бюрк. – Почему это плохие новости? – спросила я. – Ну, если это всё правда, то с этим, наверно, уже ничего не сделать, это звучит, как… приговор. – Бюрк, – вздохнула я. – Я знаю, что это трудно понять, но меня эти новости радуют! – Почему? – Потому что существует слишком много недомолвок об аутизме! Каждый дурак считает себя вправе строить теории на эту тему, – сказала я сестре. – Каждый, кто думал, что понимал о детях, думал, что понимал и об аутизме! – Я попыталась справиться с собой, чтобы говорить спокойнее и продолжила.
– Мне нравится, что люди используют MRI лучи (?). Мне нравится, что другие люди обнаружили хромосому «слабого Х» в ряде случаев аутизма. По правде говоря, мне нравится всё, что может пролить немного света на эту тайну: мне бы хотелось, чтобы было больше исследований по изучению уровня серотонина в крови, по изучению связи между такой болезнью, как фенилкетонурия (PKU) и аутизмом; связи между материнской рубеллой (?) (maternal rubella) и аутизмом. Я не могла дождаться дня, когда в нашем распоряжении окажется вся эта информация.
Я была удивлена неистовством, звучавшим в моём голосе. Я и не подозревала, какое раздражение скопилось во мне. Я была сердита. Не на Бюрк.
– Но неужели тебе не мешает знать, что у Анн-Мари нейрологическая патология? – спросила Бюрк. – Это не звучит слишком обречённо?
– Нисколько. Я и так знаю, что у неё какая-то патология. Но ей становится лучше с каждым днём. Я верю, что она на пути к выздоровлению. Я с самого начала верила в то, что мозг каким-то образом сам себя лечит, если дать ему необходимую стимуляцию.
– Да, я тоже в это верю. И ты права. С каждым разом, как я вижу её, Анн-Мари выглядит всё лучше и лучше.
Так и было. Это было таким счастьем видеть, как она расветает на наших глазах. Мы не могли слишком долго переживать из-за проблем в какой-то определённой области речи или поведения, так как во всех остальных отношениях её состояние продолжало улучшаться.
Даже её странные манеры почти перестали беспокоить меня. Почему я должна была волноваться из-за этого, ведь у меня была маленькая девочка, которая училась разговаривать со мной, смотреть в мои глаза, улыбаться мне?
Отдельные манеры не проходили дольше, чем другие. У неё всегда были сложности с осязанием. Иногда ей хотелось слишком часто трогать вещи, и это доходило до абсурда: например, она прикладывала свою щёку к любой твёрдой, прохладной поверхности, которую она могла найти, или мечтательно дотрагивалась ладонями до своих же ног.
В другой раз она отказывалась дотрагиваться до чего бы-то ни было. Её согнутые внутрь пальцы были одним из ранних симптомов аутизма, сейчас эта привычка снова проявилась. Это выглядело, будто она не хотела трогать кончиками пальцев до каких-то определённых поверхностей. Однажды она вдруг решила, что не хочет касаться кончиками пальцев ног гранитных плиток пола на кухне. Подойдя к порогу кухни, она останавливалась, затем падала на колени и ползла по полу, руки сжаты в кулаки, чтобы ладонями тоже не касаться пола. Таким образом она «шла» на кулаках и коленках со ступнями поднятыми в воздух. Это было ошеломляющее зрелище.
Мы пытались уменьшить чувствительность осязания Анн-Мари как, прикладывая к её рукам и ногам разные виды поверхностей, так и с помощью глубокого массажа её ладоней и ступней. Мы не знали, что точно мы делаем; мы должны были найти свой собственный способ решения этой проблемы, так же как и во многих других случаях. Я знаю, что сейчас существует гораздо больше исследований на тему проблем осязания, и теперь люди знают, как работать со специфическими типами гиперчувствительности.
Но какую бы проблему не взять – пищание, эхолалия, гиперчувствительность, чрезмерное одиночество, недостаток спонтанности и творчества в языке, хныканье и плач – во всех отношениях состояние дочери улучшалось. И оно улучшалось довольно быстро. Даже я, наиболее из всех подверженная волнениям, постепеннно ощущала себя всё более спокойно и уверенно.
– А ты ещё хотела, чтобы случилось чудо, – дразнил меня Марк. – Сосчитай до трёх, и дочь здорова? Я не думаю, что Бог так действует. Мне кажется, что сейчас ты видишь всё, о чём молилась. Я не уверен, может ли она прогрессировать ещё быстрее, чем сейчас.
Я гадала, что доктор Велч скажет о ней после возвращения из Англии. Мне хотелось рассказывать всем об Анн-Мари. Теперь я была более, чем немного воодушевлена тем, что происходило на наших глазах. Иногда я физически ощущала счастье, переполнявшее меня и неожиданно выплёскивающееся наружу в виде радостного смеха. День за днём я наблюдала за своей девочкой, и её подарки нам становились бесчисленными.
Это проявлялось даже в таких маленьких деталях, как игры, в которых теперь была видна целеустремлённость, отсутствовашая раньше. У неё была тележка с маленькой лошадкой и ковбой, который мог ехать внутри. Сейчас вместо того, чтобы толкать тележку туда-сюда по ковру, она бродила по квартире в поисках лошадки и ковбоя. Она находила их, приносила в свою комнату и начинала играть. Мне казалось, что она заранее думает о том, что ей нужно для своих игр, планирует свои занятия, и идёт к тому, что её игра становится всё более осмысленной и творческой.
Она стала много общаться с Даниэлем. Сейчас они довольно долго не надоедали друг другу, и мне казалось, что дочка начинает понимать, что и у брата тоже были какие-то права – что она начинала, на очень элементарном уровне, усваивать принципы совместной деятельности: например то, что надо делиться игрушками или ходить по очереди. Однажды Даниэль заплакал, когда она вырвала у него из рук игрушку, – игрушечный паравозик – тогда она посмотрела на брата, перевела взгляд на игрушку, и отдала ему паровозик.
Несмотря на то, что она всё ещё много плакала, Бриджит и я с удовольствием отметили тот факт, что сейчас мы могли договориться с ней с помощью языка. В последнее время она плакала, в основном, из-за огорчения: если она не получала немедленно то, что хотела, её автоматической реакцией были слёзы. Но день, когда она поняла и ответила на фразу: «Анн-Мари, когда перестанешь плакать, получишь игрушку», был переломным для всех нас.
30 августа Анн-Мари позвала меня поиграть с ней. Она подняла игрушечный телефон, перешла комнату, протянула мне трубку и сказала: «Вот. Ты. Я».
Я буквально подпрыгнула на своём кресле. Я почти напугала её своей радостной реакцией. Быстрый прогресс дочери в самых разных областях проявлялся в жестах и моментах, подобных этому. «Это великолепно! – думала я, – Это замечательно! Посмотрите на неё! Она приглашает меня поиграть с ней в игру! Она использует язык спонтанно и соответственно ситуации. Она правильно употребляет местоимения».
Позже в тот же день, дочка пришла ко мне на кухню, где я готовила смесь для Мишеля. – Мама? Мама? – Солнышко моё, – сказала я, наклоняясь обнять её, – спасибо за то, что позвала меня. Анн-Мари, ты очень радуешь маму.
Мне было трудно сдерживаться. Эти моменты переполняли меня счастьем, я чуть не плакала. Вечером я рассказала Марку о последних успехах Анн-Мари, и он радовался так же, как и я. Нам было необходимо поделиться с кем-то своей радостью – с профессионалом, который бы мог засвидетельствовать невероятный прогресс нашей дочери и сказать нам, насколько она близка (далека) к своим сверстникам (?). Мы решили встретиться с доктором Коэном.
29 сентября мы снова посетили большое здание, в котором помещался Институт Базисного Исследования Отклонений Развития, в Статен Айленде. Марк вёл машину; я сидела на заднем сидении с Анн-Мари. Погода выдалась хорошая, воздух был чуть прохладен, несколько белых облаков скользили по ясному небу. «Лодка,» – сказала Анн-Мари, когда мы проезжали Хадсон. «Самолёт,» – сказала она, указывая на вертолёт. Я держала её за руку. Во рту было ощущение сухости. Сердце быстро билось.
Мы подождали десять-пятнадцать минут в той же самой комнате, что и восемь месяцев назад. Я стояла, держа дочку за руку, а она рассматривала красочный календарь на стене.
Доктор Коэн вошёл в приёмную в сопровождении ещё одного психолога, доктора Вики Садхалтер. «Здравствуйте,» – сказал он громко. – Здравствуйте, – отозвался Марк. Мы с Анн-Мари повернулись к нему. – Привет, – сказала Анн-Мари, глядя прямо ему в глаза и робко улыбаясь. Доктор Коэн переглянулся с доктором Садхалтер, потом посмотрел на Анн-Мари, а потом перевёл взгляд на меня. – Поздравляю, – мягко сказал он. Я не могла вымолвить ни слова. Он понял. Ещё до того, как мы что-то успели сказать, до просмотра видеозаписей, до теста Винелэнда. Казалось, он сразу всё понял. Я думаю, что понимаю это сейчас. У взгляда нормального ребёнка есть качество: связь, признание другого человека, интерес, который проявляется в первые минуты встречи. У ребёнка-аутиста этого нет и в помине. Я думаю, что профессионалам достаточно пяти минут, чтобы распознать аутизм. Я думаю, что доктор Коэн распознал отсутствие аутизма.
Мы пробыли у них два часа. Это было похоже на сон. Анн-Мари была в хорошей форме, ей вроде бы даже нравился весь процесс. Письменный отчёт доктора Коэна об этой проверке стал одним их моих самых ценных документов.
Прогресс девочки поразителен… Поведение Анн-Мари сильно контрастировало с её поведением в время последней проверки. Тогда она упрямо сопротивлялась взаимному социальному контакту; была подвержена навязчивым ситуациям; не устанавливала зрительного контакта и не проявила никаких речевых и языковых навыков. Во время сегодняшей проверки Анн-Мари устанавливала прекрасный зрительный контакт; верно ответила на все вопросы типа: да/нет; сказала: «хочу рисовать», увидев карандаши; спонтанно называла различные предметы; хорошо имитировала; проявила симпатию; знала части тела; различала цвета; и знала разницу между местоимениями «мой» и «твой».
(?)
Доктор Коэн получил следующую информацию с помощью адаптивного теста Винеленда:
Согласно тесту, за восьмимесячный период Анн-Мари достигла нормы в адаптивных навыках, превосходя предсказания по развитию от 20/1/88 на 90 процентов. Она восстановила 18 месяцев в общении, 13 месяцев в бытовых навыках (есть с помощью вилки, пить из чашки, одеваться самой и т.п.); 15 месяцев в социализации, 16 месяцев в двигательных навыков.
(?) Оба врача сидели за столом напротив нас к концу проведения теста и подводили итоги. Они сказали нам, что во всех навыковых категориях, – в общении, в социальном поведении, в двигательных навыках, в бытовых навыках – она функционировала в рамках возрастной нормы. Марк взял мою руку в свою. Я сидела и смотрела прямо перед собой. Доктор Садхалтер широко улыбалась. Доктор Коэн расспрашивал Марка о домашней программе. – Не плачь! – приказывала я себе, пытаясь деражть себя в руках. – Не начинай это! Но слёзы капали из глаз помимо моей воли. Я прижала её к себе, свою заблудшую овечку, вернувшуюся домой. – Анн-Мари, – прошептала я, уткнувшись лицом в её волосы. – Мамочка.
* * *
Полчаса спустя мы вышли из института. Мы с Марком двигались как-то осторожно, осваивая это новое состояниею. Мы были немного оглушены, шли, как во сне.
Мы зашли в кафе неподалёку, чтобы придти в себя и поговорить несколько минут. В фойе женщина продавала воздушные шарики. Анн-Мари увидела их и сказала: «Шарик?» Я купила ей большой шарик в форме сердца, на котором было написано: «Ты – нечто особенное!»
Шарик с надписью «Ты – нечто особенное!» Цена: два доллара шестнадцать центов.
Как я могла объяснить ей, что произошло, чего она сумела добиться? Какие подарки или слова, или жесты были уместны? Как мне поблагодарить её за тот путь, что она проделала, чтобы вернуться к нам?
Мы купили по бутылке «Дом Периньона» для Бриджит и Робин. Я сознавала нелепость такого обмена: спасибо за дочку – получите шампанское.
Мы ехали обратно в Манхэттэн. Теперь Анн-Мари прикорнула на заднем сиденье, мы с Марком сидели впереди. Я посмотрела на него и сказала то, что мы оба знали. – Бог внял нашим молитвам. – Да. – Почему? Марк понял, что я имела ввиду: «Почему мы?» – Откуда я знаю, – рассмеялся он. Анн-Мари уснула. Я думала о её будущем. Я видела свет там, где раньше был один только мрак. Я обернулась и посмотрела на воду (?).
Невероятно. Невероятно. Маленький чудесный ребёнок возвращался домой.
Глава 22
Излечилась ли Анн-Мари полностью? Закончена ли битва? Тогда мы ещё не знали толком, что и думать.
Примерно через неделю после повторной проверки, мы подолгу разговаривали с Бриджит, Робин и доктором Коэном. Все три сошлись во мнении, что необходимо продолжать терапию.
– Очень рекомендуется, – написал доктор Коэн в своём отчёте, – чтобы терапевты продолжали заниматься с девочкой, обращая особое внимание на обобщение её достижений в различной обстановке, посредством моделирования и повторения.
Анн-Мари было два с половиной года; нам всё ещё предстояло увидеть, как у неё пойдут дела в школе, вдали от нашей интенсивной индивидуальной опеки. Также нам предстояло наблюдать за тем, как будут развиваться лингвистические и социальные навыки.
Когда дети приближаются к трёхлетнему возрасту, она начинают задавать кучу вопросов: что, где, кто, почему, когда и, наконец, как. Кроме того, у них развивается способность поддерживать разговор: они могут говорить более пространно на какие-то темы и строить диалог, состоящий из нескольких фраз. Они уже могут отвечать на просьбу разъяснить что-либо, например «Что ты имеешь ввиду?» «Почему он это сделал?» «Что она сказала?» Они уже умеют понимать слова не буквально: фраза «А на обед мы изжарим динозавра» всегда вызывала у Даниэля бурю смеха.
Все эти навыки либо отсутствовали, либо только только появлялись в речи у Анн-Мари. Никто из нас не считал, что настало время прекратить занятия.
Доктор Коэн подчеркнул, что тест Винелэнда был средством для широкого обзора, он годился для того, чтобы определить, находился ли ребёнок в пределах возрастной статистической нормы. Он ни в коей мере не выявлял наличие остаточных аутистических черт у ребёнка; мы все согласились с тем, что у неё они были. В экспрессивном языке у неё всё ещё встречалась эхолалическая речь, а что касается социального поведения, то она могла быть такой же замкнутой, как и раньше.
Эти черты, а также несколько странных манер, побуждали всех нас продолжать терапию, пока мы не будем уверены в том, что девочка может обойтись и без нашей помощи.
Наша ситуация не была похожа на хирургическую операцию, где вчера у вас был больной аппендицит, а сегодня уже нет. Мы добились впечатляющих результатов с Анн-Мари, мы вернули её к себе, но мы не знали, понадобится ли ей наша помощь ещё два месяца или два года.
Мы выбрались из тёмного леса под названием «аутизм», это мы точно знали. Какие бы проблемы не остались, у нас с Марком был ребёнок, с которым мы могли общаться. Более того, с каждым днём мы всё увереннее чувствовали, что она училась любить нас и нуждаться в нас. – Я не знаю, что нас ждёт в будущем, Марк, но настоящее просто чудесно. – Да. Если подумать об этом, то мы не знаем, что ждёт в будущем любого из наших детей, или тебя, или меня. Это было правдой, хоть я и не тот человек, который совершенно не заботится о будущем. Я полагаю, что это часть нашей жизни: предаваться ностальгии по прошлому и мечтать о будущем.
Вечером в день повторной проверки мне позвонила одна женщина из Материнского Центра, с которой я подружилась в последнее время. Она была мать двухлетнего ребёнка, они только начали свою домашнюю программу. Женщина великодушно обрадовалась нашим новостям.
– Марта вернулась из Англии, – сказала она. – Думаю, вам стоит позвонить ей и рассказать об этом.
– Хорошо, – согласилась я. Несмотря на мои теоретические разногласия с ней, в какой-то степени я чувствовала себя её должницей. Я должна была поблагодарить её, так же как я поблагодарила всех остальных. Она дала мне надежду.
Я позвонила ей на следующее утро. Она очень обрадовалась новостям и спросила, не хотела бы я встретиться со съёмочной группой Би-Би-Си. – Они снова здесь? – Да, – сказала она. По её словам, они были в городе и заканчивали сьёмки документального фильма. – Я не знаю, Марта. Я ещё не успела придти в себя после этого. Я даже не знаю, что сказать. – Просто расскажите им, как всё было. Будьте самой собой. – Я посоветуюсь с Марком и перезвоню вам. Но она сказала, что группа Би-Би-Си была в городе только до завтра. Это должно было быть сделано до завтрашнего полдня.
– Ну… хорошо. Только я бы хотела сначала поговорить с Вилкоксом. – Дезмонд Вилкокс, продюсер, с которым я говорила в прошлый раз в Материнском Центре. – Дезмонда нет здесь. Я попрошу режиссёра позвонить вам. Алекс, режиссёр, позвонил вечером. – Я хочу, чтобы вы не указывали моей фамилии, – сказала я ему. – И я хочу говорить о двух других видах терапии, которые мы используем наряду с терапией объятия, а также я хочу сказать о своих разногласиях с теоретической базой терапии. – Хорошо, хорошо. На следующее утро я вышла из дома. По причине, до сих пор мне непонятной, я была уверенна на все сто в том, что люди, делающие документальные фильмы стремятся быть как можно более объективными и заинтересованы показывать правду, только правду и ничего кроме правды.
Для меня это неблагоразумное интервью имело ужасные последствия.
Я была немного на взводе, когда вернулась, каким-то образом ощущая, что что-то не в порядке. – Что случилось? – спросила Пэтси, которая сопровождала меня туда вместе с детьми. – Я не знаю. Надеюсь, что я не переусердствовала, расточая похвалы терапии объятия. – Но вы же упомянули о работе Бриджит и Робин. – Да. Но я не очень-то распространялась о них. В конце концов это фильм про терапию объятия. Но я старалась чётко объяснить, что дал нам комбинированный подход. Из всего, что я говорила, одно итоговое предложение ясно запечатлелось у меня в памяти: «Час в день мы занимались терапией объятия, два часа в день – бихевиористической модификацией и три часа в неделю – развитием речи». – Да?… – Просто… Знаешь, Пэтси, я могла болтать о чём угодно в отведённое мне время; эти люди сделают с этим то, что они хотят. – Я поняла, что было поздно рассуждать о борьбе в операторской студии.
Я нервничала по поводу фильма, но отложила неприятные мысли в дальний уголок мозга. Фильм должен был выйти на экран не раньше ноября в Англии. У меня из без того было много забот.
Анн-Мари пошла в детский сад. Началась вторая стадия излечения.
Тем, у кого рядом с домом есть двор, в котором постоянно находятся много соседских ребятишек, трудно понять, почему городские матери отдают своих детей в ясли или игровые группы так рано: в два-три года.
Это оттого, что если этого не сделать, то дети просто сходит с ума. Утро, проведённое в компании других взрослых и детей, делит их день надвое и даёт им возможность поиграть где-то вне дома. Даниэлю очень нравилось ходить в свою «школу».
Насчёт Анн-Мари возникал только один вопрос: сможет ли она это сделать. Ни у меня, ни у Марка не было сомнений насчёт того, что это было ей необходимо, может быть даже больше, чем Даниэлю. Она должна была впустить разных людей в свой мир. Она должна была быть как можно лучше подготовлена к реальной школе. Два-три года, в течение которых она должна будет слушаться указаний, данных группе, играть вместе с другими детьми, словесно участвовать в групповых занятиях. (?) До сих пор всё шло неплохо, но ей уделялось максимум внимания, и она занималась в рамках терапии один-на-один. Сможет ли она справиться с более свободной, менее упорядоченной обстановкой обычного детского сада? Будет ли она слушать воспитателя, который не будет постоянно добиваться её внимания?
Мы решили рассказать воспитателям о её диагнозе и домашней программе. Мы с Бриджит встретились пару раз с директором и персоналом детского сада, и нам очень повезло в том, что они очень хорошо нас приняли и уверили, что были бы рады работать с нами. Гретхен Бученхольц, глава Ассоциации в Пользу Детей, организации, покровительствующей детскому саду, придерживалась открытой политики по отношению ко всем детям: бедным и богатым, здоровым и больным.
Воспитательнице, Энни, и её помощнице, Селине, было трудно понять зачем сначала Бриджит, а позже я, должны были находиться в комнате занятий, так как на их взгляд Анн-Мари выглядела вполне нормальной. Но скоро они уже и сами видели, что девочка всё ещё нуждалась в помощи. Каждое утро мы приходили в садик и здоровались со всеми, обязательно с прямым зрительным контактом. – Привет, Анн-Мари! – Привет, – сказала Анн-Мари. – Привет, Э-э, – подсказала я. – Привет, Энни, – закончила она. Подошла Селина. – Привет, Анн-Мари. Как ты сегодня себя чувствуешь? Анн-Мари не отвечала. – Анн-Мари, – сказала я. – Посмотри на Селину. Селина спрашивает, как ты себя чувствуешь. – Хорошо. Она была готова к общению, это не было проблемой. Постоянный плач тоже перестал быть проблемой, и она больше не была склонна к нервным припадкам. Я также не думала, что её рецептивный язык не соответствует норме. Она понимала всё, что говорили воспитатели, когда они обращались конкретно к ней. Но ей всё ещё была нужна помощь, чтобы научиться концентрироваться на людях; иногда воспитателям надо было по три-четыре раза назвать её имя, чтобы добиться внимания. Ещё одной проблемой был недостаток спонтанности и инициативы. Теперь, конечно, не на том уровне, как раньше, но всё же.
Однажды я сидела недалеко от игровой площадки и наблюдала за маленькой девочкой, примерно одних лет с Анн-Мари. «Дженни! – кричала она через всю комнату другой маленькой девочке, – Дженни, смотри!» Подобные вещи – крикнуть громким голосом, назвать кого-то по имени, пригласить поиграть с собой – всё ещё с трудом давались Анн-Мари. Спонтанно поделиться с кем-то даже самым простым наблюдением – «Смотри какой дождь на улице!» – было для неё редкостью.
Мне, а позже и воспитателям, приходилось иногда подсказывать ей попросить кого-то о чём-то. Она не всегда делала это сама. – Сок, – сказала Анн-Мари, уставясь в стол. – Сок. Сок. Сок. Я рукой остановила воспитательницу, которая хотела дать девочке сок. – Анн-Мари, ты хочешь сок? – спросила я. – Да. – Попроси Энни. – Энни, я хочу… – Посмотри на Энни. Она послушалась. – Энни, я хочу сок. – Скажи погромче, пожалуйста. – Энни. Я хочу сок! Будет ещё достаточно времени, чтобы учить её таким словам, как «пожалуйста» и «спасибо». Пока мы концентрировались на основах общения.
Если другой матери случалось проходить мимо и слышать, каким приказным тоном я разговаривала с Анн-Мари, она смотрела на меня с удивлением. Я же откладывала подальше свою мнительную заботу о её мнении и продолжала заниматься дальше. «Это не имеет значения, – говорила я сама себе. – Её малыш учится таким вещам естественно и легко. Если бы она только знала, как ей повезло. И тем не менее, Анн-Мари тоже учится; просто она учится другим способом. И меня не волнует, как это выглядит со стороны.
Позже я научила её не только смотреть на воспитателей, но и подходить к ним и дотрагиваться до них, чтобы привлечь их внимание. Я моделировала с ней, как положить руку на руку воспитательницы, как затронуть её за плечо, как говорить чуть громче. Она всё ещё была склонна говорить очень тихо, почти шёпотом.
Через некоторое время Анн-Мари начала самостоятельно инициировать контакт, ещё раз демонстрируя своему отцу и мне, что механичный, структурный характер нашего вмешательства не помешал развитию спонтанности. Она стала предварять свои просьбы именем того, к кому обращалась, чаще смотреть прямо в глаза человека и говорить более уверенно. Постепенно я старалась отходить в тень, сводить к минимуму свои подсказки вплоть до того, что значительного взгляда, или значительной тишины, или просто «Анн-Мари» было достаточно для того, чтобы она посмотрела на кого-то, заговорила или ответила на чей-то вопрос. Воспитатели также научились хвалить дочку за её маленькие успехи: «Мне нравится, как ты смотришь на меня, Анн-Мари!» «Ты очень хорошо назвала моё имя!»
Играла ли она с другими детьми в детском саду? Она была ещё так мала, что этот вопрос врядли имел большое значение. У неё случались вспышки интереса к детям, как к людям: время от времени она улыбалась девочке или мальчику, или спонтанно включалась в чью-то игру, но я не могу сказать, что она была активной и общительной в садике.
Мы не придавали этому особого значения. Мы видели начала символической творческой игры, к которой мы пытались приучить дочь – сейчас она могла представить, что кирпичик – это лодка, – а также она делилась игрушками и уступала очередь в играх с Даниэлем. База уже была; этого было достаточно на тот момент. Я не хотела переживать из-за того, что она мало играла со сверстниками в возрасте двух лет и восьми месяцев. Пока мы видели её прогресс, мы питали надежду, что когда-то она достигнет полного социального соответствия.
В октябре нас посетили наконец из Клиники Ловаса в UCLA. (?) – Лучше поздно, чем никогда, – сказал Марк. Мы впервые связывались с ними ещё в феврале. Летом один отец, который занимался домашней программой со своим трёхлетним сыном и который был в клинике, вывел нас из заблуждения в том, что это было хорошо финансируемое заведение, с бригадой телефонных операторов, социальных работников и армией доступных врачей. «Это всего лишь отдел академии, – сказал он нам, – нуждающийся в деньгах, как любое другое академическое заведение. Студент отвечает на телефоны, а Ловас с командой только что закончивших университет терапевтов управляет ещё большей командой студентов». Не очень-то много пользы для всех детей-аутистов Америки.
Так что мы были благодарны и приятно удивлены, когда нам позвонила Дорин Грэнпише, одна из главных помощниц Ловаса, и сказала, что зайдёт к нам в ближайшие дни. Бриджит и Робин не терпелось услышать её мнение о нашей программе, а мне очень хотелось обсудить с ней прогресс Анн-Мари по сравнению с детьми Ловаса.
Казалось, что Дорин, как и доктор Коэн, была способна в первые пять минут после прибытия знать о том, каково состояние Анн-Мари. – Она выглядит просто замечательно! – сказала она тепло. – Слава Богу! Мне сразу же понравилась Дорин. Казалось, что она искренне заинтересована в Анн-Мари и не стремится давить на нас собственным мнением. Она также отметила, сколько работы мы уже проделали. В самом начале своего визита она сказала, что нам удалось самим достичь прекрасных результатов.
Она наблюдала за тем, как Бриджит работает с Анн-Мари во время дневного сеанса терапии. Когда я зашла в комнату в конце занятия, она посмотрела на меня. – У вас необыкновенный терапевт, Кэтрин! – Я знаю, – я улыбнулась Бриджит, – сейчас знаю. Дорин также было что нам предложить. Она вдохнула новую жизнь в нашу работу, обеспечив нас множеством программ «для высокого уровня», которые были разработаны в UCLA. Среди её предложений по программам, которыми мы должны были заниматься в последующие несколько месяцев, были следующие: · Работа над диалогом. Взрослый говорит: «На мне синие штаны», потом подсказывает Анн-Мари сказать: «На мне красные штаны». Или «Я ел на обед бутерброд с колбасой», подсказывая ей сказать, что она ела на обед. Или «У меня в руках красный карандаш» и т.д. · Работа над координацией движений с помощью ножниц. · Работа над определением эмоций с помощью фотографий людей. «Покажи мне «счастливого», «грустного», «сердитого» и т.д. Работа над пониманием, почему книжные персонажи грустные, весёлые или сердитые. · Работа над определением предназначения комнат в доме: «Что ты делаешь в кухне (ванной, спальне и т.д)?» · Помогайте ей выражать, что ей нравится, а что нет. Работайте над спонтанностью таких выражений. · Работа над полными предложениями: с предлогами, артиклями, правильными формами существительных и т.п. · Моделируйте и помогайте ей рассказывать более длинные сказки о картинках. · Работайте над концепциями множественного и единственного числа, антонимов, прошлого и настоящего. · Моделируйте и помогайте ей в использовании «до» и «после» в предложениях. · Помогайте ей говорить о предметах и событиях не в настоящий момент, а вообще: «Что ты видишь в цирке?» и т.д. · Социальная вовлечённость: устраивайте такие ситуации, в которых два человека разговаривают напротив Анн-Мари. Простая тема, простые предложения. Спросите её: «О чём мы разговариваем?» Задействуйте Даниэля в развитии навыков общения со сверстниками. В октябре и ноябре произошёл очередной рывок в речи Анн-Мари. Бриджит работала над называнием действий, и Анн-Мари прогрессировала от предложений типа «Мальчик сидит» к «Мальчик сидит на стуле» и к «Мальчик сидит на красном стуле». Занятия Робин, построенные на символических играх, теперь тоже включали в себя разговор и вопросы. Теперь Анн-Мари уже задавала ей вопросы типа «что?» и «где?», и могла вести простые диалоги со своими игрушечными животными и куклами.
Но возможно самым важным как для Бриджит, так для Робин и для нас было то, что сейчас она могла усваивать многие вещи сама из своего окружения. Иногда у неё вырывались фразы, которым никто её специально не учил, но которые она слышала в наших разговорах. В записях о занятии Бриджит 2 ноября был отмечен следующий спонтанный диалог.
Бриджит: Что случилось? Анн-Мари: Мишель это сделал. (Анн-Мари начала употреблять прошедшее время в сентябре). Бриджит: Что сделал Мишель? Анн-Мари: Кидать книжки на пол. Бриджит: Кто кинул книжки на пол? Анн-Мари: Мишель кинул книжки на пол. (Анн-Мари сама поправила себя, ставя слово «кидать» в прошедшее время, после того, как один раз услышала это). В конце ноября мне больше не надо было сопровождать Анн-Мари в детский сад. Какая бы помощь не понадобилась, её могли оказать (вполне компетентно) Энни и Селина.
В декабре Мишель праздновал свой первый день рождения. Я собрала детей вокруг праздничного стола. Марк всё ещё был на работе. У нас был приготовлен шоколадный торт и два-три подарка.
Я была счастлива; мы все были счастливы. Наш маленький мир, казалось, снова обрёл равновесие. Состояние Анн-Мари продолжало улучшаться, Даниэль молодцом выдержал этот год; наша с Марком любовь окрепла. – С днём рождения, дорогой Мишель, с днём рождения! Детские голоса Даниэля и Анн-Мари присоединились к песне. В кухне было тёпло.
Дети были здоровы и счастливы. Их личики вокруг стола были прекрасны. Я глубоко вдохнула, нарезая торт на куски. Мы прошли через борьбу и достигли здоровья и спокойствия. Я протянула кусок торта виновнику торжества, который атаковал его двумя руками. Я рассмеялась и два раза поцеловала его в головку. Один – в честь твоего дня рождения, второй – в честь будущего года. Благословит тебя Бог, маленький человечек.
30 января 1989 года, 30 месяцев после того, как ей был поставлен диагноз, я сделала последнюю запись в своём дневнике.
Она начинается датой, потом следуют пять предложений, которые я слышала за день от Анн-Мари:
– Сделай это ты, мама, я не могу. – Где Даниэль? – Что ты делаешь? – Мама, возьми меня на ручки. – Я падать. Мне бо-бо на ручке. Поцелуй. *В списке приведены лишь около половины программ, предложенных Дорин. См. в приложении 2, в разделе «Инструктивные программы» многие другие предложения программ, поученные нами от различных специалистов.
«Вот несколько примеров языка Анн-Мари сегодня» – написала я. Я и верила, и не верила. Теперь моё упрямое сердце склонилось в благодарности перед этим даром.
Ещё будут «тесты» и проверки, и наблюдения Анн-Мари: тест IQ, оценка речи я языка, проверка адаптации к детскому саду и школе.
Но сейчас мы пришли к долгожданному спокойствию, и настоящее было прекрасно и даже больше: светилось благополучием и радостью.
Раньше я беспокоилась о том, что мы как бы созидали дочку заново, толкая её в стереотип приемлимого поведения и заученного языка; я чувствовала, будто наша девочка умерла где-то между первым и вторым годом жизни, и мы пытались «восстановить» её из пыли и пепла, которые когда-то были нашей малышкой.
Эти переживания больше меня не беспокоили; сама мысль об этом была как бы поиском неприятностей в увеличительное стекло на фоне большого благословления, полученного нами. Мы не «восстанавливали» её, мы бы не смогли этого сделать. Она была такой полноценной личностью, так радостно наслаждалась жизнью, её собственные мысли и желания были полны творчества и ума – всё это не могло быть создано никем, кроме самого Создателя. Так же, как она была «соткана» в моём лоне без моего малейшего вмешательства в этот чудесный процесс, так же она излечилась от аутизма без нашего контроля или полного понимания её перерождения.
Какой бы нейрологический процесс не активировался в её мозгу, какой бы химический баланс не восстановился, мы скорее всего этого никогда не узнаем. Да нам это и не важно. Главное – что она вышла к свету человеческой любви, и устремила свой зелёно-голубой взгляд в наши глаза.
Глава 23
Ноябрь пришёл и ушёл, и я всё чаще думала о том, что фильм Би-Би-Си наверно уже вышел на экраны в Англии, и гадала, как он в результате получился. В декабре я несколько раз звонила доктору Велч, но она всячески избегала обсуждения этой темы со мной. Наконец, я узнала,что она собирает у себя несколько человек для просмотра фильма. Я позвонила ей и попросила посмотреть плёнки. – Вы знаете, у меня нет для вас запасных кассет, – сказала она. Это звучало подозрительно, и я поняла, что доктор Велч явно не будет в восторге, если я посмотрю фильм. Я решила сама достать плёнки.
Мы получили их в феврале 1989 года. Две отдельных передачи: одна транслировалась 9 ноября, другая – 16 ноября, 1988 года. Как-то вечером мы сели смотреть их. – Невероятно, – тихо проговорил Марк. Я начала дрожать. Надутый, бессовестный фильм о Марте Велч. Терапия объятия как ответ на молитву отчаявшихся родителей. Марта Велч как источник мудрости. – Но действительно ли это панацея? – вопрошал голос за кадром. Ответ, снова и снова, – да. Голос продолжал:
Для этих родителей, нет никаких сомнений. Они знают, что многие дети уже вернулись к нормальной полноценной жизни, с помощью терапии объятия…
После прохождения курса терапии многие дети занимают нормальное место в семье, учёбе и работе…
Её результаты – множество детей, вернувшихся к нормальной жизни, впечатляющая действительность в Америке.
Но где была действительность? Где были выздоровевшие дети? Где были «многие дети, вернувшиеся к нормальной жизни…»? Что значило это утверждение? Ведь я снова и снова просила встретиться с этими детьми, и не встретилась ни с одним. Может быть Дезмонду Вилкоксу удалось найти хорошие примеры? Может быть он нашёл десять таких детей? Может пять? Одного?
Похвала следовала за похвалой: матери признавались в том, что их жизнь перевернулась, что они получили надежду, что они верили…
Но где были излечившиеся дети?
Мы видели маленького мальчика, который декламировал алфавит – так же как и половина всех аутистов. Распознавание букв и цифр, запоминание информации – многие аутисты обладают подобными осколочными знаниями. Эти удивительные способности, которые проявляются у так называемых «обученных аутистов», не имеют ничего общего со способностью вести живой, гибкий разговор, нормально общаться. Главный герой фильма «Человек дождя», чьи продюсеры консультировались с доктором Римлэндом о том, как лучше описать состояние аутиста, мог производить сложнейшие математические операции в голове, но его язык оставался инфантильным. Чего не хватало документальному фильму Би-Би-Си, – значительность чего широкая публика не могла знать, – так это хотя бы одного содержательного интерактивного разговора с ребёнком аутистом, или в прошлом аутистом.
Мы видели Кэти, девочку, описанную в журнале «Лайф», чьи длинные стихи о Христе, возрождении и докторе Велч, так тронули меня.
Фильм только на момент задержался на этих удивительных стихах. Рассказчик объяснил, что год назад, когда Кэти было десять лет, она написала стихи, посвящённые доктору Велч. Он рассказал, что к тому времени она уже прошла «несколько» сеансов терапии объятия, но всё ещё оставалась «безответной». («Несколько» сеансов объятия, в самом деле! К тому времени с Кэти уже восемь лет занимались терапией).
Затем доктор Велч читала одно из стихотворений, гимн хвалы… доктору Велч:
Она увлекла меня и разгневала меня, и бросила мне вызов.
Она уважала меня и давала мне силы.
Она дала мне мать, и это было выше моих самых диких мечтаний.
– Сколько сеансов объятия прошла Кэти, чтобы быть в состоянии писать такие стихи? – спрашивает Дезмонд Вилкокс.
– Вопрос неверно поставлен. – отвечает доктор Велч. Кэти уже очень давно могла так писать. Она этого не делала, потому что была напугана, очень напугана – оттого, что её жизнь была небезопасна.
И доктор Велч продолжает.
… после того, как она однажды почувствовала себя в безопасности, она начала писать и перешла от нулевого общения к полноценному общению, сочиняя стихи на университетском уровне в возрасте девяти лет.
– Чтобы рассеять последние сомнения, – произносит голос Вилкокса, который и оказался рассказчиком, – меня пригласили поприсутствовать на сеансе терапии.
Переход к Кэти и её матери, сидящих вместе на кровати. Рука матери лежала на руке Кэти. Вместе они писали – большими, детскими буквами – два слова:
МАМА
ЛЮБОВЬ
Я закрыла глаза при виде этих кадров, поражённая не разочарованием, а скорее ощущением предательства. МАМА? ЛЮБОВЬ? Где были эти пространные аналогии, эти теологические размышления в стихах, которые я читала? Где был аккуратный, чёткий, даже бисерный почерк «подлинных» стихов, которые предположительно были написаны Кэти, и которые мне дала доктор Велч, которые были напечатаны в журнале «Лайф»? Какая связь была между зрелыми, концептуальными сочинениями и этим детскими каракулями, нацарапанными с маминой помощью?
– На мой взгляд это естественно, занимательно – и убедительно, – объявляет голос Вилкокса. Конец истории Кэти. Все сомнения разрешены.
И вот настала очередь Анн-Мари и её матери. Мать Анн-Мари провозглашает результаты повторной проверки дочери. Мать Анн-Мари рассказывает о том, из чего состояла терапия Анн-Мари. – Час в день мы занимались терапией объятия. Конечно, если бы кто-то очень прислушался к предисловию рассказчика, то он бы услышал побочную фразу «… наряду с другими видами терапии».
Но я не думаю, что эта фраза была замечена многими британскими телезрителями. В конце концов, мать Анн-Мари, девочки, по-видимому, самой близкой к выздоровлению, говорит: «Час в день мы занимались терапией объятия». Точка.
Фильм продолжался в том же самом старом Тинберген – Беттельгейм – Велч духе: · Аутизм как отречение, самопроизвольно выбранное ребёнком, пережившим травму. «Крепость» (любимая метафора Беттельгейма) – это «удел, на который ребёнок сам себя обрекает», – говорит Велч. · Дети-аутисты как маленькие избранные души, чья беда в том, что они эмоционально закрыты: «…эти дети, – говорит Велч, – когда они начинают проявлять свой подлинный потенциал, превращаются в неординарных гениальных детей…» (Эти дети? Сколько? Половина из них? Все?) · Дети-аутисты нуждаются только в окружении, готовом принять их такими, как они есть, в присутствии готового принять их взрослого, для того чтобы обнаружить их скрытые эмоции: «Многие из этих замкнутых детей, – рассказывает Велч своей аудитории, – выражают свои эмоции в Материнском Центре, где, как они знают, им обеспечена необходимая поддержка». · Аутизм как катастрофическая реакция на какое-либо жизненное происшествие, в особенности такое ужасное событие, как рождение брата или сестры. «Рождение [его сестрёнки] вызвало множество симптомов у Майкла,» – говорит Вилкокс о развитии аутизма у одного трёхлетнего мальчика. · И разумеется, старая история об аутизме, как результате неумения матери наладить контакт с ребёнком. Одна мать «призналась» Велч, что из-за того, что её собственная мать никогда не брала её на руки, когда она была ребёнком, она теперь не могла надлежащим образом реагировать на своего ребёнка: не могла брать его на руки, когда он плакал. Так «совершенно нормальный ребёнок» просто сдался и замкнулся. Это признание, по словам доктора Велч, заставило её «по-новому взглянуть» на причины аутизма. Идея о том, что мать никогда не брали на руки, несмотря на то, что она этого хотела, очень амбивалентна (?). Это тот же вид амбивалентности, который мы наблюдаем у детей. Меня осенило, что с помощью «объятия» можно преодолеть такое ненормальное поведение и дать образоваться тесному контакту между матерью и ребёнком, таким образом обеспечивая нормальное развитие. И вот я решила доказать это.
Как странно. Я всегда считала, что исследователи проверяют гипотезы, а не «доказывают» их. Так, получается, что матери, которые дали жизнь этим «нормальным» детям, а потом эмоционально издевались над ними, пока дети не стали аутистами, теперь имеют ещё один шанс: с помощью «объятия» убедить своих детей, что теперь они в безопасности и могут «занять своё место в семье, школе и работе». Но это ещё не всё: согласно признанию Марты Велч, достоинства терапии объятия простираются гораздо дальше лечения аутизма. Объятие может лечить буквально всё! Велч утверждает, что с помощью терапии объятия такие проблемные этапы, как «трудные два года» или переходный возраст, просто «исчезают»! С помощью терапии подростки становятся «более ласковыми и готовыми к сотрудничеству». Также объятие – это «наилучшее средство» против нервных припадков. Терапия объятия «сводит к нулю» соперничество между братьями и сёстрами. Я позвонила доктору Римлэнду, пытаясь держать себя в руках. «Я знаю, – сказал он мне, – я слышал о фильме». Он рассказал мне, что представительства Национального Общества Аутизма в Англии были наводнены родителями, требующими новое «средство» и выкрикивающими ругательства в адрес «организации» за то, что та отказывалась выдать им информацию об этом чудесном средстве. В обществе нарастала волна протеста. «Где же научно подтверждённые эксперименты? – они хотели знать. – Где были все излечившиеся дети? Где была вся документация?» Я обратилась с официальной жалобой в Комиссию Телерадиовещания, в Лондон. Я была опустошена, разгневана тем, что моё признание было использовано для того, чтобы ввести в заблуждение родителей больных детей. Я была сердита на себя за то, что была такой наивной и невоздержанной в своих похвалах терапии объятия, но я была вдвойне сердита на всех тех, на ком лежала ответственность за этот спектакль, который они называли документальным фильмом. В течение марта и апреля письма ходили взад вперёд через Атлантический океан, пока, наконец, Дезмонд Вилкокс не написал мне длинное послание, в котором грозил подать на меня в суд – по его словам я была опасно близка к обвинению его в некорректности. Друзья, родственники, мои сёстры-адвокаты, Марк, доктор Римлэнд – все призывали меня отразить нападение. «Ты шутишь? – кричала на меня моя сестра Джэйн. – Ты хочешь забрать жалобу из-за того, что он что-то там сказал? Ты бы и минуты не выдержала на юридическом поприще!» Но я не могла больше продолжать борьбу. Я уже чувствовала себя побеждённой, обессиленной и уязвимой. Марта Велч передала Би-Би-Си моё письмо доктору Римлэнду, в котором я расхваливала её, и я не представляла, кому ещё она могла его передать, и боялась, что имя моей дочери будет вовлечено в публичное обсуждение.* Я больше так не могла. В моей жизни и так было достаточно драмы и борьбы, а если бы я ещё и подала в суд на кого-то из них, это бы явно плохо для меня закончилось. Я уже и так не спала до трёх утра, корпя над этими письмами, тщетно пытаясь отвратить беду, которая уже произошла. Я и так уже добавила тревогу и гнев в жизнь нашей семьи, которая только-только начала обретать какое-то равновесие. До конца апреля я забрала свою жалобу. Но боль не покидала меня ещё долгое время. «Ещё одно чудесное средство для родителей, – горько сказала я Марку. – Час в день терапии объятия: вылечите своего ребёнка от аутизма». *Мы попросили, чтобы в фильме были использованы только наши имена. Не важно, что я думала о человеческом эгоизме, желании прославиться, желании славы, я всё равно не могла понять, почему Марта Велч позволила транслировать эту извращённую запись. Я до сих пор этого не понимаю. Я восхищалась ей. Я ценила её подход. Я всё ещё думаю, несмотря на гнев, что терапия объятия всё-таки внесла свою лепту в выздоровление Анн-Мари. Неужели доктору Велч было этого недостаточно? Она знала о работе Бриджит и Робин; мы всё время спорили об этом. Как она могла позволить кому-либо – какому-либо родителю – поверить в то, что с помощью часа терапии объятия в день можно вылечить ребёнка от аутизма? Как могла она сегодня пропагандировать эту теорию о «материнской ошибке», а назавтра доказывать обратное? Марк, обычно такой спокойный противовес моему переменчивому темпераменту, был вне себя от гнева. И тем не менее он не был шокирован поведением продюсера и доктора Велч.
– Меня это не удивляет, – сказал он как-то, пытаясь успокоить меня, когда я в сотый раз корила себя за случившееся. – Штучкам телевизионщиков я не удивляюсь,да и Марта никогда не внушала мне доверия. Он повернулся ко мне.
– Послушай, дорогая. Попробуй понять две вещи: во-первых, вся эта история гроша ломаного не стоит. Через год люди забудут о том, что такой фильм вообще был. Что имеет значение – так это то, что наша дочка выздоравливает. Я не могла ничего ответить. Я знала, что мне следовало так чувствовать. Но в тот момент я разрывалась на части. – А что во-вторых? – А во-вторых, только правда выживает. Ложь – нет. Возможно он был прав, но тогда мне было трудно философски смотреть на вещи. Это была не только уверенность в том, что мои слова были использованы в чьих-то целях, не только ощущение того, что история нашей боли и триумфа сейчас служила для того, чтобы вводить в заблуждение людей, это было всё. Всё, что накипело за прошедший год. Всё разочарование и гнев, скопившиеся за время наших посещений Материнского Центра, самоуверенный абсурд книг Тинбергена и Беттельгейма, непрекращающиеся нападки на бихевиористический подход, терапевтические ясли, услуги которых ничем не отличались от обычных яслей – всё вместе стало для меня невыносимо. Были ночи, когда я не могла сомкнуть глаз: я лежала в постели и снова и снова прокручивала в голове идиотский хоровод, закружившийся вокруг аутизма, разрывающаяся на части от того, что сама невольно стала его участницей. Чувство собственного ничтожества почти парализовало меня. Этот абсурд будет продолжаться всегда, в независимости от того, какая информация напечатана, от того, сколько научных изысканий сделано. Легкодоступная сенсация всегда будет преобладать над трудной правдой. Какой наивной и глупой я должна была быть, чтобы не понять силу игры, затеянной в мире аутизма. Кто будет объявлен спасителем? Кто получит больше всех внимания со стороны средств массовой информации в качестве спасителя? В этой игре высокие ставки. Кому нужна объективность и правда? Несомненно я была переполнена радостью от сознания того, что нам удалось вырвать нашу девочку из лап аутизма. Но то, что творилось вокруг приводило меня в ужас: я видела маленьких больных детей, состояние которых ухудшалось по мере того, как их родители решали посвятить месяцы, а то и годы, непроверенным терапевтическим программам. А теперь я сама стала соучастницей дезинформации, которую распространяют среди этих родителей. В тот апрель у меня не раз были моменты, когда чувствовала, что схожу с ума от гнева и раскаяния, от того, что была настолько глупа, что позволила втянуть себя в это.
Глава 24
В мае нас снова посетили из Клиники Ловаса. Согласно уговору, семья, или группа из двух-трёх семей, должна была оплатить стоимость перелёта и проживания представителя клиники, плюс стоимость самого семинара. Эта стоимость определяется по движущейся шкале(?).
На этот раз представителем клиники был Энтони – не тратящий слов попусту, полный хороших идей о программах для высокого уровня с акцентом на экспрессивный язык и взаимный диалог.
Но я не могла согласиться со всем, что он говорил, и не всегда себя комфортно чувствовала с его терапевтическим стилем.
Это беспокоило меня, так как сейчас я была очень высокого мнения о бихевиористической программе и о работе доктора Ловаса.
– Кэтрин, – сказал мне Марк после визита Энтони, – тебе хочется думать, что существует идеальная терапия и совершенный врач, который может дать ответы на все вопросы.
– Нет. Теперь уже нет. Но я всё ещё думаю, что люди Ловаса знают об аутизме гораздо больше нас.
– Они действительно знают много об аутизме и о бихевиористической терапии. Но мы знаем нашу дочь, и знаем, что ей подходит, а что нет. – Да… мы знаем. – Так что если мы не согласны с какими-то советами Энтони, то мы просто не будем им следовать. Что-то изменим, что-то подгоним, используем только то, что нам надо. Не надо принимать всё за прописную истину. Я уверен, что Ловас сказал бы тебе то же самое.
Несмотря на то,что работа доктора Ловаса обеспечила нам большую часть программы, – причём самую важную часть – мы действительно не выполняли всё в точности, как было написано в книге The Me Book. Бриджит всё время снабжала нас новыми программами. Некоторые из них явно имели источник в книге Ловаса. Некоторые, по её словам, были взяты из учебных справочников, статей, книг, посвящённых бихевиористической модификации. Некоторые она придумывала сама, а некоторые мы изобретали все вместе.
Но наши изменения касались не столько содержания программ, сколько стиля их выполнения.
Чем больше я читала о бихевиористической модификации, и чем больше я встречала терапевтов, тем больше я осознавала то, что должно было быть очевидно для меня.
Во-первых, все терапевты очень разные – есть хорошие, есть с хорошими намерениями, но неопытные, а есть и такие, которые доходят до грубости.
Во-вторых, несмотря на то, что бихевиористическая терапия основана на принципе последовательности – ребёнок должен последовательно реагировать на определённый внешний раздражитель и структуру – масштаб и характер этой реакции всегда будут варьироваться. Что подходит одному ребёнку, не всегда подойдёт другому.
А в-третьих, потенциал бихевиористической модификации огромен. Её сила может быть поразительной. Она может даже подавить дух человека.
Однажды Бриджит сходила на консультацию в одну семью и когда вернулась поговорить со мной, она была подавлена. Её попросили поприсутствовать на занятии одного тренированного специалиста. Терапевт был молод, но очень уверен в себе. Ребёнок – мальчик, примерно четырёх лет – функционировал на высоком уровне, говорил.
– Парень не переставал кричать на этого мальчика! – сказала мне Бриджит. Обычно такая спокойная, она была заметно расстроена. – Что он кричал? – Перестань! Сядь на стул! Перестань! Ребёнок, разумеется, беспрекословно слушался. Каждый раз, когда он начинал плакать, его настигало «Перестань!», и он снова, не без применения силы, оказывался на стуле.
Через некоторое время терапевт позволил мальчику встать со стула и подойти к маме. «Поздоровайся с мамой!» – приказал он.
Мальчик подошёл к матери и начал всхлипывать. – Тихо! Я сказал поздоровайся со своей мамой! Сейчас же! Мы с Марком были удручены не меньше, чем Бриджит. Не то чтобы мы были категорически против применения наказаний: как я уже писала, мы все трое признавали необходимость наказаний при определённых обстоятельствах, с некоторыми детьми. Мы слышали о детях, чья склонность к саморанению грозила потерей зрения, слуха или даже жизни. Одна мать рассказала мне, что она решилась применить физическое наказание, когда её сын несколько раз поранил свои барабанные перепонки. Она позволила терапевтам, занимавшимся с сыном, использовать причиняющее физическое неудобство наказание каждый раз, когда он принимался за свои уши, и таким образом, опасная склонность была взята под контроль. Мы также читали о маленькой девочке, которая в течение пяти лет так сильно и часто себя колотила, что это привело к повреждению лобовой части мозга, барабанных перепонок и глаз до такой степени, что она практически ослепла. Её родители, будучи не в состоянии справиться с тем, что действительно могло называться «кошмаром без конца», отдали ребёнка бабушке с дедушкой. Бабушка, которая в свою очередь перепробовала все возможные средства, в конце концов приобрела специальное приспособление, шлем, который подавал слабый электрический шок всякий раз, когда девочка пыталась поранить себя. За несколько недель она перестала себя бить. Девочка, согласно утверждению бабушки, никогда не пыталась снять с себя шлем, когда он был у неё на голове, и даже расстраивалась, когда другие хотели его снять. Тем не менее, «адвокатская» группа предпринимала всевозможные попытки запретить использование приспособления и лишить бабушку права высказывать своё мнение по этому поводу. (?) «Может быть этим адвокатам надо было бы пожить с этим ребёнком несколько месяцев, – сказала я Марку, – интересно, как долго они смогли бы наблюдать за тем, как она ослепляет и оглушает себя».
В другом случае, коснувшемся лично меня, одна мать попросила моей помощи. Её ребёнок-аутист шести лет имел склонность кричать и визжать с двух лет. Сначала женщина игнорировала крик, потом пыталась говорить «не кричать» каждый раз, когда он кричал. Но положение всё ухудшалось и ухудшалось. По её последнему подсчёту мальчик кричал восемьдесят раз в течение дня. Как-то в детском саду он кричал шестдесят раз в течение двух часов.
Нам обеим было понятно, что он кричал, когда кто-либо пытался навязать ему свою волю, задавал вопросы или просил сделать что-то.
Мы, две матери, сели у кухонного стола, и стали думать, какое средство можно было бы применить. Каждый раз, когда ребёнок кричал, его мать должна была громко хлопнуть в ладоши перед его лицом и сказать повышенным тоном: «Не кричать!»
Нам обеим это не нравилось. Но четыре года – это слишком долгий срок для такого поведения. Мать пыталась применить любовь и понимание, нежность и равнодушие. Она советовалась с психиатрами и психологами, терапевтами и врачами. Она сказала, что воспитатели в детском саду ничем не могли помочь ей. Они не знали что делать.
Она сказала мне, что боялась, что её сын никогда ничему не научится, если не перестанет кричать. Она боялась, что люди будут бойкотировать или высмеивать его, пока он не отучится от этой привычки. Когда она впервые попробовала применить наказание, мальчик был в шоке. Он помолчал немного, а потом снова стал кричать. Тогда мать снова применила свою тактику. Это повторялось снова и снова.
К концу недели мальчик кричал два-три раза в день. Через пять недель крик исчез. Мальчик стал спокойнее, дружелюбнее и лучше учился. Теперь он чаще улыбался. Дети в парке больше не убегали от него, так как он больше не пугал их каждые пять минут криками, от которых кровь стыла в жилах. Его мать не сомневалась, что всё правильно сделала.
Но сцена, свидетелем которой стала Бриджит, каким-то образом отличалась от этого. Мы пытались проанализировать, что нас так обеспокоило. Мы все привыкли защищать бихевиористическую терапию от нападок недоброжелателей; и вот теперь мы сами были возмущены поведением того парня.
– Это из-за того, что он только встретил ребёнка, – сказала Бриджит. – Он не провёл анализа причины плача ребёнка. Было ли это сопротивление заданию? Был ли это страх? Было ли это стремлением привлечь внимание матери? Он не провёл бихевиористического анализа.
Бриджит часто объясняла мне, что первым шагом к тому, чтобы научить ребёнка самоконтролю, был подобный поиск причины его поведения. Следующий шаг (до применения физического наказания) – это попытаться добиться послушания ребёнка с помощью какого-либо другого способа: может быть хвалить его за то, что он успокаивается; может быть игнорировать плач и продолжать работать над заданием, используя различные виды поощрения для того, чтобы задание было выполнено. Но ничего этого не было в эпизоде, описанном Бриджит. Вместо этого применялся военно-командный метод: прийти, силой усадить ребёнка на стул и, как выразилась Бриджит, «словесно побить его».
Я обескураженно помотала головой. Это была другая крайность. «Настоящий мачо, – вздохнула я. – Если он на самом деле думал, что необходимо подавлять плач сразу, не испробуя никакого другого способа, то зачем кричать на ребёнка? Почему он не мог твёрдо сказать: «Не плачь»? И он, наверняка, убедил родителей, что они будут рохлями(?), если будут протестовать. – Родители сидели и смотрели, напуганные не меньше, чем ребёнок. Несмотря на то, что мы были благодарны доктору Ловасу за то, что он опубликовал свою работу, мы не следовали его указаниям слово в слово. Были случаи, когда нам надо было полагаться на свой здравый смысл. В книге “The Me Book” приводится следующая программа по обучению ребёнка говорить «да» и «нет».
Выберите две привычки, одну, которую ваш ребёнок однозначно любит, и другую, которую он не любит. Например, вы можете задать ему подобный вопрос: «Хочешь конфетку?» Ему противопоставляется вопрос: «Хочешь, я тебя нашлёпаю?» Задайте один из этих вопросов, а потом подскажите ребёнку правильный ответ… (Здесь приводятся более специфические инструкции о том, как уменьшить количество подсказок, и как увеличить набор указаний).
Возможно, было бы полезно дать ребёнку понять, что происходит, когда он верно отвечает на вопрос и когда ошибается. Так, если ребёнок отвечает «да», когда вы спрашиваете: «Хочешь я тебя нашлёпаю?», то можно легонько шлёпнуть его (только чтобы почувствовал небольшой дискомфорт). Вы можете помочь ребёнку сформулировать правильный ответ, сильно преувеличивая свои жесты, когда спрашиваете «Хочешь я тебя нашлёпаю?» Например, поднимите руку так, чтобы ребёнок понял, чем это грозит ему…
Когда Бриджит использовала эту программу в занятии с Анн-Мари, она поставила перед ней вазочку с мороженым и миску со шпинатом и спросила, что она хочет, подсказывая ей «да» или «нет», постепенно уменьшая подсказки и задавая эти два вопроса вразнобой. Наградой за правильный ответ была похвала или ложечка мороженого. Следствием неправильного ответа было, очень просто, отсуствие похвалы: тишина.
Несомненно доктор Ловас знает об аутизме больше, чем я. Ему пришлось иметь дело с наиболее тяжёлыми случаями аутизма: с детьми, склонными к саморанению и к самостимуляции, хронически замкнутыми детьми. Причём не только с детьми, но и с подростками и взрослыми. Вполне вероятно, что некоторые программы, предложенные в книге Ловаса, которые показались нам с Марком слишком грубыми, были эффективны для других детей, в других ситуациях. Я сама разговаривала с парой родителей, которые рассказали мне, что не могли приучить свою пятилетнюю дочку ходить в туалет, пока не применили программу Ловаса в “The Me Book”. Я снова хочу подчеркнуть тот факт, что Анн-Мари была очень маленькая, её болезнь возможно не зашла настолько далеко, как у четырёх-пяти летних детей.
Доктор Ловас сам однажды сказал мне, что ничего не надо принимать за абсолютную истину: кажадая терапевтическая программа нуждалась в постоянном приспособении и частом переосмыслении по части терапевтов и родителей.
И именно поэтому я против использования физических наказаний, без попытки применить какой-либо другой способ. Меня раздражают терапевты, которые уделяют больше внимания крику, чем похвале; кричат «Нет!» при каждой ошибке ребёнка; наказывают за каждый промах при обучении ходить в туалет. Ничего не является прописной истиной. Здравый смысл необходим, как и гуманность, мудрость, терпение.
Граница между твёрдостью и грубостью очень тонкая, и полагаю, что каждый определяет сам для себя, где пролегает эта граница. Но есть такие бихевиористические терапевты, которые, на мой взгляд, переходят эту границу. Есть терапевты, которые невозмутимы и сильны перед лицом припадков, а есть терапевты, которые нагнетают страх на ребёнка, и которые применяют запугивание, как основной метод. Конечно можно сказать, что цель оправдывает средства, но чаще всего нельзя заранее знать, что эти средства приведут к наилучшему результату.
Постепенно, по прошествии времени, Марк и я поняли, как отбирать то, что работало, как учиться от тех, кто мог нас научить, и как, наконец, доверять нашему собственному инстинкту и здравому смыслу.
Глава 25
Если не считать огорчения и гнева, вызванных фиаско фильма о терапии объятия, весна 1989 года была для нас временем отдыха и спокойствия.
Борьба за Анн-Мари продолжалась, но основные трудности остались позади. Теперь она училась сама: нашей же задачей было следить за тем, чтобы учёба была интересной. Она больше не впадала в продолжительные истерики с плачем и брыканьем. Наше место было скорее за ней: подтолкнуть здесь, подсказать там, придать ей нужное, на наш взгляд, направление.
Даниэль был постоянным участником игр Анн-Мари. Дома у меня стало выдаваться больше спокойных минут для отдыха. Когда я слышала, что дети заняты чем-то друг с другом, я знала, что нет необходимости следить за ними. Для Анн-Мари настал тот момент, когда Даниэль стал понимать её речь, и она тоже понимала его. Меня всегда восхищало то, как маленькие дети – трёх, четырёх, пяти лет – умеют приспосабливаться к более простому уровню в разговоре с совсем маленькими детьми. Я часто наблюдала за тем, как Даниэль играл с сестрой и слушала его терпеливые простые объяснения довольно сложных игр, которые он изобретал сам. «Анн-Мари, ты держишь эту куклу-дочку. Я иду к мишке-папе». Я смотрела на них и невольно благословляла сына. Если бы он только знал, как он помогает своей сестрёнке.
В детском саду она не отставала от своих сверстников в отношении развития, учёбы и роста. Несмотря на то, что и сейчас она могла иногда быть рассеянной и замкнутой, она также могла быть оживлённой и дружелюбной. Можно сказать, что к марту-апрелю 1989 года она больше не выделялась среди своих сверстников. Я думаю, что если бы кто-то решил проанализировать частоту и продолжительность её зрительного контакта, то он бы пришёл к выводу, что она всё ещё отстаёт от нормы, но об этом могли знать только мы, а постороннему человеку это бы не пришло в голову.
Её язык день ото дня становился всё более творческим, предложения становились длинее, вопросы – сложнее, например, «Куда пошла Энни?». А также он отличался большей спонтанностью. Однажды, когда я забирала её из садика, она сама, без подсказки рассказала мне, что делала утром. «Тебе понравилось сегодня в садике? – спросила я. – Да, – ответила она. И после паузы добавила, – я сделала куклу».
Я проверила это с Энни. В то утро группа действительно делала бумажных кукол. Анн-Мари стала чаще говорить об абстрактных понятиях и о том, что не присутствовало в данный момент. (?)
В мае 1989 Робин, Бриджит и я гадали, насколько мы приблизились к цели, насколько язык Анн-Мари теперь отличался от нормы.
Мы решили проконсультироваться со сторонним профессионалом. Марджери Раппопорт считалась хорошим специалистом в области речи и языка. Мы обратились к ней с просьбой оценить язык Анн-Мари с целью узнать объективное мнение о слабых местах или недостатках речи. Ко времени этой консультации, в июне, Анн-Мари было три года и три месяца. Мы рассказали Марджери об истории девочки.
Поскольку на этом этапе недостатки и слабые места заметны только в очень специфических областях, нам было очень важно узнать анализ Марджери по коммуникативным способностям Анн-Мари. Больше всего нас интересовало, было ли у Анн-Мари просто «отставание» в языке или «расстройство».* * Специально для этой книги я попросила Марджери сформулировать, в чём разница между языковым «отставанием» и «расстройством». Она пишет:
«Языковое отставание: речь ребёнка с отставанием в языке обладает характеристиками языка детей более младшего возраста. От такого ребёнка следует ожидать полноценной нормально развитой речи, но характерной для языкового уровня более младшего возраста.»
«Языковое расстройство: ребёнку будет поставлен диагноз языковое расстройство в случае, если в его речи будут замечены нехарактерные черты или если в речи будут отстутствовать определённые языковые навыки. [Курсив автора]. У ребёнка могут быть отрывочные языковые-речевые навыки (в том числе навыки, приемлимые его возрастному уровню в определённых областях), наряду с нехарактерными чертами, или отсутствием некоторых черт. Именно эта нетипичность, нехарактерность указывает на наличие расстройства. Примером симптома языкового расстройства может служить дисномия – затруднение в употреблении слов, знакомых говорящему. Этот симптом встречается у детей как с большим, так и малым словарным запасом. Эхолалия – это ещё один симптом, который в случае, если затягивается, то также является признаком языкового расстройства. Мгновенная эхолалия (Immediate echolalia) считается коротким периодом развития у нормально развивающихся детей. Если явление затягивается, слишком бросается в глаза или если происходит с большим опозданием (повторение фраз или слов, услышанных несколько минут или часов назад), то эхолалия считается признаком языкового расстройства. Отсутствие некоторых «прагматических способностей» – например, способности употреблять слова в соответствии с контекстом, – также является симптомом расстройства. Родителей может сбить с толку большой словарный запас ребёнка и использование правильных грамматических форм; необходимо обращать внимание на приемлимость их языка, а не только на структуру. Ещё одной характеристикой языкового расстройства может быть отсутствие нормального зрительного контакта. Неспособность усвоить и использовать приемлимую мелодику речи тоже является характеристикой языкового расстройства.
Наблюдения
Анн-Мари без особых усилий отделилась от матери и была легко вовлечена в оценочный процесс. Она – симпатичная девочка, легко контактирующая, немного робкая, внимательная. Зрительный контакт – хороший, но немного редкий для её возраста. Анн-Мари с удовольствием принимала участие во всех процедурах. Она улыбалась, смеялась и радовалась, если находила что-то интересное в кабинете или во вспомогательных материалах…
Язык
Экспрессивный язык Анн-Мари характеризовался предложениями, состоящими из четырёх-шести слов. Максимальным количеством слов в предложении было десять (Мальчик играет с мячиком и с барабаном и с машинкой). Среднее количество слов в предложении у ребёнка трёх лет и трёх месяцев три-четыре слова, так что Анн-Мари в этом отношении была выше нормы… Синтаксис и морфология также были на уровне, соответствующем возрасту… Были замечены случайные отставания: Анн-Мари пропускала артикли… Было хорошо развито употребление местоимений. В речи Анн-Мари встречались сложные предложения с союзом и; потому что часто использовалось ею в начале предложений.
Анн-Мари инициировала много предложений с различными функциональными предназначениями: называть предметы, констатировать факты и ощущения, описывать, подтверждать, приветствовать, возражать, сравнивать, просить предметы и действия, отрицать, отвечать, рассказывать и, в более ограниченной степени, реагировать на просьбы поправить что-то в своей речи. Также были замечены отдельные двусмысленные фразы (У нас две собаки, но только одна собака) и не соответствующие вопросу ответы.
Рецептивный язык был также определён как близкий к возрастному уровню. Анн-Мари была способна понимать просьбы, состоящие из двух этапов и отвечать на различные вопросы, типа что? почему? где? кто? как? и сколько? Иногда ответы не соответствовали вопросам и обнаруживали непонимание. (Вопрос: У тебя есть животные дома? Ответ Анн-Мари: Диван). Был один пример эхолалии. (Вопрос: ты знаешь, что такое «животные»? Ответ Анн-Мари: что такое «животные»).
… Анн-Мари обнаружила навыки общения, варьирующиеся от небольшого отставания до гораздо выше ожидаемых согласно возрасту…
В итоге Марджери сказал нам, что у Анн-Мари не найдено языкового расстройства. Можно лишь сказать, что есть отставания в некоторых специфических областях. Скорее всего, следует ожидать, что эти отставания исчезнут через некоторое время – возможно в течение следующих шести месяцев.
Позже, в том же месяце мы решили показать Анн-Мари доктору Перри. Мы уже решили, что доктор Коэн будет профессионалом, который будет регулярно фиксировать её прогресс через определённые промежутки времени, и мы записались к нему на приём в июле, так что наш визит к доктору Перри был немного излишним, и вообщем-то был больше для нашей пользы, чем для её. Доктор Перри символизировал для нас профессиональную общину, которая была против идеи интенсивного бихевиоризма и не верила в выздоровление. Но так или иначе все врачи, с которыми мы встречались были образованными и трезво-мыслящими людьми. Нам было интересно услышать их реакцию на улучшение состояния Анн-Мари.
Доктор Перри был почти в шоке, увидев, как Анн-Мари лепечет, смотрит на всех нас, улыбается нам, вступает с ним в игру. Он не переставал смотреть на неё в течение всего приёма с выражением изумления и радости. Он казалася по-настоящему рад видеть, что её состояние так улучшилось. Поначалу он молчал, казалось, не мог подобрать слова. Наш последующий разговор проходил в приятной обстановке: он расспрашивал нас о различных видах терапии, применённых нами в ходе лечения, и с интересом слушал нас. В результате мы с Марком нашли, что его оценка, которую мы получили спустя несколько недель, была весьма благосклонной и открытой новым идеям – очень неплохо для психиатра, который когда-то сказал: «Дети-аутисты неизлечимы».
Впервые я оценивал Анн-Мари 18 февраля 1988 года. Тогда моим диагнозом был детский аутизм.
… Моё наблюдение за Анн-Мари началось у дверей моего кабинета. Я увидел, как она стояла между своими родителями и держала их за руки. Она улыбнулась и посмотрела на меня, когда я спросил, как её дела. Она ответила: «Хорошо». Она продолжала толково отвечать на вопросы, когда мы четверо входили в кабинет. В кабинете Анн-Мари стала рассматривать игрушки. Она заинтересовалась докторской сумкой и спонтанно произнесла: «Смотрите, чемодан!» Затем она спросила, было ли что-то в чемодане, а когда открыла его, то при виде содержимого сказала: «Ого!» Я спросил её, для чего нужет стетоскоп, и она ответила: «Для животика». Позже Анн-Мари играла с плюшевым медвежонком и игрушечной собакой. Когда она держала в руках игрушку, я спросил, был ли у неё дома плюшевый медвежонок, и она ответила, что был, и что «его зовут Банни». Затем моё внимание переключилось к мистеру и миссис Морис, а через несколько минут разговора с ними, я посмотрел, чем занималась Анн-Мари, и увидел, что она что-то строила из кубиков. Когда я спросил, что она строила, она ответила: «Я делаю домик для собачки». Под собачкой она подразумевала игрушечную собаку. В какой-то момент я дал девочке бумагу и карандаш и попросил что-нибудь нарисовать. Она нарисовала человечка, и сказала, что это её папа. Рисунок был на хорошем уровне относительно её возраста. На нём были глаза, нос, рот, очки, волосы, уши, руки и ноги. Под конец приёма я спросил Анн-Мари, не хочет ли она поиграть с домиком для кукол. Оказалось, что она помнила, где он находился, и подошла к полке, чтобы достать его. Анн-Мари разыграла сцену, в которой мама и папа ждали своего ребёнка. Пришёл ребёнок и поцеловал маму. Потом Анн-Мари поставила стол и стулья, и семья села есть жареный картофель и «ницели» (шницели). После еды семья поиграла и пошла спать.
Итак, свои впечатления я могу описать следующим образом: на мой взгляд Анн-Мари очень сильно прогрессировала за прошедшие год и три месяца. Сейчас я бы не поставил ей диагноз детский аутизм. В её языке и игре не было и знака того, что указывает на заболевание.
Я заметил несолько остаточных признаков аутизма. Я хотел бы подчеркнуть, что если бы я не был знаком с предисторией Анн-Мари, то, вероятно, не обратил бы внимание на эти признаки. Несколько раз Анн-Мари употребила в ответе те же фразы, что звучали в вопросах. Одно предложение было вопросом: «Как эти называются?» Ещё одним вариантом ответа на вопрос было: «Не знаю». Речь Анн-Мари была чуть слишком песенной. Наконец, в двух случаях – один раз, когда я играл в мячик с Анн-Мари, а в другой раз мы играли в куклы – она быстро переходила к своему предыдущему занятию до того, как я успевал заинтересовать её.
Учитывая то, что я только что указал, мистер и миссис Морис рассказали мне, что терапевт, занимающийся с Анн-Мари, недавно работал с девочкой над тоном голоса. Также, когда я спросил родителей, не замечали ли они ещё каких-нибудь остаточных явлений у дочери, они сказали, что это «не очень серьёзно», но у Анн-Мари «есть тенденция спать наяву». Это как раз касается того, что я наблюдал, когда Анн-Мари отдалилась от меня во время совместной игры.
Указанное выше не должно затмевать огромный прогресс ребёнка. В моей личной практике с детьми-аутистами я никогда не сталкивался с тем, чтобы за период меньше, чем полтора года, состояние ребёнка настолько улучшилось, что ему больше не соответствовал диагноз аутизм…
Насколько я понимаю, миссис и мистер Морис собираются продолжать терапию до тех пор, пока есть такая необходимость. Стоит надеяться, что в определённый момент Анн-Мари можно будет описать не только как невыделяющуюся среди своих сверстников, но просто как нормального ребёнка.
Мы с Марком полагали, что этими «остаточными явлениями» были те признаки, которые мы до сих пор иногда наблюдали у Анн-Мари. Но это нас больше не беспокоило. Тон её голоса уже почти соответствовал нормальному; её «сон наяву» уменьшился за полтора года и продолжал уменшаться; спонатнные и оригинальные выражения преобладали над повторяемыми фразами. Время об этом позаботится. В сущности, наша дочка стала нормальным ребёнком.
Глава 26
В месяц повторного посещения нами доктора Перри, в июне 1989 года, Мишелю было восемнадцать месяцев. Его язык развивался не очень быстро. Он говорил только несколько отдельных слов. Если ему чего-то хотелось, то он часто предпочтал кричать, чем подойти или указать на желаемый предмет.
Когда я писала эту книгу, я специально нашла видеозаписи, сделанные в октябре 1988 года и позже, в декабре на его первом дне рождения.
Пытаясь увидеть начало.
Что я вижу, оглядываясь назад? Можно ли было вообще что-то увидеть тогда, так рано?
На октябрьской записи я вижу десятимесячного малыша, делающего свои первые шаги. Большие карие глаза смотрят прямо в камеру; толстенькие ножки расставлены слишком широко, чтобы удержать расновесие; он раскачивается из стороны в сторону, и хлоп! Он падает на свою упитанную попку.
Я вижу слёзы и хныканье, но я также вижу улыбки.
А вот ему годик. Я вижу, как малыш кушает шоколадный пирог и, как заправский шалунишка, рвёт праздничную бумажную скатерть перед собой. Теперь он на полу, идёт ко мне, на этот раз уже более уверенно. Его руки широко раскинуты в стороны. Он улыбается.
Мой голос на кассете со смехом зовёт его: «Иди ко мне, сладкий! Иди к мамочке! Молодец! Давай!» Я гордо объявляю в камеру, что ему уже год, он ходит и кушает с помощью вилки, и даже говорит! – у него есть одно слово: «нет».
Я смотрю эту запись и вспоминаю, как перечисляла все эти достижения. Я помню побуждение, скрытое за моими словами: в который раз убедить саму себя в том, что с ним всё в порядке. Всё идёт по плану. Всё замечательно.
Я хотела добавить, что он также говорит «мама» и «папа», но сама себя остановила. Я слышала от него «мама» и «папа» только пару раз, когда ему было около десяти месяцев.
Я вижу ещё кое-что на октябрьской записи, сделанной во время прогулки в парке. Наш друг взял Мишеля на руки, стал что-то ему говорить, пытался добиться, чтобы он помахал ручкой в камеру. Мишель абсолютно не реагировал.
Так что? Он был таким крошкой. Он не должен реагировать на каждую попытку поиграть с ним 100 процентов времени. Он есть, спит и хорошо растёт. Он что-то лепечет, смотрит, ходит и улыбается. И в один год, у него есть одно слово.
Но я вижу ещё что-то.
Я замечаю, что в октябре и декабре 1988 года мне приходилось звать его по три-четыре раза, чтобы добиться его взгляда.
Но он так отличался от Анн-Мари в этом возрасте. Она была такой замкнутой, он же был дружелюбным. Он протягивал ручки вверх, чтобы его подняли. Он смеялся и улыбался. У него был прекрасный зрительный контакт.
Понимал ли он язык? К моменту, когда ему было восемнадцать месяцев, это всё чаще становилось предметом нашего обсуждения. Казалось, что он понимал некоторые фразы, например, «время купания», «иди сюда», «сядь».
Но проходили дни и месяцы. Если бы его речь сделала внезапный скачок вперёд, нам бы не пришлось думать об ужасной возможности, что он аутист. Нам просто надо было подождать, пока ему исполнится тридцать месяцев, и тогда мы будем вне опасности. – Бог в своей мудрости решил одарить меня поздно говорящим ребёнком, – сказала я своей сестре Дебби. – Почему? – Я не знаю. Но мне кажется, что с ним всё в порядке, насколько я могу судить: ведь я его так редко вижу.
– Мне тоже кажется, что всё в порядке. Я могла бы перечислить все хорошие и все плохие признаки, но я думаю, что так происходит со всеми восемнадцатимесячными детьми. – Да… а какие плохие признаки? – Ну… он немного ходит на цыпочках. И у него есть свои причуды. А ещё он не проявляет интереса ни к кому, кроме меня и своего отца… – Гм… я не знаю. В восемнадцать месяцев трудно что-то сказать. Никто, включая нас, не хотел так рано решать, что с ним всё хорошо, или что он, напротив, потенциально нездоров. Я вспомнила длинный период неведения с Анн-Мари, и в сотый раз пожелала, чтобы существовал что-то вроде анализа крови, какой-то способ выявления аутизма на очень ранней стадии.
Мы провели неделю в Ист Хэмптоне, где познакомились с моей маленькой племянницей Хелен. Хелен была на шесть месяцев младше Мишеля. Она уже ходила, лепетала и указывала на предметы. Точно как Мишель. За исключением того, что Мишель по сравнению с ней не очень много указывал. И Хелен говорила слово, которого не было у Мишеля: «мама».
В июле, когда Анн-Мари было три года четыре месяца мы повели её к доктору Коэну. Прошло около десяти месяцев с тех пор, как он в последний раз наблюдал её. Не планируя заранее, поддавшись мгновенному импульсу, мы взяли с собой и Мишеля.
Опять доктор Коэн, казалось, был в восторге от прогресса Анн-Мари, и он написал похвальный отчёт о том, как далеко она продвинулась в развитии. Наблюдения на видео Интеракция с родителем Было очень приятно наблюдать за интеракцией Анн-Мари с матерью. Когда девочка вошла в комнату, её лицо засветилось от радости при виде такого количества игрушек. Она сразу же подошла к столу и стала играть с ними в соответствии с их назначением (с господином Картошкой; кубиками; куклой). Что касается речи девочки, то большинство предложений были верно сформулированы, а вопросы правильно построены. У Анн-Мари был прекрасный зрительный контакт. Она часто строила предложения и вопросы, состоящие более, чем из пяти слов. Были замечены признаки эхолалии в разговоре, и иногда интонация голоса не соответствовала сказанному. Во время проверки девочка была внимательна и сосредоточена.
Во время интеракции лицом-к-лицу, Анн-Мари рассказала сказку о «злом медведе», который обманул и съел маленькую девочку, а потом описала, как мамочка «убила злого медведя из ружья». Сказка была очень типична для трёхлетнего ребёнка. Интеракция с посторонним человеком Анн-Мари с готовностью общалась с доктором Садхалтер и была очаровательна. Она поцеловала маму и сказала ей «пока», и с удовольствием выполняла все предложенные ей задания. Были очевдны проблемы в произношении: она не выговаривала звук «л». Задания на дополнение предложений выявили необходимость расширить семантический запас Анн-Мари. Например, она не могла закончить такие предложения: «девочка видит рядом с собой…» и «цветок растёт в…». Правда, когда её спросили, кого она любит, она без колебания ответила «мамочку».
…Как и до этого, внимательность была замечательная для трёхлетнего ребёнка, как и зрительный контакт.
Когда миссис Морис снова вошла в комнату, Анн-Мари посмотрела на неё и улыбнулась… Комментарии Анн-Мари продолжает показывать замечательный прогресс. Её стандартный балл находится от среднего и выше, то же самое можно сказать о навыках социализации. Принимая во внимание быстрый темп улучшения состояния девочки и её малый возраст, я полагаю, что она продолжит прогрессировать, и надеюсь, что её коммуникативные навыки также будут улучшаться. Она больше не аутист, хотя всё ещё наблюдаются определённые трудности в речи и языке. Анн-Мари недавно прошла сильную подготовку по развитию речи, что должно помочь справиться с проблемами остаточного характера. В любом случае, мы рекоммендуем продолжать работу над расширением базы знаний Анн-Мари, а также продолжать общение с нормальными детьми. Можно поздравить как Анн-Мари, так и её родителей с этим замечательным переворотом.
Марк не смог полностью разделить триумфальное представление Анн-Мари перед односторонним зеркалом. Мишель так плакал и хныкал, что ему пришлось выйти с ним к коридор и долго его укачивать. Но даже там это кому-то помешало. Какой-то доктор выглянул из своего кабинета: «Уф… будьте так добры, возмите ребёнка в какую-нибудь комнату. Я пытаюсь проводить приём…» Марку пришлось найти свободный кабинет, где он мог посидеть с Мишелем.
Позже, все четверо из нас, Анн-Мари, Марк, Мишель и я, присоединились к доктору Коэну в его кабинете. Мы поделились нашей тревогой по поводу Мишеля, причём уверили доктора Коэна, что это не имеет ничего общего с тем, что было у Анн-Мари. Ничего подобного. Его зрительный контакт, к примеру, был очень хорошим.
– Я могу сделать быструю проверку на нормальность развития, – сказал доктор Коэн. – Вы согласны? – Пожалуй, да, – сказал Марк. – Раз уж мы здесь. За этим последовал ещё один час подробных вопросов из теста Винелэнда о вербальных и невербальных навыках общения, социальном поведении, двигательных навыках, адаптивных навыках и т.д.
Доктор Коэн вышел из комнаты, чтобы проверить результаты.
Он вернулся через пятнадцать минут и сел. Он смотрел на свой стол, перебирал бумаги, вертел в руках ручку.
Ну скажите, что нибудь, пожалуйста! Я чувствовала себя, как пойманное животное: я замерла на своём месте, как будто что-то угрожало моей жизни. – Кажется, – сказал он, тщательно подбирая слова, – что есть почва для беспокойства. Он остановился. Мы с Марком молчали. – Согласно нормам социализации и общения, Мишель сейчас функционирует с отставанием на шесть месяцев. – Что это значит? – спросил Марк. – Это может значить, что он просто отстаёт в развитии…, – сказал доктор Коэн. – Некоторые дети, – перебила я, слишком часто дыша, – некоторые дети не говорят до двух лет. – Сколько раз я слышала эту фразу от других и произносила сама? Сколько раз, ещё до того, как Анн-Мари поставили диагноз, я искала людей, которые сказали бы мне эти слова? – Мишель находится в пределах нормы, – сказал доктор Коэн. – Но он находится на границе? – спросил Марк. – Да, – сказал доктор, – на самом краю. – Он – аутист? – На данный момент он не выглядит, как аутист, – сказал доктор Коэн. Всегда присутствовал этот тщательный подбор слов. И почему бы ему не быть? Одно слово – и мечты разбиты. Мир становится слишком тесен, и будущее кажется мрачным.
– Я не достаточно наблюдал его, чтобы сказать что-либо более определённое. Не спускайте с него глаз. Многое станет ясно в течение следующих месяцев.
Мы поехали с детьми домой. Я позвонила Робин, затем Бриджит. Я не могла выбросить это из головы. Я впала в панику. – Он – не аутист, Кэтрин, – сказала Робин. – Я не вижу в нём аутизма, – сказала Бриджит. – Он не болен, любовь моя, – сказал Марк. – Нет, нет и ещё раз нет. Он взял Мишеля на руки. Ребёнок изогнулся, но сразу успокоился в руках своего отца. Марк поцеловал его в обе пухлые щёчки. «Папочка любит тебя, знаешь, Мишель? Скажи маме, что с тобой всё в порядке». Мишель потянулся ко мне. «Видишь? С ним всё отлично. Я знаю это. Просто надо дать ему пару месяцев».
Тем вечером мы пошли в ресторан с нашими друзьями – Артом и Эвелин. Как и мы, они были американо-французской парой. Они ждали третьего ребёнка. Они были в числе наших самых близких друзей. Эвелин работала вместе с Марком в области банковских интвестиций.
Разговор начался с обсуждения о работе и о городе, но вскоре неизбежно перешёл на детей. К своему смущению, я снова не выдержала – я смотрела на затуманившееся стекло бокала с вином, и пыталась взять под контроль панику, охватившую меня.
Арт и Эвелин были любящими и заботливыми людьми. В течение следующего часа мы говорили об их сыне Эрике и сравнивали его с Мишелем. Эрику был на месяц меньше, чем Мишелю, и он, как и Мишель, говорил только пять-шесть слов. Эрик также не говорил «мама».
К концу ужина, мне дышалось легче и веселее. Марк обнял меня одной рукой, и я откинулась назад, ища его силу. Всё будет хорошо. Мы просто слишком сильно беспокоились из-за того, что произошло с Анн-Мари. Было очень мало шансов на то, что это случится и с Мишелем. Что мне сказал доктор Римлэнд? Вероятность того, что в одной семье будут два ребёнка-аутиста 2 процента?
Но в течение следующих месяцев, все мои действия диктовались одной навязчивой идеей: убедиться в том, что с Мишелем всё в порядке. Я снова стала заговаривать с незнакомцами в парке, пытаясь найти ответ на вопрос, который, как кошмар, не давал мне спать по ночам: что является нормой?
Я видела мать, играющую с маленьким ребёнком, который, казалось, был одного возраста с Мишелем. Как ни в чём не бывало, я подходила к ней. – Какая прелестная малышка, – улыбалась я. – Спасибо. – Её около двадцати месяцев? – Да. – Гм. Моему мальчику на месяц больше. – О, да. Я вижу его. Он высокий для своего возраста. – Да. Удивительно, насколько они отличаются друг от друга, даже дети одного возраста! – Это точно. – Мой сын почти не говорит. Скорее всего он из поздноговорящих детей. – Да. Это очень часто встречается. – Да, я знаю. Как у вашей дочки с языком? – Она забрасывает меня словами! Каждый день она произносит что-то новое. Как раз в этот момент, девчушка подошла к нам и сказала: «Мамочка. Хочу шарики». – Ты хочешь надувать шарики? Конечно, радость моя. Я почувствовала выброс адреналина. – Вы знаете, что говорят о маленьких девочках, – засмеялась я. – О, да. Они всегда начинают говорить раньше мальчиков. – О-па. Извините, пойду подниму его. До свидания! Весело и бодро я ушла с игровой площадки, неся плачущего Мишеля. – Если я правильно прочитаю сценарий, – сказала я сама себе, – если я верно прочту свои строчки, то всё будет хорошо.
Постоянное сравнение с моей племянницей Хелен тоже шло не в нашу пользу. Даже в имитации, двигательных и адаптивных навыках она была выше Мишеля на голову: она уже пила из чашки, спускалась и поднималась сама по лестнице, держась за перила, даже что-то там лепетала в игрушечный телефон. Когда бы я не взглянула на неё, она всегда была в хорошем настроении. Мишель делал всё это далеко не так хорошо, как она, а ведь ей было всего шестнадцать месяцев!
Снова на свет были вытащены книги. Дело было плохо. Я не находила его ни в одной из этих книг, ни в одном раслывчатом описании.
Что нормально в отставании развития речи, а что нет?
Я отправилась в университетскую поликлинику с Даниэлем, у которого была простуда. Доктор Бакстер был в отпуске, и нас принял его коллега. – В вашей практике были поздноговорящие дети? – вырвалось у меня. – Разумеется. – Не могли бы вы мне сказать, насколько поздно они начинают говорить? Когда же в результате они начинают сочетать слова? Мой второй сын до сих пор говорит всего несколько слов, а ему уже двадцать-один месяц.
– Я не знаю, смогу ли конкретно ответить на ваш вопрос. Хотя, одно можно сказать точно: на этом этапе дети в начале понимают гораздо больше, чем говорят. – Может быть у Мишеля не всё в порядке. Я не знаю, сколько он понимает. – Скорее всего, он просто немного отстаёт. Он догонит. – А как можно узнать, есть проблема или нет? Может быть есть проблема? – Ну хорошо, хорошо, у него есть проблема! Вы говорите о ребёнке, которого я в глаза не видел!
– Извините. Вы знаете, его сестре был поставлен диагноз аутизм, потом она выздоровела, а сечас я начинаю беспокоиться за сына… – Его сестре…? Был поставлен диагноз…? Иногда диагнозы ставятся неверно, знаете. – Диагноз не был ошибочен! Она вылечилась от аутизма. Доктор Ловас лечит детей от аутизма! Вы что, не читали о нём?
Я уже почти начала длинный рассказ о статье доктора Ловаса, когда я поняла, что в глазах этого врача я выгляжу сумасшедшей, перескакиющей от простуды Даниэля к «проблеме» другого сына, а потом к «выздоровлению дочери от аутизма»; готовой перерезать ему горло, если он скажет, что есть проблема и кричащей на него, когда он говорит,что проблемы нет. А также ожидающей, что он будет в курсе последних исследований в области болезни, которая поражает одного ребёнка в год во всей практике сотен детей.
Я пробормотала извинение и ушла.
Где я могла найти желанные слова?
Язык Мишеля оставался всё тем же: статичным, без всякого изменения. Недели шли за неделями, а в его запасе были всё те же пять-десять слов. Среди них не было ни «мама», ни «папа». Он стал больше кричать и плакать. Стало больше истерик. Он стал много ходить на цыпочках. Он смотрел на меня, но почти не обращал внимания на других.
Однажды я увидела, как он бегал взад-вперёд по коридору, смотря куда-то в сторону. Я последовала за ним. Его взгляд бы прикован к ряду панельных плиток, которые находились на уровне его глаз.
– Всё, хватит! Я подхватила его на руки и посадила его играть со мной. Видите? Он может нормально играть. Посмотрите, как он смотрит на меня. Я делаю для него змеек из пластилина. Он понимает. Ему это нравится!
Кто скажет мне, что с ним всё в порядке? Не доктор Коэн. Но ведь он должен знать такие вещи! Где я могу найти кого-то, кто даст мне ответ сегодня же, сейчас же?
«Наблюдайте за ним в течение последующих месяцев». Нет. Это невозможно. Наблюдайте за своим ребёнком последующие месяцы, и посмотрите не развивается ли у него рак. Это может появиться медленно и незаметно, так что не спускайте с него глаз. Следите за изменениями. Вы знаете, что это за изменения.
Нет, я больше так не могла. Кто-то должен сказать мне, что с ним всё в порядке.
Я поговорила с Робин и Бриджит. Теперь они уже ни в чём не были уверены. – Я должна разрешить этот вопрос. Я больше не могу жить в неведении. Робин связала меня с детским психологом, с которым вместе работала; она считала, что эта врач вполне могла провести компетентную оценку такого маленького ребёнка, как Мишель.
Проверка прошла не очень хорошо. Доктор Пасик старалась, но Мишель был слишком сердит и упрям и отказывался выполнять её маленькие задания. Я прервала приём, не дождавшись до его конца.
Позже она позвонила.
– Я очень извиняюсь, за что мы так ушли, – сказала я. – Но знаете, доктор Пасик, мне кажется, что моя тревога передаётся Мишелю. Я понимаю, почему он не хотел ничего делать: он чувствовал это напряжение!
Я, ярая противница придумывания таких расплывчатых объяснений, сейчас сама была готова прибегнуть к какой угодно причине, даже к «стрессу от окружения», чтобы объяснить поведение Мишеля.
Доктор Пасик не ответила.
– И что же всё-таки вы думаете? – нажимала я на неё. – В смысле, вы же не хотите мне сказать, что он – аутист?
И снова эти тщательно выбранные слова вонзались в меня, как ножи. – Меня беспокоит тот факт, что он ни разу не посмотрел на нас, когда мы звали его. – Он был сердит! Он целенаправленно отталкивал нас! – Возможно. Возможно причина в этом. Позже я поговорила с Робин. – Я не очень высокого мнения о вашей подруге, Робин. Я не уверена, что она достаточно опытная, чтобы работать с нормальными детьми. Всё, что она знает – это патологию, поэтому она видит её во всём.
Робин вздохнула. Она оказалась в неприятном положении. Я знала, как звучали мои слова. В глубине души я сознавала, что накидывалась на любого, кто приносил плохие вести.
У меня появилась идея. «Я знаю, что делать, Робин. Почему бы нам не показать его Марджери Раппопорт? Она знает, что делает».
Тот же самый сценарий с Марджери. Мишель выводит из себя её, меня, игнорирует все её игрушки, не обращает никакого внимания на её замечания и просьбы, хнычет, плачет, отталкивает её руку, ни разу не взглянув на неё.
– Марджери, послушайте. Я заберу его домой. Я извиняюсь. Простите, что потратила ваше время. Он сам не свой. Видимо это от погоды. Он отталкивает нас, потому что чувствует наше напряжение. Пришлите мне счёт за ваше время. Но, действительно, нет необходимости в каких-либо отчётах и записях. (?) С ним всё в порядке. Я в этом уверена. Извините ещё раз.
Только не пишите ничего о Мишеле и не присылайте мне. Я не выдержу этого. Извините.
Мишель.
Куда ты уходишь, маленький человечек? Золотоволосый, кареглазый малыш.
Ну пожалйста… пожалуйста…
Ночью и днём мы не переставали наблюдать за ним. Иногда мы говорили о нём. Иногда- нет. Иногда мы притворялись, что всё было хорошо; в других случаях картина нашей жизни становилась до боли нам знакомой.
Нет. Неужели мы снова идём туда? Мы уже проходили в этом месте раньше? Эти тени страха, эта пещера мрака и горя? Мы не могли вернуться туда. Это было кошмаром. А сейчас день.
Я снова обратилась к Робин и настояла на том, чтобы она провела свою собственную проверку Мишеля.
Однажды вечером после занятия с Анн-Мари она попробовала заинтересовать его своими маленькими игрушками.
Через полчаса она вышла из комнаты и села со мной на кухне. – Он был не слишком дружелюбным, Кэтрин. – Робин, что с ним? – Я думаю… мне кажется, что у него проблемы в коммуникации. И возможно также трудности в социализации. Он настойчиво сопротивлялся даже одному моему присутствию с ним в комнате.
– Коммуникация… социализация…, – я не могла скрыть напряжения в своём голосе. – Робин, мы с вами сейчас говорим об основных симптомах аутизма.
– Я не думаю, что кто-то возьмётся ставить ему сегодня диагноз, Кэтрин. Я даже не знаю…
Не сегодня. Может быть на следующей неделе? Во мне нарастал вопль отчаяния. Сколько это будет продолжаться?
Робин оставила мне почитать кое-какой материал. Мы обе пытались понять, мог ли быть у Мишеля какой-либо другой диагноз. Какое-то другое название, не такое ужасное.
Люди, которые пишут статьи на тему языковых расстройств, проблем коммуникации и учёбы, понимают всю тщетность попытки поставить точный диагноз. Два автора, Фрай и Сприн, решили подойти к этому вопросу с юмором и сочинили следующую методику определения диагноза.
Выберите любой термин из первой колонки; соедините его с любым термином из второй колонки с одним из третьей колонки, и вы получите приемлимый вариант диагноза. Термины, выделенные звёздочкой во второй колонке, могут иногда использоваться отдельно.
1 2 3
Первичное языковое расстройство вторичная лингвистическая неспособность специфическая учебная отсталость минимальная церебральная недостаточность слабая мозговая дисфункция врождённое воспринимающее повреждение developmental (?) визуально-двигательная патология хронический нейрологический синдром детская воспитательная помеха психонейрологическая апазия* проблема функциональная дисфазия* ущербность дислексия*
– Это уж слишком для научной педантичности, – подумала я. Марк посмотрел на список и вычислил, что существует 1,459 возможных вариантов диагноза. К тому моменту я уже могла выбрать любой из них.
В одно воскресенье в декабре мы поехали с детьми на природу в Нью Инглэнд. Мишелю было почти два года. Мы остановились перекусить в Макдоналдсе. Я несла Мишеля на руках. Марк вёл за руку Даниэля и Анн-Мари.
Мишель зашёлся в громком плаче.
Люди глазели на нас. Я села с ним в уголке и попыталась успокоить.
– Малыш. Это мама. Я тебя обнимаю. Почему ты плачешь? Видишь? Всё хорошо. Это всего лишь Макдоналдс. Сейчас мы пойдём кушать.
Но ничего не помогало. Он надрывался от плача, причиной которого были непонятные страх и тревога. – Любовь моя. Пожалуйста. Не плачь. Смотри, вот папа. Вот Анн-Мари. Вот Даниэль. – Не плачь, Мишель, – сказал Даниэль. – Не пвачь, Мише, – сказала Анн-Мари. Мишель не реагировал. Казалось, он не слышит нас. Его глаза с отчаянием блуждали вокруг, вправо и влево, но не останавливались на нас. Нас не было там с ним.
Я резко поднялась. – Я вернусь с ним в машину, – сказала я Марку. – Я подожду вам там. Я унесла его в машину. Вокруг нас кружились последние осенние листья. Было холодно. Я укачивала сына, а он всё плакал и плакал.
Испуганно, безнадёжно его глаза метались направо и налево. Они никогда не останавливались на мне.
Ещё кто-то в машине начал всхлипывать.
Я обвила руками своего потерянного мальчика и во второй признала правду, сотрясаемая болью этой правды. – О, Боже. Неужели опять? Только не мой Мишель.
Глава 27
Мне было необходимо время, чтобы сжиться с этим знанием.
Мне надо было сделать несколько не очень приятных вещей.
Прежде всего, я должна была сказать об этом Марку.
Марк – такой оптимист, такой весельчак. Он отказывается поддаваться беспокойству, пока это не становится необходимостью.
Главная его ценность – это семья.
– Где бы я был без вас? – часто спрашивал он. – Кем бы я был? Я знаю. Белым воротничком в возрасте, женатым на собственной работе, который возвращается домой к холодному ужину и холостяцкой квартире!
– Декорированной в характерных мужских цветах: голубом, коричневом и бежевом. Только представь, сколько бы у тебя было тишины и спокойствия. – Да, слишком много тишины и спокойствия. Марк уже строил грандиозные планы насчёт детей: «Когда-нибудь у меня будет лодка. Я возьму их на лодку, и они будут членами команды. Им понравится! Ты можешь остаться дома, – милосердно предложил он, – я же знаю, что ты ненавидишь лодки.
– Я ненавижу лодки. Я просто не люблю проводить две недели в раскачивающемся отеле, в котором нет ни горячей, ни холодной воды.
Он не обращал на меня внимания и продолжал. – Значит так. Мальчики будут матросами, а Анн-Мари будет судовым поваром. – Шовинист! – Ну хорошо. Анн-Мари будет матросом, а Мишель будет поваром. – Мишель будет скучать по своей мамочке. – Ну вот видишь? Тебе придётся тоже поехать. Я не оставлю Мишеля. Фотографии всех троих детей были повсюду в оффисе Марка. Он хвастался каждым их достижением и успехом, от первой улыбки Даниэля до первых шагов Мишеля. Он был уверен, что они все закончат с красным дипломом Йельский университет и пойдут завоёвывать мир. – А ты будешь так же восхищаться ими, если они будут двоечниками в школе? – Конечно. Марк с таким энтузиазмом говорил о детях, что на нескольких приёмах-коктейлях мне пришлось напомнить ему, что среди пленённой им аудитории молодых компаньонов и вице-президентов было несколько одиноких людей, которые начинали выглядеть скучающими. – Марк, перестань хвастаться о нас. Людям это неинтересно. Он только смеялся. – Мне это интересно. Они – мои дети, и они прекрасны. Но больше, чем будущее, настоящее давало Марку радость. Всегда замкнутый и осторожный в своих чувствах, в отцовстве он нашёл выход своей нежности. Ему нравилось направлять и оберегать их жизни. Поначалу, когда Даниэль только родился, это было странно для него, но вскоре он привык обнимать и прижимать к себе детей, когда им было страшно или, когда они болели. Впервые, когда ему удалось успокоить плачущего Даниэля, после того как он час укачивал его, положив головку сына себе на плечо, он вернулся с улыбкой триумфатора.
Когда Мишелю было примерно тринадцать-четырнадцать месяцев, он был главным среди группы встречающих своего отца. Если Марк приходил домой достаточно рано, то Мишель испускал крик радости, едва услышав, как ключ поворачивается в замочной скважине. Он шёл по коридору, переваливаясь на своих пухлых ножках со скоростью девяносто миль в час, наваливался на колени отца, чтобы одарить его своим детским медвежьим объятием.
После напряжённого рабочего дня, полного решающих встреч, постоянного движения в его оффисе, двадцати-тридцати телефонных сообщений, все из которых требуют срочного ответа, клиентов с запросами и воинственных коллег – Марк таял от такого проявления сыновней любви.
Улыбка Мишеля лучилась радостью. Его руки обвивали колени отца. Его голова была откинута назад, чтобы смотреть на своего обожаемого папочку.
Марк брал его в охапку, и они смеялись друг с другом.
Но это было… как давно? Сейчас Мишель даже не поднимал головы, когда его отец приходил домой.
Однажды вечером, через неделю после истории с «Макдоналдсом», Марк нашёл меня в спальне, сидящей на кровати, ничего не делающей. – Что случилось, Кэтрин? Ты такая грустная. – Это из-за Мишеля. – Я знаю, что ты за него беспокоишься… но мы столько об этом говорили… Он не подпадает под описание синдрома… он очень общительный
Какое-то время я смотрела на пол.
– Марк. Он не почти не смотрит на меня сейчас. Он стал меньше говорить свои слова. Я думаю… возможно он теряет некоторые слова.
Марк ничего не ответил. В воздухе повисло напряжение. Я аккуратно вставляла слова в пространство, разделяющее нас.
– В другой раз, Марк, я взяла его на руки. Я достала бутылочку. Я знала, что он хочет пить. Я сказала «ба-ба». Я, должно быть, повторила это не менее двадцати раз. – А он? – спросил Марк. – Он уставился мне в глаза. Казалось, что он просто не понимает, чего я от него добиваюсь. Он пытался добраться до бутылки, но не мог сказать ни слова.
Я остановилась. Глубоко вздохнула. И продолжила. – Он говорил это слово. Это было одним из его слов. Марк сел рядом со мной и ждал, пока я продолжу. – В конце концов, мы оба стали плакать. Марк стал бледным. – Нам наверно стоит позвонить доктору Коэну. И доктору Де-Карло. Нет? – Я тоже так думаю. Эти мысли были невыносимы. Опять тащить Мишеля на эти ужасные, жуткие проверки. Слышать эти слова. Хороший конец истории Анн-Мари нисколько не облегчит нам боль от слов: «Он – аутист». Прощай, Мишель. Прощай, мечта о идеальном ребёнке, благословлённом малыше. Прощай, не успевший расцвести и войти в жизнь человечек. Он тоже ускользает от нас. Для него наступало не светлое утро, а тёмные сумерки.
Я встретила одну мать, Диану Мейер, в детском саду Анн-Мари. Диана стала одним из тех, людей, кому я могла довериться. Она была врачом в больнице Нью-Йорка и привыкла каждый день иметь дело с болезнью и травмой; её ум и чувствительность были бальзамом для моего истерзанного духа. Она слушала так хорошо, с такой внимательной симпатией, что ей удалось максимально восполнить недостаток понимания, с которым я сталкивалась повсюду.
Я позвонила ей.
– Диана. Мне нужна помощь. Я должна показать Мишеля кому-то и получить чёткий ответ на всё это. – Расскажи мне. Позволь мне помочь. Я высказала свои критерии. Во-первых, я хотела врача, которого мы не знали, и который не знал нас. Я не хотела вести его к доктору Де-Карло или доктору Коэну, так как боялась, что раз они видели Анн-Мари в самом худшем её состоянии, это помешает им поставить положительный диагноз Мишелю. Но более того, я испытывала безотчётный страх перед сценами диагноза. На примитивном, нерациональном уровне я хотела избежать этого. Я всё ещё отчаянно искала чего-то-другого.
Во-вторых, я хотела профессионала, который работал как с больными, так и со здоровыми детьми. Я всё ещё питала надежду, что сын может просто отставать в развитии речи.
В-третьих, я хотела человека, который бы не стал говорить со мной, как с десятилетним ребёнком. У меня не было время на этих «экспертов», которые смотрят на всех сверху вниз.
Чудо, но Диана нашла подходящего человека. Доктор Мариан Гершвин имела обширный опыт работы с различными типами детей: нормально развивающимися детьми с проблемами в эмоциональнои плане, детьми-аутистами, детьми с отставанием в языке.
Спустя несколько дней доктор Гершвин пришла к нам домой.
Я немного дрожала, пока готовила для неё кофе. Ложечка упала на стол. – Я немного нервничаю. – Я знаю. Мы сидели и разговаривали. Мы играли на полу с Мишелем. Даниэль и Анн-Мари входили и выходили из комнаты во время нашего разговора. Так незаметно пролетело три часа.
Доктор Гершвин прошла со мной в гостиную и села. – Я думаю, вы знаете, миссис Морис, не так ли? Я откинулась головой на спинку стула и прикрыла глаза, только на секунду. Я открыла их. – Да. Я знаю. Мы спокойно поговорили ещё довольно долго. Потом она ушла. Позже я должна была получить отчёт, подробный анализ слабых и сильных сторон Мишеля. Диагноз: предположительно детский аутизм. Марк должен был вернуться домой рано тем вечером. Мне надо было сказать ему. Мишель. Золотой ребёнок. Награда за страдания. Пожалуйста, держись. Страх усиливался. Я накормила детей, искупала их, одела в пижамы. Их маленькие тела были такими совершенными, такими идеальными. Даниэль и Анн-Мари хотели послушать сказку после купания. Я почитала им книжку. Мишель играл со своим паравозиком в библиотеке. Меня била мелкая дрожь. Мишель. Ты улыбался мне в дни, когда я ничего не видела от слёз… Что стало с твоей улыбкой? Марк вернулся с работы. У меня не было иного выбора, кроме как продолжать жить с этим сумасшествием, делать то, что надо было делать. Позволить кричать своему сердцу, и отправиться в страну боли. Я спокойно сказала ему, стоя рядом с ним, а он смотрел на троих играющих детей. Он смешался. Немного. Только на минуту. Он глубоко вздохнул. Затем прошёл в библиотеку и сел рядом со своим маленьким мальчиком. Всё его тело поникло. – Марк, – сказала я. Я едва могла говорить: «Мы вылечим его. Мы можем снова это сделать». Я сама не верила в то, что говорила. У нас уже было одно чудо. Мы не могли получить ещё одно. – Да, – сказал Марк деревянным голосом. Но в его глазах было столько боли. Он начал что-то говорить. Может быть он пытался найти смелые слова, сильные слова, которые поддерживали меня столько раз во время болезни Анн-Мари. Но ничего не получалось. Он сидел возле своего малыша и смотрел на него. Взад-вперёд, взад-вперёд ходил паравозик. Вот он наткнулся на что-то. Мишель, не поднимая глаз, издал нетерпеливый визг. Он схватил руку отца за запястье и потянул её к паравозику. Я увидела, как по лицу Марка пробежала дрожь. Он встал и вышел из комнаты. Я не удерживала его. На следующий день я приняла необходимые меры. Я знала, что делать. Больше не было смысла сопротивляться.
Я позвонила доктору Де-Карло и доктору Коэну и назначила приёмы у обоих врачей.
Я позвонила Бриджит и сообщила ей, что хочу начать терапию для Мишеля прямо сейчас, не дожидаясь, пока будет поставлен диагноз.
– Я приду в пятницу и проведу с ним базисное занятие. Посмотрим, как он будет адаптироваться к структуре программы. – Спасибо, Бриджит. Я позвонила Робин. Она обещала немедленно начать работать с Мишелем, два раза в неделю. – Спасибо, Робин. Сейчас все двигались быстро, принимали решения и перестраивали свою жизнь.
Чувство срочности непрерывно нарастало с момента, когда мы все ещё раз признали страшную правду.
Мы даже не закончили работать с Анн-Мари. Её программа ещё не была завершена. Мы просто прервали её терапию для того, чтобы использовать доступную рабочую силу (?) для Мишеля. У Бриджит и Робин теперь было меньше возможности работать, чем два года назад. Бриджит была особенно занята. Она начала работать над докторатом по психологии, работала на пол-ставки в школе для детей-аутистов, и она не могла обещать мне неограниченное количество часов. Робин разрывалась между частными клиентами и постоянной работой в больнице Маунт Синай.
Я никогда не чувствовала себя в такой в зависимости от двух людей. Где мне снова найти двух женщин, обладающих таким талантом и готовых работать с такой отдачей? Когда, наконец, Бриджит сказала мне, что сможет приходить, по крайней мере в начале, четыре раза в неделю, я была готова кинуться ей не шею.
Планирование и запуск программы далось нам довольно легко, по сравнению с тем, через что мы прошли с Анн-Мари. Мы знали, что делать, и каждый знал, какую роль ему надо играть.
Но ничто не могло подготовить нас к реакции Мишеля.
Первое занятие Бриджит с ним было невыносимым.
Анн-Мари плакала, дрожала и падала на пол. Больше всего она была напугана.
Мишель же впадал в неуправляемую ярость.
Всё, что Бриджит должна была сделать в первое занятие, это расставить перед ним несколько игрушек и попытаться добиться его внимания. – Мишель! Посмотри на меня. Мишель! Мишель начал с того, что сопротивлялся и отталкивал её, но когда он увидел, что она не поддаётся, то стал кричать.
Его ярость усиливалась. Плач перешёл в истерические рыдания. Он стал кататься по полу, взад-вперёд, пиная стулья, отшвыривая всё, что попадалось ему на пути.
Я должна была остаться и смотреть. Я думала, что смогу это выдержать. До этого момента я думала, что могу выдержать всё.
Звук, похожий на стон, вырвался у меня изо рта, когда я смотрела на то, как он катается по полу и бьётся в истерических конвульсиях. Я вышла из комнаты. Я прошла в самый дальний угол квартиры и обняла Анн-Мари и Даниэля. Они что-то говорили мне, но я их не слышала.
Бриджит вышла через пятнадцать минут. – Не могли бы вы войти и немного успокоить его? Я сказала ему, что вы придёте. Я вошла утешить его. Я сидела на полу рядом с маленьким содрогающимся от рыданий тельцем и гладила его. Когда он позволил мне, я взяла его на руки и укачивала его, рассказывая, как сильно я люблю его, как сильно Бриджит любит его. Плач вскоре сменился молчаливыми спазмами и дрожью.
Когда он успокоился, Бриджит вошла в комнату, и всё началось по новой.
Через две минуты крики возобновились.
Всё повторилось на второй день и на третий, и на четвёртый. Он не успокаивался.
Каждый день я мерила шагами коридор. Я не могла оставаться в комнате, как и не могла находиться далеко от неё. Он должен успокоиться. Он успокоится. Так было с Анн-Мари. Так будет и с ним. Так больше не может продолжаться.
И, наконец, он стал успокаиваться. Но то, что последовало за этим, было ещё хуже. Он сидел на стуле, как хотела Бриджит, его маленькие ножки стояли прямо. Его ручки висели по бокам. Он больше не кричал. Он плакал так, как будто его сердце разрывалось. Слёзы текли по щекам непрерывным потоком, но он даже не поднимал руки, чтобы их утереть.
С помощью камеры, установленной на треножнике в углу комнаты, Бриджит записивала всё на видео, чтобы планировать программу и следить за прогрессом ребёнка. По ночам, когда дети уже спали, я смотрела записи с дневных занятий. Но я не могла досмотреть до конца ни одну из них. «Это слишком больно, Марк. Я не могу это выдержать».
Господи Боже, ему ведь всего лишь два года! Почему это происходит? Почему мы должны это делать?
Только одно давало хоть какое-то успокоение: люди Ловаса не раз говорили мне, что именно дети, которые больше всех борются и споротивляются, прогрессируют лучше всех. Самыми трудные пациенты – это безразличные, равнодушные, молчаливые, неподвижные дети.
Мишель боролся с нами всеми силами.
Марк взял неделю отпуска на работе, чтобы хотя бы в начале нашего второго путешествия мы могли поддерживать друг друга. Мы оба были на грани срыва. Я быстро теряла в весе, а моё сердце временами сотрясалось от приступов аритмии. Марк казался до боли грустным. Я хотела успокоить его. Я старалась выглядеть оптимистичной. Но я знала, что дело было не только в обещании того, что Мишель выздоровеет. В независимости от того, будет ли у него второе рождение или нет, какая-то его частичка умирала у нас на глазах.
На 5 февраля у нас был назначен приём у доктора Де-Карло утром, а у доктора Коэна – днём.
Встреча с доктором Де-Карло прошла в спокойной обстановке, а оценка была такой же детальной, как и в случае Анн-Мари. В конце не было никаких сюрпризов. Диагноз доктора Де-Карло был, как мы и ожидали: «детский аутизм». – Я желаю вам удачи, – сказала она нам, когда мы покидали кабинет. Мы молча ехали на Статен Айленд. Необратимый процесс продолжался.
В институте мы ждали в хорошо знакомой нам комнате. Я на минуту вышла с Мишелем в коридор. Обернувшись, я увидела доктора Коэна и доктора Садхалтер, идущих к нам. Их лица были суровы. – Здравствуйте, – сказала я. – Здравствуйте, – их глаза перешли(?) от меня к Мишелю. Я предприняла попытку немного разрядить атмосферу. – Я не могу сказать, – начала я бодро, – что я очень рада вас видеть. – Но мой голос не выдержал шутки и сломался на середине фразы. – Нет, – сказала доктор Садхалтер. Те же тесты, те же вопросы, та же видеозапись. Во время съёмки на видео я посадила Мишеля к себе на колени лицом ко мне и дала всё, что у меня было, чтобы добиться от него зрительного контакта, улыбки, ответной реакции.
Его личико не мгновение просветлело. Доктор Коэн повернулся к Марку, стоя за зеркалом. «Это хорошо. Это очень хороший знак. Он часто это делает?» – Не думаю Я была опустошена. Никто не знал, сколько энергии мне понадобилось, чтобы добиться такого внимания от Мишеля в течение пяти минут. Это было так, как будто я должна была загипнотизировать его. Всё во мне – голос, выражение, взгляд, улыбка, поза тела, положение рук – всё было предназначено для одной цели: удерживать этого ребёнка сосредоточенным на мне, на моих глазах. Более того: сделать это приятным для него.
Диагноз доктора Коэна и доктора Садхалтер: детский аутизм.
По правде говоря Мишель вышел из-под контроля уже тогда в июле, когда мы провели тест Винелэнда, это было семь месяцев назад. Сейчас ему было два года, но в коммуникации и социализации он был на уровне десяти месяцев. Его двигательные и адаптивные навыки остались без изменения.
Его рецептивный язык продолжал ухудшаться, а стереотипный маннеризм усиливался. Его зрительный контакт был спорадическим и неустойчивым.
Он падал в пропасть.
Нам не оставалось ничего иного, кроме как преодолеть горе и начать работу.
Бриджит начала заниматься с ним четыре раза в неделю, но подыскивала специалиста, который бы мог начать работать как можно раньше.
Робин начала с двух занятий в неделю и должна была перейти к трём, когда его языковые навыки улучшатся.
Я делала то же, что с Анн-Мари: следила за ним в течение дня, никогда не позволяла ему заниматься слишком долго чем-то одним, постоянно требовала его внимания., пыталась поощрять и усиливать эффект того, чему его учили Бриджит и Робин.
В течение первых двух недель я занималась с сыном терапией объятия, а потом махнула на это рукой. Я всё ещё считала, что терапия может приносить определённую ограниченную пользу. Она помогает добиться первичного контакта с очень замкнутыми детьми – и то лишь иногда. Один из нескольких методов добиться зрительного контакта; один из нескольких способов на момент «разбудить» некоторых детей. Но разумеется, это не то, на что я бы положилась, чтобы вылечить ребёнка. Это не то, что может научить его всему необходимому. Для этой цели мы будем полагаться только на бихевиористическую программу, речевую терапию Робин и наши собственные знания о том, как заинтересовать Мишеля, как усилить эффект программ, и как силой победить его болезнь. Кроме того, мы с Марком продолжали обнимать, целовать и тискать его, как мы всегда делали, и как мы делали бы с любым нормальным ребёнком.
Диагноз был поставлен и подтверждён. Терапевтическая программа была пущена в ход. Мы все знали, что делать, и мы уже начали это делать.
После недели диагноза, страха и руководства создавшимся военным положенем, Марк вышел на работу. Он немного оправился от шока и горя и теперь потихоньку возвращался к надежде. Я знала, он верит в меня. Все в меня верили. Доктор Де-Карло сказала нечто подобное, и доктор Коэн, и все наши родные и друзья.
– Ты сделала это однажды. Ты сможешь сделать это снова. С такой матерью, как ты, с теми же терапевтами, которые работали с Анн-Мари, у него есть все шансы на выздоровление.
Была только одна проблема: я не верила в выздоровление Мишеля.
Глава 28
Я была так слаба в вере, а Мишель так силён в сопротивлении.
Первый месяц его терапии был кошмаром. Стало очевидно, что он не будет точной копией Анн-Мари. В ретроспективе мы поняли, что они приспособилась к терапии довольно бытсро. Его гнев и сопротивление были в два, в три раза сильнее, по сравнению с Анн-Мари.
День за днём я стояла в коридоре перед закрытой дверью, слушая его вопли. Я молилась, чтобы он успокоился. Я часто опиралась головой о стену и кричала про себя: «Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы он перестал плакать, чтобы он стал учиться, как Анн-Мари!»
Я была сплошным комком нервов во время терапии. Мои разум и душа были с ним, в той комнате, и я не терпела ни малейшей помехи. Я должна была нести этот добровольный караул. Это должно было сработать. Просто должно. У меня не было других тузов в рукаве.
Никому не позволялось ходить или громко играть возле комнаты, где шло занятие. Бриджит вела ежедневную борьбу за внимание и сотрудничество Мишеля, и если она её не выиграет, то мы потеряем сына навеки. Я была в этом уверена.
Однажды во время занятия я находилась в своей спальне, рядом с комнатой терапии. Пэтси была с Даниэлем и Анн-Мари в библиотеке. Мишель всхлипывал, Бриджит пыталась работать с ним, а я ловила всякий звук, исходящий из комнаты, надеясь, что он просто прекратит плакать и начнёт заниматься.
Внезапно я услышала, как дверь его комнаты отворилась.
Я выбежала в коридор. Анн-Мари вошла в комнату терапии.
Я побежала за ней, схватила её на руки и принесла в мою комнату.
– Я же сказала тебе, что никто не входит в ту комнату! Ты меня не слышала? Ты не слышала маму? Отвечай!
Я тряслась от гнева.
Её глаза в шоке уставились в мои, затем её личико сморщилось. Она стала плакать.
Мой гнев сразу же как рукой сняло. Вместо этого мне стало стыдно. Я прижала её к себе. – Прости меня, детка. Пожалуйста прости меня. Прости маму. Я люблю тебя. Она немного поплакала; потом внезапно перестала и высвободилась из моих объятий. Её щёки были мокры от слёз, но она смогла улыбнуться. – Всё в порядке, мама. Это было случайно. Дети умеют прощать нас до конца. В течение того первого месяца состояние Мишеля ухудшилось со многих точек зрения. Я не знаю, как работает аутизм. В особенности в случаях позднего развития болезни, как у моих детей. Я имею ввиду то, что даже если вы изо всех сил атакуете заболевание, заставляете ребёнка слушать, учиться, смотреть, обращать внимание, вы можете увидеть, как возвращаются некоторые слова и улучшается внимание, но вы также будете наблюдать ухудшение. Некоторые составляющие синдрома исчезают, но другие только заявляют о себе. Когда-нибудь какой-то учёный опишет, что происходит на нейрологическом уровне. Большинство случаев аутизма распознаётся только в возрасте трёх или даже четырёх лет, когда симптоматическая картина полностью видна. Нашим детям был поствален диагноз, когда их болезнь начала прогрессировать заметно для нас.
Сейчас Мишель постоянно ходил на цыпочках и хлопал в ладоши. Он напрягал своё тело, тряс головой, подолгу смотрел на предметы, которые держал у края глаза, пытался взглянуть на предмету снизу вверх. У него ежедневно случались припадки, во время которых он кричал и кидаля предметами. Стало очень трудно добиться от него зрительного контакта. Казалось, что у него ещё оставались какие-то основные навыки нормальной игры, как, например, он укладывал куклу спать. Но он делал это только, когда я клала куклу и кроватку в пределах его видимости, а потом моделировала игру вместе с ним.
Он постепенно терял те немногие слова, которые раньше говорил. И он переставал узнавать нас.
Однажды, когда он не взглянул на меня в течение всего утра, никак не прореагировал, когда я вошла в квартиру с Даниэлем и Анн-Мари, и активно старался избежать моего взгляда, когда я сидела с ним на полу, я не выдержала. Я позвонила Марку на работу и просто разревелась.
– Я не могу… Я не могу это больше выдержать… Ничего не получается… Я теряю его!
Я уже ни во что не верила.
Я молилась, но моя молитва звучала, как пустые слова, обращённые к отсутствуещему Бытию.
Когда я бормотала свои молитвы, у меня в голове стоял изевательский смех.
Как ты осмеливаешься?
За кого ты себя принимаешь? Ты уже получила одно чудо – хочешь второе? Это слишком много. Это смешно! Ты думаешь, Бог слышит тебя? Ты думаешь, Бог есть? Ну мечтай, мечтай.
Там, где раньше моё сердце черпало любовь и веру, теперь был только цинизм и страх. – О, Господи! Я верю. Помоги мне в моём неверии! Слова Евангелия поднялись, чтобы защитить меня от этой атаки отчаяния. Это были слова отца мальчика, больного эпилепсией, который умолял Христа давным давно. Это были также слова благородного центуриона, чей сын умирал.
– Господи, я не достоин, чтобы ты вошёл ко мне в дом. Скажи только слово, и мой сын выздоровеет.
Я должна была стать, как ребёнок.
Конечно, я не могла понять смысл всего этого. Кто достоин, а кто нет? Чьи молитвы услышаны, а чьи нет? Почему? Когда я говорю своим детям, что есть Бог, и что Он всех любит, они безоговорочно мне верят. Мог ли мой дух, так сильно сдобренный всевозможными знаниями, вернуться к детской доверчивости, к полноте веры? Могла ли я на самом деле поверить в то, что Бог есть, и что он заботится о нас? Что выздоровеет Мишель или нет, всё равно мир останется в моём сердце?
Это возможно, но не с помощью разумной причины: страх пересилил все причины верить в Бога. Только посредством силы воли, молитвы, такой несовершенной, что она сама себя отрицает. – Господи! Я верю. Помоги мне в моём неверии. Я стояла за дверью комнаты Мишеля, день за днём, день за днём. Я молилась и молилась, а рыдания не прекращались. Это всё, что он делал – плакал. «Потрогай стол, – подсказывала Бриджит, – потрогай стол». Она брала его руку и дотрагивалась ею до стола.
День сменял день, а ничего не изменялось. Сто процентов с подсказкой; ноль процентов – сам.
Господи, дай мне полчаса. Последние полчаса. Сделай так, чтобы он успокоился. Сделай так, чтобы он перестал оталкивать Бриджит. Пусть он перестанет плакать!
Мои руки сжались в кулаки. Я опиралась на стену коридора, слушая своего сына.
Рыдания начинают уменьшаться.
Они прекращаются. Наступает тишина.
Затем Бриджит, радостным голосом. – Ура! Ты это сделал! Ты потрогал стол! Потом другой звук, новый звук: лепет. Тишина, потом снова лепет. И, наконец, я слышу самый сладкий на свете звук. Мишель смеётся. Он смеётся над чем-то, что делает Бриджит. Мой сын смеётся, потому что Бриджит делает что-то смешное.
Я закрываю лицо ладонями. Я трясусь всем телом. Боль и радость сталкиваются во мне волной, которая грозит захлестнуть меня.
Выздоровление началось.
Глава 29
Иногда по дороге вперёд, наш путь казался очень мрачным. У меня была надежда, потом я её потеряла, потом снова приобрела. Однажды мы с Марком смотрели друг на друга и оба думали, наступит ли когда-нибудь конец нашему путешествию по этой пустыне.
Некоторые события запомнились особенно ярко: решающие моменты, минуты тревоги и радости. Было время, когда работа казалась невыполнимой, а решения давались слишком трудно, но также было время, когда мы были уверенны в своих силах. Прошло несколько недель с начала программы Мишеля. Я и он в моей комнате. Мы сидим на полу. Он играет со своим любимым деревянным паравозиком. Я собираю все маленькие машинки и прячу их в подоле своей блузки. Он оглядывается в поисках паравозика. Я показываю ему его на своей ладони. Он пытается взять игрушку, но я сжимаю ладонь. – Чу-чу, – говорю я. Он начинает хныкать. Он пытается выхватить паравозик из моей руки. – Чу-чу, – говорю я. Его хныканье усиливается до криков. Он пытается поцарапать мою руку. Я прячу игрушку в блузку, беру его за подбородок, чтобы добиться зрительного контакта, и настаиваю: «Чу-чу».
Следующие пятнадцать минут он в ярости. Не плачет, слава Богу, только злится, кричит и пинается.
Я знаю, как ему хочется этот паравозик. Это бы не сработало с любой старой игрушкой. В моём подоле находится предмет поощрения гораздо более эффективный, чем какой-то там шоколад. – Чу-чу, – говорю я. – Ту-ту, – наконец-то, кричит он. Я объявляю перемирие, покрывая его поцелуями. «Ты сказал это! Ты сказал «чу-чу»! Осталось ещё одиннадцать машинок. Он говорит «ту-ту», чтобы получить каждую. Каждое утро в первые месяцы терапии Мишеля я занимаюсь с ним в моей комнате, с 9:30 до 11:30. Даниэль и Анн-Мари в детском саду. Я научилась лучше организовывать наши занятия, успевать больше в меньшие отрезки времени. У меня нет выбора. Сейчас мне надо проводить больше времени с Даниэлем, и я очень беспокоюсь, что не уделяю достаточно внимания Анн-Мари. Время после обеда принадлежит им целиком, в то время как Мишель проходит сеанс терапии.
Передо мной прикреплён на кнопку лист с моими песнями, играми и другими занятиями. Часть из них я записала по памяти, часть взяла с детских пластинок, часть – из книг, остальные придумала сама. Наша приятельница, Кристин Эллисон, прислала мне копию своей прекрасной книги, и я прочёсывала её вдоль и поперёк в поисках любого материала, который мог бы помочь в моих занятиях с Мишелем.* На внутренней стороне обложки написано рукой Кристин: «Моим дорогим Кэтрин и Марку – с Божьей помощью мы победим мрак».
С помощью всех этих записей мне почти всегда удаётся удерживать на себе внимание Мишеля в течение этих двух часов.
«Круг вокруг розочка»: Его любимая. Во время этой песни он всегда смотрит на меня в предвкушении слов: «Все упали на пол!».
«Дама на лошадке»: Я сажаю его к себе на колени. Замечательно для зрительного контакта.
«Маленький поросёнок»: Слова этого и других стихотворений и считалок не играют большой роли. Важно то, что он получает удовольствие от игры, и это удовольствие ассоциируется у него со мной, его мамой.
Притворяюсь, что ем пальчики его ног: много смеха и визга во время этой игры. Его реакция граничит со страхом, так же как во время игр «в чудовище» или в догонялки. Это удовольствие, смешанное со страхом, должно иметь меру: нельзя допустить, чтобы он испугался слишком сильно.
Здесь совершенно ничего нельзя сделать, может что-то сами придумаем?
«Пикабу» (?): проходит поначалу без особого успеха, так как мы слишком разделены в физическом плане, чтобы удерживать его внимание на мне. (?)
«Раз-два-три-дави»: ещё одна игра, построенная на предвкушении. Я медленно считаю до трёх, а потом довольно сильно обнимаю (давлю) его, что вроде бы ему нравится.
Дую ему на лицо: это всегда помогает добиться его внимания, особенно, если я это делаю в игровой форме.
Ритмический массаж+пение: музыка – один из сильнейших магнитов для всех троих моих детей. Я много пою им, часто сопровождая пение танцем, покачиванием или поглаживанием.
Щекотка: пока он не утомляется.
«Топ-топ в Бостон ехали»: (?ехали, ехали в лес за орехами?) ещё одна песня с покачиванием на коленях.
«Маленький кролик Фу-Фу»/ «Летела ворона»: любые ритмичные игры с участием рук, как, например, эти, помогают ему сосредоточиться.
«Открой/Закрой ручки»: песня с движениями рук: сначала открываем, потом закрываем руки. Он должен сидеть у меня на коленях, а не в другом конце комнаты.
«Голова, плечи, колени и носочки»: во время пения мы дотрагиваемся до различных частей тела. Эту песню разучивают в каждом детском саду.
«Голубой вагон бежит качается»: песенка, взятая с известной пластинки.
«Лодочка»: эту игру показала мне Бриджит; мы садимся лицом друг к другу и качаемся вперёд-назад, держась за руки.
«Шесть маленьких утят»: ещё одна песенка с детской пластинки. Мишелю очень нравится «кря-кря-кря», особенно, когда произносится гнусавым голосом.
«Благородный граф из Йорка»: это – считалка, сочетающаяся с движениями. Лирика передаётся определённым набором движений.
Любая другая песня, считалка или стишок, который сочетает танец, покачивание, движения рук и пальцев.
Кроме того, что мы играем и поём, мы также читаем книжи (для самых маленьких, с одним словом на страницу); немного играем в куклы; играем с любой игрушкой, с помощью которой можно потренировать игру по очереди и просьбу. (?) Одна такая игрушка – это касса с большими цветными монетами, вставляющимися в специальные ячейки. Так же, как в случае с паравозиком, я держу монеты в руках и не даю их ему, пока он не смотрит на меня и не издаёт какого-нибудь звука, чтобы получить каждую монетку. Основная техника – следить за тем, чтобы он всегда был чем-либо заинтересован – или использовать его интерес, например, игрушку – для того, чтобы развивать языковые и коммуникативные навыки. Не важно, что он говорит, когда просит эти монетки – я думаю, он говорит «гы!», – имеет значение лишь то, что таким образом он осваивает основные концепции общения: я (Мишель) использую звуки, исходящие из моего рта, чтобы общаться. Я говорю что-то, и тогда эта суетливая мама даёт мне то, что я хочу.
В апреле мы ввели в программу ещё одного терапевта, Мэри Бет Вилани. Бриджит теперь приходила все меньше. В мае начала работать Анн Мари Ларкин, но через несколько недель ей пришлось прекратить. В июне к программе присоединилась Келли МакДоноу.
Программа Мишеля в течение года варьировалась от минимум десяти до максисмум двадцати-двух часов в неделю бихевиористической терапии. Как только Робин смогла выделять для нас больше времени, она стала приходить по три раза в неделю.
Теперь Бриджит приходила не чаще, чем один-два раза в неделю, и она стала выполнять что-то вроде роли составителя и редактора программы, в то время как основную часть работы делали другие, менее опытные терапевты. Моей задачей было координировать программу, следить за тем, чтобы все работали над одними целями и, как Робин, тренировать речевые и языковые навыки Мишеля в часы, свободные от терапии.
Мэри Бет, Анн Мари и Келли проявили себя, как талантливые специалисты, работающие с большой отдачей. У каждой были свои достоинства и различный опыт деятельности. Мэри Бет могла добиться от Мишеля улыбки даже, когда он был в плохом настроении. Анн Мари сопреничала с Бриджит в творческой оригинальности, которую она вносила в свою работу. А Келли стала нашим самым надёжным, добросовестным и преданным работником. Только стихийное бедствие мирового масштаба могло заставить её пропустить занятие. Они все вместе учились расти, учиться и работать, а я училась полагаться на них всё больше и больше, вместо того, чтобы цепляться за Бриджит, как за единственного стоящего бихевиористического специалиста во всём мире. (Хоть для меня она до сих пор остаётся самой лучшей, близкой к совершенству).
Это было моим решением дать Мишелю дополнительные часы терапии. Во второй раз я доверяла бихевиористическому подходу гораздо больше, и я не хотела всё делать сама. Я имею ввиду то, что после опыта с Анн-Мари, мы с Марком поняли, что в первые год-два терапии необходимо, чтобы буквально каждый час бодрствования ребёнок-аутист с кем-то занимался. С Анн-Мари эта ноша целиком и полностью пала на меня, за исключением часов занятий Бриджит и Робин. На сей раз я хотела разделить работу с каким-нибудь хорошим бихевиористическим терапевтом. Отрицательной стороной этого решения было то, что таким образом несколько нарушался ход нашей семейной, частной жизни; положительной стороной было то, что так я могла больше времени уделять Даниэлю, Анн-Мари, Марку и самой себе. Пошёл третий год нашего кризиса. Я поняла, что теперь важно не строить из себя суперженщину, когда можно обойтись и без этого. Чем больше я могла поделиться работой, тем легче она становилась. Мишель так отличался от Анн-Мари. Она была очень замкнута в социальном плане и боязлива. Он же был более общительным. Когда он, наконец, начал реагировать на вторичные предметы поощрения, на похвалу, во время занятий, то он делал это с широкой улыбкой и хорошим зрительным контактом. В те первые шесть месяцев терапии, если Мишель был «с нами», то он был по-настоящему «с нами» – радостный, бодрый, такой общительный, что мы думали, что он, возможно, уже миновал то состояние, которое психологи называют «классическим аутистом», в смысле, очень замкнутый ребёнок, который находится в своём мире. (?) Когда же он не был в хорошем настроении, это было кошмаром. Его темперамент, его припадки с плачем, криком и визгом, внушали ужас.
Что касается языка, то у Анн-Мари усвоение языковых и речевых навыков проходило проще, чем у него. В то время как она нуждалась в постоянном присмотре – особенно с моей стороны: мне приходилось бегать за ней по всему дому, не оставляя её в покое, – Мишелю было необходимо более структурированное обучение. Мы должны были уделять очень большое внимание словесной имитации. Джеки Вин, – специалист из клиники Ловаса очень помог нам с хорошими интенсивными упражнениями на словесную имитацию.
Довольно долгое время произношение сына оставляло желать лучшего. Даже, когда его словарный запас очень вырос, он до неузнаваемости искажал слова. Только терапевты и родители могли понять, что он хочет сказать. Он говорил «Адо» вместо «Дамбо», «лыва» вместо «рыба», и «гу» вместо «жук».
Несмотря на эти различия между Мишелем и его сестрой, если брать в расчёт терапевтическую программу в целом, то он прогрессировал гораздо быстрее её.
В апреле он уже повторял «мама», «папа», «Диди» вместо Бриджит, «Уа-уа» вместо Робин и «Мм-ба» вместо Мэри Бет. Он всё ещё не очень хорошо понимал, кто были Даниэль и Анн-Мари.
Мы научили его пяти сочетаниям из двух слов.
1. «Не (название еды)».
2. «Пока, (имя)».
3. «Привет, (имя)».
4. «Спокойной ночи, (имя)» – он произносил это, как «покона носи».
5. «Ещё (название еды или игры)».
Несмотря на то, что сейчас он мог примерно сымитировать практически любое сочетание из двух слов, которое мы для него моделировали, эти комбинации он спонтанно говорил сам.
Спустя два месяца прогресс был очевиден.
Произношение улучшилось: теперь он уже говорил «дом» вместо «до»; «машина» вместо «маши».
Понемногу стал развиваться спонтанный, творческий язык. Однажды он взял маленькую виноградину и сказал «виноград-малыш», обнаруживая определённый уровень аналогичного мышления и способности выражаться мысли с помощью языка. Через несколько дней он повторил это во время игры с пластилином: он взял маленький кусочек и сказал «пастилин-малыш», а потом взял кусочек побольше и сказал «пастилин-мама».
Мы обратили внимание, что ему очень нравились игры с пластилином или рисованием, в которых присутствовал драматический оттенок. Как-то я нарисовала большую рыбу, потом помогла ему нарисовать глаза, рот, большие зубы и хвост. Потом мы также нарисовали воду, мальчика, лодку и удочку. Ему очень понравилась драма, когда мальчик поймал рыбу с огромными зубами. Ему хочется, чтобы сказки были с элементом опасности, силы. Из большого кусочка пластилина мы лепим маму-динозавра, а из маленького – сынка-динозавра. Он радуется, когда сынок падает со стола, и мама должна прыгнуть вниз, чтобы спасти его. «Помогите, помогите!» – имитирует он зов о помощи. «Не волнуйся, я иду к тебе на помощь,» – кричит мама. Чем драматичнее история или диалог, тем легче удерживать его внимание.
В терапии упражнения на развитие речи были очень строгими. Мы работали над словесной имитацией, согласными, гласными, односложными словами, двухсложными словами, прилагательными; описанием действий, изображённых на фотографиях (бег, сон, ходьба и т.п.); предлогами, такими наречиями, как «вверх» и «вниз». Всё должна было быть функциональным. Нашей целью было не просто заставить его повторять за нами слова, а понимать и использовать язык.
Бриджит продолжала поражать меня своей изобретательностью. Когда она увидела, что Мишелю наскучили бесконечные упражнения на употребление предлогов, она решила воспользоваться самим Мишелем в качестве игрушки. – Где ты? Она моделирует ответ: «На стуле». Она держит стул над его головой. – Где ты? -смеётся она. Они превращают это в игру. Она моделирует: «Под стулом». Они уже помногу раз тренировали эти фразы с помощью игрушек. – Где ты? – Около стула, – отвечает он («око стуа»). – За стулом. – Перед стулом. Мы с Марком чувствуем, что в социально-эмоциональном плане Мишель прогрессирует быстрее, чем его сестра. Одним майским днём мы все сели в машину, чтобы ехать в Ист Хэмптон. Анн-Мари сидела на среднем сидении, Мишель сидел рядом с ней, а Даниэль поместился на самом заднем сидении нашего семейного фургона вне поля зрения Мишеля. Только Марк вырулил из гаража, как вдруг Мишель забеспокоился и стал плакать. Он казался очень расстроенным. Я оглянулась на него. – Что случилось, малыш? – Мишель!Мишель! – он только плакал, смотря мне в глаза. Он протягивал ручки к окну. «Мишель!»
– Что такое? Я не понимаю. Марк, остановись на минутку. Он действительно чем-то расстроен.
– Мишель! – он повернулся на своём сидении, пытаясь посмотреть через окно на гараж, из которого мы только что выехали. – О, Боже! Он же зовёт Даниэля! – Даниэля, – повторил Мишель, теперь уже улыбаясь сквозь слёзы. Бедный малыш подумал, что мы забыли его брата. Он не мог правильно произнести имя, так как мы едва начали программу обучения именам всех домашних. Но он знал одно: он хотел своего брата. – Смотри, любовь моя. Видишь его? Он же за тобой. – Вот я, Мишель! – засмеялся Даниэль, выныривая из-за спинки сидения. Мишель засмеялся с радостью и облегчением. Мы все стали смеяться. Мы с Марком посмотрели друг на друга, наслаждаясь счастливым моментом, и мы оба знали, что несмотря на все проблемы Мишеля, его нельзя назвать «равнодушным» к своей семье.
Со временем я становилась всё более уверена в себе. Марк и я теперь более спокойно принимали решения, связанные с программой Мишеля. Точнее сказать, Марк более спокойно предоставлял мне принимать решения, а я, всего несколько месяцев дрожавшая перед такой ответственностью, теперь знала, что все вместе мы – я, Бриджит, Робин, Мэри Бет и Келли – сможем провести его до конца пути к выздоровлению.
Глава 30
Одной областью, в которой я хотела полагаться на свой собственный здравый смысл, был плач Мишеля. Я до сих пор не знаю, хорошо ли я справилась с этим. Казалось, что это никогда не пройдёт. Возможно он бы скорее перестал плакать, если бы я была строже.
Но я не могла усвоить – в смысле эмоционально не воспринимала – стопроцентное постоянство, требуемое бихевиористическим подходом.
Семь часов утра. Дети сонно пробираются один за другим в нашу спальню. Я силой выталкиваю себя из постели – я не очень хорошо встаю – и говорю: «Пойдёмте завтракать».
Вдруг Мишель кидается на пол и начинает плакать. На это нет никакой причины, разве что то, что кто-то от него что-то требует. Я вздыхаю, Марк вздыхает, Анн-Мари и Даниэль не обращают на него внимания. Мы все к этому привыкли.
Я готовлюсь к тому, что возможно мне придётся выдержать такую сцену ещё двадцать пять раз в течение дня.
Вот, я могу быть «бихевиористкой». Я знаю, что надо делать. Я не потакаю этому плачу. Я не обращаю на него ни малейшего внимания. Я накрываю на стол и усаживаю двух других детей завтракать. Потом, как ни в чём не бывало, я беру Мишеля, сажаю его за стол и удерживаю его на стуле. Я вкладываю в его руку ложку, направляю ложку от тарелки ко рту, не обращая внимания на крик и плач, и держу ложку около его рта, пока он не съедает ложку каши. Я словесно подбадриваю его: «Ммм! Как вкусно! Ты кушаешь кашу. Хороший мальчик. Хорошо кушаешь завтрак».
Он практически всегда начинает есть, так как я не сдаюсь, пока он этого не делает. Это не похоже на попытку заставить Даниэля есть овощи. Даниэль ненавидит овощи, и никакая сила не может заставить его их есть. Мишель же, напротив, голоден, и ему нравится каша. Он сопротивляется, потому что что-то в его мозгу заставляет его падать на пол и плакать вместо того, чтобы есть свой завтрак. Я стараюсь избавить его от этого поведения. Я пытаюсь не обращать на него излишнего внимания, чтобы он прекратил истерику и стал, как все нормальные дети, есть свою утреннюю кашу.
Ситуация повторяется ещё много много раз прежде, чем что-то меняется к лучшему. И вот, наконец, он сам подходит к столу, забирается на стул, берёт ложку и начинает спокойно есть. Чудо из чудес – он наслаждается каждой ложкой!.
Но! Я не знаю, верю ли я в то, что существуют чёткие универсальные правила о человеческом поведении – моём, его, кого угодно. Но случается и так, что четырёхчасовое занятие Мишеля заканчивается поздно вечером. Сын устал, сердит и его терпение доведено до грани. Даниэль или Анн-Мари случайно берут игрушку, с которой он играет. И тут он кидается на пол в истерическом плаче.
В таких случаях я беру его на руки, обнимаю и целую его, пою ему пока он не успокаивается и расслабляется в моих руках.
Я не хотела поощрять его припадки. Ведь это было эстремальной реакцией на огорчение. Но я всё-таки поощряла это, так как в тот конкретный момент была другая необходимость: необходимость убедить его в том, что он любим, что я понимаю, как ему трудно даётся эта непрекращающаяся ни на минуту терапия, что у него, как и у меня, было право иногда покапризничать и дать волю совему гневу и огорчению.
Таким образом, он получал от меня непоследовательную, а иногда даже противоречивую реакцию на свой плач. Часто я «истребляла» склонное к припадкам и истерикам поведение, а иногда я «награждала» его. Причём не существует чёткого правила, когда надо обнимать ребёнка, а когда игнорировать. Я дествовала так или иначе в зависимости от ситуации, от контекста, преамбулы и даже настроения в данный момент – его и моего. Мне казалось, что с нашей стороны должна присутствовать какая-то терпимость, гибкость, может быть. Я думала, что со временем, когда навыки общения и социальные навыки будут лучше развиты, его плач постепенно сойдёт на нет. Как-то смутно, в глубине сознания я понимала, что он не может перестать плакать окончательно: он был ещё не достаточно зрелым для этого. Ему было около трёх лет, но в некоторых отношениях он был гораздо младше. Для меня это было похоже на попытку заставить перестать плакать младенца. В определённых областях я спокойно подталкивала Даниэля и Анн-Мари; в других областях я ощущала их эмоциональную незрелость – в случае Мишеля это было почти «младенчество», – и это надо было брать в расчёт.
Несмотря на то, что Бриджит была готова принять мою позицию о том, что к каждой ситуации надо подходить, применяя здравый смысл, она была огорчена тем, что Мишель получает такую противоречивую реакцию на очень проблематичное поведение. И оно было по-настоящему проблематичным. Каждая прогулка, каждое занятие, каждое купание – большинство перемен в деятельности – сопровождалось более или менее продолжительным плачем (часто осложнённым гневом или агрессией). Его плач и такая темпераментность продолжались и в течение второго года лечения. Он срывался на всех, включая Даниэля и Анн-Мари. Если бы он не делал таких больших успехов в области языка, игровых и социальных навыков, нам бы пришлось ещё раз взвесить приемлимость бихевиорестического метода.
Это дилемма, которуй невозможно избежать, если вы становитесь сторонником бихевиорестической терапии. Вы знаете, что она эффективна и очень действенна, вы сознаёте, что если детей подталкивать, то они добьются гораздо больше, чем от них ожидают, и вы хотите проповедовать 100 процентное постоянство и последовательность. «Когда бы он не плакал, поступайте так». Точка. Никаких возражений. На деле же, с моим собственным ребёнком, я не всегда была абсолютно последовательной, и часто полагалась на свой здравый смысл.
Но ведь всегда надо полагаться на здравый смысл, нет? Нам, родителям надо искать баланс между такими крайностями, как давая ребёнку полную свободу, безоговорочно принимать любой его поступок, и моделировать и котнролировать его поведение так, что подавить в нём самостоятельную личность и индивидуальность.(?)
Однажды маленькая девочка пришла к нам поиграть с Анн-Мари. Когда её мать, собравшись уходить, подошла забрать её, девочка закричала: «Нет!» и побежала в противоположную сторону. Двадцать минут продолжалась сцена упрашиваний и уговоров. Я должна была наблюдать, стоя у своей двери, как четырёхлетняя девочка заставляет свою мать вилять хвостом, как цирковая собачка. Наконец-то, мать убедила её надеть куртку. Маленькая девочка снимает её и швыряет на пол. И снова повторяется то же представление. А мама вздыхает, какая «сильная воля» у её ребёнка.
«Дамочка, – вздыхаю я про себя, – неужели вы так боитесь навредить её психике, что не можете взять её на руки и просто принести её в лифт? Возьмите куртку, наденьте на неё и докажите ей, наконец, что у её матери мозгов побольше,чем в бобовой похлёбке!»
Такого вида чрезмерная забота, которая доходит до полного подчинению желаниям ребёнка, даже меня сводит с ума. Я постоянно вижу перед собой примеры из жизни, причём в «нормальных» семьях, с «нормальными» детьми: матери утопают в слезах оттого, что их пятилетнее чадо отказывается надеть куртку; отцы выслушивают слишком саркастичные замечания от десятилетних сорванцов. Только одно может вывести меня из себя больше этого: когда бьют детей.
Растерянность родителей в вопросе о том, как «правильно» воспитывать детей, как больных, так и здоровых, берёт своё начало в старом конфликте между психодинамическим и бихевиористическим подходом, которые оба лежат в основе нашей культуры, и которые легко довести до крайности. На протяжении этой книги я защищаю бихевиорестическую терапию, потому что в области аутизма слишком долго царствовали различные абсурдные идеи психодинамической школы, а также потому, что я встречала многих родителей детей-аутистов, которые не могли решиться применять бихевиорестический метод лечения. Но по большому счёту, у обеих школ есть право на существование.
С одной стороны в Библии есть изречение, очень полюбившееся викторианским моралистам: «Недодашь розог – испортишь ребёнка» (?). Я считаю, что эта крайность ведёт к издевательству над детьми. Розга, ремень, палка, хлыст, кулак, ладонь – не важно, что идёт в ход, если мы полагаемся на такие средства, как на основные методы воспитания дисциплины, то мы силой заставляем ребёнка слушаться.
Всем моим знакомым родителям, включая меня саму, случалось терять контроль и шлёпать детей по попе. Это не делает такой поступок правильным или интеллигентным. Меня поражает то, что мы позволяет себе обращаться со своими детьми так, как никогда не позволили бы вести себя с посторонними людьми. В нашей стране у заключённых преступников есть и то больше законной защиты своей телесной неприкосновенности, чем у «непослушных» детей. И есть ли у побоев практическая польза в воспитании? Я в этом сомневаюсь. Я думаю, что большинство родителей делают это потому, что «Мой отец это делал, и со мной ничего не случилось».
Викторианская мода на воспитание детей – это в своём роде бихевиористическая модификация в крайности: абсолютная родительская власть. Он бьёт своего ребёнка, пока тот его не слушается беспрекословно (какое-то время). Он верит в то, что физическое наказание – это единственный способ «научить его чему-то». Главным образом потому, что он не знает никакого другого способа обучения.
С другой стороны, я считаю, что чрезмерное увлечение психологией в двадцатом веке внесло вклад в поразительную «всепозволяемость», которая привела к тому, что сегодня у ребёнка есть неограниченная «свобода самовыражения», даже если это идёт во вред кому-то другому. Большинство книг об уходе за детьми практически не дают конкретных советов о том, как моделировать поведение ребёнка. Вообще, сами слова «поведение» и «послушание» больше не пользуются успехом у людей, как будто они являются неприятными остатками менее просвещённой веры. «Самооценка» – да, «дисциплина» – нет. Некоторые родители моего поколения так боятся навредить самооценке ребёнка, что они буквально не могут сказать «нет» своему ребёнку.
Одним результатом этого, на мой взгляд, является бум в области детской психологии: все эти родители, которые в отчаянии вопрошают: «Почему, почему, почему Сьюзи так часто бьёт своего брата? Что мы сделали неправильно? Мы приготовили её к рождению. Мы водили её на курсы «Рождение брата или сестры» для детей. Мы давали ей выражать чувства ревности и гнева, раз за разом. Мы понимали, мы сочувствовали. Мы давали ей много любви и внимания каждый раз, когда она срывалась на своего брата-малыша. И она всё-таки продолжает это делать!
В поисках помощи мы обращаемся к психологам, которые так часто инструктируют нас искать «стресс дома», что «несомненно» является причиной проблемы. Ведомые нашими помощниками мы определяем каждую жизненную перемену, как источник «стресса». Мы размышляем, мы исследуем, мы анализируем, мы прощаем, не зная меры. Мы знаем, когда маленький Томми впервые отазался принимать ванну. Это произошло, когда его мама сменила работу. Мы понимаем, почему Дженни испоьзует слова только изчетырёх букв: она расстроена рождением братика. Мы можем принять отказ Майкла ложиться спать: он сердит, так как его отец слишком поздно приходит с работы. Постепенно мы начинем верить, что жизненные события, перемены, наши взрослые нужды и желания являются причинами плохого поведения детей. Это, конечно, не наша ошибка, но всё же… такой стресс для Тимми. А решение? Всегда эти туманные указания: уделяйте ему больше внимания; поговорите об этом; уважайте его чувства; больше слушайте его; устраивайте семейные советы: «Дети, настало время для нашего субботнего совета о том, почему вы никогда не слушаетесь мамочку и папочку». О, Господи, они отказываются подойти к столу для обсуждения.
Хватит этого. Мы можем быть достаточно чувствительными к проблемам и страхам ребёнка, не превращая их в постоянное извинение плохого поведения. Мы можем понять, что в жизни детей, как и в нашей жизни, тоже есть сложности и волнения, но мы всё-таки можем научить их вести себя согласно определённым нормам, которые устанавливаем мы (да-да, мы).
Родителям необходим практический совет, а не лекции о том, что надо снизить уровень стресса в семье, и не резкие команды «дайте ей хорошего шлепка». Практический совет. Технику, которая бы сработала. Научные методы, позволяющие моделировать приемлимое поведение.
Так как у меня, разумеется нет ответов на все эти вопросы – я бы очень хотела, чтобы они у меня были – я считаю, что бихевиорестическая программа, через которую мы прошли, очень многому научила меня и Марка о воспитании наших детей. Одно точно: мы обнаружили, что можем научить их дисциплине, оставаясь при этом ярыми противниками рукоприкладства.
То, что мы следуем бихевиористическому подходу вовсе не означает, что мы равнодушны к эмоциональной жизни наших детей. Напротив, мы преклоняемся перед богатством их характеров.
Но мы также стремимся к порядку и спокойствию в их доме, их жизни и их поведении. Это не только для нашей пользы, но и для их счастья и стабильности. Раздражённые учителя и одноклассники не будут считать грубого, невоспитанного ребёнка «эмоциональным» или «просто ребёнком»; он будет для них лишней головной болью.
Техники бихевиористов не сложны, и не новы. Большинство из них постоянно используются родителями, некоторые чаще, некоторые реже.
Какие, например? · Например, в процессе обучения разбивать задания на маленькие простые элементы, а также поощрять усвоение каждого элемента. Это срабатывает во всём: в одевании, застилании постели, в школьном обучении. Это также освобождает детей от чрезмерной зависимости от помощи родителей. Они невероятно гордятся тем, что могут делать «всё сами». Мы можем, не торопясь, научить их нажимать на кнопку, звонить в звонок, вешать куртку на крючок; мы можем, не торопясь, практиковать эти навыки, пока они не усвоятся ребёнком. Ведь вовсе не трудно научить ребёнка почистить тарелку и отнести её в раковину. Это не трудно, это не во вред ребёнку; это учит их вносить свой вклад в домашний труд. · Например, подробно рассказывать детям, что мы от них ожидаем, пока они только учатся, какое поведение считается хорошим, а какое – нет. Если мы хотим, чтобы наши дети вели себя за столом надлежащим образом, это требует, чтобы мы находились там вместе с ними, проясняли для них бихевиористические цели, хваля или делая выговор, в случае необходимости, пока они не усвоят наши стандарты. Стандарты разных людей могут очень различаться (как американка, которая замужем за французом, я могу подтвердить, что в этом отношении существует очень много культурных различий), но наши дети не поймут, что принято, а что нет, за нашим столом, если мы не будем уделять этому вопросу достаточно внимания. Чётко давать детям понять, каковы наши бихевиористические цели, – это несомненно лучше, чем игнорировать их полтора часа, а потом ругать, когда мы уже не в состоянии справиться с раздражением, которое вызывают у нас их полудикие манеры. (Все, кто полагают, что дети сами по себе станут цивилизованными, вежливыми, заботливыми и трудолюбивыми, слишком сильно верят в тезис Жан-Жака Руссо о том, что дети, если их предоставить самим себе, будут естественным образом стремиться ко всему лучшему, высокому и благородному, что есть в людях. Проведите полдня на игровой площадке, понаблюдайте за тем, как увлечённо они бьют друг друга по головам, как обзываются, и спросите себя, на самом ли деле вы в это верите. Возможно дети рождаются хорошими и невинными, но общество и их собственные желания неотвратимо толкают их к эгоизму. Руссо, кстати, оставил своих многочисленных детей прозябать в одном французском приюте, известном своей особенной жестокостью). · Например, хвалить детей за хорошее поведение и чётко давать понять, за что вы их хвалите. Если мы достаточно хвалим за хорошее поведение, то уже нет нужды часто поправлять плохое поведение. «Ты так хорошо сама надеваешь свою курточку, солнышко. Спасибо». Легко обращать внимание на ребёнка только тогда, когда он что-то делает не так, и игнорировать хорошее поведение. · Например, физически подсказывать верное поведение. Не надо ни кричать, ни повышать голос, ни применять силу. Достаточно лишь спокойно проделать задание вместе с ребёнком – поверьте, это очень эффективно. Моя подруга Эвелин – работающая женщина с отнимающей много сил и времени карьерой – является для меня образцом для подражания. Она никогда не повышает голос! Что она делает, так это следует за ребёнком. (?) Каждый раз, когда она говорит своим детям что-то сделать или, наоборот, не делать чего-то, она проверяет, что они её слушаются. Если она говорит: «Пожалуйста, не ешьте шоколадное мороженое в гостиной», то она именно это и имеет ввиду. Она не повторяет свою просьбу десять раз, а берёт ребёнка за руку и уводит его на кухню, если он не послушался её с первого раза. · Например, устанавливая определённые последствия (да, наказания!) в случае непослушания. У нас должны быть чёткие правила, мы должны хвалить и поощрять ребёнка за выполнение правил, и наказывать за их нарушение. Если мы устанавливаем правило, мы определяем последствия и придерживаемся их, иначе мы можем даже не заикаться(?) о каких-то правилах. Мы объявляем, каковы будут последствия, и следуем им. И мы можем дисциплинировать ребёнка без применения силы. Взять к примеру воспитателей детских садов. Они должны контролировать одновременно двадцать четырёхлетних детей, и они никогда не кричат, не повышают голоса и не бьют детей. Если они справляются с двадцатью, то мы можем справиться с двумя-тремя. Оставить ребёнка сидеть одного на стуле (тайм-аут) или отослать его в свою комнату – такого рода последствия (наказания) хорошо срабатывали с моими детьми. Я также думаю, что когда в отношениях присутствует сильная база любви и уважения, просто устное неодобрение поведения ребёнка может быть дейтвенным наказанием – по крайней мере, когда они достигают определённого возраста.
…
Любящие родители не хотят совершенных детей. Дети шумят, ломают вещи, бегают, как сумасшедшие, деруться друг с другом. Если бы они этого не делали, они бы не были детьми: они были бы сорокалетними людьми в пятилетних телах. Также и от родителей нельзя ожидать поведения бихевиористических терапевтов. Мы не можем быть стопроцнтно последовательными. Мы должны делать исключения и иногда гибко подходить к правилам. Но когда поведение детей угрожает элементарным правам взрослых, – например, праву родителей уделить вечером какое-то время самим себе, или праву бабушек и дедушек на то, чтобы их дом не превращался в поле битвы, когда маленькие ангелы приезжают погостить, – и нарушает спокойствие в доме, сила последствий просто удивительна. Поразительно, как быстро можно изменить поведение ребёнка, внедряя понятия правила и последствий, и следуя им. Дети стремятся к порядку. Они стремятся к рутине. Их мир более устойчив, если они знают его границы и правила.
Ничего не бывает просто. Когда поощрение превращается в подкуп? Понимание во всепрощение? Подсказки в придирки? Просто последствия в гневные наказания? Мы, родители, должны постоянно контролировать свои действия. Это – обучение в процессе работы, к сожалению, без предварительных уроков. Время от времени мы все склонны к самообману, убеждая самих себя, что мы «ласково терпеливы», когда наши дети выходят из-под контроля; уговаривая себя, что мы практикуем «строгую дисциплину», когда, фактически, мы сами теряем контроль. Мы можем быть уверены только в одном – нет единственной абсолютной формулы в воспитании детей, и если мы мыслим в абсолютных величинах, то нам, видимо, стоит сменить направление.
Но мы с Марком сейчас твёрдо уверены в одном: в ценности, в силе внимания. Мы видели, что может сделать с детьми-аутистами сфокусированное, направленное внимание: оно имеет такую же силу и со здоровыми детьми. Ни бихевиористическое правило, ни психоаналитическое понимание не стоят и бобовой шелухи, если мы не уделяем нашим детям достаточно внимания, а это весьма тяжёлый труд – по-настоящему уделять внимание малышам. Это требует отставить в сторону все наши желания ради интеллектуальной стимуляции, признания ребёнком сверстников, пугающего разговора со взрослым. (?) Это требует экстраординарного терпения: способности слушать предложение, начатое шесть раз и застрявшее на поиске правильного слова; умения справляться с бесконечными истериками из-за прав и игрушек и повторять в тысячный раз: «Скажи «пожалуйста»; «Говори своими словами»; «Наливай молоко двумя руками».
Очень легко думать, что если мы находимся в одной комнате или в одном доме вместе с ребёнком, то мы уделяем ему достаточно внимания. Это не так. Внимание – это внимание. Это означает не говорить по телефону, отказаться от всякой другой работы, от чтения, от разговоров, даже от мыслей, и играть с ними, говорить с ними, наблюдать за ними.
И внимание это больше, чем небрежное: «Как было сегодня в школе?» Возможно взрослым очень нравится слышать что-то вроде: «Как сегодня было на работе, дорогой?», но для большинства детей, это просто ещё одно требование «сыграть», сказать то, что мама с папой хотят услышать. Мы можем уделять внимание, инициируя то, что доставляет детям удовольствие, например, очень просто, чтение сказки.
Итак, я заканчиваю своё выступление и хочу отослать заинтересованного читателя к одной из лучших, на мой взгляд, книг на тему воспитания детей: «Семейные правила» – Family Rules (St. Martin’s Press, 1990), автор Kenneth Kaye, Ph.D. Мне очень нравится эта книга, так как она уделяет одинаковое внимание обеим частям уравнения: как развитию самооценки ребёнка, так и установлению определённых границ для его поведения. Автор, психолог по профессии, пишет, исходя из опыта работы с детьми разных возрастов: от двух лет и до подросткового периода, когда, я полагаю, мне понадобится вся возможная помощь. Как шутит один мой хороший друг-психолог: «Когда они маленькие, ваши проблемы (за исключением отдельных случаев) тоже маленькие. Когда они большие – держитесь!»
Глава 31
Тёплым июльским днём я одеваю пятилетнего Даниэля и четырёхлетнюю Анн-Мари в шорты, сандалии и футболки и веду их в детский сад Даниэля. Детский сад, в который раньше ходила Анн-Мари, не будет работать в следующем году. Её приняли в садик Даниэля; с осени она должна была начать заниматься в подготовительной группе. Руководители детского сада разрешили ей начать пораньше и ходить в «летний лагерь», вместе с братом, в течение шести недель. В её группе будут дети одного с ней возраста. Нам с Марком понравилась, что у дочери будет возможность немного привыкнуть к новой школе.
Мы решили не говорить им о её диагнозе из опасения, что дочь может стать жертвой стереотипа. Люди Ловаса, которые знают о процессе выздоровления гораздо больше, чем мы, настоятельно рекомендуют не навешивать ярлык на ребёнка, который входит в нормальную школьную систему. Очевидно всегда присутствует фактор изменения требований и поведения со стороны учителя или воспитателя по отношению к ребёнку с ярлыком, особенно таким, как «аутист». Какие бы хорошие намерения не были у педагогов, мы всегда будем бояться, что они будут видеть в Анн-Мари нездоровую и не такую, как все.
Это – первый опыт Анн-Мари в детском саду, где никто не знает её истории.
Поначалу, в первые дни в летнем лагере, Анн-Мари боязливо тихая. Всё свободное время она сидит в углу комнаты и играет с пластмассовыми животными в сложные придуманные ею игры. Я вижу это, когда захожу забрать её и когда привожу дочку. Я незнаю, что она делает в середине дня, но всё равно постоянно за неё беспокоюсь.
Однажды ко мне с приветливой улыбкой подходит одна из воспитательниц.
– Анн-Мари такая прелесть! Она напоминает мне меня, когда я была маленькой девочкой. – Да? В каком смысле? – Я была в точности, как она. Я всегда сидела в уголке и играла сама с собой, прямо, как она!
Я почувствовала комок в горле.
– Да. Ей всегда требуется немного времени, чтобы разогреться. Может быть вы могли… подбодрить её, что ли, чтобы она была немного активнее?… Вы знаете, она очень робкая… Её надо поощрить, чтобы она стала общаться с другими ребятами… – О, конечно. Мы над этим поработаем. Все в этой группе над чем-то работают. Я поблагодарила воспитательницу, поцеловала Анн-Мари и Даниэля на прощанье и пошла к выходу.
Снаружи я встретила Диану, которая тоже только что привела своего мальчика. – Диана… – Что-то случилось? – Она сказала… Венди сказала… Анн-Мари сидит в углу, одна… Мой голос дрожал. Пугающие образы не выходили из головы: Анн-Мари – затворница, всегда в одиночестве. Она проваливается на своём первом натоящем экзамене. (?)
– Кэтрин! Она же только что начала! Дай ей немного времени! Она играет с Даниэлем. Ты знаешь, что она это может. Я уверена, что она не единственный робкий ребёнок в группе!
Диана успокаивает меня, но я всё ещё довольно сильно напугана. Я чувствую, что пришло время начать назначать «игровые свидания» для Анн-Мари.
В группе у Анн-Мари была одна девочка, которая вместе с ней перешла из предыдущего садика. Келли была дружелюбная и приветливая девочка. Ей было четыре с половиной года, и она была одной из самых ярких и воспитанных детей в группе. Её мама согласилась на игровые встречи раз в неделю.
Каждую среду две маленькие девочки встречались после утра, проведённого в детском саду. Они вместе обедали, болтали, а потом играли. Я всё время бродила неподалёку, внимательно прислушиваясь к их разговору. – Анн-Мари, ты хочешь быть принцессой? – Да. Я могу быть принцессой, а ты – драконом. – Хорошо. Но потом я хочу быть принцессой. – Хорошо. Они могли делиться друг с другом, играть вместе и ссориться. – Я хочу играть сейчас с мишкой, Келли. – Нет. Сейчас моя очередь. – Мамочка! – (Слёзы и трагедия на лице.) – Келли говорит, что это её очередь играть с мишкой, но это мой мишка!
– Да, но Келли – твоя гостья. Помни о том, что надо делиться своими игрушками с гостями. Сейчас очередь Келли, дай ей поиграть, а потом она вернёт тебе мишку.
Пять минут спустя они снова радостно играют.
Они божественно, идеально нормальны.
Однажды в пятницу, когда Даниэля не было дома: он был на своём игровом свидании, а Мишель был на занятии, Анн-Мари подошла ко мне: её нижняя губа была обиженно выпячена, а большие глаза были переполнены горем. – Что что-то случилось, что моя драгоценная девочка такая грустная? Я не хотела ранить её чувства, но её ответ заставил меня улыбнуться от неподдельной радости. – Мне не с кем игвать!
Прошло два месяца, и в сентябре мы снова прошли проверку в институте. Новости были хорошими. Очень хорошими. Мишель достиг нижней границы нормы в самых важных областях: коммуникации и социализации.
Средний балл Мишеля в социальной коммуникации сильно вырос за прошедшие семь месяцев и теперь попадает в нижний предел уровня нормы. Мальчик догнал восемнадать месяцев в коммуникации и двенадцать месяцев в социализации.
Его адаптивные навыки всё ещё отставали от нормы, ведь мы ещё даже не начинали приучать его к туалету. Это заняло так долго времени с Анн-Мари, что мы решили начать ближе к трём годам. Его двигательные навыки также отставали, и мы не понимали, почему. Но это не беспокоило нас. Пока он так быстро прогрессирует в областях социализации и коммуникации, мы не волнуемся, что он не ездит на трёхколёсном велосипеед до трёх с полвиной лет.
Снова, как и в случае его сестры, наблюдаются остаточные манерные привычки и ограниченное общение с посторонними людьми. Битва ещё не выиграна. И в этот раз нам хочется побыстрее добраться до конца. Мы оба с Марком счастливы и исполнены благодарности, но мы оба тяготились сознанием того, сколько ещё работы нам предстоит. Мы чувствовали себя так, как будто мы занимаемся этим всю жизнь.
Тем не менее, я позвонила доктору Римлэнду поделиться хорошими новостями.
Мы долго говорили о возможности выздоровления для других детей. Кажется, что невозможно преодолеть шансы. Диагноз должен быть поставлен очень рано, родители должны найти хорошую бихевиористическую программу или организовать её сами, сам ребёнок должен обладать хорошим потенциалом для выздоровления. Даже в клинике доктора Ловаса, где собрано гораздо больше знаний, опыта и кадров, чем в любом другом месте, шансы на выздоровление – всего лишь пятьдесят процентов. Это очень удручает. «Вы думаете мне стоит написать книгу, о которой я думаю? – спросила я его. – Это того стоит?»
– Для тех детей, которым достаточно рано поставлен диагноз, – безусловно, стоит, – отвечает он. – Пятьдесят процентов – это лучше, чем ноль или два процента. – Это может причинить боль некоторым родителям. – Да, вполне. Но в этом никто не виноват. Это может также помочь другим родителям.
Мы определили, что в некоторых областях Мишель опережал Анн-Мари, в некоторых – отставал от неё. В общем в целом, мы предполагали, что он уже на полпути домой.
Но наш следующий ответственный шаг с Мишелем был ещё впереди. Он шёл в детский сад.
Глава 32
Мишеля приняли в Меррикэт Кастл – детский сад в Аппер Ист Сайд, в котором пытаются комбинировать нормально развивающихся детей с определённым процентом нездоровых детей. Гретхен Бученхольц была директором также и этого детского сада. Мы известили её о диагнозе Мишеля, так как я думала, что мне придётся присутствовать на занятиях, как это было с Анн-Мари. Она и Рэйчел Каллертон, заведующая по учебной части, согласились дать ему шанс.
Тем не менее мне необходимо пройти через все обычные процедуры, и моим первым шагом будет звонок одному из социальных работников учреждения, Мэри. Я должна сообщить ей о диагнозе Мишеля и о его прогрессе на сегодняшний день.
– Это длинная история, – начинаю я. Всё началось с того, что его сестре был поставлен диагноз аутизм. Мы назначили домашнюю терапевтическую программу, и ей постепенно становилось всё лучше и лучше. Сейчас её состояние настолько улучшилось, что мы можем сказать, что она выздоровела…
Я говорю быстро и нервно. Я хочу, чтобы она выслушала меня. Я знаю, что в мою историю трудно поверить, и я хочу вкратце дать ей все факты. – Очевидно, диагноз был ошибочен, – произносит Мэри. Я взрываюсь. Я слишком часто слышала эти слова. – Что вы хотите этим сказать, «ошибочен»? Вы хоть что-нибудь знаете о её истории?
Что вы знаете о нас или о ней? Что вы знаете об… об аутизме? Что… что вы…
Я едва в состоянии говорить. Слишком много людей реагируют так скороспело (?). Слишком много людей – людей, которые никогда не видели ни одного из наших детей, – не задумываясь, принимают за абсолютную, верную на все времена иситну: дети-аутисты неизлечимы.
Вся моя семья прошла через войну. Нас кидало из стороны в сторону, рвало на куски; мы прошли пытку изнурительной осадой врага по имени аутизм. Мы всё ещё не были уверены в собственной безопасности, всё ещё бинтовали раны. А сейчас, стоит мне оглянуться вокруг, как нас без конца информируют о том, что никакой войны вовсе не было – мы, должно быть, всё это придумали. На меня слишком часто смотрели с жалостью и с сочувственной улыбкой. Да-да. Конечно, конечно. Если вы хотите верить в то, что ваши дети были аутистами, пожалуйста. Если вам так легче, почему бы и нет?
И дело было не только в моей чувствительности. Вовсе нет. Если даже профессионалы отказываются верить в очевидность фактов, опубликованных доктором Ловасом, и в то, что мои дети действительно выздоровели; если они отказываются верить в то, что дети-аутисты могут вылечиться, то мы можем быть абсолютно уверены в одном: никто не вылечится. Зачем предпринимать нечеловеческие усилия ради цели, в которую вы не верите?
С этого момента мой разговор с Мэри уже было не наладить. Она – замечательный человек, и сегодня я её очень уважаю. Но тогда, во время нашего первого телефонного разговора, я была готова задушить её.
Позже мы даже посмеялись над этим. – Я наступила тогда не на одну мозоль, да, Кэтрин? – Да уж. Это точно. А я, с присущим мне самообладанием, спокойно разъяснила то, что мы не поняли с первого раза. – Ну-ну. Мэри по крайней мере хотела слушать и была более или менее готова принять тот факт, что в случае Анн-Мари четыре профессионала – психиатры, психологи и неврологи – все, обладающие большим опытом в диагностике нарушений развития, – пришли к одному и тому же диагнозу: детский аутизм.
В случае Мишеля, три* специалиста, с которыми мы консультировались, постановили: детский аутизм.
Доктор Берман был единственным, кто пришёл к выводу, что Анн-Мари не соответствует критериям аутизма. Его диагнозом было: «Системное отклонение развития – конкретнее не указано». В области, где родители могут получить количество мнений по числу врачей, к которым они обращаются, неудивительно, что мнение одного врача отличалось от остальных. Что было более неожиданно и существенно, так это то, что четверо из пяти профессионалов сошлись в одном мнении.** * На самом деле, четыре, но я считаю доктора Коэна и доктор Садхалтер одной командой. ** В приложении 1 приводится дискуссия о проблеме диагноза, а также терминология диагностики.
До начала занятий у меня было предварительное совещание с Патрисией, главным воспитателем группы Мишеля. Она немного нервно отреагировала на слово «аутизм», но приняла моё утверждение того, что излечение возможно, и выразила желание помогать Мишелю всем, чем могла.
Его первый день в садике обернулся кошмаром.
Анн-Мари была тихая, робкая и замкнутая. Мишель, в соответствии со своей натурой, отнёсся к новому окружению с тем же гневом и агрессией, какие проявил в первый день терапии. Всякий раз, когда воспитатель приблидался к нему, он впадал в истерику.
Я была в ужасе. Я видела беспокойное выражение на лицах помощников воспитателей. Они видели много разных детей, но они никогда не сталкивались с ребёнком, которого совершенно нельзя было успокоить. Его крики становились в два раза громче, стоило кому-либо из взрослых хотя бы пройти рядом с ним. Патрисия надеялась получить от меня совет. Но я чувствовала себя такой же беспомощной, как и они. Одно дело было справляться с таким поведением дома, совсем другое – видеть как всё возвращается в детском саду.
Как нам преодолеть это? Мишель плакал и кричал всё утро своего первого дня в садике. Я не могла просить воспитателей смириться с настолько ненормальным поведением. Я не могла подвергать этому других детей.
Я чувствовала себя примерно так же, как когда воспитательница Анн-Мари рассказала мне о любви дочери к одиночеству. Я была в отчаянии. Это было большой проблемой, и я понимала, что это не пройдёт само собой.
Рэйчел, заведующая по учебной части, встретила меня в коридоре после утреннего занятия. Она посмотрела мне в лицо и взяла меня за плечи. – Держись, девочка. Мы справимся вместе. Могла ли я сомневаться в том, что Бог продолжал открывать для нас двери? Если вам надо вылечить ребёнка от аутизма, то будет очень кстати, если терапевты чудесным образом появятся у вашего порога. Будет очень кстати, если обычный детский сад захочет работать с ребёнком, который не совсем нормален, у которого всё ещё есть серьёзнейшие бихевиористические проблемы. Будет очень кстати, если воспитатели будут готовы предложить свою бескорыстную помощь, как только настанет их очередь выступить в разыгравшейся драме.
Они обещали выслушать, и они выслушали. Я попросила встречу, и они дали мне не одну, а много встреч. В первом семестре каждые три недели Гретхен, Рйчел и Патрисия, вместе с помощниками воспитателей встречались со мной и Марком, чтобы обсудить состояние Мишеля.
Я боялась обидеть их. В конце концов они были профессионалами, и у некоторых из них был многолетний опыт работы с детьми. Я опасалась, что их заденет то, что я вмешиваюсь в их работу и, по сути дела, объясняю им, как обращаться с мальчиком.
Но они были снисходительны и внимательны. Я решила как можно полнее поделиться с ними нашим опытом, рассказать и написать, чтобы они поняли, насколько ситуация непроста. Я знаю, что самым трудным для них было переносить день за днём плач Мишеля и быть не в состоянии справиться с ним. Но я оставалась с ним в комнате занятий каждый день, и я настояла на том, что он должен учавствовать во всех мероприятиях наравне с остальными детьми. Мишель должен был привыкнуть к рутине; никто специально для него ничего менять не собирался.
«Время круга», например, когда дети сидели в кругу, а Патрисия пела для них песни, было для нас серьёзным испытанием. Я держала плачущего Мишеля у себя на руках и не позволяла ему слезть и заняться тем, чем он хотел. Каждый раз, когда он прекращал плакать, пусть даже на мгновение, я шептала ему на ухо слова похвалы и одобрения. Если он становился совсем невыносимым, то я выходила с ним из комнаты, садилась в коридоре и твёрдо говорила: «Не плакать», не отпуская его, пока он не переставал. Если он не успокаивался, то я отводила его домой – ему это не нравилось, так как несмотря на сопротивление, ему нравилось ходить в садик.
Я знала, что не могу требовать от воспитателей так себя вести по отношению к нему. Особенно этих воспитателей. Это шло вразрез с их подходом, основанном на мягкости и любви к детям.
Однажды утром, когда Патрисия пела песенку про колёса автобуса, я укачивала ревущего Мишеля, и вдруг почувствовала, что он сдаётся. Он успокоился и стал смотреть на Патрисию. Он протянул ручки вверх и стал делать ими вращательные движения, повторяя за воспитательницей. -… кутятся и кутятся…, – зазвучал детский голосок. – Хороший мальчик, Мишель! Как хорошо поёшь! – прошептала я ему на ушко. Я подняла глаза на Патрисию. Он продолжала пение, но её глаза были полны слёз. Другие воспитатели, сидевшие в кругу вместе с детьми, переглянулись. Мы все вздохнули с облегчением и обменялись друг с другом улыбками. – Едет, едет даеко. В течение следующих месяцев от укачивания сына на руках я перешла сидеть в уголок комнаты, а потом – в коридор.
И вот, наконец, в декабре настал день, когда мы с Патрисией почувствовали, что он хорошо себя чувствует в садике, и что я могу больше не приходить. Он начал немного играть с другими детьми, и его язык становился всё более и более понятным для воспитателей. С ним больше не случались истерики. И он хорошо выполнял указания, даже если они образались ко всей группе.
В последний раз мы с Марком пришли на совещание в Мэррикэт в апреле 1991.
Мы начали, как обычно, в четверть девятого утра. Все сонно зевали и наливали себе кофе в бумажные стаканчики, чтобы пробудиться к новому дню.
– Итак, – начала я, – перед тем, как начать то, что видимо станет нашим последним совещанием, мы с Марком хотим кое-что сказать всем вам.
В комнате воцарилась выжидательная тишина.
– На днях Мишель прошёл повторную проверку у доктора Коэна, и его состояние очень улучшилось. Доктор сказал, что прогресс Мишеля «замечателен». Он пришёл в норму по всем показателям, и доктор Коэн считает, что сейчас есть только некоторые остаточные явления.
Я рассказала, что во время проверки Мишель хорошо вошёл в контакт с доктор Садхалтер. По словам доктора Коэна:
…Казалось, что Мишелю нравится вступать в контакт с людьми, и он легко вошёл в конакт с доктор Садхалтер. Он был довольно внимателен, отзывчив, точно выполнял большую часть просьб и показал хорошие знания… человеческих концепций и из занятий; размеров, цветов, еды и глаголов действия…
Я сказала воспитателям, что его общение со мной также показывало, как далеко он продвинулся.
Во время интеракции с матерью он вёл себя в соответствии с ситуацией, а его настроение варьировалось от любопытного интереса до радости. Он хорошо играл в игры на воображение, казалось, что он понимает «глупый» характер книги «Улица Сум-Сум». Мальчик устанавливал прекрасный зрительный контакт, он также проявил способность к имитации (как гоосовой, так и неголосовой) и интерес к интеракции «лицом-к-лицу», а также очевидную способность толковать значения слов и жестов.
Вокруг стола раздался радостный вздох. Они все страдали от слёз Мишеля, а сейчас они радовались видеть, как он становится цветущим, счастливым ребёнком.
Мы ещё немного поговорили и закончили совещание тем, что определили цели для Мишеля на следующий семестр.
Мы знали, каковы были его остаточные явления: язык Мишеля был теперь в «норме», но ему всё ещё было трудно усваивать новые синтаксические и семантические формы так же легко и быстро, как другие трёхлетние дети. Оставались ещё признаки эхолалии и высокого тона голоса. Его темперамент всё ещё оставался проблемой, особенно, когда к нему предъявлялись требования.
Но его социальные интеракции и зрительный контакт сейчас были вполне удовлетворительны. Он также начинал говорить более сложными предложениями и иногда спонтанно задавать вопросы. Он ходил в нормальный детский сад, общался с нормальными сверстниками. И ему было всего три года и четрые месяца. Более того, мы занимались с ним терапией всего четырнадцать месяцев.
Мы с Марком считали, что у нас было, что отпраздновать с его воспитателями. Мы считали, что у нас было что отпраздновать со всем миром!
Глава 33
Восемнадцатое декабря, 1991 года, четыре года с того дня, когда Анн-Мари был впервые поставлен диагноз. Я сижу на кухне и пью кофе, лучи солнца пробиваются сквозь холодную завесу. Дети в школе и детском саду, и у меня выдалась пара часов поработать.
Сегодня я понимаю некоторые вещи, которые не понимала тогда, когда любое предложение помощи, любое упоминание о «лечении» были жизненно важными. Сегодня я знаю, как много есть таких «чудесных средств», и как мало из них на самом деле имеют достоверную научную основу и проверенный на практике лечебный эффект.
Возможно, когда-нибудь в будущем появится медицинский или даже хирургический метод, с помощью которого можно будет лечить от аутизма. Фармакологическое исследование тоже не стоит на месте, так что может быть когда-нибудь изобретут безопасное и эффективное лекарство для лечения болезни. Пока этого не произошло, в нашем распоряжении есть только несколько жалких альтернатив: «жалких», потому что ни одну из них нельзя назвать панацеей; их эффективность в лучшем случае имеет спорадический характер; большинство из них очень дороги; все они требуют героических усилий от родителей, как в отношении отдачи, так и в отношении времени; очень трудно предсказать, какие дети отреагируют хорошо, а какие – плохо на данную методику лечения.
Тем не менее, есть надежда – надежда на улучшение, на прогресс и, в некоторых случаях, на выздоровление. Даже если это не полное выздоровление, детям-аутистам можно помочь – причём иногда очень значительно – посредством применения различных терапевтических подходов. Сегодня, к примеру, родители серьёзно изучают полезные свойства витамина В6 и магния, а также специальных диет, с целью использовать их для борьбы с тяжёлыми пищевыми аллергиями. Это – развивающаяся сейчас отрасль исследования; она изучает различные терапевтические подходы, на которые у части детей зарегестрирована положительная реакция.* Само собой разумеется, что всем родителям, обращающимся к нам с Марком за помощью, мы советуем организовать интенсивную структурированную бихевиористическую программу. Такая программа не лишает вас возможности попробовать какой-либо другой, кажущийся многообещающим, метод. Мы знаем, что многие родители пробуют одновременно два-три вида терапии. Но для нас, и для многих других, бихевиористческая программа олицетворяет основной терапевтический подход для наших детей. Мы также подчёркиваем для родителей, что даже если они полагают, что знают, что такое бихевиористическая модификация, им стоит повременить с решением. (?) Бихевиористическая терапия основывается на тщательно разработанной программе обучения; это проверенный временем, прошедший всевозможные исследования метод, доказавший себя в работе с детьми-аутистами – он имеет мало общего с упрощёнными замечаниями вроде, «наказание» за «плохое» поведение.** Но многие профессионалы, работающие в этой области, с медицинскими дипломами и без, систематически настраивают родителей против бихевиористического вмешательства, и, надо сказать, что иногда это имеет трагические последствия. Создаётся впечатление, что эти люди поощряют страхи родителей о трудностях терапевтического подхода: вместо того, чтобы помочь им увидеть положительный эффект, который оказывает такое вмешательство, они только усиливают нежелание родителей попробовать применить бихевиористическую программу. Я лично знаю родителей, которым в категорической форме было сказано, что бихевиористическая терапия нанесёт непоправимый ущерб их ребёнку.
Кто же эти ярые антибихевиористы? Каковы их собственные методы и взгляды? По большому счёту, они – сторонники тех или иных психодинамических подходов: терапии объятия, процесса выбора (the Option Process), терапевтических ясель и игровой терапии. Кроме общей неприязни к бихевиоризму, их объединяют одни и те же теоретические взгляды (?). * За информацией об этих и других терапевтических методиках обращайтесь в Институт по Ислледованию Аутизма – the Autism Research Institute (4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92216). Вам также смогут помочь в Американском Обществе Аутизма – the Autism Society of America. Несмотря на то, что эта организация не проводит исследования, она может предоставить информацию, касающуюся юридического и образовательного вопросов. Обращайтесь в общество по адресу: the Autism Society of America, 8601 Georgia Avenue, Suite 503, Silver Spring, MD 20910. Tel.: (301) 565-04433. ** Я вспоминаю одну мать, сказавшую мне: «Я занималась бихевиористической модификацией! Я наказывала свою дочь за неверное поведение!» Я считаю, что здесь можно провести аналогию с человеком, утверждающим, что он «прекрасно знает» Францию, после того, как он переночевал в аэропорту Шарль-Де-Голль.
Не все психодинамические подходы объявляют причиной аутизма неумение родителей наладить контакт с ребёнком. Не все считают, что природа аутизма психогенична. Некоторые, но не все, концентрируются на социально-эмоциональных ранах (?), полученных в раннем детстве. Всё то, что я называю психодинамическими подходами, объединяет следующая концепция.
Под оболочкой ребёнка-аутиста скрывается маленькое покалеченное существо: целостная личность, способный, думающий ребёнок, понимающий сложный язык. Если ребёнок не говорит, так это оттого, что он сам так решил. Этот «спрятанный» нормальный ребёнок, «внутри» ребёнка-аутиста, слишком напуган и расстроен, чтобы «выйти наружу». Слово «прорыв» так часто встречается в лексиконе психодинамических подходов именно из-за этой концепции о нормальном здоровом ребёнке каким-то образом «похороненном» или «заключённом» в раковине аутизма. Ребёнок, выходящий из своей раковины, – это любимый образ этого учения.
А как же заставить его выйти наружу? Самый эффективный способ «достучаться» до такого ребёнка – это убедить его в абсолютной безопасности, понимании и любви. Более того, психодинамические подходы, все без исключения, утверждают, что любая попытка навязать этому скрытому раненному я какую-либо просьбу или требование, приведёт к дальнейшему эмоциональному потрясению.
В свете этого подхода понимания-уважения-любви, бихевиористическая модификация, которая очень много требует от ребёнка и настаивает на том, чтобы изменить его, подвергается острой критике. Родители, которые обращаются к бихевиоризму, обвиняются в том, что они манипулируют ребёнком ради своих «интересов».
У психодинамической концепции есть три наиболее часто встречающиеся вриации.
Первая настаивает на том, что необходимо войти в мир ребёнка, вместо того, чтобы пытаться затащить его в наш мир. Во многих терапевтических яслях, которые обещают «чуть больше, чем просто заботу и уход», воспитательница бегает за ребёнком (насколько это возможно, когда на десять детей приходится одна воспитательница) и уважает его выбор вместо того, чтобы навязывать ему свою волю.
После того, как моя подруга Люсиль сходила посмотреть, чем её дочь занимается в одних из этих яслей, она позвонила мне. «Элисон стоит около песочницы и весь день пересыпает песок из одной чашки в другую, – сказала она испуганным голосом. – Что мне делать? А директор говорит только то, что это её способ самовыражаться». Один отец рассказал мне, что в терапевтических яслях его сына, воспитатели позволяли мальчику кружиться волчком на одном месте длительные периоды времени. – Почему? – спросила я его. – Они говорят, что ему необходимо это делать, – ответил отец. – Почему ему необходимо это делать? – настаивала я. – Я не знаю, но они-то должны знать! Они – эксперты! – ответил он.
Сторонники терапии объятия, сильнее всех одержимые идеей «покалеченного, спрятанного» ребёнка, позволяют насильственное физическое объятие. Но они негодуют по поводу любого вмешательства, когда это не касается сеансов терапии объятия. Насильственная любовь – да. Насильственное обучение – нет.
Разумеется, часто встречается несоответствие между тем, что проповедуют сторонники подходов, основанных на любви-понимании, и тем, чем они занимаются на самом деле. Одной из самых известных психодинамических терапевтических программ является Процесс Выбора (the Option Process). По словам Барри Кауфмана, автора книги “Son Rise” (издательство Harper Row), в которой он описывает процесс выздоровления своего сына, Рауна, Процесс Выбора это лишённый всяческой критики подход к личностному росту, который помогает людям справляться со своими проблемами и воспринимать самих себя, как лучший источник для решения этих проблем. Он базируется на полном взаимопонимании, которое мы описываем фразой «любить кого-то- это быть счастливым рядом с ним». Это означает, что вы решаете любить других людей – в том числе, конечно, самого себя – и быть счастливым рядом с ними, такими, как они есть, не пытаясь изменить их, несмотря на то, что вы, естественно, готовы помочь им реализовать себя.* * «Интервью с Барри Нейлом Кауфманом. Лечащая сила безусловной любви», автор – Рон Нельсон, журнал Science of Mind, представлено организацией The Option Institute and Fellowship. В настоящее время Институт Выбора в Массачусетсе берёт с родителей 5,500 долларов за пятидневный семинар, обучающий их, как работать с ребёнком-аутистом или другим «особенным» ребёнком. Мне это кажется очень странным в свете приказа «полностью принимать» таких детей «такими, какие они есть». Сьюзи Кауфман, жена Барри Кауфмана, говорит: «Мне совершенно не мешало, что Раун был аутистом». Тем не менее, она провела «…более трёх лет, двенадцать часов в день, семь дней в неделю с Рауном, в течение каждого часа бодрствования».* Почему она это делала? Откуда Кауфманы узнали, что их неговорящий ребёнок «хотел» измениться? Почему они захотели «изменить» его?
В толстом цветном буклете, который я получила по почте из Института Выбора – «Места Чудес» – процесс выбора описывается исключительно в тёплых тонах. Их литература много говорит о «взаимопонимании без критики… безусловной любви… новом выборе… самопонимании…». Это выглядит очень хорошо. В брошюре помещены идиллические фотографии обнимающихся парочек; групп людей, сидящих в кругу на траве и держащихся за руки, (видимо они как раз практиковали «безусловное взаимопонимание»), Барри («Беарз») Кауфмана и Сьюзи Кауфман в обнимку, любяще улыбающихся в камеру.
Но спасает ли Процесс Выбора детей от аутизма? Сомневаюсь. К информационному буклету прилагается множество восторженных писем от родителей, но нет ни одной объективной оценки плюсов и минусов метода от незаинтересованного психолога или психиатра. Также ни в одном из этих писем нет и упоминания о том, что дети-аутисты или аутисты в прошлом посещают нормальную школу наравне со своими сверстниками. (?) Как и нет ссылок на статьи из психологических или медицинских журналов, которые могли бы подтвердить сказки о чудесных излечениях. Множество хвалебных гимнов об улучшении, но ни одного объективного подтверждения.
Процесс выбора, как и терапия объятия, несомненно, улучшают состояние родителей. Многие из них, согласно письмам, предоставленным Институтом Выбора, стали счастливее ощущать себя рядом со своими детьми, принимать их такими, какие они есть, после посещения Института. И, конечно, необходимо упомянуть о философской стороне вопроса, которая позволяет родителям верить в то, что аутизм ребёнка – это не неизлечимая рана, нанесённая их жизни, а, напротив, возможность для внутреннего роста и глубокой любви.
Но у родителей также есть право знать, чего ожидать от ребёнка, когда они решают положиться на процесс выбора. Меня беспокоит частое появление слов «излечение» и «чудо» в их литературе – особенно, когда в этой литературе нет и упоминания о недостатках подхода, о статистике неудач и, разумеется, нет и слова о разочарованных родителях. Меня очень тревожит то, что некто взимает с родителей тысячу долларов в день за надежду на излечение – излечение, неподтверждённое научными фактами из какого-либо профессионального журнала. Количество рекламного материала, выпускаемого Институтом Выбора, огромно: глянцевые фотографии, рекламы книг, брошюры, пластинки, кассеты, семинары, даже специальные стулья – всё, конечно, незадаром, и эту цену многие родители рады платить.
Как и следовало ожидать, сторонники процесса выбора, как и все, ратующие за чувствительное интуитивное понимание спрятанного ребёнка, подвергают острой критике «невероятно бесчеловечный» бихевиористический подход. Одним утром я решила сама позвонить в Институт Выбора. На звонок ответила очень приветиливая молодая женщина. Я попросила поговорить с кем-то, кто бы мог рассказать мне о программе для детей-аутистов.
– Вам надо назначить приём у Синди Бьяджи,** – сказала девушка. – Она расскажет вам о программе для особенных детей.
Позже я поговорила с Синди.
Я: «Не могли бы вы сказать мне, каков процент удачных случаев (?) в Институте Выбора? Скольким детям вы помогли вылечиться от аутизма?»
Синди: «О, процент успеха. Это даже забавно. Но что вы подразумеваете под «процентом успеха»? У нас здесь находится много разных детей с различными проблемами… Я имею ввиду, почему вы хотите знать о проценте успеха? Из-за того, что вы хотите убедиться, что вы можете добиться успеха…?»
Несмотря на мою настойчивость, Синди не смогла обеспечить меня хоть какой-то конкретной информацией о частоте случаев выздоровления, особенно, в отношении детей-аутистов. Она увиливала от прямого ответа, когда я спросила, может ли она назвать хоть одного аутиста, или аутиста в прошлом, который сейчас функционирует на одном уровне со своими сверстниками, не считая сына Кауфманов, Рауна. * Там же ** Вымышленное имя Я спросила её, что Институт Выбора думает по поводу бихевиористической модификации.
– Бихевиористическая модификация абсолютно противопоказана детям. Она превращает их в роботов. – Не читали ли вы в недавней литературе (?) о случаях излечения детей от аутизма посредством интенсивной бихевиористической модификации? – Мне не надо читать литературу. Я знаю из своего опыта, что бихевиористическая модификация абсолютно противопоказана ребёнку.
Второй излюбленной темой психодинамических подходов по отношению к вопросу аутизма является концепция «терапевт-как-провидец».
Основными характеристиками провидца являются понимание, интуиция, чувствительность и способность проникать во внутренний мир больного ребёнка при содействии таинственных высших сил. Провидец – он тот же переводчик, анализирующий скрытое значение поведения ребёнка и объявляющий во всеуслышанье, что это за значение. Провидец спокоен и мудр, он уверен, что может «читать» секретную жизнь ребёнка в отличие от других людей. Мой друг называет это подходом «травяного чая и кристаллов» к аутизму
Так, Беттельгейм берёт несколько рисунков, сделанных маленькой девочкой, Лори. На первых работах изображены чёрные круги, а на последних – круглые белые «дыры». Чёрные круги – это «плохая грудь/ плохая мать»; тогда как белые дыры это «хорошая грудь/хорошая мать».
Марта Велч берёт за аксиому терапевта понимающего (что это за понимание – приобретённое с помощью учёбы? интуитивное? мистическое? Но в любом случае, оно – высшее). Она пишет, что роль терапевта «наблюдать и переводить сигналы, посылаемые матерью и ребёнком, которые они сами не могут понять».
Некоторые мои знакомые матери поделились со мной интересными интерпретациями различных психологов и психиатров, с которыми они консультировались.
«То, как Элизабет открывает и закрывает двери, свидетельствует о её склонности к конфликтам: должна ли она дать волю своему гневу? Или ей стоит удержать его внутри?»
«То, что Майкл постоянно дотрагивается до различных предметов, говорит о том, что он хочет, чтобы родители допустили его в свои чувства».
Провидец не только понимает ребёнка; он даёт название его болезни. Его «диагноз» ребёнка часто облачён в замачиво научные или обладающие медицинским звучанием термины: «симбиотический психоз», «патология диада мать-ребёнок» и, конечно, это туманное определение: «эмоциональное расстройство». С помощью этих квази-медицинских диагнозов провидец усиливает вокруг себя ореол профессионала.
Надо сказать, что психодинамический подход к аутизму насаждается таким образом не только в США, но и в других странах. Во Франции, например, самые невинные жесты родителей по отношению к своим детям-аутистам истолковываются, как враждебные помыслы. Одна пара была обвинена в том, что не хотела рождения своей дочери, больной аутизмом. Доказательство? Они назвали её Сильви. По-французски, Сильви звучит как s’il vit, что означает «если бы он жил». Родители два раза просигналили о своём неприятии дочери: поставив в её имя условную частицу «если бы» и местоимение мужского рода il («он»).
Другую французскую пару обвинил их психиатр в скрытой враждебности к своему сыну-аутисту. И снова эта враждебность была очевидна из выбора имени. Их фамилия была Бланко (ассоциация с белым цветом); они выбрали для своего сына имя Бруно (ассоциация с темнотой).*
И так это повсюду. Скрытые значения, зашифрованные послания – всё это существует, но только избранные могут прочесть эти сигналы. «Мы стремимся понять, почему этот ребёнок такой вместо того, чтобы заставлять его измениться», – так одна из наиболее преданных учениц Беттельгейма объяснила суть подхода любви-и-понимания. Это так по-доброму звучит, но на безрезультатные попытки понять то, что не дано понять ни одному человеку, уходят лучшие годы для того, чтобы вернуть ребёнка в нормальный мир. Годы тратятся на то, чтобы исследовать лабиринт покалеченной души ребёнка. Время уходит очень быстро, пока вы боретесь за то, чтобы удержать ребёнка от падения в пропасть. * Veronique Grousset, “La fillete au Moi Dormant,” Figaro, September 21, 1991 Третим излюбленным мотивом психодинмаических подходов является акцент на терапевта, как на спсителя и врачевателя, в противоположность родителям, обычно матери, которая, в лучшем случае, представляется невежественной и неуклюжей, в худшем случае – разрушительницей, которая способствует (если не является их причиной) проблемам ребёнка. Роль спасителя – не только понять, но также излечить эмоциональную рану. Это вам не просто обучить ребёнка некоторым навыкам (или, если сказать более пренебрежительно, «выдрессировать» его).
В свете этого нарцистического образа терапевта, как врачевателя душ, наиболее ярко выражается идея Беттельгейма о хорошем докторе и плохой маме. Хотелось бы подчеркнуть, что книга Беттельгейма «Пустая крепость» – это не только атака на «бесчувственных матерей-разрушительниц», но и пространная хвалебная песнь себе и своему персоналу в школе для детей-аутистов и детей с другими «расстройствами», которую он создал при Чикагском Университете. По ходу книги неоднократно подчёркивается понимание и забота Беттельгейма и персонала школы, а также глубокая благодарность детей по отношению к своим терапевтам-спасителям.
Когда я повёл Лори обратно в спальню, она радостно побежала со мной к своей воспитательнице, терапевтам и детям. Но через несколько минут, когда я сообщил ей, что она должна уехать из Школы [со своим отцом]… она вернулась в состояние абсолютной пустоты, в котором она пришла к нам.
Тинбергены, примерно так же, представляют себя, как обладателей глубокого, интуитивного понимания нужд детей-аутистов. Они описывают самих себя добрыми, терпеливыми наставниками, относящимися к детям с исключительным уважением. Они внушают благоговение даже самым опытным специалистам.
Одна из нас… снова и снова демонстрировала свою манеру обращения с самыми «тяжёлыми» детьми-аутистами: она оценила ребёнка и приспособилась к его «эмоциональному возрасту»… Реакция [персонала клиники] была неизменной: «Я и не представляла себе, насколько осторожно и терпеливо вы входите в контакт с ребёнком, и как быстро ребёнок может начать вести себя более зрело, пока не увидела это своими глазами…» Они уверяли нас… что за одно занятие, продолжительностью менее часа, ребёнок вышел из своей раковины гораздо дальше, чем они видели раньше.
Эта уважительная осторожность, эта чувствительная и таинственная способность выводить детей «из их раковин» противопоставляется неуклюжести родителей – как об этом говорят Тинбергены: «… неуверенные в себе, грустные или неопытные матери или отцы, [которых] надо учить, как играть с детьми…»
Один мой знакомый психолог когда-то принадлежал к числу тех профессионалов, которые называют сторонников подобной психодинамической интервенции «второстепенными лунатиками». Может быть они и лунатики, но точно не второстепенные. Напротив, они настойчивы, современны и широко распространенны.
Взять, к примеру, игровую терапию, начало которой было положено психологом Вирджинией Экслайн в Америке в 1947 году.
Книга Экслайн «Игровая терапия» (“Play therapy”) вышла в 1992 году в двадцать восьмом издании. Она пропагандирует концепцию «понимания-уважения-принятия». В её другой книге под названием «Дибс в поисках Себя» (“Dibs in Search of Self”), вышедшей сейчас уже в пятидесятом издании, она применяет принципы игровой терапии в своей работе с маленьким мальчиком, Дибсом. Экслайн сама не называет Дибса аутистом, предпочитая называть его эмоционально неуравновешенным. Но для любого, кто хоть немного знаком с характеристиками этого заболевания, нет никакого сомнения в том, что Дибс – аутист. Тинбергены ссылаются на эту книгу в своём приложении, называя её «книжным алмазом» (?) и добавляя, что Дибс – «типичный» представитель класса детей, о котором они пишут.
В любом случае, влияние книги продолжает быть настолько значительным, что игровая терапия всё ещё повсеместно рекомендуется детям-аутистам. Фактически, некоторым родителям даже не сообщают о других видах лечения, кроме как о игровой терапии – в лучшем случае, добавляют раз в неделю сеанс речевой терапии.
У Беттельгейма был литературный талант строить невообразимые башни психологического жаргона, чтобы укреплять свои атаки на родителей.(?) Экслайн не утруждает себя по этому поводу. С первых же страниц её книг, становится ясно её простое и чёткое послание. Родители – это враг, холодный, эгоистичный, издевающийся над своими детьми. Её книги – это истинные оргии праведного гнева против людей, которые нанесли такой вред эмоциям своих малышей. Дети, которых она описывает, неизменно «отверженные, неуверенные, нелюбимые». Она приводит рассказ за рассказом о патологических родителях. «Многие дети в этой книге явились жертвами родительской небрежности и отсутствия любви».
С помощью её опыта в игровой терапии, её собственной версии подхода нежного понимания, эмоциональные раны залечиваются, и ребёнок выходит на свободу. В игровой комнате к ребёнку относятся с уважением. Остаются за дверью все «причуды взрослых, их запросы, приказы, критика, неодобрение, насильственное вмешательство». Вместо всего этого ребёнок находит присутствие понимающей, дружелюбной и приветливой воспитательницы-терапевта… [которая] сопереживает ощущениям ребёнка… она уважает ребёнка… она передаёт ему, что она понимает и принимает его таким, какой он есть, в любое время, независимо от того, что он говорит или делает. Таким образом, терапевт даёт ему мужество проникнуть глубже и глубже в свой внутренний мир и вывести на свет своё настоящее я…
Тем не менее, Экслайн предупреждает всех терапевтов, что часто очень трудно избавиться от Матери. «Мама будет пытаться вмешаться в лечение, если терапевт не будет достаточно внимателен». Она предлагает терапевту сказать матери что-то вроде: «Разве у вас не назначена встреча с господином таким-то?» Этого часто бывает достаточно для того, чтобы Мама поняла намёк и отошла в тень.
Экслайн говорит о том, что то, что происходит в игровой комнате после того, как удалена основаная помеха, должно подчиняться строгим правилам. Терапевт должна принимать ребёнка таким, какой он есть.
Всё, что произносится терапевтом, не должно носить указательный характер. Все фразы должны быть только отражением того, что говорит ребёнок. Терапевт охраняет ребёнка от критики и неодобрения… Она избегает похвалу за какие-либо действия ила слова…
Ребёнка ни в коем случае нельзя торопить, как и давить на него. В конце концов, по словам Экслайн,
Когда перестаёшь думать о том, что родители привели ребёнка в клинику, чтобы изменить его, понимаешь (и это, кажется, так и есть*), что родители отрекаются от какой-то части, если не от всего ребёнка.
С другой стороны, терапевт-спаситель точно знает, как помочь ребёнку. Она создаёт ощущение полного взаимопонимания и вседозволенности, так что ребёнок может выразить свои самые глубокие чувства – эти чувства непременно сводятся к затаённому гневу против матери.
Во время терапии Билл хватает куклу-маму. Он переворачивает её вниз головой. Он срывает с неё одежду.
Билл: Я набью её.
Терапевт: Тебе хочется набить её.
Билл: Я зарою её в песке. Она задохнётся.
Терапевт: Ты сейчас задушишь её в песке.
Билл: Больше её никто не увидит.
Терапевт: Ты избавишься от неё. Никто её больше не увидит.
Помогает или нет нормальному ребёнку это бесконечное отражение чувств справиться со своими душевными ранами, это спорный вопрос. Но когда такое рекомендуется для лечения детей-аутистов, я выхожу из себя. В книге «Дибс в поисках Себя» Экслайн достигает невиданных рекордов в уничижении матери и прославлении терапевта-спасителя.
У Дибса были эхолилия и стереотипные манеры, он путал местоимения, отличался чрезмерным стремлением к одиночеству. Младенцем он сопротивлялся объятию своей матери, он напрягался и плакал каждый раз, когда она брала его на руки. Он обладал многими техническими способностями, такими как, например, быстрое чтение и распознавание чисел, но не был способен к нормальной интеракции или коммуникации. Он впадал в истерику всегда, когда кто-либо пытался вмешаться в его рутинные занятия. * Слова Экслайн, не мои. – Возможно ли, что он аутист? – вопрошает мать в отчаянии. – Нет, – отвечает психиатр, – но он самый отвергнутый ребёнок из всех, кого я видела в своей жизни.
Экслайн нападает. Сцена за сценой, она описывает мать, как чёрствую, глупую женщину, пытающуюся выглядеть интелектуалкой, которая «не умеет относиться к своему сыну с любовью, уважением и пониманием». Мать ведёт себя рядом с Экслайн скрытно и сдержанно, ведь она уже знакома с современными методами инквизиции. Психиатры отнюдь не в самой мягкой форме дали ей понять, что они о ней думают. Воспитатели в детском садике её сына с трудом скрывают свою враждебность к ней. Одна воспитательница не выдерживает и гневно выступает во время совещания, посвящённому проблемам Дибса (мать Дибса не была допущена на это совещание):
Да она скорее сочтёт его умственно отсталым, чем признается в том, что его эмоции могут быть задеты, и что она в этом виновата.
Но Экслайн считает, что понимает, в чём причина скрытности матери. Она гадает о том, что же скрывает эта женщина.
Что же на самом деле думает и чувствует эта женщина по отношению к Дибсу? Какую роль она сыграла в этой юной жизни, что сама перспектива говорить и отвечать на вопросы о сложившейся ситуации, так пугает её?
Наконец, в кульминационной сцене, мать признаётся Экслайн в своих грехах.
Неожиданно [мать] заплакала. «Я не знаю, как я могла так с ним поступить, – говорит она сквозь слёзы. – Мой разум, как будто, улетучился. Я вела себя импульсивно и абсолютно неразумно… Я не могла признаться в том, что отреклась от него…»
Само собой разумеется, что после того, как Экслайн начинает работать с этим отвергнутым ребёнком, он расцветает, делает рывок, выходит из своей раковины и т.д. и т.п. Всего лишь за несколько часов игровой терапии, проникнутой любовью, пониманием и лаской, она возвращает этого «совершенного» мальчика к жизни, и он становится счастливым нормальным и очень умным ребёнком.
В конце книги приводятся трогательные сцены, в которых родители Дибса благодарят Экслайн за чудо, которое она для них сделала. А также сам Дибс называет её своим «близким другом» и благодарит за то, что она «подарила ему самое чудесное время в его жизни». Фактически, Экслайн посвящает целую главу теме своей сакраментальной роли в жизни Дибса. Как эти «спасители» жаждут признания и восхищения!
Превращение родителей в козлов отпущения началось не с Беттельгейма и не закончится Мартой Велч, Тинбергенами и терапевтическими яслями, которые до сих пор пытаются лечить аутизм, как «эмоциональное расстройство», «патологию взаимотношений матери и ребёнка». Это не закончится с пятнадцатым изданием книги о Дибсе, или вследствие того, что некоторые более просвещённые психологи и психиатры объявили это вчерашним днём. Обвинение родителей продолжается снова и снова, появляется в разных формах, более или менее циничных.
Неколько родителей поделились со мной результатами оценочных отчётов своих детей. В начале меня очень смутил тот факт, что в этих предположительно медицинских, научных документах, постоянно появлялась скрытая или явная критика поведения родителей. Теперь меня это по крайней мере не удивляет. Я стала ждать этого. Это стоит в том же ряду, что и объявление родительской «патологии» и жизненных событий причиной аутизма.
«Родители Майкла опоздали на двадцать минут».
«Казалось, что родители не обеспокоены симптомами ребёнка».
«Мать Джона была нервной и властной женщиной».
«Родители использовали медицинскую терминологию в описании поведения Тимоти. Казалось, что они хотели скрыть свои негативные эмоции с помощью псевдонаучной лексики».
«Родители уехали в отпуск без своего ребёнка, когда ему было всего один год».
Когда я узнала, насколько распространён этот феномен, – профессионалы обвиняющие родителей – я позвонила доктору Римлэнду. Он только горько посмеялся. «Мне неприятно говорить об этом, – сказал он, – но за двадцать пять лет чтения тысяч отчётов о детях-аутистах, я едва ли видел десяток таких, в которых нет какого-нибудь обличающего родителей замечания!»
Если проповедники этих подходов любви и понимания не рекомендуют психотерапию для родительской патологии, то они советуют «полное, без тени критики понимание» ребёнка. Часто две эти рекомендации сопутствуют друг другу. Но есть один вид лечения, которым они не советуют пользоваться родителям: это бихевиористический подход. Ведь гораздо легче, выгоднее и приятнее для собственного эго разглагольствовать о всякой психологической ерунде (?).
Я принимаю реальность. В этом беспокойном мире встречаются жестокие родители, небрежные родители, родители, которые своим неумелым обращением наносят вред своим детям. Но я готова утверждать, что абсолютное большинство родителей, которые ищут помощь для своих детей, не такие. Они готовы сделать что угодно, пожертвовать чем угодно – только бы вернуть своему ребёнку здоровье.
Я также принимаю возможность того, что есть случаи злоупотребления бихевиористической модификацией – это несовершенный терапевтический подход, далёкий от чуда, который обеспечивается трапевтами – живыми людьми. Но автоматическое осуждение бихевиористического подхода – это совсем другое дело. Обиднее всего, что именно осуждение слышат родители в большинстве случаев.
Бихевиорист обычно изображается этаким бездушным чудовищем, в то время как психотерапевт показывается добрым волшебником. Бихевиорист, якобы, издевается над ребёнком, а спаситель-кудесник представляет себя, как некоего ангела любви и понимания, обладающего тайным интуитивным умением проникать в душу ребёнка. А время идёт.
Как сказал мой друг-психолог: «Слишком много терапевтических ясель функционирует сегодня, как дорогостоящие няньки. Причём люди, которые там работают полагают, что они каким-то образом помогают детям вылечиваться». В Нью-Джерси есть несколько организаций, предназначенных для детей-аутистов. В них уже несколько лет практикуется бихевиористический метод. Я познакомилась с персоналом и с учениками одной такой школы и была очень огорчена, узнав с какой критикой им приходится регулярно сталкиваться. Директор «одних из лучших» терапевтических ясель Нью-Йорка посетила эту школу; её реакция была, увы, предсказуема. «Я бы пригласила вас посмотреть нашу программу, – сказала она, – но я уверена, что вы возненавидите её так же, как я вашу». Можно только догадываться, скольких родителей эта идеология отпугнула от бихевиористической терапии. Её сентиментальные, тёплые, ласковые, любовные принципы выживают: страдают от этого только дети.
В то время, как я редактирую и дополняю эту главу, появляется новшество: метод облегчённой коммуникации (Facilitated Communication (F/C) – «сенсация» в области аутизма. (С того времени, как моей дочери был поставлен диагноз в 1987 году, такие «сенсации» и «чудесные средства» в области аутизма появляются, как минимум, раз в год. Средства массовой информации, как правило, лихорадочны и непостоянны, а родители в отчаянии кидаются на всё, что сулит хоть какую-то надежду).
F/C – это метод, который помогает людям-аутистам, – часто страдающим заболеванием в очень тяжёлой форме – общаться через письмо, пишущую машинку или компьютер. Приверженцы этого метода утверждают, что почти в 100 процентах (да-да, ста процентах) случаев, аутисты способны понимать даже очень сложный язык и передавать свои совсем не простые чувства и мысли, при условии, что рядом с ними присутствует помощник, который, якобы, не направляет их руки, когда они нажимают на клавиши.
Могут ли родители, воспитатели или учителя овладеть техникой? Специалисты по F/C говорят, что только, если эти люди изначально положительно настроены по отношению к методу. Чтобы стать хорошим помощником, необходимо «верить» в метод.
Имеется ли объктивная информация, способная доказать эффективность облегчённой коммуникации – к примеру, способная доказать, что коммуникация исходит от аутиста, а не от руки помощника? Ответ на этот вопрос, видимо, отрицательный. Роберт Камминс и Маргот Прайор, которые пишут в Harvard Educational Review (лето, 1992 год), говорят о том, что систематическая проверка метода облегчённой коммуникации не обнаружила объективного доказательства того, что хотя бы в одном случае инициатива исходила от клиента. Более того, согласно всем достоверным исследованиям, в каждом изученном случае помощник, намеренно или нет, был отвественным за записанный ответ.
Кажется всё было бы понятно, если бы не статья о F/C, опублкованная в газете Newsweek в сентябре 1992 года. В статье сообщалось о том, что не только очень плохо функционирующие дети-аутисты выражали свои мысли и чувства в грамматически правильных предложениях, но даже дети из хинди- или испаноговорящих семей могли печатать фразы на совершенном английском языке.
Ещё больше беспокоит почти истерическое размножение судебных исков сторонников F/C, обвиняющих родителей детей-аутистов в сексульном насилии. Только в Сиракузском районе (Сиракуз, Нью-Йорк – это центр американского движения облегчённой коммуникации) появилось не менее сорока исков. В одном случае в насилии были обвинены отец и двое дедушек одной молодой женщины. После того, как отец был принуждён уйти из дома, случилось так, что двое дедушек уже умерли. Дело тянулось десять месяцев и в результате было закрыто за недостатком свидетельств. (?)
Подытожив всё вместе, можно сказать, что последняя «сенсация» в лечении аутизма имеет те же тревожные характеристики, что и различные другие психодинамические подходы: · Внутри ребёнка-аутиста скрывается мыслящий, чувствительный, непонятый ребёнок. · Только терапевт умеет «достучаться» до ребёнка каким-то таинственным, интуитивным способом. · Родители часто рассматриваются, как преступники: в данном случае они обвиняются не только в эмоциональном издевательстве над ребёнком, но и в сексуальном насилии над сыном или дочерью. Всё это не означает, что метод F/C совершенно бесполезен. Доктор Римлэнд, чьей объективности я всегда доверяла, рассказал мне, что за свою тридцатилетнюю карьеру он видел пять или шесть детей, которые могли немного писать, но не могли говорить.
А как же насчёт других подходов, описанных в этой главе? Я убеждена, что во всех них есть рациональное зерно. Но очевидно, что приверженцы этих методов явно преувиличивают их эффект и при этом не стремятся подвергнуть их объективной научной проверке. Более того, и это ещё печальнее, они вдохновляют родителей искать спасения в каком-то одном «чудесном методе» и отпугивают (?) их от трудного, напряжённого, скучного режима бихевиористического подхода.
Сегодня я уже умею распознавать опасные слова: «налаживание взаимоотношений» вместо «обучение; «эмоциональное расстройство» вместо «болезнь»; «психически ненормальная мать» вместо «страдающая мать»; «чудесное средство» вместо «выздоровление». Я научилась остерегаться людей, продающих чудо, а потом объясняющих, что средство не сработало потому, что у родителей не было правильного «отношения» к лечению ребёнка.
Любой человек, будь он самым сильным, умным и объективным человеком, может попасться на удочку сомнительных обещаний, если жизнь его ребёнка в опасности. Единственное научно подтверждённое опубликованное исследование (основанное на изучении статистического анализа, а не на анедоктах), которое свидетельствует о какой-то степени излечения детей-аутистов, высказывается(?) в пользу бихевиористического вмешательства в раннем возрасте.
Как сказал мне однажды один отец, который занимается домашней терапией со своим сыном: «Есть эмоциональная поддержка, и есть Ловас. Есть сеансы объятия, и есть бихевиористическая модификация».
Глава 34
В июне 1991 года Анн-Мари закончила подготовительную группу детского сада.
Через несколько недель после окончания учебного года мы получили годовой отчёт от её воспитателей, которым мы никогда не рассказывали об её истории.
….Анн-Мари дружелюбная и заботливая девочка. Сейчас она с большей лёгкостью завязывает контакт со своими сверстниками и устанавливает с ними более серьёзные отношения… Анн-Мари дружит со своими воспитательницами и сейчас делится с ними своими мыслями больше, чем раньше… Анн-Мари – хороший товарищ и активный участник группы; она научилась брать на себя свою часть ответственности… Анн-Мари – способный ребёнок; она любит учиться… Её способности слушать других и выполнять указания значительно улучшились в последнее время…. Она стала легче фокусироваться на заданиях и проявлять настойчивость в их выполнении… Доставляет огромное удовольствие видеть, что Анн-Мари чувствует себя свободно и уверенно в среде детского сада и с удовольствием принимает участие в различных занятиях вместе с остальными ребятами…
«Не слишком плохо для «робота», – подумали мы с её отцом.
Мишель закончил учебный год в Мэррикэте, а затем пошёл в другой детский сад,где, как и у Анн-Мари, никто не знал о его диагнозе. Во время нашего первого родительского собрания в этом детском саду его воспитатели сообщили, что «нечего особо обсуждать: у него всё в полном порядке». – Он общается с вами? В смысле, всё ли у него в порядке с языком? – спросила я. – Да. – Он играет с другими детьми? – Да, у него уже есть пара друзей из группы. – Он не агрессивен? У нас были с этим проблемы. – Мы этого не заметили. Мы ещё немного поговорили. В какой-то момент я должна была остановить себя, чтобы воспитатели не сочли странной меня. Почему эта женщина продолжает расспрашивать, есть ли у её сына проблемы?
Доктор Коэн снова наблюдал обоих детей осенью 1991 года. Анн-Мари было уже пять с половиной лет, а Мишелю исполнилось три года и десять месяцев.
Анн-Мари с удовольствием общалась со своими мамой и братом и казалась счастливым ребёнком. Её вебальный и невербальный язык были в соответствии с возрастом, и ей очень нравилось рассказывать разные истории и играть с куклами в «чай». Она хорошо ждала своей очереди и выразила желание помочь брату, когда он испытывал трудности с некоторыми вопросами.
Доктор Коэн сказал, что согласно всем категориям теста Винелэнда, Анн-Мари была «хорошо ориентирована» и функционировала в соответствии со своим возрастом. И – наконец-то – он не заметил ни одного остаточного явления аутизма: «В поведении девочки не было ни одного признака аутизма».
Что же касается Мишеля,
… [он] хорошо общался с мамой и сестрой и терпеливо ждал своей очереди, если требовалось. Он был довольно внимателен, спрашивал и сам отвечал на задаваемые ему вопросы. Он играл с куклами в игры на воображение (как в качестве имитации, так и спонтанно), и не молчал, если что-то было ему непонятно, например: «Я забыл, что это (и указал на игрушечное колесо)». В его речи не было эхолалии…
Стандартный балл Мишеля продолжает улучшаться и уже сейчас находится в пределах нормы. За прошедшие восемь месяцев он приобрёл тринадцать месяцев в коммуникации, двенадцать месяцев в бытовых навыках, пятнадцать месяцев в социализации и двенадцать месяцев в двигательных навыках. Язык соответсвует тому же возрастному уровню [четыре года три месяца], что определил специалист по патологиям речи и языка*… Мишель больше не соответствует критериям аутизма… Он кажется здоровым, счастливым и довльным ребёнком. * Марджери Раппопорт незадолго до этого оценивала язык и речь Мишеля. В некоторых подобластях его язык значительно опережает свою возрастную норму, в других он отстаёт на несколько месяцев от своих сверстников. Он набрал практически те же баллы, что были у Анн-Мари в этом возрасте. См. Приложение II, где приведены итоги его повторной проверки 1991 года. Вы также найдёте там результаты последующей проверки Мишеля, сделанной в 1993 году, за несколько месяцев до того, как эта книга вышла в печать.
Остаточные явления аутизма, по словам доктора Коэна, были выражены «в очень мягкой форме» и состояли, в основном, из проблем в произношении и «нескольких отрывочных эпизодов, когда Мишель возбуждённо хлопал в ладоши». Доктор Коэн также заметил, что «интонации мальчика были немного вопросительными, но это также не настолько серьёзно, чтобы внушать опасения».
Последующие визиты к врачу не были рекомендованы. «Мистер и миссис Моррис проделали замечательную работу для своих детей, и думается, что они хорошо знают, как справиться с каким бы то ни было остаточным лингвистическим или социальным дефицитом, прибегая (если нужно) к помощи терапевта».
Вопрос остаточных явлений не простой. Мы с Марком старались быть честными сами с собой и бдительными к любому остаточному социальному или лингвистическому дефициту, который мог проявиться у наших детей. Мы не раз сталкивались с такими случаями, когда родители или профессионалы объявляли ребёнка здоровым в то время, как у него всё ещё были ярко выражены остаточные явления: плохой зрительный контакт, сложная речь, но с признаками эхолалии, очень слабый интерес к игре с другими детьми. Мы пытались быть самыми строгими критиками своих детей, так же как их самыми горячими защитниками.
Но приходит время, и граница между «остаточным аутизмом» и поведением полноценного человека становится очень размытой. В нашем опыте не было чёткого разграничения: по одну сторону – «аутист», по другую – «абсолютно нормальный ребёнок». Скорее наоборот, то, что мы видели, было постепенным ослаблением симптомов аутизма, постепенным улучшением социальных и лингвистических навыков, постепенным ускорением способности наших детей усваивать новое из окружения. Сегодня мы смотрим на наших детей, и мы видим, что они счастливы. Они спонтанные, ласковые, внимательные к чувствам других людей. Они способны дружно играть друг с другом и с другими детьми. Мы наблюдаем определённую незрелость языка Мишеля, так же как это было у Анн-Мари в его возрасте, но мы уверенны, что он нагонит эту разницу за следующий год или около того, как и его сестра. А пока по своей болтливости он грозит обогнать любого в нашей семье.
Какое их ждёт будущее? Я не знаю. Я не могу предсказать, какими дети будут в десять, пятнадцать или двадцать пять лет. У меня также нет в распоряжении армии вылечишихся детей, чтобы сравнивать с ними Мишеля и Анн-Мари. Мы слышали, что есть несколько детей, которых вылечил Ловас, и что сейчас они живут нормальной жизнью, но мы никогда не встречали ни одного из этих детей.
Я знаю, что временами Анн-Мари бывает особенно ранима. Мы, конечно, не верим, что она когда-нибудь снова станет аутистом, но мы должны будем постоянно заботиться о ней, так как она склонна к тревоге и депрессиям. Ей необходима дополнительная доза любви и одобрения перед тем, как попробовать что-то новое. Мы работем над тем, чтобы «укрепить её». (?) Я даю ей всё больше заданий по дому – достать себе своё лакомство, накрыть на стол, одеться полностью самой – потому что сейчас больше, чем что-либо другое, ей необходимо познать свою силу и ум.
Мишель не отличается ни эмоциональной хрупкостью, ни боязливостью. Простое действие – попить сок – иллюстрирует, насколько разные эти два ребёнка.
Анн-Мари: Мамочка, могу я попить немного сока? Я: Ну, конечно, сладкая моя. Анн-Мари: Мне взять его самой? Я: Да, смелее. Анн-Мари: Мне налить его? Я: А как ты думаешь, Анн-Мари? Анн-Мари (смеётся): А, да! Я забыла. Я же могу сама решать за себя! Я: Вот правильно. Умница!
Если же Мишель хочет сок, он обычно бросается к холодильнику, распахивает дверцу, хватает сок, достаёт стакан и наливает питьё без лишних сомнений.
Можно решить – все антибихвиористы уже, конечно, пришли к такому выводу, – что бихевиористическая программа привела к тому, что Анн-Мари стала слишком зависеть от нашего авторитета. Но если бы это было так, то Мишель должен был быть ещё более робким! Я более склонна думать, что эта хрупкость всегда была частью характера Анн-Мари. Это проявлялось, когда она была аутистом, а сейчас выглядит, как обычная черта характера. Как бы то ни было, она становится всё более уверенна в себе и своих силах с каждым проходящим месяцем. Её воспитательница ещё в середине года рассказала мне, что девочка может постоять за себя, даже если кто-то из детей пытается обидеть её. Братья помогают ей учиться и тому и другому: как постоять за себя, и как найти компромисс. (?) Время от времени она проявляет признаки неповиновения, свойственные для детей пяти с половиной лет: она выпячивает свой маленький подбородок, скрещивает руки на груди, топает изо всех сил ножкой по полу и выдаёт самое сердитое слово из своего словаря: «Бе!» (?) (Мы с Марком с трудом удерживаемся от смеха).
Но кроме того, что Анн-Мари немного застенчива и неуверенна в себе (с чем может столкнуться родитель любого нормального ребёнка, и что уменьшается с каждым днём) у нас нет повода беспокоиться о будущем. Мы не лишны обычной родительской тревоги о положении в мире и состоянии общества; мы, как и все, волнуемся, как наши дети перенесут рискованное путешествие из детства во взослую жизнь. Бриджит сказала мне, что хочет продолжать «отслеживать» их в течение нескольких последующих лет, отмечая прогресс примерно каждые шесть месяцев в их школьные годы. Я сказала ей, что она всегда будет желанным гостем в нашем доме, но, что мы с Марком чувствуем необходимость положить конец этой истории. Мы сами хотим прекратить смотреть на своих детей клиническим взглядом, как под микроскопом. Мы хотим радоваться их детству, возрождённому детству. Мы хотим оставить позади слёзы прошлого и страхи о будущем. Мы хотим быть с нашими детьми в настоящем.
А настоящее прекрасно. Воскресенье, январь 1992 года. Дома раздаются детские голоса. На повестке дня – динозавры. Это тема последних шести месяцев. В этом доме больше книг про динозавров, чем про аутизм. Анн-Мари решила, что Мишель слишком много играет в динозавров. Она лежит на диване, обнимая брата обеими руками. Даниэль играет рядом. Марк решает воскресный кроссворд. Я пишу, уютно устроившись в кресле. Сладкая мелодия детского разговора – непосредственного, весёлого, глубокого и в то же время простого – обволакивает солнечный день. И как всегда, их отца и меня наполняет чувство, похожее на благоговение.
Анн-Мари: Ты знаешь, почему тебе не надо больше играть в динозавров? Мишель: Почему? Анн-Мари: Тебе надо научиться играть и в другие игры. Тебе будет скучнее и скучнее от игр в динозавров. (Тишина). Ты понял? Мишель: Да, но можно я ещё хотя бы три раза поиграю в динозавров? Анн-Мари: Да, но только не слишком много. (Они берут двух динозавров). Я буду длинношеим. Нет, я буду этим, маленьким. Мишель: Я буду моноклониусом. (?) Анн-Мари: Он может очень быстро бегать. Мишель: Мой идёт медленно. Мой ходит медленно. Анн-Мари: Но ты можешь бежать быстрее. Мишель: А моноклониус (?) ест мясо или траву? Анн-Мари: Я не знаю. Спроси папу. Мишель: Папа, моноклониус (?) ест мясо или траву? Марк: Они едят траву. Мишель (Анн-Мари): Они едят траву. Анн-Мари: О, папочка, а как называются эти маленькие? Марк: Может быть, это аллозавры. Даниэль: У аллозавров длинная шея? Марк: Аллозавр похож на тиранозавра рекс. Анн-Мари: Мишель, знаешь что? Я ем мясо! И я могу бгать быстрее, чем ты! Даниэль: Но знаешь что, Анн-Мари? Он не может бегать быстрее, чем тиранозавр рекс. Он может бегать, как человек, а тиранозавр рекс бегает быстрее человека. Анн-Мари: Мишель, знаешь что? Он на самом деле не может бегать быстрее, чем тиранозавр рекс. Мишель: А я вас всех съем! (Взрывы смеха по всей комнате). Мы прошли по долине теней, а сейчас мы идём под ярким светом. (?) Нас сопровождает Божья милость. Иногда я думаю, что это мы направляем и обучаем наших детей; но иногда я смотрю на их лица, слышу их голоса и вижу на них отблеск святости. Иногда я думаю, что это они обучают меня и Марка, они ведут нас к источнику всей этой святости, всего этого света.
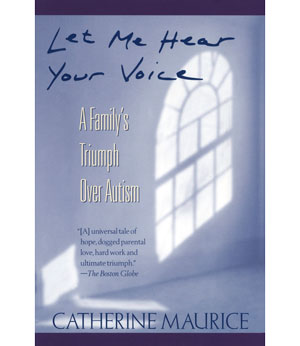
Комментировать