Часть III
Глава 1. После проповеди
К концу проповеди, когда туман его чувств стал рассеиваться, Уингфолд снова начал различать отдельные лица своих слушателей. Мистер Дрю опустил голову. Как я уже говорил, кое-какие привычки, которым он научился в юности и следовал в зрелом возрасте и которые считались среди деловых людей вполне честными, теперь, по сравнению с Божьим идеалом в торговле — то есть с такой торговлей, какой не постыдился бы заниматься Сын Человеческий, будь его земной отец не плотником, а лавочником — стали ему ненавистными, а воспоминания о них — невыносимыми. Не становилось ему легче и при мысли о том, что пока он не знал полной меры того, как все эти годы пользовался людским невежеством для своей выгоды: ведь обычно такие вещи стараются подальше укрыться в темноту и не желают выходить на свет, чтобы стать явными. Теперь он всячески старался искоренить из своей торговли все подобные обычаи, но они всё равно оставались для его духа болезненным воспоминанием, и он бесконечно страдал от их груза. Так что когда проповедник протянул ему надежду полностью и окончательно избавиться от них благодаря тому, что в нём будет обитать Бог всех живых человеков и истинных торговцев, это показалась ему неизъяснимым блаженством.
В то утро мало кто в старой церкви Гластонского аббатства подозревал, что этот известный и процветающий коммерсант плачет. Разве можно было когда-либо представить, что он спрячет в ладонях своё круглое, добродушное, сияющее довольством лицо по какой-то иной причине, нежели из-за внезапного приступа сонливости или досады на то, что ему не удалось сполна получить сегодняшние проценты! И вот теперь ещё одна человеческая душа начала взывать к Богу о своём подлинном наследии. Ах если бы и вправду стать чистым, как горная река, как воздух над облаками или посреди океана, как пульсирующий эфир, наполняющий пространства между звёздами! — нет, как мысль самого Сына Человеческого, который ради того, чтобы очистить и сотворить всё заново, восстал против древнего войска вызванных грехом страданий, выдержал, стерпел и усмирил их противодействие той немыслимой силе, которой Отец рассеял по вселенной миры, и дал новое рождение человеческим душам, чья воля может стать столь же свободной, как и Его.
Хотя Уингфолд говорил в общем, думая сразу обо всём человечестве и глядя на сидящих перед ним прихожан, мысли его беспрестанно возвращались ещё к одной душе, с её преступлением и невыносимым бременем вины: Леопольд всегда незримо присутствовал рядом с ним, и хотя Уингфолд старательно избегал пользоваться кафедрой для того, чтобы лично обращаться к кому-то из прихожан (как бы оправдано это ни было), неудивительно, что все его слова пронизывало воспоминание о том, кто из всех его знакомых был более всего отягощён грехом. Порой ему даже казалось, что он обращается к самому Леопольду и только к нему, а порой (хотя во время проповеди он видел её перед собой не больше, чем брата) — что он говорит прямо к его сестре, утешая её тем, что у Леопольда есть надежда вновь обрести утраченную невинность. Когда он наконец-то начал различать то, что было перед ним, на лице Хелен он увидел пунцовый рассвет напряжённого внимания. Правда, его сияние уже начало угасать, но глаза её были заплаканы, на щеках ещё теплился румянец волнения, а твёрдые губы позабылись настолько, что дрожали и невольно полураскрылись от недвижной сосредоточенности своей хозяйки.
Однако уже сейчас, хотя по виду Хелен этого ещё не было заметно, в её сердце поднял голову змей, обитающий в бесформенной трясине, проникающей в каждую душу пусть даже самой тоненькой струйкой и привнося туда некий первородный хаос, оставшийся от того времени, когда мир был безвиден и пуст. «Почему же с Леопольдом он разговаривал совсем иначе? — зашептал змей. — Почему он не утешил его добрым упованием, как и надлежит священнику кроткого Христа? Или, если он действительно посчитал, что должен сказать Леопольду о чистосердечном признании, почему он не заговорил с ним об этом честно и прямо вместо того, чтобы исподволь подталкивать мальчика к мысли, будто всё это ему подсказала собственная совесть и потому он должен исполнить её повеление как Божью волю?»
Так нашёптывал ей змей, и к тому времени, когда Хелен с тётей отправились домой, сияние в её душе погасло, и на её дух опустился серый зимний туман. Она сказала себе, что если её последняя надежда на Джорджа тоже провалится, она просто не будет больше ничего предпринимать и ни о чём беспокоиться. В конце концов, она свободная женщина, и если Леопольд выбрал себе других друзей, тем самым дав ей понять, что она недостойна доверия, и отвернулся от неё после всего того, что она перестрадала и сделала ради любви к нему, она возьмёт побольше денег и уедет во Францию или в Италию, предоставив Леопольда своей судьбе, какой бы она ни была и к чему бы ни привели советы его новых друзей и его собственное упрямство. Зачем ей, невиновной, разделять позор преступника? Она и так уже сделала предостаточно! Даже отец не стал бы требовать от неё большего!
Вот почему, войдя в комнату Леопольда, она не заметила, что, пока она была в церкви, он встал, оделся и перебрался на диван. Леопольд же, ища глазами её взгляд, тут же почувствовал, что между ними нависла туча, и после всего, что сестра вынесла и сделала ради него, они оказались друг от друга дальше, чем в то время, когда между их рождением и первой встречей пролегали целые океаны, и даже тот ужас, который они вместе пережили в старом Гластонском особняке, вызвал у него неясное, ностальгическое чувство. Когда она прошла в гардеробную, он с тоской проводил её взглядом; глаза его медленно наполнились слезами, но он ничего не сказал. А его сестра, которую во время проповеди волнами захлёстывало желание, чтобы Польди мог услышать то или это, услышать ту или эту мысль и утешиться ею, позволив дивным словам изгнать страх из его души, теперь лишь бросила на него ледяной взгляд и не сказала ему ни слова о том, что вызвало в океане её духа столь мощные приливы, потому что инстинкт (более праведный, чем её воля) подсказывал ей, что всё это лишь укрепит Леопольда в его решимости пойти и сделать всё, что одобрит его учитель-проповедник. Выйдя от себя, чтобы вернуться в гостиную, она всё-таки сказала ему два-три приветливых слова, но принуждённым тоном и всего лишь про обед! По щекам Леопольда потекли слёзы, но он так крепко стиснул зубы, что рот его принял решительно-угрюмое выражение, и больше он уже не плакал.
Своей подруге, которая присоединилась к ним возле церкви и, в отсутствие Джорджа Баскома, проводила их до дому, миссис Рамшорн заметила, что священник — чрезвычайно опасный человек, особенно для молодёжи: разве он не смешал все привычные ориентиры греха и благочестия, выставляя всё так, будто бы честные люди не лучше обыкновенного вора, а убийца не хуже любого другого человека, и, фактически, не сказал, что всем им непременно надо пойти и совершить какое-нибудь страшное преступление, дабы достичь высшей, лучшей праведности, которая иначе останется для них недоступной? Насколько она действительно не поняла слов Уингфолда, а насколько сознательно кривила душой (или подозревала, что говорит неискренне), сказать я не могу. Но, несмотря на все эти речи, то ли манера священника, то ли его проповедь немного утихомирили её, и на этот раз она осуждала его не так презрительно, как обычно.
К счастью для себя и других, священник был не из тех, кто калечит истину и ослепляет свою душу «забвеньем скотским или жалким навыком раздумывать чрезмерно об исходе — мысль, где на долю мудрости всегда три доли трусости»[44], и потому, пробуждая честных людей, он в той же мере давал людям нечестным возможность для придирок и осуждения. Представьте, что было бы, если бы святой Павел мог предвидеть, как исказят его слова, и начал бы принимать это во внимание: что тогда стало бы с самыми великолепными вспышками его мысли и красноречия? Да и вряд ли даже самая скрупулёзная апостольская осторожность могла бы его защитить. Скорее, она лишь породила бы ещё большее количество вульгарных искажений. Пытаться объяснять что-то человеку, в котором нет любви, мы лишь даём ему ещё больше повода для ложных толкований. Пусть во внутренности человека живёт истина, и пусть от избытка сердца говорят его уста! И если тогда ему покажется, что слушатели искренне недопоняли его, пусть он проповедует снова и снова, утверждая ту истину, по которой ревнует его сердце. А если кто-то решит, что слова его расходятся друг с другом, пусть те, кому во всём непременно нужна последовательность, сами примиряют их между собой.
Джорджа Баскома не было в церкви потому, что после раннего завтрака он оседлал любимую кобылку кузины и отправился с визитом к мистеру Хукеру, прежде чем тот отправится на богослужение. Хелен думала, что он вернётся к обеду, и, нервничая, ждала его появления. Леопольд тоже ёрзал от нетерпения, ожидая его, но надежды его были совсем иные.
Наконец по всему воскресному Гластону раздался гулкий цокот копыт, и через несколько минут к дому подъехал Джордж. Передав поводья конюху, он прошёл в гостиную. Хелен стремительно кинулась ему навстречу.
— Ну что, Джордж? — с тревогой вопросила она.
— Да всё в порядке — или, по крайней мере, будет в порядке, — отозвался он. — Я расскажу вам обо всём после обеда, в саду. Обычно тёте хватает здравомыслия не мешать нам хотя бы там, — прибавил он. — Позвольте мне только быстренько сбегать наверх, показаться Леопольду: он ни в коем случае не должен подозревать, что я на вашей стороне и мы пытаемся его обмануть. Правда, тут и обмана-то никакого нет. Минус на минус всегда даёт плюс, и обмануть сумасшедшего — это не что иное, как поступить с ним по справедливости.
Его слова неприятно резанули ей слух. Баском поднялся к Леопольду и сообщил ему, что виделся с мистером Хукером и договорился о том, что привезёт к нему Леопольда во вторник утром, если тому, конечно, не станет хуже.
— А почему не завтра? — спросил Лингард. — Я вполне готов.
— Ну, я сказал ему, что вы больны. К тому же, он собирался завтра немного поохотиться, так что мы решили, что во вторник будет лучше.
Леопольд вздохнул и больше ничего не спрашивал.
Глава 2. Баском и мировой судья
После обеда кузен и кузина отправились в беседку, где Джордж рассказал Хелен всё, что произошло, и поделился с нею своими планами и надеждами.
— Знаете, Хелен, подобным причудам лучше уступать. Если им противиться, это ни к чему не приведёт, — сказал он.
Хелен испытующе посмотрела на него, и он ответил ей таким же взглядом. Между ними не было полного доверия, и потому каждый сомневался в мыслях другого, но не пытался выяснить, что именно тот думает.
— Кстати, он славный старикан, этот мистер Хукер! — продолжал Джордж. — Забавный, добродушный, лицо, как у мясника. Ну и, конечно же, консерватор и примерный христианин, наивный, как дитя: тут же поверил всему, что я ему сказал, без тени сомнения и без единого возражения. Он точь-в-точь такой, как я предполагал. Когда я назвался, он вспомнил, что знавал моего отца, и сразу ко мне расположился. Потом я расхвалил его поместье, извинился, что беспокою его так рано, да ещё и в воскресенье, но объяснил, что пришёл к нему исключительно по делу милосердия, как к мировому судье, чтобы он не вообразил, будто я притащился просить у него денег на какую-нибудь благотворительность. Дело, сказал я, чрезвычайно щепетильное и касается детей джентльмена, о котором ему наверняка приходилось слышать: генерала Лингарда. «Как же, как же! — воскликнул он. — Я прекрасно его знал! Замечательный был человек, хоть и немного вспыльчивый — да, да, немного вспыльчивый». Я сказал, что не имел чести знать генерала Лингарда лично, но его дочь приходится мне кузиной, а дело моё касается его сына, ребёнка от второй жены, которая, к несчастью, была индуской. Тут я изложил ему всю историю целиком, пояснив, что Леопольд страдает сильным воспалением мозга из-за употребления — если это, конечно, можно назвать употреблением — опиума, к которому его приучили в Индии, и хотя от воспаления он уже немного оправился, ещё неизвестно, удастся ли ему полностью избавиться от его последствий, потому что, к сожалению, во время болезни у него развилась навязчивая идея, печальный плод перевозбуждённого воображения.
«Что же эта за идея?» — полюбопытствовал он. «Ни больше, ни меньше, — ответил я, — как то, что он убийца!» «Боже правый!» — воскликнул он, и я немного встревожился, потому что специально рассказывал всё так, чтобы склонить старого осла в нужное направление, а то ещё Леопольд невзначай убедит его в своей правоте! Тогда я решил поддакнуть ему и начал сокрушаться о том, как это печально, что столь кроткий и безобидный юноша, который и мухи не обидит, не говоря уж об убийстве, вдруг начал терзаться раскаянием и мучить себя из-за какого-то химерического преступления, в котором реальности не больше, чем в дурном сне, и которого он не только не совершал, но никогда не мог бы совершить. «Я ещё не успел рассказать вам, — продолжал я, — то, что, пожалуй, является в этой грустной истории самым печальным: дело в том, что приступ начался, когда мальчик получил известия об убийстве одной девушки, в которую был страстно влюблён. От ужаса перед услышанным рассудок его помешался; потом это безумие перекинулось и на его воображение, так что теперь он, несмотря на все доводы и доказательства, упрямо твердит, что именно его рука вонзила кинжал в её в сердце!» Я напомнил Хукеру, что писали об этом газеты, и добавил, что, по какой-то причудливой прихоти больного сознания, тот факт, что убийца так долго скрывается от правосудия, только усугубил в Леопольде чувство вины — а может даже, и породил его изначально, но в этом я не уверен. И теперь он требует лишь одного: предать себя в руки закона, чистосердечно во всём признаться (хотя о каком признании может идти речь в этом случае?), взять на себя вину за преступление и пойти на виселицу, «в надежде, — добавил я, — отыскать в ином мире убитую девушку и там примириться с нею».
«Боже правый!» — снова вскричал он с неприкрытым ужасом. Пока я говорил, он то и дело хмыкал и восклицал, но глаза его всё больше и больше проникались интересом и состраданием. «Ах, вот оно что! — наконец сказал он. — Так вы хотите поместить его в лечебницу для душевнобольных? Не делайте этого! — тут же продолжил он почти умоляющим тоном, словно уговаривая меня. — Бедный мальчик! Может, он ещё выздоровеет. Пусть лучше о нём заботятся родные. Вы, кажется, сказали, что у него есть сестра?» Я немедленно заверил его, что никто не собирается помещать Леопольда в сумасшедший дом, и сказал, что я именно поэтому и дерзнул обратиться к нему за помощью и через минуту изложу свою просьбу; только в этом деле меня самого заинтересовала одна деталь, а именно: как мозг в воспалённом состоянии способен обманывать себя, почти порождая две отдельных личности — тут я, пожалуй, немного обмишулился, но он был слишком туп, чтобы это заметить, — ха-ха! — а ведь ему как мировому судье наверняка нередко приходится видеть подобные явления! Он протестующе замахал руками, и тогда я поспешил добавить, что до определённого момента Леопольд вполне логично и разумно объясняет всё, что было написано в газетах, связывая одни факты с другими, но в одном проявляет удивительную неосведомлённость: он никак не может рассказать, что он делал, куда пошёл и что чувствовал сразу после убийства. «Леопольд признался мне, что после этого как будто выключился и не помнил ничего, пока не очутился в постели. Но когда я напомнил ему одну подробность — которую вы, ваша Честь, возможно, тоже видели в газетах, — а именно: показания береговой охраны насчёт лодки и двух мужчин» (тут мне пришлось в подробностях всё ему напомнить, и я просто дал ему газету, где об этом говорилось; вот для чего я попросил её у вас, Хелен!). так, кажется, я потерял мысль. Ну да ладно. Затем я сказал ему то, чего пока не говорил даже вам, Хелен: когда я напомнил об этом Леопольду, он вскинулся с горящим глазами и воскликнул: «Да, теперь я вспомнил! Теперь мне всё ясно. Я помню, как бежал вниз по холму и прыгнул в лодку как раз в тот момент, когда она отчаливала! Я так устал, что без сил свалился на корму. Когда я пришёл в себя, то увидел только ноги рыбаков за парусами. Я подумал, что они наверняка сдадут меня полиции, и потому немедленно перевалился за борт. Вода взбодрила меня, но когда я доплыл до берега, то снова упал и забылся. Не знаю, долго ли я пролежал там. А больше я вообще ничего не помню, только какие-то туманные обрывки!» Леопольд так и сказал, и я передал его слова Хукеру.
Только тогда я заговорил с ним о той помощи, за которой осмелился к нему обратиться. Я попросил у него разрешения привезти Леопольда, чтобы создать для него видимость того, что он предаёт себя в руки правосудия. Особенно я просил его внимательно выслушать несчастного больного, ни малейшим намёком не выдавая своих сомнений в достоверности его рассказа. «А уж после этого, — заключил я, — я надеюсь, что вы сами сделаете то, чего мы сделать не в силах: уговорите его вместо тюрьмы отправиться домой».
Какое-то время он сидел, подперев голову рукой, словно размышляя о каком-то веском законодательном вопросе, а потом вдруг сказал: «Так, нам пора идти в церковь. Я всё это обдумаю, можете не сомневаться. Надеюсь, вы не откажетесь пойти со мной на службу, а потом отобедать у меня?» Я почтительно отказался, объяснив, что должен немедленно вернуться к несчастному Леопольду, который с нетерпением ждёт меня. Кстати, Хелен, я надеюсь, вы простите меня и не сочтёте это жестокостью к вашей лошадке, но на обратном пути я поддался искушению и поехал кружным путём. Я ехал почти шагом и пускал её галопом только по траве.
Хелен с благодарными глазами уверила его, что ничуть не тревожится за Фанни и знает, что с ним она всегда в хороших руках. Возродившаяся надежда захлестнула её такой волной признательности, что её отношение к кузену больше, чем когда-либо раньше, граничило с влюблённостью. Джордж внутренне возликовал и подумал, что от благодарного сияния её синие глаза выглядят ещё прелестнее. Однако как бы ему ни хотелось официально признаться ей в своих чувствах и намерениях, он решил отложить это до более благоприятного момента.
Глава 3. Чистосердечное признание
Весь этот и весь следующий день Леопольд был в чудесном, приподнятом настроении. Однако вечером в понедельник последовала неизбежная реакция, и его снова охватила отрешённая усталость и отчаяние. Встреча с мистером Хукером была назначена на полдень, и в одиннадцать часов Леопольд был одет и готов ехать, беспокойный, возбуждённый и очень бледный, но ничуть не утративший прежней решимости. Под предлогом прогулки для Леопольда Хелен попросила у тёти карету.
— А почему с нами не поехал мистер Уингфолд? — встревоженно спросил Леопольд, когда они тронулись.
— Думаю, нам и без него будет неплохо, Польди, — ответила Хелен. — А ты что, ждал
его?
— Он обещал поехать со мной. Но после того как Джордж договорился с мистером Хукером, он так ни разу и не зашёл. — Тут Хелен сочла необходимым выглянуть в окно. — Не знаю почему. Но я без него смогу исполнить свой долг, — продолжал Леопольд. — Так что, может быть, это даже к лучшему. Знаете, Джордж, с тех пор, как я решился, я видел Эммелину всего один раз, вчера вечером, да и то во сне!
— Состояние нерешительности особенно способствует нездоровым фантазиям, — ответил Джордж, благодушно усаживаясь так, чтобы его длинные ноги никому не мешали. Леопольд повернулся к сестре.
— Знаешь, что странно, Хелен? — заговорил он. — На этот раз я ничуть её не боялся и даже не стыдился. «Я вижу тебя, — сказал я ей. — Не тревожься. Скоро я приду к тебе, и ты сможешь сделать со мной всё, что захочешь». И знаешь, что было дальше? Ты не представляешь! Она улыбнулась мне, совсем как прежде, только грустно, очень грустно, и исчезла. Я проснулся, и мне почудилось, что она только что вышла из комнаты, потому что в темноте я почувствовал какое-то движение. Вы верите в привидения, Джордж?
Надо ли говорить, что Леопольд не входил в число учеников Джорджа.
— Нет, — откликнулся Баском.
— Неудивительно. Нет, я нисколько вас не виню. Когда-то я и сам в них не верил. А вот подождите, пока вы сами не превратите кого-нибудь в привидение!
— Не дай Бог! — воскликнул Джордж, снова на мгновение позабыв свои теории.
— Аминь! — отозвался Леопольд. — Потому что после этого человеку ничего не остаётся, кроме как самому стать призраком.
«Если он будет так же говорить с Хукером, — подумал Джордж, — никто и не подумает сомневаться в его невменяемости!»
— Только почему вчера к нам не зашёл мистер Уингфолд? — продолжал Леопольд. — Ведь я специально просил его об этом.
— Знаешь, Польди, тебе нельзя так много разговаривать, — сказала Хелен. — А то ты устанешь ещё до того, как мы приедем.
Ей не хотелось, чтобы Леопольд слишком дотошно расспрашивал о том, почему священник не появился в понедельник. Присутствия Уингфолда у мирового судьи следовало избежать всеми возможными средствами.
Баском легко — куда легче, чем он ожидал, — убедил Хелен подождать их возвращения в карете, и их с Леопольдом провели в библиотеку, где вскоре к ним присоединился сам судья. Он поздоровался с Джорджем и уже протянул было руку Леопольду, но совестливый преступник отступил назад.
— Нет, сэр, — сказал он. — Простите меня. Прежде выслушайте то, что я должен сказать вам. Если после этого вы всё ещё захотите пожать мне руку, я сочту это за великую милость. Но вряд ли, вряд ли вам этого захочется!
Достопочтенный мистер Хукер преисполнился жалости, глядя на его землистое лицо с ввалившимися щеками. Вид мальчика полностью подтверждал тот рассказ, которым Баском напичкал все фибры здравого судейского рассудка, заранее склонив его на свою сторону. Он участливо слушал, пока Лингард с трудом выдавливал из себя слова признания. Но Леопольд и не думал, что вызывает у старого судьи какие-либо чувства, кроме сострадания к несчастному, которого предательство подтолкнуло к такому преступлению. Его почти насильно (ибо сейчас он упрямо, почти до безрассудства, старался противиться любой слабости) заставили выпить немного вина. Закончив, он молча сел на стул, сложив руки на коленях, словно его запястья уже сковывали стальные кандалы.
Несколько раз явная правдивость юноши и обстоятельность его рассказа почти пошатнули уверенность мистера Хукера, но один взгляд на лицо Баскома и его полуироническую улыбку немедленно приводил судью в чувство, и он с огорчением думал, что чуть было не купился на искренность сумасшедшего. Он уже успел обдумать представленное ему дело, пока сидел в церкви в воскресенье, и после резвой скачки по ухабистой местности в погоне за сильной лисой в понедельник и крепкого, долгого сна до позднего утра во
вторник видел перед собой только один выход. Его решение было простым и прямолинейным.
— Что ж, мой милый юноша, — сказал он. — Мне очень жаль, но я должен выполнить свой долг.
— Именно за этим я к вам и приехал, — безропотно отозвался Леопольд.
— Тогда с этого момента считайте, что я вас арестовал. После вашего отъезда я немедленно запишу ваши показания и приступлю к выполнению надлежащих формальностей. Следуя установленному порядку, я выпущу вас под залог в тысячу фунтов, но вы должны быть готовы предать себя в руки полиции, как только за вами приедут.
— Но я ещё не достиг совершеннолетия, и у меня нет тысячи фунтов, — огорчился Леопольд.
— Быть может, мистер Хукер согласится принять от меня гарантию на эту сумму? — спросил Баском.
— Конечно, — ответил судья, что-то написал на бумаге, и Баском поставил на ней свою подпись.
— Очень любезно с вашей стороны, Джордж, — сказал Леопольд. — Но вы же знаете, я не смог бы никуда убежать, даже если бы захотел, — добавил он с жалким подобием улыбки.
— Надеюсь, скоро вы поправитесь, — участливо произнёс судья.
— Ну зачем вы желаете мне этого, сэр? — почти укоризненно возразил Леопольд, и добрый старик на минуту смешался. Позднее он вспомнил об этом, но так и не понял, почему слова мальчика так смутили его.
— Вы должны быть готовы, — повторил он, с усилием беря себя в руки, — в любое время предать себя в руки полиции. И не забывайте: я имею право посещать вас, когда мне заблагорассудится — возможно, даже раз в неделю или чаще, — чтобы удостовериться, что вы на месте. Мы с вашей тётей старые приятели, и мне не надо будет объяснять причину своих визитов. Случай ваш довольно необычен, и теперь, когда я выслушал всё до конца, я без колебаний готов пожать вам руку.
Его милосердие так ошеломило Леопольда, что в ответ он не смог вымолвить ни единого слова, но отправился домой с громадным чувством облегчения. В карете он положил голову на плечо Хелен и посмотрел ей в лицо с такой улыбкой, которой она до сих пор ни разу не видела на его лице. Нет, подумала она, что ни говори, а в чистосердечном признании действительно что-то есть — вот только жаль, что фанатики вроде мистер Уингфолда доводят всё до крайности и превращают добро в зло!
Леопольд был ещё настолько юн, обращал так мало внимания на то, что творилось вокруг, и был так поглощён своей страстью и поэзией существования, недозволенно разбуженной в его душе, что если бы обстоятельства смерти Эммелины были известны ему исключительно из газет, он так и остался бы относительно них в полном неведении. По тем же причинам он был настолько несведущ в практике уголовного судопроизводства, что поведение судьи вовсе не показалось ему ни странным, ни противозаконным. К тому же, сердечность и сочувствие доброго старика так сильно отозвались в его душе, что признание принесло ему куда больше покоя и утешения, чем он ожидал. Ещё по дороге домой он крепко заснул. Когда его перенесли на диван, он ненадолго проснулся, но тут же снова закрыл глаза, и Хелен увидела, что он чему-то улыбается во сне.
Глава 4. Маска
Однако, несмотря на то, что Джордж так уверенно объявил Леопольда сумасшедшим, и, несмотря на все его действия, в нём то и дело невольно вспыхивало то самое сомнение, какое он почувствовал, услышав историю Лингарда впервые. Каким бы абсурдным ни был его рассказ, он всё-таки вызывал у Баскома упрямое ощущение не только правдивости рассказчика (в этом у него никогда не было сомнений), но и правдоподобности всего повествования — что не могло не оказывать на Джорджа определённого влияния, хотя и не подталкивало его к каким-либо сознательным попыткам как следует во всём разобраться. Непоколебимая убеждённость самого Леопольда (хотя такая убеждённость может сопровождать и обычные фантазии больного рассудка) тоже сыграла здесь свою роль, с каким бы упорством Джордж не пытался выставить её в смехотворном свете. Он открещивался от неё ещё упорнее оттого, что испытывал интенсивное, почти болезненное отвращение к мысли о том, что его могут обмануть или ему придётся признать собственную интеллектуальную несостоятельность. Возможно, чувствительность обычного тщеславия (в котором он сам ни за что бы себе не признался) лишила его способности увидеть истину — и, причём, не только в этом деле. К тому же я не знаю, что постыднее: принять ложь за правду или отвергнуть истину.
Когда Джордж услышал последовательный рассказ Леопольда во второй раз, его внутренние сомнения зазвучали ещё отчётливее и настойчивее. Разве не бывает горя от ума? Вдруг он обманывается из-за собственной недоверчивости? Нельзя ли как-нибудь проверить факты? Нет ли в рассказе Леопольда чего-то такого, за что можно было бы зацепиться? И тут Джордж вспомнил одну подробность, которая подсознательно беспокоила его с тех пор, как он о ней услышал. Леопольд говорил, что бросил свой плащ и маску в старую шахту, неподалёку от места убийства. Если там действительно есть шахта, нельзя ли её обыскать? Наконец сомнения стали так неотступно его преследовать, что он решил во время отпуска съездить в то самое графство, где было совершено убийство, и попытаться разузнать всё, что можно. Он не задавался вопросом о том, что, кроме личного удовлетворения, дадут ему эти поиски. В нём заговорил неугомонный дух сыщика, который так часто сочетается с полным безразличием к тому, что истинно по самой своей природе. Но это было ещё не все: он хотел, по возможности, достоверно знать все факты, имевшие хоть какое-то отношение к Хелен. Я не стану подробно описывать его расследование; меня интересует лишь то, как всё это повлияло на судьбу Леопольда.
Дом, где произошла трагедия, находился неподалёку от деревушки, сплошь окружённой вересковой пустошью. Там Баском отыскал маленький постоялый двор, где и поселился, выдавая себя за геолога, приехавшего отдохнуть. Вскоре он нашёл и заброшенную шахту. По вечерам в гостиницу нередко заходили выпить местные рудокопы — народ грубый, но вполне готовый расположиться к столичному гостю, который беседовал с ними тоном самоуверенного добродушия, так как вскоре понял, что именно они могут сослужить ему важную службу. В одном из таких разговоров он упомянул старую шахту, сказав, что наткнулся на неё во время прогулки. Заметив, какими опасными бывают заброшенные шурфы, он узнал, что эта шахта была сделана для вентиляции и в неё до сих пор можно пробраться из других подземных забоев. Услышав это, Баском тут же попросил разрешения спуститься в одну из действующих шахт, якобы желая рассмотреть угольные пласты, и, взяв в проводники одного из самых смышлёных горняков из тех, с кем он успел познакомиться, убедил его (притворившись, что не верит в то, насколько далеко расположена заброшенная шахта) довести его до того самого места.
Баском знал, что они движутся в верном направлении, по маленькому компасу, висевшему у него на цепочке для часов. Через какое-то время он увидел впереди слабое свечение. Когда наконец, утомившись от долгого путешествия по низким ходам, он поднял голову и посмотрел вверх, из дневного неба на него смотрела ночная звезда. Но Джордж никогда не тратил время на разглядывание того, что было у него над головой, и потому немедленно принялся внимательно осматриваться вокруг, якобы интересуясь угольными пластами. Но что это? Неужели это возможно? Под ногами у него виднелось что-то чёрное, что явно не было куском угля, а напоминало материю. Это была полумаска с прорезями для глаз! Баском подхватил её и поспешно спрятал в сумку, но так, чтобы не вызвать подозрения у проводника. Однако Баском увидел, что его движение не осталось незамеченным. На обратном пути шахтёр не раз предлагал Джорджу понести его сумку, но тот ни за что не хотел выпускать её из рук.
На следующее утро Джордж вернулся в Лондон, по пути заехав в Гластон. В ответ на его вопросы Леопольд охотно рассказал о маске, которая была на нём в роковой вечер. Его слова в точности описывали находку Баскома, и тот наконец удостоверился, что молодой Лингард действительно говорит правду. Однако он сказал себе, что это не его дело — убеждать мировых судей в том, что они совершили ошибку. Да, он сам сбил мистера Хукера с толку. Но ведь тогда он действовал с чистой совестью; да и как он может сейчас предать Хелен и её брата?! Кроме того, он был убеждён, что его откровение вряд ли вызовет у старого судьи чувство признательности. И потом: если фанатическое рвение Леопольда всё-таки приведёт к дальнейшему развитию дела, Баскома явно ждут неприятности. Его наверняка попросят защищать Лингарда в суде, и, не будь он уверен, что проводник заметил, как он спрятал свою находку в шахте, может быть, он даже и рискнул бы на это пойти — это было бы редкой возможностью проявить те адвокатские способности, в наличии которых у себя он не сомневался. Но при сложившихся обстоятельствах ему, пожалуй, будет лучше сразу же после получения звания практикующего адвоката (а это должно было произойти буквально через пару недель) уехать за границу — ну скажем, в Париж! — месяцев на двенадцать или около того, и посмотреть, как развернутся события.
Поведав Хелен о своей страшной находке в угольной шахте, Баском разорвал лишь тонкую плёнку надежды, натянутую над бездной отчаяния: ведь она с самого начала знала, что её брат виновен. Теперь её и Джорджа неразрывно связывала общая тайна, и они оба это чувствовали.
Однако плащ Леопольда нашли незадолго до этих событий, и теперь он был у матери Эммелины. Это была женщина сильных страстей и решительного характера. Когда прошло первое потрясение от трагедии, яростное желание отомстить почти вытеснило в ней горе: должно быть, ей казалось, что тем самым она как-то оправдает свою дочь. Поэтому мысль о том, что убийца так долго скрывается от правосудия, неотступно грызла ей душу, и она поклялась, что поиски и наказание преступника станут главным делом её жизни. Её супруг, сломленный не только ужасной гибелью дочери, но и угрозой других навалившихся на него несчастий, не оказывал ей в этом никакой поддержки. По правде говоря, в нём не было ни её страсти, ни её упорства, которые подтолкнули бы его на дальнейшие поиски.
В округе знали, с каким ожесточением мать Эммелины пытается найти убийцу, и многие старались извлечь для себя выгоду, подливая в огонь её пыла масло надежды. Они немедленно сообщали ей любые, даже самые незначительные сведения и самые отдалённые намёки на возможную личность преступника, ибо она никогда не скупилась и вознаграждала своих доброжелателей с такой щедростью, которая, не будь её чувства столь пылкими, была бы просто нелепой и, увы, сделала её жертвой алчности всех лгунов- попрошаек, обитавших в округе. Потому неудивительно, что кто-то из шахтёров спустился в старую шахту — так, на всякий случай, даже не думая что-то в ней найти, а, скорее, надеясь придумать что-то достойное вознаграждения — и, вопреки собственным бесплодным надеждам, нашёл там чёрный плащ.
Мать Эммелины какое-то время провела в Голландии, где по её настоянию полиция безрезультатно обшарила все береговые и островные деревушки, и вернулась домой лишь за несколько дней до того, как ей принесли новую находку. Увидев плащ, она немедленно вспомнила маскарадные костюмы злополучного бала и тут же отыскала список всех приглашённых гостей. Она просматривала его как раз в тот момент, когда к ней явился проводник Баскома. После разговора с ним ей поиски на какое-то время приняли иное направление: ей во что бы то ни стало захотелось узнать, что за человек спускался в ту самую шахту?
Расспросы не дали ничего кроме того, что на саквояже незнакомца были инициалы Д. Б., а на оставленном им обрывке конверта виднелись буквы «.ком». Ей оставалось лишь одно: отправить эти скудные улики в лондонское детективное агентство.
Глава 5. Ещё одно решение
На следующий день после встречи с мистером Хукером в Леопольде произошла значительная реакция. Он уже не пытался встать с кровати и лежал в полном изнеможении. Сам он сказал, что, должно быть, простудился, немного покашливал, спрашивал, почему не приходит мистер Уингфолд, то и дело задрёмывал, но часто вздрагивал и просыпался. Миссис Рамшорн считала, что Хелен должна заставить его подняться: она сказала, что для него сейчас нет ничего хуже, чем лежать в постели. Однако Хелен подумала, что даже если тётя права, лучше будет оставить Леопольда в покое. На следующий день заехал мистер Хукер, спросил мистера Лингарда, и его провели к больному. Там он сказал мальчику всё, что только мог измыслить для его успокоения, ещё раз повторил, что перед началом судебного процесса ему надлежит выполнить ряд формальностей, и уверил больного, что пока его дело подготавливается к суду, ему лучше оставаться под присмотром сестры, нежели в тюрьме, где он наверняка умрёт ещё до суда. Пока он, мистер Хукер, несёт за него ответственность, и хотя Леопольд поступил совершенно правильно, что во всём признался, сейчас ему не следует слишком терзаться из-за того, что уже не вернёшь, чтобы в должный срок он мог давать показания ясно и чётко, а иначе его признают сумасшедшим и упекут в Бродмурскую лечебницу — а что может быть хуже? В завершение он сказал, что Леопольда явно подтолкнули к убийству действия жертвы, и судья непременно учтёт это в приговоре: главное убедить присяжных в том, что убийство было непреднамеренным.
— Я ни словом не стану себя оправдывать, мистер Хукер, — ответил Леопольд.
Почтенный судья печально улыбнулся и отправился восвояси, ещё более убедившись, что молодой Лингард не в себе. Его визит помог Леопольду дотянуть до конца дня, но когда и назавтра мистер Уингфолд не появился и до Леопольда не дошло никаких объяснений его отсутствия, он снова решил действовать самостоятельно.
Причину кажущейся недобросовестности священника, какой бы грустной она ни была, не нужно было далеко искать. В понедельник его не пустили в дом, отделавшись каким-то предлогом, во вторник ему сказали, что мистер Лингард уехал на прогулку, а в среду больной был слишком утомлён, чтобы принимать посетителей. После этого Уинг- фолд решил, что лучше предоставить события их естественному ходу. Если Леопольд не желает его видеть, насильно настаивать на встрече бесполезно. С другой стороны, если Леопольд всё-таки хочет с ним встретиться, Уингфолд не сомневался, что он непременно отыщет способ этого добиться.
На следующее утро Леопольд объявил, что ему легче, встал и оделся. Затем он улёгся на диван и начал тихо ждать, пока Хелен уйдёт на прогулку: доктор Фабер настоял, что она должна гулять каждый день. Теперь поведением Лингарда управляла не безрассудная страсть, а жгучее желание жить вкупе с полным пренебрежением к тому, что обычно называется жизнью. Он привязал к ногам шлёпанцы, надел сюртук, украдкой выскользнул из дома и направился к церкви. Освежающий воздух, который из-за болезненной слабости казался ему пьянящим, непривычный вид всего вокруг, нервная дрожь, колотившая его при встрече с каждым человеком, помогли ему добраться до дома священника. Однако внезапно всё поплыло у него перед глазами, чувства куда-то пропали; он попытался присесть на надгробный камень, но потерял сознание и упал навзничь между двумя могилами.
Вернувшись, Хелен с ужасом увидела, что его нет. Когда и куда он подевался, было неизвестно, потому что никто не заметил его отсутствия. Сначала она со страхом подумала о реке, но потом совесть подсказала ей правду, и никакой стыд не смог помешать ей побежать к священнику в поисках Леопольда. Она так торопилась, что не заметила лежащую фигуру брата. Когда её провели в кабинет Уингфолда, она быстро оглянулась, и её тревога превратилась в настоящую панику.
— Ах, мистер Уингфолд! — вскричала она. — Где Леопольд?
— Я его не видел, — ответил священник, побледнев.
— Значит, он бросился в реку! — вскрикнула Хелен и бессильно опустилась в кресло.
— Ждите здесь, — коротко бросил священник, хватая шляпу. — Я пойду, поищу его.
Но Хелен вскочила на ноги, и, не сказав более ни слова, они вдвоём отправились на
поиски. Проходя через кладбище, священник заметил, что на земле между могилами что- то лежит, и подскочив, увидел Леопольда.
— Он мёртв! — взвизгнула Хелен, увидев, как Уингфолд остановился и наклонился над лежащим. Леопольд и правда выглядел мёртвым, но то, что более всего напугало Хелен, для Уингфолда наоборот стало знаком надежды: из рассечённой брови мальчика ручьём текла кровь. Священник легко вынес Лингарда из промозглой тени, уложил его на плиту, сбегал на конюшню велеть подать дрожки, и заскочил в дом, принести больному чего-нибудь согревающего. Хелен держала голову Польди на коленях, и они с Уингфол- дом попытались влить ему в рот немного бренди, но тот никак не мог его проглотить. Тем не менее, это, должно быть, помогло, потому что вскоре Леопольд глубоко вздохнул, и в то же мгновение они услышали, что у ворот остановились дрожки. Уингфолд поднял мальчика, уселся с ним на сиденье и всю дорогу держал его на коленях. Когда они подъехали к особняку, он отнёс его наверх и положил на диван, а когда Леопольд немного пришёл в себя, Уингфолд раздел его и уложил в постель.
— Не оставляйте меня, — прошептал Леопольд, и Хелен, которая как раз вошла в комнату, услышала его слова. Уингфолд вопросительно посмотрел на неё, но теперь, от стыда и унижения, она держалась совсем иначе.
— Хорошо, Леопольд, — сказала она. — Я уверена, что мистер Уингфолд останется с тобой, если у него есть время.
— Конечно, — подтвердил священник. — Только сначала позвольте мне сбегать за доктором Фабером.
— Как я здесь оказался? — спросил Леопольд, поднимая широко открытые глаза на Хелен после того, как она заставила его проглотить ложку бульона. Но не успела она ответить, как его начало тошнить, и к приходу доктора у него поднялся жар. Фабер дал нужные указания, и Уингфолд вышел из дома вместе с ним, чтобы зайти в аптеку за прописанным лекарством.
Глава 6. Священник и врач
— В болезни этого юноши есть нечто странное, — сказал Фабер, когда они вышли на улицу. — Сдаётся мне, вы знаете куда больше, чем говорите, и если это так, то я не погрешу против приличий, если скажу вам об этом.
— Однако с моей стороны даже признаться в этом было бы неосмотрительно, — улыбнувшись ответил священник.
— Вы правы, — откликнулся Фабер. — Я здесь совсем недавно, и пока у вас не было возможности меня проверить. Но я так же беспристрастен и честен, как вы, хотя и не во всём с вами согласен.
— Люди утверждают, что вы вообще ни в чём со мной не согласны.
— Ах вот как? Значит, об этом говорят? — проговорил Фабер с некоторой досадой. — А я изо всех сил старался не нарушать границы ваших владений.
— Никаких владений я не знаю, — ответил Уингфолд. — Но истинная птица всегда сумеет избежать силков охотника.
— Что ж, — ответствовал доктор, — не знаю, как там Бог и всё такое, но хотя сам я не считаю себя трусом, я знаю, что вашей смелости можно только позавидовать.
— Да нет у меня никакой смелости, — сказал священник.
— Это вы своей бабушке расскажете! — рассмеялся Фабер. — Я лично не осмеливаюсь прямо говорить, что я думаю и чего не думаю, даже в спальне своего самого неправоверного пациента, а если что-то у меня всё-таки вырывается, то тут же в этом раскаиваюсь. Вы же каждое воскресенье во всеуслышание говорите о том, во что верите на самом деле! Как вы можете во всё это верить, я не знаю, но это не моё дело.
— Как же не ваше? Конечно, ваше! — возразил Уингфолд. — А что касается смелости, то разве вы не допускаете, что иногда человек обязан сказать с кафедры то, что ему ни в коем случае не следует говорить у постели больного?
— Но смелость тут совершенно не при чём! А мне больше ничего не надо.
— Как не при чём? В этом деле самым важным является как раз то, что вы принимаете за смелость. Моя смелость — это всего лишь её величество Совесть.
— Как, как?
— Так назвал её Бенедикт из «Много шума из ничего». Моя смелость — это не что иное, как моя совесть.
— Как бы вы её не называли, это чертовски хорошая штука! — заявил Фабер.
— Вы уж простите меня, но ваш эпитет, при всей его забавности, вряд ли уместен в таком контексте, — ответил Уингфолд, смеясь.
— Вы правы, — отозвался Фабер. — Прошу прощения.
— Что же до смелости,.. — продолжал Уингфолд. — Видите ли, я хочу лишь одного: верить в Бога, а последнее время мне всё больше кажется, что найти Его сможет только честный человек. Если принять всё это во внимание, то моё стремление говорить правду — никакая не смелость, а самая обыкновенная необходимость.
— По-моему, от этого говорить правду ничуть не легче, особенно перед таким сборищем легковерных простофиль, как.
— Простите, но по-моему, по воскресеньям в церкви не хватает, скорее, совести, нежели мозгов.
— Что ж, я могу сказать только одно: мне никак не понять, зачем вам так нужно верить в Бога! Мне кажется, что без подобных вымыслов дела в мире пошли бы гораздо лучше. Ну вот возьмите хотя бы молодого Спенсера; это мой пациент, из Харвуда. Вчера у него умерла жена, прелестнейшее создание, всего двадцать два года! Бедняга просто убит горем. Он, правда, тоже, вроде вас; на днях сказал мне, как сказали бы, наверное, и вы: «Это воля Божья, и мы должны смиренно её принять». «Не говорите со мной о Боге! — не выдержав, ответил я. — Вы что же, хотите сказать, что если бы Бог существовал, Он отнял бы у мужа чудесную жену, а у беспомощного младенца — любящую мать? Да мне бы было стыдно в такое верить!»
— И что он вам ответил?
— Побледнел, как смерть, и не сказал ни слова.
— Вы забыли, что своими словами отнимаете у него единственную надежду снова с нею увидеться.
— Да, об этом я и правда не подумал, — признался Фабер.
— И всё равно, — продолжал Уингфолд, — я не стал бы утверждать, что вы поступили неправильно, если бы при этом вы готовы были добавить, что исследовали все сферы вселенной, где обитает жизнь, и не нашли там Бога. Или испытали все придуманные человеком теории, или даже собственную теорию, и обнаружили, что они, все до одной, противоречат возможности Его существования. Я не говорю, что тогда ваше суждение было бы верным: возможно, другой человек, равный вам по интеллекту и способностями, придёт к совершенно противоположному выводу. Я только говорю, что в этом случае не стал бы
винить вас. Но вы должны признать, что это довольно серьёзно — без веских и убедительных доказательств выдвигать в качестве аксиомы то, что лишь в десять раз глубже вонзит в человека жало смерти.
Доктор ничего не ответил.
— Я не сомневаюсь, что вы сказали это в порыве негодования, но, по-моему, ваше негодование было негодованием человека, не привыкшего размышлять о тех предметах, насчёт которых он высказывает столь уверенные суждения.
— Тут вы неправы, — возразил Фабер. — Меня воспитывали в одной из правоверней- ших фарисейских школ, и я знаю, что говорю.
— Вряд ли в подобной школе можно получить представление о таком Боге, чьего существования действительно можно было бы желать.
— Они утверждают, что знают истину.
— Неужели вы считаете фарисеев и их мнения веским аргументом, зная, что это за люди? Если Бог и вправду есть, неужели вы полагаете, что Он сделает Своими устами какую-либо из этих самодовольных сект?
— Но вопрос состоит не в том, что я думаю о Боге, а в том, существует ли Бог вообще — особенно принимая во внимание то, что если Он существует, человеческое сердце никогда не сможет принять Его как Бога, если Он хотя бы допускает жестокость, не говоря уже о том, чтобы творить её Самому. Я не могу взять обратно того, что сказал Спенсеру, какими бы необдуманными или жестокими ни были мои слова.
— Не стану отрицать, в них есть определённая логика — как в жалобах гластонских ребятишек, которые на днях хором соглашались, что доктор Фабер ужас какой бессердечный и нехороший: выдернул у няньки зуб, а маленькому Бобби дал противное- препротивное лекарство!
— Вы считаете, это справедливое сравнение? Надо подумать.
— Мне кажется, да. То, что вы делаете, часто бывает неприятным, а иногда приносит страшную боль, но ведь из этого не следует, что вы жестокий человек, обожающий приносить людям не исцеление, а вред!
— Мне кажется, в этой аналогии есть слабое место, — проговорил Фабер, — потому что я — всего лишь раб существующих законов и вынужден действовать в соответствии с ними. В том, что пациентам неприятны те средства, которые мне приходится использовать, не моя вина. Бог же, если Он существует, сам устанавливает законы, так что тут всё зависит только от Него.
— Что ж, ваше возражение довольно веско и справедливо, и на первый взгляд аналогия действительно может показаться ущербной. Но что если найдётся теория, которая устранит это слабое место?
— Я лично не вижу, откуда ей взяться. Ведь если, как вы утверждаете, Бог тоже связан законами, как и я, тогда получается, что царство разделилось против себя, и Бог перестал быть Богом.
— Мне кажется, — проговорил Уингфолд, — что лично я мог бы поверить в Бога, лишь отчасти способного творить добро; но в Бога, который всевластен, но не всеблаг, мне не поверить никогда. Но что если Божий замысел предполагает возрастание людей как детей Божьих — помните, как написано: «Я сказал, вы боги»? — и Он хочет сделать их причастниками Своего, высшего блаженства, сделать их подобными Себе? Что если Его дивному замыслу мало того, чтобы Его создания становились совершенными исключительно по Его дару и не имели никакого реального участия в своём становлении — то есть не были причастниками Божьей индивидуальности, свободной воли и выбора в пользу добра? Что если страдание является единственным способом, посредством которого человека, в его отдельной, личной индивидуальности, можно было бы так отдалить от Бога, чтобы тот смог волей устремиться к Его единственности и свободе и таким образом обрести их? Что если первым это страдание (и несравнимо большую его долю) должен был вкусить и вкусил сам Бог? И что если Бог увидел в вашем друге и его жене семя чистой любви, но
столь несовершенное и слабое, что оно не выдержало бы грядущих морозов и ветров мира без утрат и тления; но если сейчас разлучить их на несколько лет, оно вырастет, укрепится и возрастёт в незыблемость неизмеримо более высокой, глубокой и крепкой любви, не преходящей вовеки, и посредством страдания, вместо благодушного увядания, выкидыша и смерти, эти двое обрели трудное рождение радостного плода, в здоровье и бессмертии. Представьте себе всё это; что вы скажете тогда?
Фабер немного помолчал и затем ответил:
— У вашей теории только один недостаток: она слишком хороша и потому невероятна.
— Может быть, она не всё объясняет до конца, но такого недостатка у неё нет. Так какого же Бога вам надо, мистер Фабер? Одно для вас слишком дурно, другое — слишком хорошо и потому невероятно. Неужели вы так и будете то растягивать, то подрезать своё представление о Боге, пока не получите того, что в точности соответствует вашей мерке, и только тогда примете его как разумное или возможное? Только ведь такого Бога вашей душе не хватит и на неделю! Мне кажется, что вера в Бога возможна лишь в том случае, если Он настолько огромен, настолько велик, настолько свят и настолько прекрасен, чтобы быть достойным этой веры.
— Ну и как? Сами вы нашли такого Бога?
— Мне кажется, что нашёл и продолжаю находить.
— Где?
— В Человеке из Нового Завета. Сдаётся мне, что я размышлял об этих вещах больше вас, мистер Фабер. Возможно, однажды я обрету уверенность в чём-то реальном. Но как человек может верить в ничто, я не понимаю.
— Прошу вас, не думайте, что меня поколебали ваши аргументы, просто потому, что я не могу ответить вам сразу, — сказал Фабер, когда они подошли к его дому. — Пойдёмте ко мне; я составлю лекарство сам, это сбережёт нам немного времени. Знаете ли, — продолжал он уже у себя в кабинете, — во всём этом есть уйма неувязок и трудностей, с которыми сталкиваются люди нашей профессии, и я сомневаюсь, что вам удастся так легко их разрешить. Но давайте вернёмся к этому бедняге Лингарду. Гластонские сплетники говорят, что он сошёл с ума.
— На вашем месте, Фабер, я не стал бы опровергать эти слухи. Пока Лингард в своём уме, но его терзают тяжкие мысли, которые вполне могут лишить его рассудка. Только я очень прошу вас даже не намекать на это другим.
— Понятно, — отозвался Фабер.
— По-моему, если бы врач и священник понимали друг друга и трудились вместе, — сказал Уингфолд, — они смогли бы сделать гораздо больше.
— Несомненно. Кстати, а что за человек этот их кузен? Как там его зовут — Баском, кажется?
— А вот он как раз должен прийтись вам по сердцу, — ответил священник. — Он обладает прямо-таки необыкновенной способностью ни во что не верить.
— Постойте, постойте! — перебил его доктор. — Вы слишком мало меня знаете, чтобы рассуждать о том, кто придётся мне по душе, а кто нет.
— Ну, тогда я скажу о господине Баскоме лишь одно: он был бы честным, не будь он так тщеславен; но если бы он и вправду был так честен, каким себя считает, то не стал бы так поспешно обвинять в нечестности всех, кто с ним не согласен.
— Надеюсь, это не последний наш разговор, — сказал Фабер, оглядываясь вокруг в поисках пробки. — Как-нибудь я сообщу вам пару-тройку фактов, которые заставят вас пошатнуться.
— Что ж, это вполне вероятно, — согласился Уингфолд. — Я только учусь ходить. Но ведь можно пошатнуться и не упасть, так что я вполне готов выслушать всё, что вы мне расскажете.
Фабер протянул ему пузырёк с лекарством, и Уингфолд, попрощавшись, отправился назад.
Глава 7. Священник и Хелен
К утру Леопольд лежал в путах слабой, но неотвязной лихорадки. Он снова был болен, но теперь на душе ему было куда легче, и даже самые тревожные его сны уже не пугали его, заставляя просыпаться в ещё более жуткую реальность. И всё-таки, дежуря у его постели, Хелен нередко с мучительной ясностью видела, что сны его, главным образом, вращаются вокруг того, чем должно было завершиться судебное разбирательство и его приговор. Ей казалось, что в выражении его лица она видит всю страшную процедуру, от начала до конца. В какой-то момент на его лбу всегда появлялись капли холодного пота, за этим неизменно следовала улыбка, и он успокаивался почти до самого утра, когда всё начиналось заново. Иногда он бормотал молитвы, а иногда Хелен казалось, что он видит себя лицом к лицу с Иисусом, потому что блаженство и доверчивое благоговение, сиявшие в такие минуты на его лице, были удивительно прекрасны.
Саму Хелен терзали самые противоречивые чувства. В один момент она горько упрекала себя за то, что стала причиной новой болезни Леопольда. В следующее мгновение в сердце её подымалась неудержимая волна радости при мысли о том, что, по крайней мере, сейчас он в безопасности и, может быть, смерть избавит его от целой уймы зловещих возможностей. Ведь манипуляции Джорджа могли лишь отсрочить тот день, когда правда выплывет наружу, и даже если никто ничего не узнает, рано или поздно Леопольд заподозрит, что его обманули, и это немедленно подтолкнёт его к новым действиям.
Однако помимо всего прочего, некое новое чувство, которое лишь недавно начало исподволь намекать ей на своё присутствие, теперь грозило принести с собой куда более глубокую и затяжную скорбь: она всё лучше и чётче понимала, что приняла сторону зла против того, кого любила больше всего на свете; как сатана, пыталась оттащить его назад, во мглу, и почти физически стояла у него на пути, пытаясь отвратить его от пути, ведущего к покою. Неважно, был ли избранный им путь единственным возможным: другого Леопольд просто не знал, и истинность этого пути уже подтверждалась теми проблесками покоя и утешения, которые он обрёл в самом его начале. Она же ради того, чтобы избежать позора и унижения (и, как она говорила сама себе, ради всей семьи), выбрала дорогу, которая, в случае успеха, заперла бы Леопольда, словно в сумасшедшем доме, наедине с его внутренними терзаниями, тщетными угрызениями совести и столь же тщетным желанием освободиться. Теперь, когда ещё одна отсрочка немного отдалила гибельную угрозу и Хелен немного успокоилась, её совесть воспользовалась этой передышкой и заговорила громче. И Хелен прислушивалась к ней, но всё равно упрямо цеплялась за один и тот же вопрос: почему Леопольду нельзя принять утешение Евангелия без необходимости сдаться властям? Ведь тем самым он фактически совершит самоубийство! Она не понимала, что чистосердечное признание было для Леопольда дверью в надёжное и безопасное прибежище, и ему просто необходимо было в неё войти.
Теперь она снова думала об отсутствии Джорджа с облегчением, и хотя суровость Уингфолда пугала и отталкивала её, в его присутствии она невольно ощущала неописуемое чувство защищённости — по крайней мере, пока Леопольд не поправился настолько, чтобы священник мог с ним разговаривать.
Уингфолда же всё более и более интересовала эта женщина, способная любить так сильно, но не до конца, которой уже пришлось и ещё придётся перенести немало страданий и которая непременно обрела бы счастье в вере, даже если эта вера была бы не больше его собственной. Желание помочь ей становилось всё сильнее, но он не видел возможности до неё достучаться. И тут он начал открывать одно важное преимущество своей кафедры, этой маленькой, открытой всем обители, выходящей не только в небесные сферы, но и в множество потаённых уголков в сердцах его прихожан. Ибо то, что один человек не осмеливается — и не может, даже если бы осмелился; а если бы мог, то ни за что не осмелился бы — сказать другому наедине даже в самое подходящее время и в самом подходящем месте, он может открыто сказать с этой самой кафедры, перед целой общиной; и тот, кто нуждается в помощи, может услышать его слова не обижаясь и не чувствуя на себе удушающего ярма применить их так, как предписано (что, кстати, нередко так сильно раздражает душу, что она отвергает ту истину, которую могла бы принять). Ах, если бы все наши кафедры оказались в распоряжений таких мужей, которые страданиями познали человеческую природу, а послушанием — Божье сердце! Тогда положение наставников общества перестанет принадлежать прессе, и лики истинных мужей повсюду станут окнами, через которые свет Духа сможет проникать в людские души; их голоса будут проповедовать увиденную ими истину, и сила Господня молнией полетит от сердца к сердцу. Тогда людям понадобится немного времени, чтобы понять, что главное — это не буква учения (пусть даже самого здравого), а новое творение.
С кафедры Уингфолд мог высказывать самые сокровенные мысли, обращаясь к самым сокровенным тайникам её души, но когда они с Хелен оставались вдвоём, он чувствовал себя подобно военному кораблю с солдатами на борту, вынужденному снова и снова огибать занятый неприятелем берег союзника в тщетных поисках подходящей гавани. Ах, как ему хотелось помочь этой девушке, чтобы в её душе воссиял свет жизни, а лицо вновь расцвело розами покоя! Но в её присутствии он не мог вымолвить ни слова, прекрасно понимая, как воспримет она всё, что он скажет, и потому молчал. Такова слабость некоторых людей — или, может, мудрое провидение ради их защиты: самые яркие формы, которые истина принимает в их личных размышлениях, теряют половину своего великолепия и всю свою привлекательность, когда эти люди высказывают их в присутствии невосприимчивой натуры и потом с отвращением слышат отражение собственного голоса в убогом, вялом и нестройном эхе.
Но с другой стороны, всякий раз, когда в болезни наступала передышка и через тучи и туманы лихорадки пробивались бледные просветы жизни, Леопольд неизменно искал рядом своего друга. Увидев его, он вспыхивал от лучезарной радости, а не найдя его, уныло опускался назад в землю видений. Мягкость служения священника, его искренняя сердечность, сквозившая во всём, что он делал, и даже в бережных движениях его заботливых рук, были для Хелен самым настоящим откровением. Ибо хотя разум Уингфолда никак не решался переступить порог и продолжал задавать вопросы, неуверенно переминаясь с ноги на ногу в постылой нерешительности, дух его Господа незримо скользнул мимо и вошёл прямо в обитель его сердца.
После последней записанной нами проповеди на священника снова нахлынули сомнение и хандра, на этот раз куда сильнее обычного. Может, он зашёл дальше, чем следовало? Может, он высказал больше уверенности, чем имел на это право? Нет, он действительно нашёл в Евангелии неизъяснимое удовлетворение и надежду для самых разных сторон своей сознательной жизни. Но что если, слушая его, люди подумают, что он непоколебимо уверен в фактической достоверности всех этих вещей? Ему пришлось утешить себя мыслью, что даже если в порыве восторга он и вправду создаёт у людей такое впечатление, пока это происходит ненамеренно, в этом нет ничего страшного: какое кому дело до того, во что и как он верит? Пока он остаётся верным себе, вреда это не принесёт. И потом, неужели человеку нельзя хотя бы иногда говорить, отталкиваясь от самого высшего в себе и забывая о низшем? Неужели порой он не может воспарить за пределы себя и круга своего знания? Если нет, ему придётся распрощаться с поэзией, пророчеством, да и со всеми великими открытиями тоже — ведь воплощению всегда предшествует видение, а пониманию — интуитивное предчувствие.
Уингфолд мог сказать о себе только одно: он был готов положить свою жизнь даже за малейшую вероятность того, что всё, о чём он говорил, действительно является правдой. Он готов был признать свою страстную преданность этим истинам, потому что без них жизнь казалась ему иллюзорной, нереальной пустыней. О фактах он не мог сказать ничего, и говорил только об истине — о той красоте, гармонии, праведности и надёжности, которую он видел в Сыне Человеческом, предстающим перед ним в евангельской истории. Он не осмеливался предположить, к чему могут подтолкнуть его пытки во времена гонений, но надеялся, что, даже если ему хватит подлости отречься от Христа, любой петух криком вернёт его к покаянию. В то же самое время он прекрасно понимал, что даже предав своё тело на сожжение, он никак не докажет подлинности своего христианства: в этом его могло убедить лишь сознательное присутствие совершенной любви. Без этого он так и оставался вне царства, в полузабытьи бродя вокруг его стен.
Трудности и непонятности не кончались. Иногда его захлёстывали мятущиеся волны противоречий и невозможности, но голова его неизменно показывалась на поверхности, и ему удавалось сделать глоток воздуха перед тем, как снова погрузиться в пучину. И с каждой новой битвой, с каждым новым лучом шаткой победы неизменный облик Господа виделся ему всё более и более прекрасным. Он начал видеть, как благодатно сомнения сказались на возрастании его сердца и души, углубляя и воплощая его веру и не давая ему верить в абстрактную идею Бога вместо живого Бога — Бога, не вмещающегося в человеческое сердце, полное мыслей, фантазий и стремлений, но, тем не менее, обитающего в нём.
Пока он молча сидел у постели Леопольда, у него было немало времени на раздумья. Иногда Хелен сидела тут же, неподалёку (хотя обычно, стоило ему появиться, она уходила на прогулку), но он не мог поделиться с нею ни одной из своих мыслей. К тому же, она была из тех, кто мало чему учится у других людей. Чтобы она могла услышать, в ней должна была свершиться некая перемена; сначала должен был рассеяться туман, обволакивающий ей душу.
В конце концов, миссис Рамшорн тоже примирилась с присутствием священника, отчасти из-за того, что говорила о нём Хелен, отчасти из-за того, что видела она сама. Её ни в коей мере нельзя было назвать одной из прекраснейших женщин мира, но и у неё было сердце, способное оценить те виды добра, которые высокомерие особого статуса в церкви не успело от неё скрыть — ибо ничто так губительно не влияет на духовную жизнь, как привычное взаимодействие с внешней стороной священного. Так что теперь, встречаясь со священником на лестнице, она приветствовала его весьма учтиво и даже с неким дружелюбием и время от времени, когда ей случалось об этом вспомнить, приносила ему бокал вина, пока он неотлучно сидел возле больного.
Глава 8. Вопросы и ответы
Знакомство между мануфактурщиком и привратником быстро переросло в дружбу. Теперь, закрыв лавку, мистер Дрю чаще всего отправлялся к воротам Остерфильдского парка, навестить Полварта, а, по крайней мере, три раза в неделю к ним присоединялся священник. Они немало разговаривали, много думали, а понимали, пожалуй, и того больше.
Как-то раз Уингфолд пришёл к Полвартам раньше, чем обычно, и они вместе уселись выпить чаю.
— Помните, — неожиданно сказал священник, — как однажды вы спросили меня, зачем Господь пришёл на землю?
— Помню, — ответил Полварт.
— Тогда я ответил вам неправильно; я сказал, что Он пришёл спасти мир.
— Да, помню. Только не забывайте: я спрашивал, какова была Его главная цель; ведь, помимо всего прочего, Он действительно пришёл для того, чтобы спасти мир.
— Да, именно так вы и сказали. Что ж, мне кажется, что теперь я могу дать вам правильный ответ; к тому же в поисках этого ответа я многому научился. Мне кажется, что главным образом Он пришёл в мир, чтобы творить волю Своего Отца. Ведь прежде всего Он всегда и во всём думал об Отце, а потом уже и о братьях, потому что они тоже принадлежали Отцу.
— Мне незачем говорить, что вы правы, потому что вы и сами прекрасно это знаете. Должно быть, с тех пор как вы открыли для себя эту истину, Иисус стал для вас в десять раз более реальным. Верно?
— По-моему, да. Надеюсь, что да. Такое чувство, будто сквозь туман наконец-то начинает просвечивать простая и великая реальность в облике Человека, чистого и простого, потому что Он есть вечный сын Отца.
— В таком случае, позвольте мне спросить ещё кое-что: как вы теперь относитесь к чудесам? К тому, что само по себе невероятно?
— Если предположить, что мы окончательно убедились в достоверности слов Иисуса о самом Себе, нам остаётся лишь посмотреть, соответствуют ли приписываемые Ему дела тому, каким нам видится Его характер.
— И?
— По-моему, какие-то соответствуют, а какие-то — нет. Насчёт них мне придётся думать дальше.
— Тогда я задам вам о них один вопрос. Какова была главная цель этих чудес?
— Если я хоть чему-то от вас и научился, мистер Полварт, так это тому, чтобы как следует подумать, прежде чем отвечать на ваши вопросы, — улыбнулся Уингфолд. — Можно мне подумать над ним дома, в свете того, что я уже знаю?
— Конечно, — ответил Полварт. — Обещаю вам, что этот свет вернётся к вам сторицей. Тогда, если позволите, до прихода мистера Дрю мне хотелось бы спросить вас ещё кое о чём. Вы всё ещё намереваетесь отказаться от места священника?
— Честно говоря, я почти позабыл об этом своём намерении. Уж не знаю, на что я способен, но одно мне известно точно: я не вижу иного более достойного занятия, которому мне хотелось бы посвятить все свои силы. Ничто другое не вызывает у меня такого интереса, ничто другое не кажется мне лучшей наградой за труды, чем возможность говорить своим собратьям о Том, Кто есть истина, и познание Которого есть жизнь. Даже если после смерти нас ждёт пустота, я предпочёл бы прожить свою жизнь, веруя в то великое, что должно существовать, пусть его и нет на самом деле. Никакие факты не могут заменить истин, а если всё это не истины, тогда самая возвышенная часть нашей натуры никому не нужна. Только я всё же предпочту держаться того, что лучше реальности, и кануть в ничто с той же самой высоты, что Иисус, Иоанн, Павел и тысячи других, чья жизнь была прекрасна и чья смерть превращает в райский сад Господень даже ту пустоту, куда они ушли. Да что там, мистер Полварт! Я пойду ещё дальше и скажу, что готов, скорее, навеки уйти в небытие, веруя подобно Христу, нежели жить вечно, веруя подобно тем, кто отрицает Его. Я уверен, что, если Бога нет, то всё существование — это лишь хаос противоречий, из которого не может возникнуть ничего, что было бы достойно имени истины, ради чего стоило бы жить. Нет, я не собираюсь отказываться от места. Я хочу учить людей тому, что действительно хорошо — даже если нет Бога, который превратил бы эту истину в факт! И я готов посвятить этому всю свою жизнь во всё возрастающей надежде (которая однажды может перерасти в уверенность) на то, что Бог всё-таки есть: Бог совершенный, достойный быть Отцом Иисуса Христа. И, может быть, именно потому, что это правда, всё это видится мне и множеству других мужчин и женщин столь прекрасным, что некоторые из них приняли или ещё примут ради этого смерть.
— Я благодарю Бога за эти ваши слова. Уверен, что на этом вы не остановитесь! — воскликнул Полварт. — А-а! Вот и наш мистер Дрю!
Глава 9. Бессмертие
— Ну, как идёт торговля? — спросил Полварт, когда гость уселся.
— Странно слышать от вас такой вопрос, сэр, — ответил мануфактурщик, и его круглое лицо, как никогда похожее на луну, наделённую высшим разумом, расплылось в улыбке. — Я только рад оставить её в лавке и хоть на время позабыть о ней.
— Подлинную торговлю невозможно оставить в лавке. Позади всякого всадника сидит забота, мрачная или светлая[45].
— Это верно, и я только что опять в этом убедился, — сказал Дрю, — потому что споткнулся о новую загвоздку. С тех пор, как мы виделись с вами в последний раз, на меня набросились пренеприятнейшие сомнения, и я никак не могу с ними справиться. Оружия у меня против них никакого, ни единого хоть сколь-нибудь веского аргумента. Может, таков закон природы, что стоит человеку в чём-нибудь запутаться, как у него в голове сразу появляются тысячи других непонятных вопросов, словно сам Хаос задумал его проглотить. Только я начал немножечко продвигаться вперёд, стараясь торговать честнее, как это треклятое сомнение сразу же подняло свою мерзкую голову и принялось раздуваться, становясь всё реальнее и реальнее. Я вот о чём, сэр: что если после смерти нас ничего не ждёт? Что если мы уходим из мира так же, как приходим в него? Что если раньше нас просто не было, и потом просто не будет? Да, весной к нам возвращаются цветы, а осенью — колосья, но ведь и цветы, и колосья каждый год разные, как разные поколения людей!
— Так ведь никто и не говорит, что мы вернёмся сюда. Мы просто верим, что после смерти уходим не в землю, а совсем в другое место.
— Но вы же не можете этого доказать!
— Нет.
— И ничего об этом не знаете!
— Ну, знаю я об этом действительно немного, но, по-моему, достаточно.
— Но ведь даже те, кто говорит, что верит в загробную жизнь, считают смехотворной, например, мысль о существовании призраков, привидений.
— По-моему, в этом виноваты сами привидения и те, кто о них рассказывает. Мне самому они не очень интересны. Я предпочитаю историю о Том, Кто, как говорят некоторые люди, воскрес к новой жизни и воскрес телесно.
— Да, но Он был всего один!
— Те же люди говорят, что Он вернул к жизни ещё двоих или троих.
— И всё равно, получается, что их всего трое или четверо!
— Честно говоря, мне не очень хочется с вами об этом спорить. Ведь вопрос о том, будем мы жить вечно или нет, вовсе не является вопросом первостепенной важности.
— Мистер Полварт! — воскликнул мануфактурщик с таким изумлением и ужасом, что ему вряд ли грозила опасность стать сторонником учения о том, что вместе с физической смертью прекращается всякая жизнь. В ответ привратник улыбнулся, и его улыбку можно было бы назвать даже хитрой, не будь в ней присущего только ему выражения неизъяснимого добра.
— Представьте себе какую-нибудь никчёмную вещь, — сказал он. — Разве вы обрадуетесь, если вас уверят, что вы будете обладать ею вечно? Большинство людей считает, что это прекрасно — иметь свой клочок земли, чтобы передать его детям. Но что если эта земля — всего лишь вонючая, неосушимая трясина, полная смрадных вод? Разве её хозяина
утешит мысль о том, что, покуда живы его наследники, никто и никогда, до скончания света, не оспорит прав владения на этот жалкий надел?
Мануфактурщик озадаченно смотрел на него, но во взгляде его сквозила напряжённая мысль. Священник с весёлым любопытством ждал, что будет дальше: он уже понял, к чему клонит карлик.
— Вы меня просто поражаете! — проговорил мистер Дрю, немного придя в себя. — Разве можно сравнивать Божий дар с такой мерзостью? Что бы мы делали без вечной жизни?!
Рейчел звонко рассмеялась, и священник невольно рассмеялся вместе с нею.
— Ну что, мистер Дрю, — сказал Полварт, тоже почти смеясь, — вы поможете мне до конца вытянуть цепь этого утомительного аргумента? Или сомнительное состояние её звеньев повергает вас в такой шок, что вы не желаете к ним прикасаться? Обещаю вам: последнее звено будет из чистого золота!
— Простите меня, — сказал лавочник. — Я и сам должен был догадаться, что вы пошутили.
— Отнюдь! Я говорил совершенно серьёзно и в самом буквальном смысле. Может быть, вы не вполне поняли, что я имею в виду. Так скажите мне, нужна ли человеку жизнь при любых, совершенно любых условиях?
— Конечно, нет.
— Наверное, вы и сами знаете таких людей, которые не прочь избавиться от своей нынешней жизни, потому что у них нет никакой надежды, что она когда-нибудь изменится.
— Нет.
— А я да.
— Я всегда думал, что за жизнь цепляются все.
— Большинство людей — да, цепляются; но далеко не все. Вспомните, к примеру,
Иова.
— А я слышал, что это всего лишь литературная поэма.
— Всего лишь поэма! Скорее, целая поэма — ведь она отражает состояние не отдельного человека, а всего человечества! Есть люди, которые с радостью избавились бы от жизни, и будь мы с вами на их месте, мы чувствовали бы то же самое. На них немного похожи те, кто отказывается верить в существование Бога: никто из них не ожидает вечной жизни, и мало кто хотел бы жить вечно — по крайней мере, так утверждают они сами.
— Что ж тут удивляться? — откликнулся мануфактурщик. — То есть если они не верят в Бога.
— Ну вот, вы и попались! Вы сами признаёте, что при определённых дурных условиях жизнь никому не нужна.
— Ну хорошо, признаю.
— А я повторяю, что это не далеко не первостепенный вопрос, будем ли мы жить бесконечно. Более того, я пойду немного дальше. Допустим, сам человек хочет жить бесконечно. Значит ли это, что его жизнь стоит того, чтобы ею жить?
— Наверное, да. Кто может судить об этом лучше него самого?
— А вот давайте немного порассуждаем. Возьмём крайний случай и допустим, что перед нами человек, чьё главное наслаждение — жестокость, и у него столько возможностей утолять свою страсть, что жизнь кажется ему прекрасной. Допустим, этот человек хочет, чтобы его жизнь продолжалась бесконечно. Стоит ли такая жизнь того, чтобы ею жить? Хорошо ли это, наделять человека способностью вечно оставаться зверем?
— Для окружающих очень плохо.
— А для него самого ещё хуже.
— С точки зрения других, да. Но ведь сам он будет счастлив!
— Да, если назвать это жуткое наслаждение счастьем и забыть о том, что по самой своей природе это не блаженство, а кошмар. Рано или поздно настанет время, когда, утоляя свою ненасытную страсть, он истребит вокруг всё живое и останется наедине с опустошённым миром. Что тогда? Стоит ли ему жить в таком состоянии?
— Это будет жизнь ему в наказание.
— Пока мы говорим не об этом, но всё равно вы ответили на мой вопрос: является ли бессмертие безусловно желанным просто потому, что человек считает стоящей собственную жизнь?
— Да, действительно ответил. Теперь я вас понимаю.
— Отсюда следует, что есть кое-что поважнее, чем бессмертие. Как вы думаете, что?
— Наверное, само бессмертие тоже должно быть достойным.
— Да; жизнь должна быть такой, чтобы ею стоило жить бесконечно. Но что делать, если она не такова?
— Тогда надо подумать, нельзя ли как-нибудь сделать её такой.
— Вы правы. И в чём же состоит главная, неотъемлемая ценность жизни как жизни? Единственным совершенным идеалом жизни может быть лишь некое Целое, самосущее и созидающее. Это и есть Бог, единый и единственный. Но для того, чтобы любая жизнь была полной по самой своей сути, по своему качеству она должна соответствовать этому идеалу. А человек соответствует самосущему в том, что должен осуществить и совершить себя, вобрав в себя этот источник своего существования, вернувшись и приняв этот источник в свою волю, и заново укоренив в нём все выражения своей свободы и всю силу самостоятельно пробудившейся воли. Иными словами, он должен сказать: «Я буду стремиться к воле созидающего Я»; увидеть и всем своим существом сказать, что желать исполнения Божьей воли в себе, для себя и о себе есть высочайшая точка человеческого существования. Только тогда он завершает свой цикл, оборачиваясь к своей истории, постигая её Начало и волей устремляя своё бытие в волю Единосущего. В этом и состоит совершение, новое творение, объединение человека в единое целое. Это и есть истинная религия, и кто не собирает вместе с нею, тот расточает.
— И после этого, — вставил мистер Дрю с некоторым нетерпением, — встаёт вопрос: буду я жить вечно или нет?
— Вы уже простите меня, но я не согласен, — ответил маленький пророк. — По-моему, этот вопрос мы давно оставили позади. Человек, обладающий такой жизнью, даже не думает о том, будет ли он жить. Сомнительное желание бессмертия возникает лишь в сумерках полужизни, в которой одновременно есть много такого, ради чего ей хотелось бы длиться вечно, и много такого, из-за чего ей не стоит продолжаться. Помните, — сказал Полварт, обернувшись Уингфолду, — как-то раз я говорил о странной рукописи, которую оставил после себя мой брат?
— Отлично помню, — ответил священник.
— Я всегда вспоминаю о ней, когда речь заходит о бессмертии. Так что если вы оба не против, я хотел бы зачитать оттуда несколько отрывков.
Оба гостя горячо, с непритворной сердечностью уверили хозяина, что с удовольствием выслушают всё, что он сочтёт нужным им прочесть.
— Только я должен вас предупредить, — продолжал Полварт, — исключительно ради того, чтобы защитить вас от ненужного смущения, что мой бедный брат был не в своём уме, и то, что я сегодня прочту вам, казалось ему не игрой воображения, а изложением неоспоримых фактов. Некоторые страницы, наверное, покажутся вам донельзя странными и непонятными, но вся рукопись пронизана движениями мысли и тем, что кажется мне удивительной проницательностью и умением предугадать эти движения и приостановить проявления воображаемого сознания.
С этими словами карлик открыл сундучок, где хранились самые дорогие ему вещи, и не только почтительно, но даже ласково вынул оттуда довольно пухлый том размером в четверть листа, аккуратно переплетённый в сафьян с золотым обрезом.
Глава 10. Отрывки из жизнеописания Вечного Жида
«Я опять захворал и по многим причинам (не связанным с самой весомой, о которой я позабыл) надеюсь, что скоро умру. Но эта надежда всегда рушится и обманывает меня. Я знаю, что какое-то время был не в себе, потому что теперь снова вернулся к подлинному осознанию себя. Зримое настоящее ещё раз соединилось в одно целое с прошлым, и в этом целом заключается моё «я».
Позвольте же мне рассказать, как я вырвался из пут безумия, овладевшего мною после долгих тяжких и лет беспрерывного здравомыслия.
Я уже сказал, что был сильно болен; неведомое воспаление нашло себе пристанище в мозге, чрезмерно отягощённом неестественно длительным существованием. Была ли эта болезнь делом рук беса или целого легиона бесов, знает только Бог. Как бы то ни было, я был словно одержим. Мною владело безумие, и я не могу сказать, сколько оно продолжалось, годы или всего лишь мгновения. Теперь мне кажется, что это были долгие годы; но слишком хорошо зная, как текут времена и сроки для того, кто спал и пробудился ото сна, я не склонен доверять впечатлениям, оставшимся в неверной памяти, и могу положиться на них лишь в том, чтобы передать характер осаждавших меня видений.
Я воображал себя англичанином по имени Полварт, отпрыском древнего корнуоллского рода. Более того, я брёл по истории в облике этого Полварта уже полжизни, каждый день, от рассвета до заката. У меня был брат, карлик и калека, и такая же, как он, дочь. Единственным, что сквозь пелену сумасшествия напоминало мне о моём истинном «я», было ощущение, что всё это случилось со мной в наказание за страшный грех, когда-то совершённый мною. Правда, что это был за грех, я позабыл и вряд ли мог представить себе всю присущую ему гнусность.
Но как-то утром, едва проснувшись после беспокойной, пресыщенной снами ночи, я ощутил присутствие некоей полупризрачной тени. Мысль это была, воспоминание или фантазия, сказать было трудно. Почему-то из неё тёмными лучами струилось убеждение, что мне непременно нужно удержать и опознать её; иначе я потеряю себя навеки. Поэтому, напряжённо пытаясь удержать эту тень и вспомнить, с чем она связана, я сосредоточил на этой призрачной мысли всю силу своего духовного человека
Каждому известно, как это — пытаться уловить нечто бесформенное и эфемерное, вроде радуги, исчезающей с самого первого момента своего появления. Это что-то явно знакомо нам, но стоит разуму поднести к нему свой фонарь, как оно тут же начинает растворяться в воздухе. Какое-то время мы упорно гонимся за ускользающим фактом, а он всё время скрывается от нас за следующим поворотом, оставляя на каждом углу частичку себя, покуда не рассыпается окончательно, и мы останавливаемся, недоумённо спрашивая себя, был ли он на самом деле.
Пока мне чудилось, будто я веду жизнь английского дворянина, эти мысли-фантомы постоянно досаждали мне по утрам, и я неизменно пускался за ними в погоню, как скучающий человек от нечего делать следует за бегучими болотными огоньками. Более того, со временем это явление и всё, что могло за ним стоять, так заинтересовало меня, что я начал изобретать для его объяснения всевозможные теории, и некоторые из них казались мне оригинальными и остроумными. Старое предположение о том, что меня терзают смутные воспоминания о прежнем существовании, тоже не оставляло меня; я снова и снова возвращался к нему, но всякий раз решительно отвергал как совершенно неразумное и неправдоподобное.
Но в то утро, о котором я уже упомянул, мне впервые удалось удержать, захватить и опознать это навязчивое, летучее видение. В то же мгновение узы безумия спали, и ко мне вернулось прошлое. Куда бы я ни кинул свой мысленный взор, передо мной тут же вставали давние события, во всех подробностях места и времени, до мельчайших деталей. Я снова узрел неприкрытую реальность своего «я», всегда ужасную, но теперь, после долгих лет блаженного неведения, ставшую вдесятеро ужаснее: я был и есть самый страшный и загадочный преступник на свете, несущий наказание, не похожее ни на какие другие, и известный миру под разными именами, а здесь в Англии — под именем Вечного Жида[46]. Увы, Агасферу снова пришлось стать самим собой — собой и никем другим! Жена, дочь и брат исчезли и возвращаются только во снах. Я был и остаюсь скитальцем, бессмертным, раскаивающимся, непрощённым. О, моё бедное сердце! О, мои бедные, усталые ноги! О, мои бедные глаза, которые когда-то видели, но более не увидят ничего, покуда не откроются однажды и не ослепнут вовеки! Словно неистовый град, смешанный с огнём, воспоминание о содеянном грехе опять захлёстывает меня, бешено мчась по старым, пересохшим руслам души, которая снова оживает и начинает корчиться, обугливаясь от языков пламени и разрываясь от ядовитого жжения.
Глава 11. Вечный жид
В святом Иерусалиме было прекрасное летнее утро, и я сидел за верстаком и усердно трудился над парой сандалий для первосвященника Каиафы. Я торопился: мне надлежало закончить работу за час до захода солнца, чтобы сделать все приготовления к пасхальной трапезе.
Всю ночь в городе было неспокойно, и какие-то люди непрестанно ходили туда- сюда: первосвященники и иже с ними наконец-то схватили того самого Иисуса, которого многие называли Мессией, а другие (и я, неразумный, тоже) считали архисамозванцем и богохульником. Дело в том, что я был из дома Каиафы и искренне желал, чтобы человеку, которого мой господин объявил обманщиком, досталось справедливое возмездие за его деяния.
Итак, я сидел за работой, размышлял и радовался своим мыслям. Прошло утро, настал полдень. Лето было душное, улица раскалилась под палящим солнцем, а я сидел в тени, поглядывая на пышущую жаром дорогу, не переставая мастерить сандалии для своего хозяина, искусно скрепляя их хитроумными, мелкими стежками. Какое-то время вокруг царило томное безмолвие, но внезапно откуда-то издалека послышался нервный, беспокойный гул. Первыми появились бездельники-ребятишки, вечно бегущие впереди, чтобы их не затёрли в сутолоке; они бежали вприпрыжку, то и дело оглядываясь назад. За ними повалила целая толпа, с криками и воплями, толкаясь и выпирая то туда, то сюда, а посреди неё возвышалась перекладина креста, и тащивший её Иисус так низко согнулся под этой тяжестью, что его вовсе не было видно. «Странно, — подумал я. — Наверняка он не раз таскал брёвна и потяжелее, когда работал с отцом-плотником в Галилее. Но теперь грехи и глупая праздность отняли у него молодость и силы, ибо тот, кто презирает закон, погибнет, а уповающие на Господа обновятся в силе». Я немало сердился на него: ведь он учил людей презирать великих хранителей и толкователей закона и почитать тех малых, кто всего лишь соблюдает его. Да что там! Этот человек плёткой прогнал со двора язычников брата моего отца, что, хоть и не причинив ему телесной боли, поразило его в самое сердце, — и тут же пригрозил разрушить и в три дня отстроить тот самый храм, который якобы так почитал!
Вот какие думы жили у меня в душе. Так что когда я услышал от уличных мальчишек, что мимо нас идёт сам Иисус из Назарета, и ведут его на Голгофу, чтобы там распять, сердце моё возликовало при мысли о том, что закон, наконец-то, восторжествует над этим злодеем. Я отложил сандалию и шило, поднялся и встал у двери в лавку. Иисус приблизился и уже почти прошёл мимо, когда длинный конец креста вдруг сполз в пыль и тяжко потащился по дороге. Кто-то из напиравшей сзади толпы подбежал, поднял его и
толкнул вперёд, так что Иисус споткнулся и чуть не упал. Он был так близко, что перекладина креста оказалась чуть ли не на моём пороге. Я с негодованием отпихнул его от себя и гневно воскликнул: «Иди, иди, Иисус, иди дальше! Нечего тебе ступать на мой порог!» Он поднял на меня глаза и сказал: «Я-то уйду, а вот тебе уйти не суждено», и пошатываясь, побрёл дальше. Я же вслед за толпой отправился на Голгофу».
Тут Полварт остановился.
— Я прочту вам лишь несколько отрывков, — сказал он. — Вы же видите, рукопись очень длинная, и я выберу лишь места, связанные с тем, о чём мы сегодня говорили. Дальше идёт подробное описание распятия; вряд ли я когда-нибудь смог бы прочесть его вслух. Там есть всё: и землетрясение, и бледные лица восставших мертвецов, проглядывающие из тьмы, окутавшей крест. Заканчивается оно так:
«Всё это время я оставался в стороне, но ближе подойти не решался, потому что рядом стояла его мать и те, кто были с нею, и при виде её сердце моё тяжко ныло от жалости. Я уже готов был сорваться с места и побежать домой, чтобы выплакать душившие меня слёзы, но какая-то непонятная сила словно пригвоздила меня к земле. Казалось, казнь приближается к концу. Отверзши уста, Он что-то сказал матери и ученику, стоявшему рядом с ней, но что сказал, я не знаю, ибо после этого глаза Его устремились на меня, и сердце моё ухнуло и куда-то провалилось. Он не вымолвил ни слова, но в Его взоре было нечто такое, что своей скорбью поразило бы меня до смерти, если бы смерть (хотя сам я этого пока не знал) уже не отшатнулась от меня навеки, не решаясь приблизиться к такому злодею. Ах, Смерть! Если бы ты вняла моему воплю, с какой радостью я построил бы тебе храм, воздал тебе высокие почести и принёс в жертву орлов на костре из мёртвых трупов!.. Но всё это лишь глупый, бессвязный бред! Да простит меня Господь. Все назначенные мне дни я буду ждать своего часа. Но тот Его взгляд, ставший источником вечных слёз в моём пульсирующем болью мозгу, словно развязал мне ноги, и я убежал прочь».
Тут Полварт опять остановился, перелистнул сразу много страниц, нашёл нужную и снова принялся читать:
«И с тех пор всякий раз, когда ночью мне случалось видеть у дороги крест, я взбирался на него и, обвив его руками и ногами, висел на нём во мгле или при лунном свете, в дождь, в снег, в мороз, покуда мышцы мои не ослабевали, и я мешком не сваливался на землю, лишаясь чувств и приходя в себя лишь утром, когда на меня, лежащего у подножия креста, начинало светить солнце. И если мне вдруг случалось позабыть Его последний взгляд, во мне тут же вспыхивало мучительное желание смерти, не отпускавшее меня, покуда воспоминание об этом взгляде и его сила не возвращались ко мне, и вместе со скорбью моя душа не обретала терпение жить дальше. Но даже хотя я описываю всё это обычными словами, забвение и вспоминания означают для меня совсем не то, что для других людей. Эти движения духа измеряются для меня не человеческими поколениями, не годами, а столетиями, ибо мгновения моей жизни отсчитывают часы, чей маятник качается вдоль дуги недвижных звёзд.
Однажды мне было видение Смерти. Должно быть, это были первые поползновения того безумия, которое впоследствии обволокло меня: ведь я хорошо знаю, что Смерти как таковой нет; что это только слово, необходимое ради бессилия человеческой мысли и убожества человеческой речи; что смерть — это не существо, а всего лишь перемена из нынешнего состояния в иное. Но я повторяю, что мне было видение Смерти. Вот на что оно было похоже:
Я шёл по широкой песчаной пустыне, как в Египте, и время от времени поглядывал по сторонам, не появятся ли где-нибудь на горизонте пирамиды, чёрными треугольниками
врезающиеся в ночную синеву неба. Но вокруг ничего не было. Звёзды сошли на землю и сверкали на сухом песке, а вокруг простиралась дикая, безлюдная пустота. Воздух тоже был недвижен, как внутри наглухо заделанного склепа, где кроме сухих костей нет ничего, нет даже малейшего призрака зловония, подымающегося от тлеющей плоти. В этом мёртвом воздухе я непрестанно слышал тихие стенания далёкого моря, к которому несли меня ноги. Я шёл уже долгие годы, но за это время голос моря стал лишь чуточку громче.
И тут внезапно я понял, что я не один. Рядом шагала чья-то смутная фигура, едва различимая, но реальная. Она не вызвала у меня страха; ведь то, чего люди обычно боятся больше всего, было для меня самым желанным на свете. Я остановился, повернулся и уже собирался заговорить, но черный силуэт, который никак нельзя было назвать просто тенью, не останавливаясь прошествовал мимо, не обращая на меня внимания. Тогда я опять повернулся, зашагал к морю — и тень, удалившаяся было вперёд настолько, что казалась лишь туманной дымкой между звёздами, вдруг снова оказалась со мной рядом.
— О дух, я знаю, что ты не тень, — сказал я, не останавливаясь и не замедляя шаг. — Ведь сейчас нет ни солнца, ни луны, а многие звёзды гасят тени друг друга. Так что же ты такое и зачем ты идёшь рядом со мной? Если ты хочешь напугать меня, у тебя ничего не выйдет: я не боюсь ничего, кроме того, что люблю более всего на свете! — добавил я, думая о глазах Господа Христа.
— Ты так мало знаешь, что я такое, — ответил мой тёмный спутник, — что отказываешь мне в самой моей сущности. Я есть Тень и ничто иное, и нет другой Тени, кроме меня. Я Тень, одна единственная тень — не из тех, от которых в ужасе бежит свет, но подобная им, ибо сама жизнь отворачивается и прячется от меня. Но без жизни не было бы и меня, ибо я — ничто; и всё же, стоит чему-то появиться, как я сразу же появляюсь рядом, и мне не нужен был создатель, ведь я появился сама собой, ибо я есть Смерть.
— Ах! Смерть! — воскликнул я и хотел было упасть к его ногам, простирая руки в благоговейной мольбе, но в тот же миг пояс Ориона накрыла тень, а мой спутник исчез. Я вздохнул, снова зашагал к вечно стонущему морю — и через мгновение увидел, что тень опять идёт рядом.
— Значит, ты так и будешь ускользать и возвращаться? — заговорил я. — Тогда я презираю тебя, потому что ты боишься честной борьбы!
С этими словами я бросился на него, чтобы бороться с ним, надеясь не на победу, а на поражение, но никак не мог схватить его.
— Ах ты бессильное ничтожество! — вскричал я. — Ты не стоишь даже того, чтобы бросать тебе вызов!
— Ты хочешь рассердить меня, — ответила тень, — но у тебя ничего не выйдет. Меня нельзя вывести из себя. Да, я всего лишь тень, но я знаю себе цену, ибо я есть Сень Всевышнего, и где бы Он ни был, я всегда рядом.
— Ты просто ничто! — выкрикнул я.
— Нет, нет, я не Ничто. Ни ты, ни никакой другой человек не знает, что означает это слово; это известно только одному Богу. Я всего лишь тень этого Ничто. Говоря «ничто», ты имеешь в виду всего лишь меня; но что имеет в виду Бог, говоря о «Ничто» — о том ничто, которое бывает без Него и которое есть не тень, а сама сущность небытия, — этого не может знать никакая тварная душа.
— Значит, ты — не Смерть? — спросил я.
— Я то, что ты представляешь, когда говоришь о смерти, но не Смерть, — ответил он.
— Горе мне! Тогда зачем ты пришёл ко мне посреди этой пустыни? А я-то думал, что ты действительно Смерть и сможешь забрать меня к себе, чтобы меня больше не было!
— Такие дела не подвластны Смерти, — ответствовала тень. — Только Тот, Кто сотворил тебя, способен сделать так, чтобы тебя не было. Ты есть, покуда Он не пожелает, чтобы тебя не стало. От мудрецов я слышал, что творить трудно, но обратить сотворённое в ничто — ещё труднее. Правда, я об этом ничего не знаю. Только неужели ты желаешь, чтобы тебя рассыпала в ничто рука Смерти? Неужели ты хочешь, чтобы твоё небытие было даром тени?
Я вспомнил глаза Господа Христа и Его взгляд и сказал:
— Нет; я не хочу, чтобы Смерть уносила меня. Я хочу исполниться жизни и вечно стоять перед Богом.
Тут пояс Ориона снова затуманился, и тень исчезла. Но и после этого я жаждал прихода Смерти, надеясь, что она приведёт меня к тем глазам и сиявшему в них прощению. Однако годы всё шли, и с каждым новым годом надежды у меня становилось всё меньше. Я снова позабыл, как Господь однажды посмотрел на меня. В конце концов, утомившись от бренной, но бесконечной жизни и желая, чтобы это противоестественно долгое существование пришло-таки к естественному завершению, я начал мечтать о том, чтобы бытие прекратилось навсегда.
И вот как-то раз, в одном германском городе, я отыскал своих собратьев-евреев, которые сказали мне:
— Не печалься, Агасфер! После смерти нет никакой жизни. Так что живи, покуда не придёт твой срок, и не жалуйся. Любой из нас с радостью принял бы на себя твоё наказание, чтобы жить, пока жизнь не станет ему в тягость!
— Да, но как жить, когда жизнь давно тебе опостылела? — возразил я.
Но они не стали меня слушать и сказали:
— Исследуй Писание, изучи Книгу Закона и рассуди, есть ли в ней хоть один побег этого странного растения, этой веры, выросшей в одну ночь. Воистину, вера в бессмертие — лишь мимолётная вспышка в разуме людей, силящихся подняться над своим уделом. Разве Моисей, Иов, Давид или Даниил обмолвились о нём хоть одним словом?
И я послушал их, и они убедили меня. Но с этими мыслями тоска по смерти навалилась на меня вдесятеро сильнее, и тогда я встал, препоясал чресла свои и снова пошёл на поиски того, кто теперь казался мне привратником у ворот вечного безмолвия и невиданного покоя. В прежние дни, когда я утомлялся от своих трудов, что было для меня слаще, чем окунуться в смерть сна? Так насколько же слаще будет погрузиться в самый глубокий, самый древний из всех снов — в материнское лоно смерти, где обитает пустота и покой, не знающий пробуждения! Бесконечное жужжание колёс мысли и желания, наконец, смолкнет, и меня поглотит ночь, чья мгла не кишит незримыми тварями и которую не всколыхнёт ни одна утренняя звезда!
И всякий раз, когда сходились враждующие армии и близился день битвы, я в жаркой спешке летел им навстречу, чтобы первым оказаться на бранном поле и с радостью встретить самую страшную погибель. Сам я не сражался, потому что не хотел убивать тех, кто не желал смерти, как желал её я. Но если бы на поле битвы выходили воины, как я, жаждущие смерти, с каким рьяным неистовством я поражал бы их, чтобы, подобно ангелу Азраилу, даровать им долгожданный покой! Ибо я относился к своим собратьям не с ненавистью, а с любовью и готов был с усердием перетащить их, всех до одного, из обжигающего воздуха жизни в целительную тишину гробницы. Но они не искали смерти, и я не дарил им её, хотя всё упорнее искал её для себя. Зрение моё обострилось настолько, что я тут же узнавал стервятников, кружащихся над роковым полем, даже если они были так далеко, что казались лишь пылинками в солнечном луче. Завидев их, я стремительно бежал в ту сторону и не останавливался, пока они не оказывались прямо у меня над головой.
Однажды сидя в степи, ослабев от горя, я увидел, что ко мне стремительно приближается отряд конных всадников, обезумевших от животного страха. Я вскочил и кинулся к ним навстречу, махая руками и крича, как кричит пастух, чтобы повернуть стадо. Вздыбленным валом, поднявшимся свирепым ветром, неумолимо сметающим всё на своём пути, они налетели прямо на меня. Ах, вот это воистину был кипучий поток — громоподобная череда живых, железнобоких волн, гонимых вперёд ураганом страха! На мгновение я почувствовал копыта и знал, что меня подмял кто-то из всадников — но чувства тут же исчезли, и какое-то время не было совсем ничего. Я проснулся в тишине, и мне показалось что я умираю, что я почти пересёк невидимую черту и через секунду наступит вечное и бесконечное ничто. Потом снова наступила пустота. «Наконец-то я умер, меня больше нет! — подумал я. — Мои странствия закончились». И с этой мыслью меня обожгло адское отчаяние: ибо я продолжал думать!
— О Боже! Горе мне! — возопил я. — Хотя больше я ничего не вижу, не слышу, не чувствую ни запаха, ни вкуса, ни прикосновения, и тело моё покинуло меня, я всё равно остаюсь Агасфером, Странником, и должен всё так же идти и идти без конца, слепой и глухой, чрез неведомые пустыни, незнакомые человеческим чувствам, — и мне уже никогда не обрести покоя! Увы! Смерть — это не смерть; ведь она лишь протыкает кожаный чехол бутыли, но не проливает на землю вино жизни! Горе мне, горе! ибо я не могу умереть!
Но тут я почувствовал в пальцах лёгкую судорогу и громко воскликнул от счастья: тело моё осталось со мной! Ликуя, я вскочил на ноги и весь израненный и хромой, с перебитой рукой, заковылял вслед Смерти, надеясь, что она всё-таки откроет мне тайну вечного покоя. Я был жив, но у меня оставалась надежда, ибо Смерть была ещё впереди! Я был жив и пока ещё не умирал. Кто знает? — может, я ещё отыщу ту дивную ночь, где нет ни звёзд, ни облаков! Я ещё не перешёл в страну мёртвых и пока продолжал жить! Кто знает, может, мои соплеменники-мудрецы из германских краёв действительно окажутся правы! Так, примерно с час, я безудержно радовался и ликовал.
Глава 12. Вечный жид
Была полночь, и духота стояла адская. Весь день воздух ни разу не шелохнулся. Земля, по которой я шёл, была совершенно плоской, как море, когда-то покрывавшее её. Сердце моё еле билось, и я страшно устал, как человек, слишком уставший, чтобы заснуть сразу, и даже во сне продолжающий трудиться не покладая рук. Глаза мои слипались, но я продолжал идти. Кровь в моих жилах текла так же вяло, как медлительная вода в многочисленных речушках, попадавшихся на моём утомительном пути. Я не терял надежды повстречать тень, которая одновременно была и не была смертью.
Но то, что я поведаю вам сейчас, не было сном. Ровно в полночь я подошёл к воротам большого города, и стражники впустили меня. Словно призрак в ночном сновидении, я бродил по его древним, благородным улицам, никого не зная и позабыв о себе, и наконец вышел на площадь, где возвышалась огромная церковь, и мне показалось, что крест на её шпиле усыпан теми самыми звёздами, к которым он был вознесён. «Господи Иисусе!» — подумал я про себя и, подойдя поближе, толкнул дверь, ведущую на колокольню. Она оказалась не заперта. Опираясь на палку, я принялся подниматься по винтовой лестнице, покуда не выбрался к открытому небу. Но лестница не кончалась, а витками вела меня всё дальше и дальше, к звёздам. Я поднимался всё выше, до самого неба, пока не оказался у подножья каменного креста.
Боже мой! Сколько неспешных, неспокойных столетий проплыло мимо с тех пор, как я стоял возле креста мук и позора! Бог так и не утомился от Своей жизни, но я устал всем своим нутром; устал настолько, что усталость стала частью моего существа и я почти перестал замечать её. Теперь же над каждым людным городом в почести и славе возвышался крест, окружённый звёздами! Я вскарабкался на купол и полез вверх по украшенному резьбой столбу креста; жилы мои были словно сталь, а мышцы высохли и затвердели, покуда не стали крепкими, как у тигра или громадного змея. Я взбирался всё выше и выше, пока не долез до огромной поперечной перекладины. Я закинул на неё руки, как делал всегда, обвил столб ногами и повис на высоте трёхсот футов над городскими крышами.
Пока я висел, взошла луна и моя тень, тень Агасфера, легла на крест, закрыв собой свет Плеяд. И тут тупоголовая Природа словно обиделась на меня, не поняв моего убогого приношения, и на небо вдруг налетели тучи, словно стервятники, взявшиеся неизвестно откуда. Они подымались и наплывали со всех сторон, вскоре закрыв собой луну, и их становилось всё больше, пока они не собрались прямо над крестом. Когда они сомкнулись, сверкнула молния, вслед за ней грянул гром, и всё вокруг, надо мной и подо мной, разразилось беспрестанными вспышками и громогласными раскатами, так что я не мог различить голоса отдельных молний, ибо всё смешалось в одном грохочущем хаосе.
Услыхав раскаты грома, жители города выглянули из окон, увидели, что вокруг шпиля церкви, возвышающегося посреди великого смятения, бушует ослепительная гроза, и только тут заметили, что на кресте висит человеческая фигура. Они выскочили из домов, и вскоре вся площадь была запружена народом, изумлённо взирающим на сие удивительное явление. «Чудо! Чудо!» — восклицали они, но никакого чуда там не было, а был всего лишь я, Агасфер, странник, горько кающийся в своём преступлении против Распятого.
Внезапно всё вокруг воссияло великим светом, невиданным мною доселе — да и сейчас я взирал на него не только глазами, но лучшей частью своей души, дарующей подлинный свет человеческим очам. «Несомненно, Господь близко, — подумал я, — и Он пришёл ко мне позже всех, как к благословенному Савлу Тарсянину; только величайшим из грешников был вовсе не он, а я, Агасфер, проклятый Богом». Тут раздался оглушительный удар грома, будто весь мир взорвался в плавильне солнца, и я упал; то ли в меня вонзилась молния, то ли я просто, как всегда, свалился с креста от изнеможения, не знаю. Я лежал на куполе у подножья креста; люди же, взглянув вверх, увидели, что чудо закончилось, разошлись по домам и мирно уснули. А на следующий день, войдя в реку, чтобы умыться и искупаться, я обнаружил, что у меня на теле, прямо возле сердца, проступил тёмный, свинцового цвета крест с человеком, висящим на нём, как висел я. Вот это воистину было чудо! Но я не знал, огорчаться ему или радоваться.
Как-то ночью я зашёл в горную деревушку, спрятавшуюся среди безлюдных утёсов, где я бродил весь день. Ещё никогда жизнь не казалась мне столь безнадёжной. В мире не было никого, кто мог бы узнать меня, и хотя среди людей ходили легенды о вечном страннике, веры на земле осталось так мало, что стоило объявить то или иное явление чудом — даже если оно и впрямь было таковым, — этого было достаточно, чтобы в него не верил ни один человек, желающий прослыть мудрым. За последние пятьдесят лет ни один человек не поверил моей исповеди. Ибо когда я рассказывал им правду, говоря, как говорю сейчас, что я — тот самый Агасфер, которого Великое Слово изгнало из родной ему страны Смерти, закрыв перед ним двери могилы, чтобы он не мог туда сойти, все без исключения объявляли меня сумасшедшим и отказывались иметь со мной дело, будто во мне и правда обитал легион бесов, которые не прочь поселиться в свином стаде. Я ожесточился сердцем и чувствовал себя беспредельно одиноким.
Именно таким я пришёл в ту горную деревушку. Была полночь, и её обитатели крепко спали, так что даже ни одна собака не залаяла, заслышав мои шаги. Но вдруг — и душа моя до сих пор содрогается при одном воспоминании — многоголосый вопль безумного страха вырвался из груди всех спящих жителей, раздавшись гулким эхом в самых дальних отлогах и трещинах, так что сердце моё бешено заколотилось о рёбра, и я тоже испустил невольный крик, потрясённый ужасным воплем, ибо среди спящих жителей не было ни мужчины, ни женщины, ни ребёнка, который не возопил бы от страха вместе с другими. И я знал, что закричали они из-за того, что меж их домов шёл изгой, бездомный, никем не любимый вечный странник, не позволивший своему Создателю опустить крест на свой порог. Что ещё могло извергнуть из человеческих душ столь душераздирающий крик?
Я огляделся, думая, что вот-вот люди выбегут из домов и в остервенении набросятся на меня, чтобы убить неубиваемого. Но вопль тут же смолк, и воцарилась тишина. Боясь, что сейчас раздастся ещё один крик, и сердце моё станет как вода, я ускорил шаги, чтобы поскорее оставить позади жилища детей земного мира и снова удалиться в горы, где нет
человеческих троп. Но тут в одном из домов отворилась дверь. В то же мгновение вдоль улицы пронёсся леденящий порыв горного ветра, а из двери, навстречу ветру, вдруг выбежала молодая девушка в одной ночной рубашке. Ветер дул ей в лицо, и при свете луны я увидел, что руки и ноги её потемнели и огрубели от нищеты и тяжкой работы, но шея и плечи были белыми, а фигура — ладной и на редкость изящной. Ветер вздымал её волосы, грозовым облаком застилавшие ей лицо; она то и дело смахивала их, как едва не утонувший человек пытается смахнуть с лица воду, из которой его только что вытащили, и за этими прядями я увидел её глаза, словно две светоносные звезды, проглядывающие из-за туч.
С детским бесстрашием она посмотрела на меня и сказала:
— Скажи мне, незнакомец, не знаешь ли ты, что это был за крик? Не ты ли кричал сейчас на нашей улице?
— Нет, милая, — ответил я, — это был не я. Но я тоже слышал этот крик, и вся душа во мне содрогнулась.
— А на что он был похож? — спросила она. — Видишь ли, я спала и даже не слышала его, и мне передался лишь его ужас.
— Мне показалось, что все здешние жители вскрикнули в одно мгновение, будто им всем приснился страшный сон.
— Я не кричала, — проговорила девушка. — Я спала, но сон мне снился такой, что я никак не могла закричать.
Она была так прелестна в своей невинности, что я спросил:
— Что же тебе снилось, милое дитя? Может, расскажешь бедному старику?
Но тут с горных вершин сорвался ветер и, как стая бешеных волков, с неистовой силой подхватил меня и повлёк прочь из деревни. Я что было духу побежал от него и не мог остановиться, пока не заскочил в маленькую пещеру. Но не успел я перевести дух и оглянуться, как в ту же самую пещеру влетела и девушка, унесённая из деревни тем же могучим ветром.
— Не бойся, дитя моё, — сказал я, с жалостью глядя на неё. — Я всего лишь дряхлый старик с измученным и иссохшим сердцем. Я не причиню тебе зла.
— А я и не боюсь, — ответила она. — Иначе не побежала бы за тобой.
— Но ведь ты не сама решила догнать меня, — возразил я. — Это ветер, прилетевший с гор и унёсший меня прочь, подхватил тебя и понёс вслед за мною!
— Какой ветер? — удивилась она. — Я пошла за тобой сама. Зачем ты побежал от меня?
— Нет, я бежал не от тебя! — воскликнул я. — Но зачем ты пошла за мной?
— Чтобы рассказать тебе свой сон, как ты и просил. Мне приснилось, что ко мне пришёл человек и сказал: «Вот, нет мне смерти, нет мне покоя, и бремя моё непосильно, ибо Смерть, которая дружит со всеми людьми, стала мне врагом и не желает прийти ко мне с миром». Но тут раздался тот самый вопль, я проснулась и выбежала наружу посмотреть, что случилось, и увидела, что на улице лишь ты один. И Бог мне свидетель, что ты как две капли воды похож на того, кто привиделся мне во сне.
— Тогда позволь мне ещё раз спросить тебя, зачем ты за мной пошла, — сказал я.
— Чтобы утешить тебя, — ответила она.
— Чем ты сможешь утешить того, кого покинул Бог?
— Этого не может быть! — сказала девушка. — Ведь Он послал тебя ко мне в ночном видении, а после этого наяву послал меня к тебе. И потому я пойду с тобой, чтобы служить тебе.
— Смотри, прежде подумай хорошенько, — сказал я. — А пока ты окончательно не решилась, присядь, и я расскажу тебе свою историю.
Она тут же уселась, и я рассказал ей всё. Пока я говорил, взошло солнце.
— Так значит, ты совсем один? — проговорила девушка. — И у тебя нет никого, кто любил бы тебя?
— Никого, — ответил я. — Ни мужчины, ни женщины, ни ребёнка.
— Тогда я пойду с тобой. У меня нет ни отца, ни матери, и удержать меня некому, ведь я за плату пасу чужих коз. Так что если ты не пожалеешь для меня хлеба, я пойду с тобой и буду служить тебе.
О, какая безмерная любовь к этой девушке проснулась у меня в сердце! Я оставил её в пещере, сходил в ближайший город и вернулся, неся с собой пищу и одежду. Как я любил её! И хотя в то время мне уже перевалило за тысячу семьсот лет, она тоже полюбила меня, ибо лицом и телом я не изменился с того самого дня, когда Господь Иисус произнёс надо мной роковые слова. Да, она любила меня и стала моею, и я дорожил ею, как зеницей ока. И мир уже не казался мне пустынным, но расцвёл, словно Саронский нарцисс. И хотя я знал все города, дороги и судоходные моря на свете, всё вокруг стало для меня невиданным и новым из-за той радости, с которой моя возлюбленная взирала на царства мира и всю их славу.
Но вскоре сердце моё возгордилось, и я сказал себе, что на свете нет никого, лучше меня: Смерть не могла ко мне прикоснуться, сам я был одним из чудес мира, и, более того, превосходил всех мужей, когда-либо живших на земле, ибо в даже таком возрасте сумел добиться любви и безмерного обожания такой женщины, как моя жена, которая никогда не уставала от моего общества и речей. Даже чистую благодать любви я приписывал в заслугу себе, а не милости Божьей и нежности сердца моей возлюбленной. Как сатана на Небесах, я возвеличился в силе, славе и чести своего бесовского «я», и моё надменное сердце отказывалось возносить благодарность, ведь гордился я не Богом, а Агасфером.
Однажды непрошеная мысль жгучей молнией хлестнула меня: «Она умрёт, а ты будешь жить, и жить, и жить, а смерть будет медлить, как медлила до сих пор!» — и я низвергнулся с высот, как сатана с седьмого неба. Однако потом дух мой немного ожил. «До её смерти ещё много лет, и всё это время она будет любить меня, — подумал я. — А когда её не станет, воспоминания о моей возлюбленной будут поддерживать и утешать меня, ведь я уже не смогу презирать мир, который она любила, как любила меня».
Тут ещё одна мысль острой молнией пронзила меня, и в жале её крылась истина: «Но ведь она состарится, — подумалось мне, — и будет увядать прямо на твоих глазах, как сходящая на нет луна». Сердце моё взвыло от отчаяния, но воля успокоила его и сказала: «Не плачь! Несмотря на старость и смерть, я всё равно буду любить её». Тут что-то внутри меня начало корчиться, извиваться и шипеть: «Но ведь она станет некрасивой, лицо её сморщится и потемнеет, тело расползётся и станет бесформенным, глаза западут и превратятся в тусклые щёлки, волосы выпадут, и она станет похожа на уродливую Смерть, с кожей, едва прикрывающей безобразные кости, а твоя возлюбленная с гладкими, стройными ногами и руками, струящимися волосами и ясными глазами, из которых глядит столь же ясная душа, исчезнет навеки — навеки, ибо ты не поверишь, что это она стоит пред тобою. Каково тебе будет тогда? Какое же это милосердие — послать тебе женщину, чьё общество с каждым днём приближает горе и утрату?»
Тогда я встал и ушёл, влекомый неудержимым отчаянием. Я ничего не сказал жене, но отправился к подножию великой горы, внутренности которой полыхали огнём, а на склонах росли пальмы, фруктовые деревья и орехи, в которых плескалось молоко. Сначала я шёл вверх по склону, потом начал карабкаться по камням и ни разу не оглянулся, пока не добрался до вершины. Несколько секунд я стоял неподвижно, не помня себя от горя. Подо мной зияла гигантская огненная бездна, как багровое озеро, затянутое коркой чёрного льда, в трещинах которого полыхал ослепительный огонь. Время от времени эту корку пробивала пузырящаяся лава, выплёскиваясь наружу шевелящейся массой, а потом снова опускалась вниз, оставляя после себя открытую огненную дыру, откуда вырывались лучи, похожие на языки пламени, хотя пламени видно не было. Всё это было похоже на тушу исполинского зверя, выброшенного из ада, израненного и кровоточащего огнём.
Надо сказать, что за последний год моего долгого путешествия, благодаря любившей меня женщине, я снова стал дорожить жизнью и уже не раз смеялся, поймав себя на том, что невольно отшатываюсь от той или иной опасности, которая подстерегает прохожего на людной улице. Всё это было мне в новинку, настолько я отвык заботиться о своей жизни. Но теперь, терзаясь несчастьем, я уже не думал об опасности и, скользя, начал спускаться по покрытому сажей склону громадной огненной воронки к озеру расплавленной земли — расплавленной, как тогда, когда она впервые вылетела из утробы солнца, от чьего пыла ей не удалось остыть даже за миллионы лет. И как когда-то апостол Пётр шёл по вздымающимся волнам навстречу Слову Жизни, так и я шёл сейчас по неподвижному озеру огня, не заботясь ни о жизни, ни о смерти. Мысль о том, что та, кого я люблю, увянет и состарится, начисто иссушила мне сердце: ведь тогда само её присутствие заставит меня позабыть ту красоту, которая когда-то радовала мне душу!
Я прошёл чуть больше мили и уже миновал середину озера, как вдруг мне подумалось, что жена моя встревожится, не зная, куда я ушёл, кинется меня искать — вдруг с ней что-нибудь случится, и я потеряю свою розу ещё до того, как осыплются её лепестки? Я развернулся и торопливо зашагал обратно по пышущей жаром чёрной корке, прошитой трещинами и швами багрового света. Я был почти на середине, когда увидел, что навстречу мне кто-то идёт, по следам, которые я оставил за собой, и уже в следующее мгновение узнал лёгкую походку своей любимой. Чёрный лёд ломался у неё под ногами, рдеющее марево освещало её лицо, прекрасное, как у Божьего ангела, и сияние её любви было сильнее сияния подземного огня. Я крикнул ей, чтобы она не медлила, потому что подумал, что чем скорее она окажется рядом со мной, тем скорее будет в безопасности, потому что я лучше знал, как пройти по пылающему озеру. Сердце моё пело хвалебную песню женской любви, но думал я только о том, как любит меня моя женщина — ведь даже адское пламя не смогло удержать её от того, кто был достоин её любви! Из сердца песня поднялась к устам, но стоило мне произнести вслух первое слово, подобное багровому пузырю из огненной бездны преисподней, как чёрная корка между нами страшно вздыбилась, и оттуда выплеснулся огромный бугор неистово красного, медленно кипящего и так же медленно струящегося и опадающего огня. Секунду или две полужидкий холм пузырился и булькал, потом опустился. Моей жены не было. Я опрометью кинулся в горящее озеро, и липкие, обжигающие волны не причиняли мне вреда. Я подхватил её на руки, вынырнул, выбрался на твёрдую поверхность, смахнул с глаз языки пламени — о ужас! Я прижимал к груди кусок тлеющего угля, выхваченный из горнила! Безумие овладело мною, я громко захохотал, и бесы преисподней, услышав, меня, захохотали мне в ответ.
— Ну что, дряхлая Старость! — воскликнул я! — Видишь, как ловко я перехитрил тебя? Что ты сможешь сделать вот с этим? — и я швырнул обугленное тело назад в озеро и снова бросился в насмешливо ухмыляющийся огонь. Но озеро семь раз выплюнуло меня из своих недр, и на седьмой раз я отвернулся от него, кинулся прочь из этой геенны, упал на склон горы, освещённый луною, — и проснулся лишённым рассудка.
— Ну что, дряхлая Старость! — воскликнул я, в благодарности повторяя то, что когда- то сказал в отчаянии. — Разве сильна ты разрушить её образ, который я храню в самых сокровенных глубинах своего сердца? Слава Богу, хотя бы это останется со мною навеки!
И с того часа я уже не верил, что умру, когда с меня совлечётся бренное тело. И если иногда я думаю об этом, то уже не стремлюсь, как прежде к небытию, а страшусь его. Ибо во мне проснулась великая надежда, что однажды Распятый всё-таки простит меня и в знак прощения позволит мне снова, но уже в мире и покое, взглянуть на лицо той, что любила меня. О великая, могущественная Любовь! Кто знает, каких высот совершенства ты можешь достичь в груди даже самой малой и низкой твари, следующей за Распятым!»
Глава 13. Мысли
Полварт закрыл рукопись, и какое-то время все молчали.
— Человек, написавший это, не мог быть полностью сумасшедшим, — сказал наконец Уингфолд.
— Должен признаться, что я прочёл наиболее яркие отрывки, хотя и не все, — откликнулся Полварт. — Ясно одно: в рамках воображаемой им действительности автор рассуждает вполне здраво — по крайней мере, столь же здраво, сколь рассуждал бы на его месте сам Вечный Жид.
— Можно мне посмотреть? — спросил священник
— Пожалуйста, — ответил Полварт, протягивая ему рукопись.
— А домой взять можно?
— Конечно.
— Я буду обращаться с ней очень осторожно. Там есть ещё свидетельства борьбы вашего брата с неверием?
— Да, кое-что там есть; ведь у таких людей настроения часто возобладают над убеждениями. Иногда они могут верить, а иногда нет; только очень великий человек способен всегда подыматься выше своего настроения. Помню, там есть один отрывок, где он рассуждает о существовании Бога. Вы поймёте, о чём я говорю, когда дойдёте до него.
— Это настоящее сокровище, — проговорил священник, беря в руки манускрипт и оценивающе его разглядывая. В глубине души он думал о Леопольде и Хелен. Но пока он вот так рассматривал книгу, его самого рассматривали серые, лучистые глаза Рейчел. Быть может, её взгляд так светился от радости из-за того, что Уингфолд столь уважительно отозвался о книге — ведь она была написана рукой её отца! — но был в нём и некий медлительный вопрос, и неописуемая дрожащая прозрачность, как у звёзд, мерцающих в чистом воздухе, загустевшем от тяжёлой, влажной росы, которая может заставить встревожиться любую мать. Ах, как горестно на земле женщинам, неприглядным внешне, ведь у многих из них под кривыми рёбрами бьётся прекрасное, переполненное любовью сердце!
Но как тогда можно говорить о горести? Неужели было бы лучше, будь их сердца столь же безобразными, как и наружность? И неужели Бог, пекущийся о малых птицах, позабудет о таких, как Рейчел? Конечно же нет! Только даже человек, неколебимо верующий в то, что от лица Божьего убежит всякая скорбь, что сеющие в слезах, непременно пожнут в радости, что смерть — это всего лишь туман, на время обволакивающий душу, и что любовь делается радостнее, когда не ищет своего, — даже тот, кто верит в это всем сердцем, может печалиться о страданиях чужого сердца, пусть временных; и даже тот, кто видит в смерти воскресение, может грустить в закатный час, напоминающий ему об уходе любимого человека.
Вскоре Уингфолд попрощался и вышел, но свет пристального взгляда так и остался на лице Рейчел, и грустная полуулыбка витала над детскими пальчиками, в которых деловито мелькали вязальные спицы. Мануфактурщик ушёл вслед за священником, и Полварт поднялся к себе в комнату: он никогда не мог долго оставаться без молитвы. Как только Рейчел осталась одна, она опустила руки, закрыла глаза, и губы её беззвучно зашевелились, доверчиво и серьёзно. И если кто-то воистину преклонял ухо к этому маленькому домику, его обитатели были воистину блаженны. Если же нет, то, по крайней мере, у них было утешение милостивой, неумолимо приближающейся смерти. Только что если в глубинах преисподней есть ещё более глубокий ад? И разве до прихода медлительной Смерти любящее сердце способно вынести то бремя, которое возлагают на него глупые разговоры о Случайности или ещё более глупые разговоры о Судьбе? И всё же, я предпочёл бы тянуть на себе эту сокрушительную ношу и умереть среди друзей, мучительно прощаясь с ними навсегда, нежели, подобно Джорджу Баскому, шагать по жизни, помахивая лишь
лёгким саквояжем довольства такой долей. Мир — это бестолковый хаос, обречённый на погибель, если никто не творил его и он действительно является беспомощной случайностью, которой уже никто не может помочь, — этаким парником, где растут дети железной Необходимости. И есть ли проклятие хуже существования, единственное спасение от которого можно обрести в сомнительной смерти?
Мистер Дрю догнал Уингфолда, и они вместе пошли в Гластон.
— Правда, сегодня было замечательно? — спросил мануфактурщик.
— Воистину, Бог избрал немощное мира, чтобы посрамить сильное, — отозвался священник. — Оказывается, дух здравого рассудка может говорить и через фантазии умалишённого. А как вы? Услышали какие-нибудь ответы на свои вопросы?
— Наверное, они там есть, — ответил Дрю, — да только я так увлёкся и самой историей, и её стилем, и тем, как мистер Полварт её читал, что напрочь позабыл, о чём думал, когда шёл к нему в гости.
Возле лавки они распрощались, и священник пошёл дальше.
Глава 14. Внутренняя борьба
Было ещё не очень поздно, и он зашёл в особняк справиться про Леопольда. Хелен приняла его с обычной холодностью, которая отчасти служила ей защитой, потому что в присутствии священника ей всегда чудился некий упрёк, но которая, словно завеса, мешала ей увидеть подлинный характер Уингфолда и понять его. Она сказала, что Леопольду немного легче, и священник отправился домой размышляя, как было бы чудесно, если бы Бог забрал мальчика к Себе.
Хелен всё больше и больше притягивала его. Он не мог не восхищаться силой её характера, даже если эта сила растрачивалась впустую — или ещё хуже чем впустую; её преданность брату тоже была прекрасна, несмотря на портившие её пятна себялюбия. Её нравственные мерки были отнюдь не возвышенными, а духовная натура пока не проявлялась совсем. И всё же она удивительно выросла, особенно если вспомнить, какой она казалась раньше, до прихода забот и несчастья. Однажды вечером, выходя от Леопольда, Уингфолд услышал, как она поёт, остановился на лестнице послушать и изумился. Её голос уже не был безжизненным и скучным, как прежде, но, ничуть не утратив былой гибкости, звучал волнующе и прозрачно, и в нём слышалось подлинное чувство. Его звуки разносились по дому, словно листья на крыльях шального западного ветра из сонета Шелли, и с этого момента желание священника помочь ей приняло новое направление, с каждым днём становясь всё сильнее и сильнее. Но поскольку проходили часы, дни и недели, а это желание никак не могло отыскать себе выход, оно превратилось в почти безнадёжные, созерцательные размышления над лицом, обликом, сердцем и душой женщины, которой он так горячо хотел помочь, и вскоре он уже любил её, со страстью мужчины и состраданием пророка.
Он видел, что что-то должно было произойти в ней самой; может быть, ей нужна была какая-то спасительная встряска под маской несчастья и крушения? Должна была распахнуться какая-то дверь, или слететь крыша, или взорваться какая-то скала, чтобы свет и воздух могли свободно летать по обители её души — ведь без этого душе никогда не обрести той царственной статности, какой отличалась её хозяйка. Каким бы образом ни должна была свершиться эта перемена, он решил терпеливо ждать, не появится ли у него случая сослужить ей пусть самую убогую, самую незаметную службу, и ждал, безмолвно и сдержанно, чтобы ненароком не навредить ей самонадеянным словом, ещё более заморозив и без того запоздалые бутоны её весны. Ах, как ему хотелось оказаться рядом, когда её спящая душа, наконец-то начнёт просыпаться! И если бы, пробудившись, первым она увидела именно его! При этой мысли сердце его неизменно вздрагивало от упоительного
предвосхищения, но тут же конфузливо сжималось от собственного бесстыдства. Нет, он не станет, он не посмеет даже смотреть в её сторону! Уингфолд обвинял и презирал себя за то, что земные побуждения и чувства смешались с бескорыстным и истинным стремлением помочь. И потом, разве она уже не избрала Баскома желанным другом своего сердца?
Только вот от сердца ли был её выбор? Ведь какое сердцам дело до общего неверия? Никакого. Однако в мире всё-таки бывают сердца, которых вполне может соединить общая вера в неведомого бога, и мысль о том, что Хелен, то приближавшаяся к границе между царством этого мира и Небесным Царством, то снова отступавшая от неё, может удалиться в пустыню неверия и сознательного безбожия с таким проводником, доставляла Уингфолду почти невыносимые мучения. Порой мысль о возможности — нет, даже вероятности такого исхода (ведь подобные несообразности то и дело становятся реальностью) — грозила разрушить всю ткань его веры, несмотря на все богословские и философские доводы, которые он мог привести в пользу противного. Ему казалось, что сама возможность такого союза опровергает существование Бога более всех иных доводов, вместе взятых. В такие минуты сердце его содрогалось до самых глубин, и на какое-то время он затихал перед невидимым Богом или искал уединения — но не там, где светило солнце и журчала вода, а под сенью сосновой рощи, где свет казался приглушённым, а ветра почти не было. Там, где высокие зелёные купола взмывали вверх на сотнях стройных колонн, убегающие вдаль проходы, казалось, вели его в родовой дом теней, и его собственная душа тенью горя и страха бродила по сумрачным покоям угрюмого храма, он склонялся перед Извечным, собирая в кулак все свои силы, и мучительно, глубочайшим усилием воли, пытающейся обрести себя, выдавливал: «Не моя воля, но Твоя да будет!» Только после этого дух его распрямлялся и нёс свою ношу как крест, а не как могильную плиту.
Иногда он озадаченно спрашивал себя, с чего началась эта слабость (как он её называл) и как она успела приобрести над ним такую власть. Он не мог сказать, что сознательно приложил к этому руку, да, собственно, не знал ничего такого, против чего ему следовало бы бороться. Разве эта любовь не была плодом его естества — естества, которого он не создавал и которое было ему неподвластно, и источником которого был либо Бог, либо бессознательная Судьба? В последнем случае, как ему было подчинить сдержанному и самоотверженному рассудку безрассудное «я», порождённое нерассуждающим «Я», которое всё-таки было больше него — ведь случайные причуды этого «Я» и были источником его сильнейших чувств, ярчайшего напряжения мысли и высочайших и самых желанных идеалов. Если же, с другой стороны, он родился от Бога, то пусть Бог обо всём этом и позаботится: ведь то, что принадлежит Его естеству, не может быть дурным или незначительным в глазах Того, Кто создал человека по Своему образу и подобию. Только, к сожалению, образ этот так исковеркан, что его воля может в любую минуту воспротивиться воле Бога! Так откуда же взялась эта его любовь: из Божьей воли или из воли человеческой? И неужели нельзя нести эту любовь по-Божьему, чтобы всё в ней было благочестиво и без греха? Он долго (и покамест тщетно) бился над этим вопросом и сам себе удивлялся, что всё это время не только не утратил способности проповедовать, но делал это честно и с радостью.
В своих метаниях Уингфолд как никогда чувствовал, что если Бога нет, то его душа — это всего лишь утлая, залатанная лодчонка, брошенная на волю неуправляемой и безжалостной стихии беспорядочной вселенной. Часто он очертя голову бросался в эту непроницаемую тьму, взывая к Богу, и неизменно выносил оттуда искру света, которой было довольно для того, чтобы подержать в нём жизнь и заставить его вернуться к работе. А там, воскресенье за воскресеньем, на одном и том же месте сидела девушка, которую он (и отнюдь не мельком) раз десять видел на неделе, возле постели брата. Но только отсюда, с открытой уединённости кафедры, он осмеливался обратиться к ней с могучими словами, которые ему так хотелось излить прямо её страждущему сердцу. И там, воскресенье за воскресеньем, на лице, которое он любил, явственно отражалось внутреннее смятение сердца, которое он любил ещё больше; и сердце это покуда не ведало искупления! Ах если бы он мог хоть малым ветерком оживить его и пробудить в нём надежду! Всякий раз когда он поднимался на кафедру проповедовать, его душа переполнялась тем словом, которое он нёс людям. Это было не тайное послание для одного слушателя, но слово для исцеления народов; однако он говорил и для неё, и для всякого, кто готов был услышать и поверить, и потому говорил со свободой и достоинством пророка. Но когда он видел её вне церкви, то не осмеливался даже на мгновение задержать глаз на её лице и лишь украдкой срывал цветочек мимолётного взгляда, когда думал, что она не видит его. Однако она ловила на себе его взгляд куда чаще, он подозревал, а иногда, даже не видя, чувствовала его. И потом в поведении священника — в том, что он никогда не настаивал на своих правах и старался как можно менее вторгаться в пределы её личных мыслей и чувств; что он как будто старался подобрать полы своей одежды, чтобы никому не помешать своим присутствием, но в то же самое время просто и преданно служил её брату, ни единым взглядом не ища её одобрения, — было что-то такое, чего благородная сторона её души не могла не заметить и не попытаться понять.
Для Уингфолда это было время тяжких борений. Со всех сторон на него напирали сомнения и страхи, и ему чудилось, что под этим напором крепкий дом его жизни вот-вот развалится. Но он продолжал держаться — и жил, и, сам того не зная, возрастал, хотя ему казалось, что он всего лишь пытается выжить. Пожалуй, именно тогда он написал стихи, которые позднее я нашёл среди его бумаг.
За свой порог я выбежал, готов Исполнить то, что мне велел Отец, Но тотчас в буйном вихре праздных слов Заглохли песни преданных сердец. Я в страхе оглянулся, но меня Свалили с ног удушливой волной Тьмы мерзких чудищ, стаи воронья, Свет застилая чёрной пеленой. Где ж дом Его? Где стены и очаг? Неужто мне и впрямь приснился он? Хлеб послушанья, свет небесных благ, Покой и мир — всё скрылось, словно сон!
Тружусь я, тьмой и скорбью окружён, Вдруг — солнца луч! И я — у ног Отца, Где радость и надежда без конца!
Глава 15 На лужайке
Леопольд начал покашливать, и лихорадка не отпускала его. Каждый день после обеда щёки его неизменно окрашивались яркими пятнами румянца, а в глазах появлялся жёсткий блеск. В такие минуты он начинал говорить, беспрестанно и горячечно, и говорил, в основном, о будущем суде. Для Хелен всё это было крайне мучительно, и она призналась себе, что, не будь рядом Уингфолда, её нервы просто не выдержали бы постоянного напряжения. Каждый раз, когда в доме появлялся мистер Хукер, Леопольд настаивал на том, чтобы судья зашёл к нему, и уговаривал того не позволять жалости к его физической слабости стоять на пути сурового лекарства, которое закон предписывал его моральному состоянию. Однако теперь, даже начнись судебные процедуры немедленно, болезнь
вполне могла опередить закон в борьбе за жизнь Леопольда. Фабер с самого начала сомневался, что Лингард выздоровеет от последствий долгого обморока на кладбище, и вскоре всем стало ясно, что у мальчика сильно поражены лёгкие. Он кашлял всё сильнее и начал худеть, хотя, казалось бы, худеть ему было уже некуда.
Однажды Фабер признался Уингфолду, что в борьбе с болезнью Леопольда ему сильно мешает то, что он сражается с врагом, о котором ничего не знает.
— Паренёк явно несчастен, — сказал он, — и если это продлится ещё хотя бы месяц, я буду вынужден признать себя побеждённым. У него много жизненных сил, но они почти на исходе, и если всё останется без изменений, к тому времени у него разовьётся скоротечная чахотка.
— Что ж, делайте для него всё, что только можно, — ответил Уингфолд, но в глубине души, искренне привязанной к мальчику, ему не хотелось, чтобы усилия врача увенчались успехом. Сам Леопольд, казалось, не подозревал серьёзности своей болезни, и священник нередко думал о том, что сделал бы Лингард, если бы узнал, что умирает. Стал бы он настаивать на том, чтобы довести до конца начатое и поскорее назначить день суда? Леопольд сам рассказал Уингфолду о встрече с мировым судьёй и о своём нынешнем положении, как он его понимал, но было видно, что долгая неопределённость начала вызывать у него тревогу, и временами он даже сомневался, в самом ли деле всё было так, как ему казалось.
Уингфолд прекрасно понимал, что произошло. Однажды ему случилось быть в доме во время визита мистера Хукера, и по поведению судьи он понял, из каких побуждений действует добросердечный старик. Он также подозревал, какую роль сыграла во всём этом деле изобретательная доброта Джорджа Баскома. Однако он решил, что вмешиваться теперь не стоит: Леопольд сделал всё, чего требовал от него долг, и сейчас был настолько слаб, что уже не мог ни предложить какие-то дальнейшие действия, ни настоять на их исполнения. Даже если сам он и был в состоянии сделать что-то ещё, противостать воле окружающих ему было ему совершенно не по силам.
Фабер полагал, что его следует отправить его за границу, куда-нибудь на юг, но Леопольд и слышать об этом не хотел, и Хелен, зная, на какие крайности это может его подтолкнуть, не стала настаивать. Да и о каком путешествии могла идти речь? И потом, уже похолодало, а Леопольд, как всякое живое существо, был чувствителен к переменам погоды.
Однако недели через две, хотя осень была уже в самом разгаре, вдруг снова стало тепло. Леопольд заметно ожил и стал так быстро выздоравливать, что его даже начали выносить в сад. Он сидел в кресле на лужайке, укутанный в меховую накидку, с бараньим тулупом в ногах, и, несмотря на сердечную боль, несмотря на горе, которое никто не мог с ним разделить, несмотря на приступы беспомощной ревности, удерживаемые лишь покаянными угрызениями совести и мыслями о том, что после смерти он непременно отыщет её, падёт к её ногам, скажет ей всю правду и, если можно, навеки станет её рабом — а если нельзя, то будет вечно бродить по вселенной, тщетно ища покоя, если только ему не найдётся какого-то спасения на лоне Бога — несмотря на все эти мысли и терзания, солнечный свет всё равно приносил радость его глазам, хоть и пронзал ему душу, и лёгкое дыхание ветра приятно обвевало ему лицо, хоть он и проклинал себя за то, испытывает от этого удовольствие. Поздние цветы скорбно поглядывали на него, и Леопольд не чурался их, не отводил взгляда и не мешал слезам застилать его глаза и переливаться через край. Первые муки от встречи жизни и смерти остались позади, и жизнь медленно покидала его. Как много может дать человеку даже маленькая радость! Только где ему было найти радость, которая рассеяла бы окутавшую его тьму даже на одно прекрасное и незабываемое мгновение!
Как-то раз жарким днём Уингфолд лежал на траве рядом с Леопольдом. Оба они молчали. Священник всё больше и больше воздерживался от слов, не продиктованных ему сердцем. Он не раз говорил, что не способен судить о том, какие речи придутся вовремя, а
какие не вовремя, но даже валаамова ослица прекрасно поняла, когда ей следовало открыть рот и заговорить. Вот и сейчас он молча сорвал бледно-красный цветок и протянул его Леопольду. Тот посмотрел на соцветие и неожиданно разрыдался. Священник поспешно вскочил.
— Какой я всё-таки бессердечный! — всхлипывал Леопольд. — Как я могу радоваться этой детской, безгрешной чистоте!?
— Это всего лишь доказывает, что даже в такой скромной красоте есть что-то такое, что уходит корнями глубже, чем ваша боль, — ответил Уингфолд, бережно кладя ладонь ему на плечо. — Что повсюду, на земле и в воздухе, куда бы проникал наш взгляд и слух, обитает сила, вечно являющаяся нам в знамениях — то в маргаритке, то в дуновении ветерка, то в облаке, то в закатном зареве, — которая держит непрерывную и животворную связь с тёмным и безмолвным миром внутри нас; и что тот же Бог, Который обитает в нас, обитает и вокруг нас. Внутри нас — Дух, вокруг — Слово; они вечно стремятся встретиться в нас, и когда это происходит, внешнее знамение и внутреннее желание соединяются в свете, и человек уже не ходит во тьме, но знает, куда идёт.
Тут священник наклонился над Леопольд и взглянул ему в лицо. Но бедный мальчик не слышал ни одного его слова. Что-то в голосе Уингфолда успокоило его, но стоило тому замолчать, как приступ горя охватил его с новой силой. Он заломил руки и с тоскующим выражением безнадёжной мольбы взглянул на голубое небо, побледневшее от страха перед грядущими холодами, несмотря на то, что воздух был ещё совсем тёплым и душистым.
— Ах, если бы Бог только смиловался и сделал так, будто меня никогда не было, и мрак покрыл то место, где я когда-то существовал! Вот это была бы настоящая благодать! Тогда я жалел бы только об одном: что от меня не осталось хотя бы крошечного, призрачного ветерка хвалы, вечно воздающего Ему благодарение за то, что меня уже нет!.. Да только моё преступление всё равно никуда не денется. Ведь я не смею просить, чтобы Он отнял жизнь и у неё; это было бы ещё худшим злодейством. Как это всё-таки ужасно — жить! Даже если меня не станет, ничто не может стереть с лица земли моё преступление или как-то загладить его!
— Это верно, — согласился священник. — Ничто не может очистить нас и землю от греха — ничто, кроме огня Божьей любви. Но, по-моему, вы позабыли о Том, Кто прекрасно знал, за что берётся, когда взялся спасти мир. Разве вы смогли бы, как Он, поместить на небо солнце с его безудержными огненными бурями и миллионами сияющих лучей, пронизывающих бескрайнее пространство? Так неужели вы можете сказать, что есть любовь Божья и что она способна сделать для вас, даже если она всего лишь углубит вашу любовь, наполнив её собой? Мало кто взывает к Отцу из глубин такой нужды, как вы; мало кто может сложить к Его ногам такое бремя греха и беспомощности и подарить такую радость великому Пастырю, Который не может успокоиться, пока даже одна единственная овца бродит вдали от стада и один единственный блудный сын обитает в притонах зла и расточительства. Так воззовите же к Нему, мой милый Леопольд. Взывайте к Нему слова и снова, ибо Он сам сказал, что нам должно всегда молиться и не унывать, потому что Бог слышит нас и непременно ответит, даже если нам кажется, что Он медлит. Я думаю, что однажды мы поймём, что никто — ни поэт с самым широким размахом и самым дерзновенным воображением, ни пророк, парящий выше всех в своём ревностном стремлении оправдать Божьи пути перед людьми, ни малое дитя, когда оно ближе всего к своему ангелу, всегда видящему лик Христова Отца, — не видел и не мог увидеть всего величия Его щедрости к Своим чадам. Ведь, если Евангелие говорит нам правду, разве Он не допустил, чтобы страшнейшая мука наводнила самые основания души Его возлюбленного Сына, когда Тот отправился на поиски блудного сына, этого несчастного осла, с глупой ухмылкой восседающего среди развратных женщин?
Леопольд ничего не ответил, и мрачная тень ещё довольно долго осеняла его лицо, но в конце концов она начала понемногу рассеиваться, пока наконец сквозь тучу не прорвался лучик слабой, дрожащей улыбки, и из его глаз не брызнули чистые слёзы облегчения и успокоения.
Нет, он вовсе не отвернулся от надежды обрести покой в Сыне Человеческом. Но всякий, кто хоть немного знаком с движениями человеческого духа, знает, что в его жизни есть свои дни, свои времена и сроки, сменяющие друг друга, своё утро и своя ночь — и даже непроглядная полночь. В ней есть свои вёсны и зимы, свои грозы и ясные дни, прохладная роса и хлёсткий ледяной град, холодные луны и пророческие звёзды, бледные сумерки горьких воспоминаний и золотые проблески лучезарной надежды. Все они перемешались и вытеснили друг друга в погибшем мире Леопольда, где на время снова восторжествовал могучий хаос. Однако теперь над водами этого мира носился куда более могучий ветер.
После многих размышлений священник понял, что не может просто пересадить в душу своего юного друга те цветы истины, которые радовали сад его собственного сердца. Ему нужно было бросить туда семена этих цветов, а этими семенами было познание истинного Иисуса Христа. И теперь, когда дикий зверь отчаяния выпустил душу Леопольда из когтей и отступил, словно выжидая своего часа, Уингфолд наконец-то получил возможность это сделать — и вскоре увидел, что ничто другое не успокаивало и не радовало мальчика так, как рассказы об Иисусе. Сначала Уингфолд пробовал читать Леопольду стихи, выискивая самые лучшие из тех, где любящие души изливают свою любовь к Человеку всех человеков, однако и тут чужие цветы никак не желали приживаться. В конце концов, сам не зная как, он нашёл или, скорее, случайно открыл иной путь, который оказался самым подходящим: он просто размышлял вслух о том или ином месте из Евангелия (обычно о том, которое в тот момент более всего занимало его мысли), как бы рассуждая с самим собой. Он лежал на траве рядом с креслом Леопольда, глядя в небо, и так ему думалось вслух лучше всего.
Иногда, но не часто Леопольд перебивал его, ненадолго превращая монолог в диалог, но даже тогда Уингфолд почти не смотрел на него, не желая тревожить Лингарда излишней мерой своего присутствия и окрашивать истину своей индивидуальностью более, чем было неизбежно. Он считал, что любая личность обладает для всех других особым характером и оттенком, и только в Иисусе есть та чистая и простая человечность, которую может полюбить каждый, немедленно и безоглядно. В своих мысленных блужданиях он ничего не избегал, обращал внимание на каждую сложность — неважно, получалось у него полностью понять её или нет, — вслух радовался, когда какое-то слово трогало его дух, и не скрывал разочарования, когда у него не получалось добраться до подлинного блага, достойного быть сутью этого кусочка Божьего откровения. Теперь он словно выпекал свои проповеди на солнце вместо того, чтобы сажать их в печь. Порой, когда замолчав он взглядывал на своего ученика, Леопольд крепко спал, иногда с улыбкой, иногда c ползущей по щеке слезой. Даровать спокойствие такому мятущемуся морю мог только Бог, и в такие минуты священник и сам иногда задрёмывал, но немедленно просыпался, стоило ему заслышать шорох платья Хелен, скользящего по огненной дорожке туманных сигналов, посылаемых полураскрытыми маргаритками, и задевающего длинные головки подорожников. Он сразу же поднимался и отходил в сторону, а она наклонялась над братом, чтобы убедиться, что ему тепло и удобно. Былая нежность к брату уже вернулась к ней в полной силе, и присутствие Уингфолда уже не вызывало в ней ревности.
Однажды она подошла к ним сзади, когда они ещё разговаривали. Траву только что скосили, да и Хелен была одета в амазонку и перекинула шлейф платья через руку, так что они не услышали милых звуков её приближения. Уингфолд как раз был посередине одного из своих беспорядочных монологов, в которых было немало безвидного, но ничего пустого.
— Честно признаться, — как раз говорил он, — я не знаю, что думать про ту женщину, которую привели к Иисусу в храме, и вообще не пойму, как эта история затесалась в тот уголок Евангелия от Иоанна, где ей вообще не место. Женщину привели не для того, чтобы исцелить или изгнать из неё беса, а для того, чтобы осудить её. Только они не на того напали. Думаю, они всё равно не решились бы закидать её камнями по закону, как им хотелось, даже если бы Иисус осудил её. Должно быть, они просто надеялись хитростью заставить Того, Кто назывался другом грешников, сказать что-то против закона. Но пока мне интересно другое: как эта история здесь оказалась — то есть именно здесь, между седьмой и восьмой главами? Её явно вставили позднее, и двенадцатый стих (по-моему, двенадцатый) должен следовать сразу за пятьдесят вторым. Если я не ошибаюсь, из трёх древнейших манускриптов она есть только в одном, Александрийском, а он из этих трёх как раз был написан позднее всех. Помню, я как-то подумал, что, может быть, этим поступком Господь сказал: «Я есмь свет миру» до того, как произнести эти слова вслух. Только эти Его слова вполне логично следуют и за разговором о живой воде. Да нет, мне вполне понятно, почему это место могло показаться подходящим какому-нибудь смелому переписчику, задумавшему раз и навсегда решить, куда поместить эту историю. Я всё думаю: может, Иоанн, вспомнил и рассказал её уже потом, после того, как продиктовал всё остальное? Или её хорошо знали все евангелисты, только ни один из них ещё не успел в достаточной мере исполниться духом Друга грешников, чтобы отважиться записать её и выставить на всеобщее обозрение?
Но это не очень важно, потому что история явно подлинная. Подумать только! — чтобы именно она, история о милосерднейшей праведности, блаженной сиротой скиталась по миру буквы, словно серая голубка обетования, которой негде приклонить голову! Чтобы из всех именно эта история оказалась изгоем и бродягой — но каким желанным и дорогим! Я слышал, что некоторые манускрипты приютили её в конце Евангелия от Луки. Только это и правда неважно; главное, чтобы в неё можно было верить, а мне кажется, что она просто не может не быть правдивой: уж очень всё это на Него похоже! И даже если этот рассказ так и будет бесприютно бродить по Евангелиям, не отыскав себе пристанища, в этом нет ничего страшного, если найдутся сердца, где он сможет свить себе гнездо и вывести птенцов.
А может, эту историю рассказала сама женщина, и кто-то ей поверил, а кто-то нет, как самарянке у колодца? Ах, какие взгляды скрестились на ней в тот день! Свирепый град презрения от фарисеев — и свет вечного солнца от Христа!.. На днях в одном старом миракле[47] я как раз читал, что каждый из тех, кто смотрел на Иисуса, писавшего пальцем на песке, вдруг подумал, что Тот записывает все его грехи, и страшно перепугался, как бы стоящие рядом не узнали обо всех его прегрешениях. И всё же, как бережно Он обходился даже с теми, для кого Ему приходилось быть обоюдоострым мечом! И как бережно поступил с той, кого защитил от людской грубости и греха! «Пусть тот из вас, кто без греха, бросит первый камень!» И грешники ушли, а за ними и женщина — чтобы более не грешить. И ни одного упрёка! Ни одного слова, которое разбудило бы в сердце огненных змей! Только одна просьба: больше так не делай. Мне кажется, что эта женщина уже никогда более не прелюбодействовала. А вы как думаете, Леопольд?
Как раз на этих его словах Хелен подошла сзади к креслу брата. Священник лежал на траве, и ни он, ни Леопольд не заметили её.
Глава 16. Как Иисус говорил с женщинами
— Но тогда почему Он совсем не так милосердно поступал с хорошими женщинами? — просил Леопольд.
— Почему вы так решили? — удивлённо откликнулся священник.
— А помните, как Он ответил собственной матери, когда в Кане на свадьбе кончилось вино? «Что Мне до тебя, женщина!»[48]
— Тут нам, пожалуй, следует обратиться к греческому оригиналу, — ответил Уинг- фолд. — Наши переводы не совершенны. Должно быть, она хотела похвастаться всем, какой Он необыкновенный, а Он подумал, что она совсем не понимает, зачем Он пришёл в мир. Её мысли были настолько не похожи на Его мысли, что Он сказал: «Что у нас общего!?» Это было горькое стенание Бога о том, как отдалился от Него сотворённый Им человек. Может быть, Он подумал: «Как же ты тогда перенесёшь всю жуткую правду, когда она совершится?» Но при этом Он смотрел на неё, как всякий добрый сын должен смотреть на мать, и она не прочла в Его глазах упрёка, потому что немедленно, даже не усомнившись в том, что Он исполнит её желание, велела слугам делать всё, что Он скажет.
— Надеюсь, это и в самом деле было так, — сказал Леопольд, — потому что хочу доверять Ему до конца. Но тогда что вы скажете о той женщине, которая пришла просить у Него исцеления для дочери? Разве это было не жестоко — говорить ей про псов, поедающих хлеб детей?
— Нельзя судить о слове, пока не поймёшь породивший его дух. Позвольте, я задам вам один вопрос: что вы считаете величайшим доказательством искренней дружбы?
— Ну, это слишком сложный вопрос. На него сразу не ответишь.
— Может, я не прав, но мне кажется, что величайшим плодом дружбы, по крайней мере, со стороны старшего друга, будет разрешение, а ещё лучше — призыв разделить его страдания. И обратившись со столь трудным словом к несчастной сирофиникиянке, Господь оказал ей великую честь. В тот миг Он специально повёл себя с ней, как еврей с язычником, чтобы ради всего мира иудеев и язычников открыть Своим ученикам-евреям, какого они духа, и показать, каких чудесных людей они презирают в своей гордыне избранности. Он позволил ей пострадать вместе с Собой ради спасения мира. На минуту облако осенило их обоих, но какой дивной славой просияли в её сердце Его следующие слова! Он говорил с ней так, будто её собственная вера протянула руку к Небесам и взяла оттуда то, чего искала. Признаюсь, — помолчав, продолжал Уингфолд, — что в своё время эти отрывки тоже тревожили меня. Только сдаётся мне, что ни одна Божья истина не даст нам покоя, покуда не станет для нас силой и светом, открыв свою истинную сущность сердцу, доросшего до её осознания. Это и есть первые признаки грядущего понимания и радости: беспокойство и вопрос
А вот, кстати, ещё один отрывок. Хоть он и очень не сильно меня смущает, всё равно я никак не могу понять его до конца. Когда Мария Магдалина приняла Хозяина Смерти за садовника — садовника в саду могил! если подумать, она не очень ошиблась, верно?… И вообще, какая прелесть: принять Иисуса за садовника! Как всё-таки святое и смиренное, святое и повседневное встречаются на каждом шагу! Только послушайте их разговор в то утро, которое для Иисуса уже стало утром вечного, бескрайнего мира, но вокруг Марии всё ещё вились тени нашей тесной жизни. Я читал его как раз сегодня, так что могу пересказать слово в слово. «Жена! что ты плачешь? кого ищешь?» — спросил Он. — «Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его», — ответила она. — «Мария!» — позвал Он её. — «Учитель!» — узнала Его она. — «Не прикасайся ко Мне, — сказал Он, — ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».
И знаете, чего я никак не могу понять? Почему Он сказал: «Не прикасайся ко Мне». Не может быть, чтобы Его новое тело воскресения боялось оскверниться от прикосновения к той, что ещё пребывала в старых одеждах человечества. Но может быть, это прикосновение было опасно для неё? Может, в Его новом небесном облачении было что-то такое, что могло повредить ветхой хижине её тела? Мне самому трудно в такое поверить, хотя кто знает? может, оно и так. Однако нам нужно вспомнить, что сказал об этом Сам Господь; только часто крохотные соединительные слова понять бывает труднее всего. Что означает это Его «ибо»? «Не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему». Что это значит? «Сначала Я должен предстать перед Отцом; Он должен первым прикоснуться к телу, нововоскресшему из могилы; прежде всего Мне нужно пойти домой»? Ребёнок всегда прежде всего бежит с поцелуем к матери, а уже потом обнимает сестёр и братьев; так, может, здесь Иисус говорит о чём-то подобном? Может, вся Его радость была настолько заключена в Отце, что даже человеческое тело, навеки спасённое Им от смерти, Он просто должен был сначала принести домой и показать Отцу?
Но в этом объяснении столько неувязок! И потом, даже будь оно верным, оно способно повергнуть в шок любое сердце, в котором пока не поселилась воистину детская любовь. Ведь разве Бог всё это время не оставался с Иисусом — и так близко, как только Бог может подойти к Своему вечному Сыну, пребывая в Нём, будучи едино с Ним? Так как же Иисус мог стать ближе к Отцу, отправившись на Небеса? Каким тогда должно быть это место, этот царский двор Вечного, Нетленного, Незримого? И всё-таки, если Он является источником времени и пространства, хотя Сам им неподвластен; если Его Сын сумел воплотиться и надеть на Себя живое, гибкое, чувствительное, непостоянное, постепенно ветшающее одеяние человеческой плоти; если, как говорит Новалис, Бог способен стать любым из Своих творений — то, быть может, у Бога действительно есть какая-то главная обитель, даже связанная с временем, пространством и чувствами?..
Нет, всё равно мне это непонятно. Тогда Иисус стоял на границе двух миров — или, вернее, на краю великого мира, вмещающего в себя мир поменьше. Право, я чувствую себя малолетним малышом; мне не хватает слов даже на то, чтобы уловить свои мысли, не то что их выразить!.. Этот мир кажется нам естественным и простым; да таков он и есть, прекрасно подогнанный под наши нужды и разумение. Но есть в нас что-то не от мира сего, что, как мне кажется, держит тайную связь с каждой звездой — или, вернее, с тем уголком Божьего сердца, откуда родились все звёзды, столь разные по характеру, цвету и местоположению, по своему движению и сиянию. И этой частичке нашего существа мир кажется таким странным, таким неестественным и неудобным, что мы ищем дом, которые был бы ещё роднее, ещё домашнее. В конечном итоге, нам будет мало любого дома, кроме дома Божьего сердца. Мне думается, что в то утро Иисус, с одной стороны, заглядывал в ту глубинную жизнь, где все познавшие Его однажды обретут свой долгожданный дом, а с другой стороны, смотрел на пределы их нынешней жизни, которую они боятся оставить из-за её привычности и собственного маловерия.
Но нам не нужно бояться, что новый мир повредит телу или сердцу; напротив, он будет куда ближе и приятнее нашей глубинной сущности — точно так же, как Иисус кажется нам ближе и дороже всех, потому что Он один подлинно является человеком. В Нём заключено всё, что мы можем любить и искать, и Он стоит у источника всякой любви и всякой жажды. «В доме Отца Моего обителей много», — сказал Он. Материя, время, пространство — всё принадлежит Богу, и что бы потом ни стало с нашими теориями, что бы Он ни сделал со временем, пространством и тем, что мы называем материей, Его дела непременно будут истинными, как в теории, так и наяву. Но я что-то отвлёкся.
Да, Уингфолд действительно отвлёкся, но без этих вольных блужданий по дорогам мысли он не мог бы говорить со своим учеником так свободно и правдиво, как ему хотелось говорить о тех дивных истинах, которые он видел.
— Интересно, а где сейчас раскаявшийся разбойник? — сказал Леопольд.
— Да, тут тоже не всё просто. Здесь нам снова приходится иметь дело со временем и пространством — вернее, с тем, как они соотносятся с небесной реальностью. Ещё в пятницу этот самый разбойник должен был оказаться с Иисусом в раю, а в воскресенье Иисус сказал, что ещё не успел побывать у Отца. Кто-то скажет, что я слишком любопытен и слишком буквально всё воспринимаю: что общего у пятницы и воскресенья с Раем и Божьим Царством? Только слова эти не должны утратить свой смысл ни в том, ни в другом мире: ведь на самом деле мир один. По крайней мере, произнося их, Иисус думал и имел в виду что-то совершенно конкретное, и потому нет ничего дурного в попытках понять, что они означают, даже если мы ищем ответа на ощупь, вслепую. Такие смиренные вопросы никому не принесут вреда, даже если перед лицом фактов окажутся глупыми и совсем не теми, которые нужно было бы задать, как вопросы малыша, пытающегося понять непознанный пока мир.
Но вернёмся к Марии Магдалине. Иисус наверняка произнёс эти слова: «Не прикасайся ко Мне». Это явно не чужая выдумка. По-моему, это слишком жёсткие и трудные слова, чтобы их придумали и вставили сюда люди. А если это так, значит, здесь содержится какая-то глубинная и благая истина, которую мы пока не понимаем. Можно сказать одно: это прикосновение не могло ей повредить. Ведь что за этим последовало? Когда Он сказал: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему», она, должно быть, подумала: «Ну конечно, теперь Ты уйдёшь к Отцу и оставишь нас навсегда». Но Он продолжил: «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». Чего ещё ей было желать после этого? Вы только подумайте: Иисус, в Ком, со всем Его знанием и всеми Его страданиями, было совершенное, ликующее благоволение великого Сердца, называет Своего Отца и нашим Отцом тоже. Он делится со Своими братьями самой главной, самой глубокой, самой дорогой и самой сокровенной радостью, которая становится радостью и для них: Он делится с нами Своим вечным Отцом, совершенным и святым Богом. И что бы ни означали Его слова о том, что Он не успел взойти к Отцу, мы с изумлением и восторгом видим, что задержала Его именно любовь к Марии Магдалине, матери и братьям, даже если по какой-то причине, совершенной в истине и милосердии, Он не позволил Марии к Себе прикоснуться. Он не мог отправиться к Отцу, не утешив их. И как бы ни восприняла Мария Его слова «Не прикасайся ко Мне», они явно не обидели её.
А вот что только что пришло мне в голову: что если Он сказал всё это для того, чтобы взять всю безудержность её страстного ликования — ведь после такого чуда она наверняка стала бы ещё более тянуться к Его зримому присутствию, и новая разлука опять повергла бы её в смертные муки! — и повернуть поток этого восторга в иное, куда более широкое и вечно разрастающееся русло радости от Его непреходящего присутствия в её глубинном человеке, от тайного внутреннего общения и единства Его сердца с сердцем с каждого чада Его Отца? Ведь мы так слабы, узколобы и себялюбивы, что даже в Иисусе телесное присутствие может заслонить от нас духовную близость, хотя она (пусть мы крайне редко это понимаем) всегда лучше, дороже и прекраснее и вдесятеро реальнее любого зримого образа, который нам однажды, может быть, будет позволено увидеть.
И всё таки, разве какая-то женщина могла удержаться и не пасть всем своим сердцем и душой к ногам столь смиренного величия, столь ласкового могущества, столь самоотверженного совершенства?! Мне кажется, что перед Ним не склоняются лишь те, кто пока не видел Его. В Евангелии нет ни одной женщины, которая воспротивилась бы Ему, — кроме Его собственной матери, когда она подумала, что Он сбился с пути и забыл свою высокую миссию. Исключительная любовь к Небесному Отцу и земным братьям, преломленная в Его сознательной индивидуальности, непрестанно изливалась на людские сердца освежающей влагой. Он сошёл в мир как ливень на свежескошенную траву, как весенний дождь, напояющий землю. Не может быть, чтобы хоть одна женщина, хоть один мужчина увидел Его таким, какой Он есть на самом деле, и не преклонился перед Ним!
Хелен повернулась и неслышно пошла назад, к дому. Никто так и не заметил её присутствия.
Глава 17. Освобождение
Итак, кроме нежной заботы сестры под внимательным присмотром мистера Фабера, верившего в целительную силу хорошего ухода даже больше, чем в лекарства, у Леопольда была теперь и братская дружба священника. Всё время, которое Уингфолд мог по совести урвать от исполнения своих обычных обязанностей, он посвящал тому, чтобы учить и утешать страдающего мальчика. Однако с каждой новой неделей становилось всё очевиднее, что никакие средства не помогут вырванным корешкам его существа заново прижиться в почве этого мира: Леопольд засыхал и увядал, как увядают цветы и трава, навсегда покидающие землю. Вскоре появились симптомы, которые нельзя было спутать ни с чем другим, и тогда сам Лингард понял, что умирает. Уингфолд побаивался, что открытие заставит Леопольда впасть в отчаяние из-за того, что теперь ему не удастся обрести того искупления, которое виделось ему в публичном признании. Но ему случилось быть рядом, в тот момент, когда Лингард вдруг осознал свою участь, и он сразу понял, что тревожился зря. Лицо Леопольда озарила радость, словно заря небесного утра, поднявшаяся над горизонтом его внутреннего духа. Он посмотрел на своего друга, улыбнулся и проговорил:
— Ну вот, мой грех убил и меня тоже. Хоть какое-то утешение.
Священник ответил ему лишь взглядом.
— Говорят, что для Бога желания — это всё равно что действия, — продолжал Леопольд. — Как вы думаете, это правда?
— Конечно, если это подлинные, истинные желания.
— Я ведь действительно хотел, чтобы меня арестовали, — сказал Леопольд. — И даже не подозревал, что меня обманывают. Теперь-то я всё вижу, только что мне делать? Я стал такой слабый, что, пожалуй, умру по дороге.
Он попытался было подняться, но тут же бессильно упал в кресло.
— Ах, — вздохнул он, — как милосерден Бог, что позволяет мне умереть! Кто знает, что Он сделает для меня на той стороне! Кто может представить себе щедрость такого Бога, как Иисус!
Перед глазами Уингфолда вдруг возникла картина: он увидел, как Эммелина склоняется перед Леопольдом, прося у него прощения. Но он мудро решил промолчать. Тот, кто утешает грешника, должен основываться на Божьем прощении, а не на человеческом благодушии, уговаривающем виновного не судить о себе так строго. Теперь дело Уингфолда состояло в том, чтобы получше снарядить Леопольда для путешествия в тот мир, куда он уходил, и наполнить его суму лишь тем богатством, которое не растворится в водах великой реки: а именно, познанием Иисуса.
Когда Хелен (полная жизни, несмотря на все свои страдания) узнала, что её любимый брат умирает, её с ног до головы пронзила нестерпимая боль. Но в новом несчастье крылось и немалое утешение. Страх исчез, и вместе с горем на неё с удвоенной силой нахлынула любовь. Всегда такая сдержанная, невозмутимая, не поддающаяся приливам чувств, она подлетела к Леопольду, упала возле его постели и принялась так порывисто обнимать его, осыпая его лицо и руки поцелуями, что навстречу её слезам из груди мальчика неумолимо и беспощадно поднялись кровавые знамёна смерти. Уингфолд тщетно пытался успокоить её, хотя бы ради Леопольда. Сначала она яростно сопротивлялась, но неожиданный и печальный результат её горячности быстро привёл её в чувство, и она с усилием, но всё-таки взяла себя в руки.
В то же вечер Леопольд настоял на том, чтобы продиктовать Уингфолду своё чистосердечное признание, и затем подписался под ним, заставив священника и Хелен засвидетельствовать его подпись. Уингфолд забрал это признание себе, пообещав, что распорядится с ним так, как по размышлении подскажет ему долг и совесть.
После этого Леопольд успокоился. День ото дня он стремительно слабел и кашлял всё сильнее, но его светящиеся глаза и далёкий, хоть пока и не обращённый в прошлое взгляд говорили, что он исполнен надежды и ожидания. Конечно, время от времени на него нападало уныние, когда дракон прошлого выползал из своей пещеры и снова начинал терзать его, но мысль о грядущем избавлении придавала ему силы.
— Вы действительно думаете, что я снова увижу Эммелину? — как-то спросил он у священника.
— Да, я очень на это надеюсь, — ответил его друг, — и, пожалуй, даже смог бы это доказать. Но по-моему, когда приходят сомнения насчёт чего-то такого, во что нам очень хотелось бы верить, нам лучше всего взять и укрыться в Боге, как ребёнок прячется от темноты в складках материнского платья.
— А знаете, что сказала бы тётя, если бы услышала всю эту историю? Что при такой смерти Эммелине невозможно обрести спасение!
— Сдаётся мне, что некоторые люди сильно удивятся, когда узнают, что на самом деле возможно, а что нет, — откликнулся Уингфолд. — Но неважно, что говорят люди. Что бы вас ни тревожило, лучше пойти и обратиться прямо к Спасителю человеков, воззвать к нашему верному Творцу, Его Отцу. Нашим недалёким сердцам трудно даже представить себе всё могущество Его истины и милосердия. Не бойтесь просить у Бога самого великого, мой дорогой мальчик, но просите в великом смирении и в великой надежде.
После таких слов Леопольд всегда с благодарностью поднимал глаза на Уингфолда и замолкал.
— Поскорее бы всё кончилось, — сказал он однажды.
— Да, поскорее бы, — отозвался священник. — Но не бойтесь. Я думаю, что Бог не даст вам ничего такого, чего вы не смогли бы вынести.
— Да я мог бы вынести куда больше, чем мне до сих пор досталось. И я ни за что не буду жаловаться. Ведь это всё равно, что вырвать свою жизнь из Его рук — а ведь кроме Него у меня нет никакой надежды!.. Скажите, господин Уингфолд, а сейчас вы больше в Нём уверены, чем раньше?
— По крайней мере, я гораздо твёрже на Него уповаю.
— А этого достаточно?
— Нет. Мне этого мало.
— Как бы мне хотелось вернуться и сообщить вам, что я жив и что воскресение на самом деле есть!
— Нет уж, пусть лучше всё будет как есть. В том, что пока мы не знаем этого точно, тоже есть своё благо, и мне не хочется его упускать.
— Но если я скажу вам, что нашёл Бога, у вас уже не будет никаких сомнений!
Уингфолд невольно улыбнулся: как будто уверения такой простой души могли добраться до корня сомнений, трепавших его неспокойный дух!
— Я думаю, что найду всё, чего ищу, в Иисусе Христе, — сказал он.
— Но ведь вы Его не видите!
— Может быть, есть кое-что получше, чем просто видеть, — ответил священник. — И потом я никуда не тороплюсь и вполне могу подождать. Даже если Он соблаговолит показать мне Себя, пусть это произойдёт именно в тот срок, который Он сочтёт наилучшим, и ни на миг раньше. Я не хочу избавляться от сомнений или трудностей ни на час раньше того времени, когда Он сам выведет меня из них.
Леопольд пристально посмотрел на него и замолчал.
Глава 18. На лугу
По мере того, как болезнь развивалась, стремление Леопольда к свежему воздуху и свободе превратилось в настоящую жажду. Одним жарким днём, когда палящий зной неумолимо превращал увядающие листья в «бурю желтизны и красноты и в пёстрый вихрь всех оттенков гнили»[49], ему вдруг захотелось, чтобы из сада, в котором царили самшиты и кипарисы, его вынесли на луг, где рыжая корова, собиравшая с мира своё молоко, помахивала хвостом с таким видом, будто всё было прекрасно. Леопольду понравились и луг, и корова, и ему захотелось побыть там вместе с нею.
— А это тебе не повредит? — спросила Хелен с беспокойством усердной медсестры.
— Да не всё ли равно? — откликнулся он. — Неужели жизнь так хороша, что нам стоит трястись над каждым лишним мгновением? Вот подожди, я умру, и тогда ты увидишь, что нет никакой разницы, была моя жизнь длиннее на неделю или всего на час. Подумать только, какой груз сразу упадёт с твоих плеч! Я даже завидую твоему облегчению. Тебе будет так же хорошо и свободно, как мне на том лугу!
Хелен поторопилась выполнить его желание. Для Леопольда смастерили нечто вроде носилок, и Уингфолд вместе с кучером понесли мальчика на луг. Услышав об этой экспедиции, миссис Рамшорн возмутилась и немедленно прибежала в сад, но все её протесты оказались напрасными, и тогда она присоединилась к маленькой процессии и пошла рядом с Хелен, как ещё одна плакальщица за похоронными дрогами. Они пересекли лужайку возле дома и по извилистой дорожке, окаймлённой молодыми кипарисами, сошли к низкой, утопленной в землю калитке, будто и правда спускались к гробнице. Никто не подумал заранее открыть дверь, и в земляном проходе было темно, словно в склепе. Хелен поспешно распахнула калитку пошире.
— Опустите меня на минутку, — попросил Леопольд. — Ну вот, я и в могиле. Какой приятный, сумрачный свет! Я готов лежать здесь в полудрёме хоть тысячу лет, только бы знать, что однажды я непременно проснусь!
Но золотой поток солнечного света рванулся к нему из распахнутой настежь калитки, и за ней, словно в раме, Леопольд увидел рыжую корову, помахивающую хвостом.
— Вот я и воскрес! — воскликнул Леопольд. — Недолго же мне пришлось ждать, верно?
Он улыбнулся со страдальческой безмятежностью, и друзья вынесли его на солнце и воздух. Его усадили в низком шезлонге посреди луга, возле небольшой рощицы, где вилась та самая тропинка, на которой Уингфолд впервые повстречался с Полвартами. Миссис Рамшорн обнаружила, что в причуде больного есть немало приятности и для здорового, и послала за своим вязаньем. Хелен уселась на овечью шкуру возле ног брата, а Уинг- фолд, вынув из кармана книгу, уселся под ближайшим деревом. Но читал он недолго. Вскоре к нему подошла Хелен.
— По-моему, он задрёмывает. Может, вы почитаете ему что-нибудь, чтобы он поскорее заснул?
— С удовольствием, — отозвался священник и, вернувшись к Леопольду вместе с ней, присел рядом с ним на траву.
— Можно я прочту вам одни стихи, которые случайно нашёл на днях? — спросил он.
— Пожалуйста, — полусонно отозвался тот.
Я не могу с уверенностью сказать, что стихи, которые прочёл Уингфолд, были из книги, которую он держал в руках. Он читал медленно, стараясь говорить как можно ровнее, мягче и ритмичнее.
Кто слаб, кто беден — всяк к Тебе идёт,
Кто глух, иль нем, иль болен от потерь
В Тебе источник жизни обретёт,
Таким к Тебе всегда открыта дверь.
Ах, как народ счастливый ликовал, Когда Ты их спасал от кабалы, В вино осадок горький превращал, Молитвы — в песни радостной хвалы!
Пускай сейчас рассказам про Тебя Премудрые не верят до конца, Есть многое на свете, знаю я, Что и не снилось нашим мудрецам.
Но будь я нищ и болен, глух и слеп, Я, право, не искал бы ничего — Мне не нужны ни врач, ни кров, ни хлеб, А только то, что дать трудней всего.
Коль Ты — Христос, мне в сердце загляни,
Наполненное болью и тоской,
Его Своим покоем осени,
Коль Ты и правда можешь дать покой.
Ты мог единым словом исцелить И в смертном теле смерть перебороть, Но если можешь душу воскресить, Тогда, Иисус, Ты — подлинно Господь!
Пока Уингфолд читал, Леопольд продолжал дремотно улыбаться, а когда священник замолчал, он уже крепко спал.
— А этому-то что здесь понадобилось? — вдруг промолвила миссис Рамшорн. Уингфолд поднял голову и, увидев, кто к ним приближается, сказал:
— А-а, это мистер Полварт. Он служит привратником в Остерфильдском парке.
— Это я и сама прекрасно вижу. Его все знают.
— Но мало кто знает его по-настоящему, — возразил священник.
— Да, я слышала, что он престранная личность — и не только с виду!
— Он мой друг, — просто сказал Уингфолд. — Извините, я ненадолго отлучусь. Должно быть, он хочет узнать, как Леопольд.
— Не беспокойтесь, мистер Уингфолд. Право, я ничуть не против его общества, — произнесла миссис Рамшорн. — Я с удовольствием приму любого вашего друга, как вы соблаговолили назвать этого несчастного. Священникам приходится знаться с самыми разными людьми; более того, это их долг. Мой покойный супруг, декан Хейлистона, готов был остановиться и побеседовать с последним нищим.
Однако священник уже поднялся и пошёл навстречу Полварту. Вернувшись вместе с ним, он представил карлика миссис Рамшорн, которая приняла его с полной снисходительностью и кивнула ему с самым что ни на есть благосклонным видом. Хелен тоже слегка наклонила голову, но c совершенно иным чувством; правда, с каким именно, сказать было трудно. Отвернувшись от них, маленький привратник несколько мгновений смотрел на лицо спящего мальчика: он не видел Леопольда с того самого дня, когда Хелен выгнала его прочь. Да и сейчас она смотрела на него с негодованием, втайне возмущаясь той дерзостью, с какой он разглядывал её брата. Но Полварт не видел её взгляда. Неописуемая нежность разлилась по его лицу, и губы его беззвучно зашевелились. «Господь жизни твоей да сохранит её для тебя, сын мой!» — прошептал он, постоял рядом с Леопольдом ещё несколько мгновений, а потом отошёл к Уингфолду, и они вместе медленно зашагали по лугу.
— Пожалуйста, садитесь, — величественно проронила миссис Рамшорн, не поднимая глаз от вязания и предлагая в качестве кресла широкий луг. Но они уже уселись, и вскоре между ними завязался негромкий разговор. Через какое-то время некоторые его фразы, по неразумию долетевшие до ушей миссис Рамшорн, привлекли её внимание. Она прислушалась, но никак не могла разобрать всё до конца.
— Нужен, по крайней мере, один епископ, — как раз говорил карлик, — или даже архиепископ и, желательно, человек бедный, вроде того деревенского священника, которого Чосер противопоставляет обычным церковникам — чтобы ездить из университета в университет, из колледжа в колледж, из школы в школу и убеждать непонятливых юношей, что в церкви нельзя служить ради положения в обществе, ради денег, ради учёности или влияния. Он должен отгонять их от служения подальше, как от святого места!
По каким-то своим соображениям миссис Рамшорн подумала, что он говорит о свя- щенниках-диссентерах из бедных и незнатных семей, желающих служить в церкви ради того, чтобы пробиться в первые круги общества. И поскольку сама она полагала, что церковные должности следует занимать лишь людям из приличных и состоятельных семей, способных поддержать достоинство священнического сана, она испытала немалое удовлетворение, услышав, как ей показалось, похожие воззрения из уст столь невежественного человека, за какого она принимала Полварта, несмотря на его весьма умное, проницательное высказывание. Посему она решила отнестись к нему ещё с большим покровительством.
— Я совершенно с вами согласна, — любезно произнесла она. — Таким людям не место в священных пределах церковного служения.
Её тон немного покоробил Полварта, и он немало удивился столь пылкому одобрению его мыслей о необходимых переменах в церковном порядке — вплоть до самого архиепископа! — которые он полушутливо, но совершенно серьёзно высказал одному лишь Уингфолду. Ему совсем не хотелось продолжать с ней разговор: даже сама Обходительность не принуждает человека бросать свои жемчуга перед госпожой Шпилькой[50]. Однако не ответить он не мог.
— Да, — сказал он, — одним из величайших зол в церкви всегда было присутствие тех, кто не подходит для той работы, которую на него возлагают. Мне кажется, при отборе священников необходимо требовать, чтобы каждый из них сначала доказал, что способен гораздо лучше заработать себе на жизнь какой-нибудь другой профессией.
— В этом я, пожалуй, не могу с вами согласиться, — возразила миссис Рамшорн. — Круг профессий, доступных для джентльмена, слишком узок. И потом, возьмите, к примеру, адвокатское дело: вряд ли человек, привыкший к стилю и тону судебного разбирательства, сможет потом проповедовать с кафедры! Однако было бы неплохо взять за правило, чтобы у каждого, кто собирается принять сан, уже был доход, достаточный хотя бы для пропитания. С таким основанием, да ещё и с деньгами, причитающимися ему от прихода, он сразу сможет занять то положение, которое по праву должно принадлежать всякому служителю церкви.
— Я прежде всего думал о том жизненном опыте, который человек приобретает, зарабатывая себе на хлеб, — отозвался Полварт. — Стоя за прилавком или идя за плугом, или трудясь в мастерской он скорее сможет узнать людей, их трудности и их мысли.
— Боже правый! — воскликнула миссис Рамшорн. — Должно быть, здесь какое-то недоразумение! Неужели вы в самом деле имеете в виду церковь — священнический сан? Но если духовные должности станут доступны таким людям, о которых вы говорите, церковь сразу опустится до уровня католического священства!
— Скажите лучше, до уровня Джереми Тейлора, — отозвался Полварт, — который был сыном цирюльника. Или епископа Тиллотсона[51], который, по-моему, был сыном портного и всю жизнь оставался непримиримым диссентером. Его враги даже поговаривали, что он так и не принял крещения. Кстати, его рукоположили только в тридцать лет, а это как раз подтверждает то, что я только что говорил мистеру Уингфолду: я ни за что не стал бы рукополагать в священники ни одного человека, пока ему не исполнится сорок. К тому времени он должен понять, что влечёт его к церкви: истинное призвание или низменная надежда на лёгкий хлеб.
Больше ничего подобного миссис Рамшорн вынести просто не могла. Да этот злосчастный карлик — самый настоящий уравнитель, чартист[52], позитивист, презирающий все титулы и звания!
— Мистер. мистер. Простите, я не знаю вашего имени. Я попросила бы вас более не повторять подобных гнусностей в моём присутствии. Вы рассуждаете о том, о чём не имеете ни малейшего представления. Человек, не уважающий религию своей родной страны, способен на. на. на всё что угодно! Мистер Уингфолд, я просто поражена, что вы позволяете членам свого прихода выказывать такое неуважение к священническому сану! А вы, сэр, приписывая служителям церкви то, что вы называете низменными надеждами, забываете, Кто сказал, что всякий трудящийся достоин своей награды!
— Надеюсь, что это не так, сударыня. Я только говорил, что, хотя всякий трудящийся действительно достоин своей награды, не всякий трудящийся достоин такого труда!
Уингфолд с удивлённым интересом наблюдал за неожиданным поворотом разговора. Полварт же был явно недоволен собой за то, что позволил втянуть себя в столь пустую и бесполезную беседу.
— У моего друга действительно необычные взгляды, миссис Рамшорн, — заметил священник. — Но согласитесь, именно ваше одобрение заставило его продолжить свою мысль!
— Всегда лучше знать, что люди думают на самом деле, — изрекла миссис Рамшорн, делая вид, что намеренно пытала Полварта с целью выведать его сомнительные воззрения. — Мой муж не раз сетовал на то, что мало кто из священников понимает, с какой завистью и противлением низшие сословия относятся и к ним самим, и к их учению. Истина всегда была противна низменным человеческим натурам.
Трудно сказать, что она имела в виду, говоря об Истине. Но даже если она не считала своего покойного декана её зримым воплощением, по крайней мере, эта Истина неизменно ассоциировалась у неё с кафедральным хором и дородным джентльменом в шёлковых чулках.
К счастью, тут как раз проснулся Леопольд и увидел неподалёку Полварта.
— Ах, мистер Полварт! — воскликнул он. — Как я рад вас видеть! Видите, мне уже недолго осталось. Скоро всё будет позади.
— Вижу, — ответил Полварт, подходя к нему и сжимая в обеих ладонях протянутую руку. — Я почти завидую вам в том, что ваши беды скоро закончатся.
— А вы уверены, что они действительно закончатся?
— Ну, я надеюсь, что некоторым из них — и притом, самым худшим — точно придёт конец. Я не могу быть уверенным ни в чём, кроме одного: любящим Бога всё соделывает- ся ко благу.
— Но я пока не знаю, люблю ли я Бога.
— Даже если это Отец Иисуса Христа?
— Если Бог и правда такой, как Иисус, то, по-моему, Его просто нельзя не любить. Только знаете, что? Иногда мне становится страшно от того, что я встречу там своего отца. Он всегда был таким строгим. Что если он будет презирать меня?
— Если он уже успел научиться небесным путям, никогда! И потом, ваша мать тоже будет там, верно?
— Ах, да! Об этом я не подумал. Я её почти не помню.
— Как бы то ни было, там у вас будет Бог, и вам нужно положиться на Него. Он никогда не забудет о вас: иначе Он просто перестал бы быть Богом! Да позабудь Он о нас хоть на миг, и вся вселенная тут же почернела бы, исчезла и провалилась из царства закона и порядка в мрак и хаос.
— Но я совершил такой ужасный грех!
— Тем больше вам нужен Небесный Отец.
Тут миссис Рамшорн, сидевшая с другой стороны, подозвала к себе священника. Ей было немного стыдно за то, что она унизилась настолько, чтобы выйти из себя, и когда Уингфолд приблизился, она заговорила деланно беззаботным тоном:
— Скажите, этот ваш. друг. У него всё в порядке? — и она легонько постучала пальцем по своему кружевному чепцу.
— Гораздо больше, чем у большинства людей, — ответил Уингфолд. — Это совершенно исключительный человек.
— Он говорит так, будто знавал лучшие времена. Хотя где он мог набраться этих отвратительных радикальных взглядов, я ума не приложу.
— Как вы видите, он весьма образованный человек.
— Вы что, хотите сказать, что он учился в Оксфорде или Кембридже?
— Нет. Его образование куда лучше чем то, что обычно приобретают там студенты. Он знает в десять раз больше, чем большинство тех, кто прошёл университетский курс.
— Ах вот вы о чём! Но это ни за что не считается; ведь у него нет диплома! К тому же, после Оксфорда он ни за что не стал бы придерживаться подобных воззрений. И потом, что за манеры?! Так отзываться о священниках в присутствии тех, кто неразрывно связал с церковью всю свою жизнь!
Она имела в виду не Уингфолда, а себя
— Но конечно, — продолжала она, — у него и правда, должно быть, что-то не в порядке, если он так много знает и при этом занимает столь униженное положение. Всего лишь привратник — а так смело разглагольствует о епископах и ещё Бог знает о чём! Попомните моё слово: у всех калек непременно что-нибудь не так с головой. Не удивлюсь, если среди низших слоёв Гластона у него найдётся целый круг друзей и последователей. Он как раз из тех, кто сбивает с толку рабочие сословия. Понятно, что молодому человеку вроде вас любопытно изучить подобное явление. Но вам следует быть поосторожнее: вас могут неправильно понять. А молодому священнику следует особенно остерегаться неприятностей, если он хочет чего-то добиться в своей профессии. Обыкновенный сторож, подумать только!
— А разве сам Давид не мечтал стать таким же сторожем? — спросил священник.
— Мистер Уингфолд, я не потерплю подобных шуточек в своём присутствии! Псалмопевец желал пребывать во дворах Господних и у порога дома Божьего, а не стеречь ворота в парк при усадьбе английского дворянина!
«Значит, хотел быть не только сторожем, но и дворником», — подумал Уингфолд.
— Право, миссис Рамшорн, — сказал он вслух. — Этот неприглядный карлик — воистину самый мудрый человек из всех, кого я только знаю.
— Судя по вашим воззрениям, я ничуть этому не удивляюсь, — ответила вдова почтенного декана, надменно выпрямляясь в кресле.
Уингфолд понял, что аудиенция закончилась, и снова подошёл к Полварту, стоявшему возле Леопольда.
— Я хотел бы, чтобы в последний час вы оба были со мной, — сказал умирающий мальчик, поочерёдно глядя на двух своих друзей.
— Если вы скажете об этом сестре, она наверняка позволит нам прийти, — ответил священник.
— Это будет всё равно, что попрощаться возле пирса, в одиночку оттолкнуться от берега — ведь в эту лодку помещается только один человек! — и уплыть, далеко-далеко, в бескрайний океан, — мечтательно проговорил Леопольд. — И никто не знает, что ждёт меня там.
— Кроме тех, кто уже ушёл туда и ожидает вашего прибытия, — отозвался Полварт. — И если по эту сторону вас провожают друзья, вполне можно рассчитывать на то, что и там найдутся те, кто готов вас встретить. Но мне кажется, что мы не столько уплываем в океан, сколько сходим с корабля на пристань, где нас с нетерпением ждут добрые друзья.
— Что ж, может, и так, я не знаю, — устало вздохнул больной. — Знаете, иногда я даже благодарен за то, что голова у меня почти не соображает. Раньше я никогда не чувствовал себя таким глупым. Порой мне кажется, что я вообще ничего не знаю и мне всё равно: только бы прекратился кашель, всё перестало болеть, и я уснул.
— Иисус тоже был рад отдать Свой дух в руки Отца. Перед уходом Он тоже страшно устал.
— Спасибо. Спасибо вам. Он здесь. Он где-то рядом. Стоит вам только произнести Его имя, а у меня сразу появляется что-то, ради чего можно жить и надеяться. Если Он есть, всё будет хорошо. И даже когда у меня не останется сил ни о чём заботиться, Он не станет сердиться, но позволит мне заснуть и непременно разбудит меня, когда я хорошенько отдохну.
Он закрыл глаза.
— Я хочу домой, спать, — сказал он, и они отнесли его в особняк.
Глава 19. Рейчел и Леопольд
После этого, пока стояла тёплая погода, Леопольда каждый день относили на луг. Как-то раз он попросил отнести его подальше в парк, за рощицу, но вскоре пожалел об этом и захотел вернуться. Ему было не по себе, что между ним и его постелью оказались деревья: он сказал, что чувствует себя как кролик, чересчур далеко убежавший от своей норы. С тех пор его кресло неизменно ставили на прежнее место.
С такой же регулярностью, каждый день около часа пополудни в низенькую калитку парка проскальзывала гномоподобная фигурка привратника и через весь луг направлялась к Леопольду, сидевшему неподалёку от деревьев. Священник почти всегда был уже там. Он почти не разговаривал с больным, но время от времени то словом, то заботливым жестом, то просто подходя к креслу, давал мальчику знать, что он рядом. Иногда, чтобы укрыться от жары (которая Леопольду с его индийской кровью никогда не казалась невыносимой) Уингфолд заходил в рощицу и там обычно размышлял о том, что скажет прихожанам в ближайшее воскресенье.
Одно казалось ему странным и непонятным: хотя он был так занят мыслями о Хелен, что порой не мог как следует сосредоточиться ни на одном предмете, легче всего ему было думать над проповедями, когда, прислонившись к стволу одного из деревьев, он видел её, склонившуюся над шитьём или вышиванием рядом с Леопольдом. Только потом он понял, что помогало ему удержаться и выстоять: всё это время его вера в Бога неуклонно росла, хотя ему самому нередко казалось, что его то и дело прерывают.
Ничто так не мешает нам усиленно продвигаться вперёд, как чувство удовлетворения от уже достигнутого; оно всегда означает остановку. Но стоило Уингфолду ступить даже на самую приземистую и пологую кочку самодовольства, как он тут же запинался о
какую-нибудь новую трудность, летел носом вниз и поднимался лишь благодаря осознанию того, как необходимо ему углубить и расширить свой фундамент, чтобы строить ещё выше и надеяться ещё безогляднее: только так у него получится не растерять всё, что он успел приобрести. Он постепенно понимал, что вера должна быть абсолютной и ожидать от Бога всего, что может дать любовь совершенного Отца, знающая нужды и желания, вложенные Им в Своих детей. Он видел, что ему нельзя уповать прежде всего на собственную смекалку или воображать, что Бог только восполняет человеческую слабость или неудачу, и понимал, что высочайшее усилие человека — это протянуть руку к Небесам и овладеть ими. Он осознал, что не может соблюсти даже простейший закон во всей его красоте, покуда в нём не оживёт дух этого самого закона; что любить Хелен как должно — простой, совершенной и бескорыстной любовью — он сможет лишь в присутствии Источника всякой любви, а подражать свободной созидающей воле Бога сможет только в одном: всей силой собственной воли желая присутствия и силы той Воли, что породила нас. Так, даже если сам он был слишком озабочен, чтобы это замечать, его живая вера возрастала день ото дня, укрепляя его посреди слабости, и когда сын человеческий внутри него кричал: «Да минует меня чаша сия!», сын Божий, живущий в нём, отзывался: «Не моя воля, но Твоя да будет!». Он жил в страхе и трепете, но при этом оставался смелым.
Миссис Рамшорн обычно появлялась на лугу с утра, чтобы посмотреть, удобно ли устроили её бедного мальчика, но почти никогда на оставалась там надолго: она не любила сидеть с больными, да и нужды в её помощи не было никакой. А поскольку теперь Хелен не противилась ни малейшему желанию брата, никто не мешал Полварту навещать Леопольда, всегда ожидавшего карлика с радостным нетерпением.
Однажды привратник не появился. Однако вскоре из низкой калитки возникла фигурка его племянницы, ещё более похожая на крошечного гнома, и с трудом заковыляла через весь луг к Леопольду. Кротко и скромно, почти застенчиво, она приблизилась к Хелен, сделала робкий реверанс, как деревенская школьница, и, поглядывая на Леопольда большими и ясными глазами, в которых плескался целый океан подлинно женской нежности, сказала:
— Мисс Лингард, дядя просил меня извиниться и сказать, что сегодня он не может навестить вашего брата, потому что у него сильный приступ астмы. Он просил меня передать мистеру Лингарду, что думает о нём. Хотите, я перескажу вам слово в слово то, что он сказал?
Хелен согласно наклонила голову, не проявляя особого интереса, однако Леопольд воскликнул:
— Да, пожалуйста! Каждое слово такого человека — настоящая драгоценность.
Рейчел повернулась к нему, вспыхнув нежным румянцем белой розы.
— Я спросила его: «Может, мне передать мистеру Лингарду, что ты молишься за него?» Но он ответил: «Нет, я не то, чтобы молюсь за него, а просто думаю о Боге и о нём вместе».
В глазах Леопольда показались слёзы. Рейчел протянула свою детскую ладошку и бережно погладила смуглые, длинные пальцы, лежащие на ручке кресла.
— Милый, милый мистер Лингард, — проговорила она. Хелен резко подняла голову от вышивания и посмотрела на неё так, будто вот-вот собиралась потребовать у неё рекомендации. — Как бы мне хотелось быть так же близко к дому, как вы!
Леопольд взял её за руку.
— Вам так плохо? — спросил он.
— Да вы только посмотрите на меня! — откликнулась она с невольной жалостливой улыбкой. — Всю свою жизнь пробыть взаперти в этой уродливой клетушке! Но нет, я не жалуюсь; это была бы чистая неблагодарность! Не такое уж маленькое у меня жилище, чтобы там не мог обитать Бог. Только вы даже представить себе не можете, как я порой от него устаю!
— А вчера мистер Уингфолд рассказывал, что, по мнению некоторых, апостол Павел тоже был чуть ли не карликом и калекой, и якобы это и было его «жало во плоти».
— Честно говоря, я думаю, что такого просто не могло быть. Иначе он никогда не стал бы сравнивать своё тело со скинией: ведь оно ни на дюйм не подастся, чтобы человеку было хоть чуть-чуть попросторнее! И потом, тогда он вряд ли стал бы говорить, что не желает снять с себя смертное тело, а только хочет облечься в бессмертное[53]. А мне вот очень хочется, чтобы с меня сняли это тело и вместо него дали мне новое, красивое и крепкое — да вот хоть вроде того, что у вашей сестры, мистер Лингард! Вы уж простите меня за такие слова. Просто я не могу грустить о вашем уходе, потому что с радостью ушла бы сама.
— А я бы с радостью остался, и даже в таком же маленьком жилище, как ваше, будь у меня вместо гостиной такая же чистая совесть, — улыбаясь ответил Леопольд. — Но когда я уйду, мир станет только чище. А вы, мисс Полварт, тоже знаете Бога, как ваш дядя?
— Надеюсь, что да — немного. Вряд ли кто-то ещё знает столько, сколько он, — очень серьёзно добавила она. — Но ведь Бог всё равно знает о нас всё и милует нас совсем не по тому, сколько мы о Нём знаем. Как хорошо, что Он может быть всем для всех! В этом и есть Его благость. Мы ведь не можем стать всем даже для одного человека. Как бы мы ни старались, мы даже себя не можем ему как следует открыть, потому что внутри у нас — сплошные рваные куски да пятна. Но я думаю, что если это нам не нравится, то даже это — знак того, что мы от Бога. Ах, как бы я хотела вам помочь, мистер Лингард! Только я ничего не могу — и боюсь, что ваша красавица-сестра уже считает меня ужасно дерзкой. Но ей невдомёк, как это — лежать без сна всю ночь и думать-подумывать о моих красивых братьях и сёстрах, к которым я даже подойти не могу, чтобы им помочь!
«Какая она странная, — думала Хелен, которая почти ничего не поняла из слов Рейчел. — Да они оба не в своём уме. Бедняжки! Как нелегко им, должно быть, приходится».
— Простите меня ещё раз, что я так заболталась, — сказала Рейчел и, поклонившись сначала брату, а потом сестре, так же неуклюже, бочком заковыляла прочь по густой траве, то и дело запинавшей ей ноги.
Глава 20. Ищейка
Я не стану подробно описывать, как лондонские сыщики умудрились напасть на след неизвестного, спускавшегося в заброшенную шахту, и просветить мать Эммелины насчёт того, что это был за человек. Скажу только, что теперь она прибыла в Гластон, пытаясь разузнать о нём побольше. У неё не было определённого плана, и она просто решила пойти в церковь и прочие другие места, где собираются люди, в надежде наткнуться на что-то такое, что даст направление её дальнейшим поискам. Мысль о Леопольде ни разу не пришла ей в голову. Она даже не знала, что в Гластоне у него живёт сестра: друзья Эм- мелины никогда не откровенничали с её родителями.
На следующий день после приезда с самого утра она отправилась пройтись, на ходу обдумывая планы желанной мести, и отыскав дорогу в Остерфильдский парк, какое-то время бродила там. Выйдя оттуда через другие ворота и спросив у прохожего, как пройти в Гластон, она пошла по тропинке через поля, пока не подошла к той самой изгороди со ступеньками, где Уингфолд когда-то впервые увидел Полвартов, и, утомившись от долгой ходьбы, присела отдохнуть.
Стоял великолепный осенний день, но она не видела в природе ни малейшего очарования. Не запрись она так плотно в угрюмой каморке собственных мыслей, ей никогда не было бы так одиноко. Но природа оставалась для неё скучной и бесформенной пустотой, её собственное прошлое не будило приятных воспоминаний, а будущее было темно и туманно.
Так случилось, что как раз в это время Леопольд спал. Каждое утро, почти сразу после того, как его выносили на луг, он засыпал в кресле на своём обычном месте, неподалёку от рощицы, за которой и была та самая изгородь, где сидела сейчас мать Эммелины. Уингфолд уселся было в тени деревьев, но Хелен, обнаружив, что забыла нужные нитки, попросила его присмотреть за братом, пока она не вернётся. Однако почти в ту же минуту из низкой калитки появился Полварт, и Уингфолд, поднявшись, пошёл ему навстречу. Когда он повернулся, чтобы идти назад, к его изумлению возле спящего юноши стояла какая-то дама, со странной пристальностью всматриваясь в его лицо. Полварт видел, как она вышла из рощицы, но решил, что это какая-то знакомая. Священник почти побежал к Леопольду, боясь, что тот неожиданно проснётся и испугается, увидев незнакомку. Дама смотрела на мальчика так напряжённо и внимательно, что услышала приближение Уинг- фолд только тогда, когда он был совсем близко. Она испуганно вздрогнула, взглянула на священника и тут же заторопилась прочь, к городу. В её движениях сквозила нервная возбуждённость, которая не понравилась Уингфолду; у него мелькнуло смутное подозрение, и он решил пойти за нею. В свою очередь он препоручил Леопольда Полварту и последовал за дамой.
Увидев Леопольда, мать Эммелины тотчас узнала его необычные, смуглые черты, несмотря на то, как страшно изменила его болезнь, и в ней проснулось подозрение, почти уверенность в том, что перед ней — убийца её дочери. Его измождённый вид, казалось, только подтверждал её догадки. Сначала она хотела разбудить его и посмотреть, какой эффект произведёт её внезапное появление. Но обнаружив, что он не один, она поспешила в город, чтобы разузнать о нём как можно больше.
Проводив Уингфолда, Полварт приблизился к Леопольду и встал рядом, ласково глядя на спящего. Вдруг Леопольд вздрогнул и открыл глаза.
— А где Хелен? — спросил он.
— Я ещё не видел её. А-а, да вот и она!
— Так я что, был совсем один?
— С вами был мистер Уингфолд. Он поручил вас мне, потому что ему срочно нужно было отлучиться в город.
Больной вопросительно посмотрел на подошедшую сестру, а та так же вопросительно посмотрела на Полварта.
— У меня такое чувство, — сказал Леопольд, — что я лежал в этом широком поле совсем один, и ко мне подошла Эммелина, хоть я её и не видел.
Полварт поднял голову и посмотрел вслед двум удаляющимся фигурам, которые почти пересекли луг и вот-вот должны были вы йти на проезжий тракт. Хелен посмотрела туда же вслед за ним, и её внезапно охватило чувство опасности. Она задрожала и схватилась за спинку кресла Леопольда, решив не показываться брату на глаза.
— Ну, как у вас сегодня, сильный кашель? — спросил привратник.
— С утра был сильный, пока меня не вынесли на улицу. Только толку от него никакого.
— А какой от него должен быть толк?
— Ну, чтобы он поскорее прикончил меня. Ах, мистер Полварт, знали бы вы, как я устал!
— Бедный вы мой мальчик! Должно быть, вам кажется, что это никогда не кончится. Но до вас все до единого миллионы умерших прошли той же самой дорогой. Правда, это слабое утешение для того, кто сейчас идёт по ней сам, — но всё равно, какая-никакая, а компания! Только не забывайте: Господь жизни всё время с вами, а это значит, что даже в смерти, когда никто другой не может быть с вами рядом, Он не оставит вас одного.
— Жаль только, что я не чувствую Его присутствия!
— Может, и чувствуете, только не знаете, что это Он.
— А как вы думаете, мистер Полварта, это не грех — желать, чтобы всё поскорее закончилось?
— Чего бы вы ни желали, в этом нет ничего дурного, если вы можете поговорить об этом с Ним и предать всё Его воле. Апостол Павел так и говорит, чтобы мы всегда открывали свои желания перед Богом[54].
— Иногда мне вообще не хочется ни о чём Его просить. Пусть Он сам даёт мне всё, что сочтёт нужным.
— Нам не следует стремиться стать лучше, чем от нас требуется, потому что тогда мы сразу же становимся хуже.
— Я не совсем вас понимаю.
— Вам может показаться, что ничего не просить — это признак большего смирения, но мне кажется, что дети ведут себя иначе. По-моему, куда лучше сказать: «Господи, мне хотелось бы того-то и того-то, но если Тебе это не по душе, то и я готов от этого отказаться». Такая молитва сразу же вводит нас в реальное, осмысленное общение с Богом, ведь тогда мы волей возносим Ему свои мысли. Господь учил нас всегда молиться и не унывать. Какими бы убогими тварями мы ни были, Бог хочет, чтобы мы беседовали с Ним: Ему куда проще говорить с нами, когда мы поворачиваемся к Нему лицом.
— Интересно, что я сделаю в первую очередь, когда освобожусь — ну, когда окажусь в воздухе и всё такое?
— Правда, странно, что мы так мало знаем о том, что, в каком-то смысле, всегда находится так близко? Что такая тонкая завеса остаётся столь непроницаемой? Наверное, я бы прежде всего начал молиться.
— Значит, вы думаете, что мы будем молиться и там — где бы это ни было?
— Мне всё время кажется, что я сам молитвой вознесусь вверх, как только высвобожусь из темницы своего тела. Не стоит мне, наверное, называть его темницей; оно со всех сторон открыто прекрасному Божьему миру, и мои глаза и уши внимают красоте земли не хуже ваш
[44] У. Шекспир, «Гамлет», акт IV, сцена 4, перевод М. Лозинского.
[45] Аллюзия на цитату из первой оды третьей Книги песен Горация Флакка: "post equitem sedet atra cura» («и позади всадника сидит мрачная забота»). См. также непосредственный контекст: «Сходит, однако, Страх тотчас туда же, злые Угрозы вслед и чёрная за ним Забота, в крепкой ладье ль он, верхом ли едет» (пер. Н. С. Гинцбурга).
[46] Вечный Жид, Агасфер - персонаж христианской легенды, еврей-скиталец, осуждённый Богом на вечную жизнь в скитаниях за то, что он отказался помочь Христу нести крест на Голгофу.
[47] Миракль - (франц. miracle, от лат. miraculum - чудо), жанр средневековой религиозной драмы, разновидность или составная часть мистерии. Основу его сюжета составляет чудо, совершённое Девой Марией или святыми, он непременно носит назидательный характер и изложен в стихотворной форме.
[48] В английском переводе Евангелия (Макдональд имеет в виду перевод короля Иакова, сделанный в 1611 г.) эти слова Христа действительно переданы так: «Woman, what have I to do with thee?» т.е. «Женщина, что Мне до тебя?» или «Женщина, что у Меня общего с тобой?» Русский Синодальный перевод верно и точно следует греческому оригиналу: «Что Мне и тебе, Жено?», то есть «Какое нам с тобой до этого дело?»
[49] Строчка из «Оды западному ветру» П. Б. Шелли, перевод Б. Пастернака.
[50] Аллюзия на диалог Бенедикта и Беатриче из комедии Шекспира «Много шума из ничего».
[51] Джон Тиллотсон (John Tillotson, 1630-1694), с 1691 г. архиепископ Кентерберийский, отличался широкими взглядами на англиканскую церковь.
[52] Уравнители или «левеллеры» - радикальная политическая партия в период Английской революции 17 в. Во главе с Дж. Лилберном онии выступали за демократическую республику, против ликвидации частной собственности. Чартизм - движение рабочих Великобритании в 30-50-х гг. 19 в., проходившиее под лозунгом борьбы за проведение «Народной хартии» (People's Charter).
[53] См. 2Кор. 5:1-4.
[54] Флп. 4:6.
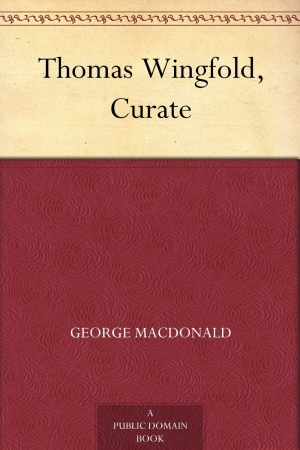
Комментировать