Часть II
«Назначение и цель христианского писателя — быть служителем Слова, способствовать раскрытию в Нем заключенной единой истины в ее бесконечно-разнообразных проявлениях в земной жизни христианина и тем вести христианскую душу по пути Православия от жизни временной в жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем».
Такими словами начал С. А. Нилус свою книгу «На берегу Божьей реки», вышедшую в свет полвека тому назад. Эта первая часть дневников его, изданная в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре архиеп. Никоном Вологодским в 1916 г., была написана в Оптиной Пустыни; а вторая, являясь продолжением первой, составленная во время его жизни в Валдае и позднее, после революции, в Полтавщине — ныне впервые появляется в печати. Однако столь долгий промежуток времени между двумя частями ничуть не умаляет силы и значения книги. Наоборот, на фоне свершившегося за эти 50 лет как на Руси, так и во всем мире, издание второй части последней книги Нилуса является прекрасным завершением всего того, что хотелось сказать любящему православному сердцу автора. Но значение Нилуса этой книгой не исчерпывается полностью. Его надо понять, зная его предыдущие книги, зная кое-что о его жизни, и видеть его в контексте той реальности Святой Руси, о коей он столь красочно свидетельствует, так нежно любит, о судьбе коей столь ясно прозревал и коей так удивительно послужил.
Книги Нилуса, по выражению святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, «чистый алмаз», суть следующие: Великое в малом, 1903 г.; Сила Божия и немощь человеческая, 1908 г.; Святыня под спудом, 1911 г.; Близ есть при дверех, 1917 г. и небольшая книжка Жатва жизни, 1909 г., которая, за исключением двух последних отделов, составляет четвертую главу нашего издания На берегу Божьей реки.
В последней, описывая свое жительство в Оптиной, на берегу реки Жиздры, Нилус видит себя рыболовом, закидывающим свои сети в глубину живой воды Божьей реки Оптинской и извлекающим оттуда своим неводом встречающиеся в мире проявления духовной жизни и свои встречи с подвижниками духа. Здесь мы встречаем имена праведников, с которыми автор имел личное соприкосновение и испытал на себе силу их духовных дарований, прозорливость и чудотворения. Его записи дышат живыми встречами. В них живо запечатлелась Святая Русь.
Невольно напрашивается сравнение между Нилусом и искателями духовных «алмазов» древних времен, как Палладий, Иоанн Мосх, Руфин, преп. Иоанн Кассиан, которые жили на заре христианства и описывали великих подвижников. Так и на закате христианства Господь явил великих Своих угодников, явил и описателей их, как Поселянин, еп. Никодим Б., Нилус. Но последнему Господь судил не только обогатить русскую агиографическую литературу, но осветить ценность подвига святых в перспективе надвигающегося царства тьмы, теперь уже почти полностью поглотившего весь христианский мир. В помощь последним христианам чрез него открылась миру великая Беседа преп. Серафима, а ныне «Дивеевская тайна». Его писания в целом приобретают значение, выходящее из границ времени, и становятся уже достоянием церковного Предания.
Г[леб] П[одмошинский]
День пр. Серафима Саровского 19 июля 1969 г.
«Дар слова, — говорит Святитель Игнатий Брянчанинов, — несомненно принадлежит к великим дарам. Им человек уподобляется Богу, имеющему Свое Слово. Слово человеческое подобно Слову Божию, постоянно пребывает при отце своем и в отце своем — уме, будучи с ним едино и вместе отделяясь от него неотдельно. И слово человеческое ведомо одному уму, из которого оно постоянно рождается и тем выражает существование ума. Существование ума без слова и слова без ума мы не можем себе представить. Когда ум захочет сообщиться уму ближнего, он употребляет для этого свое слово. Слово, чтобы приобрести способность общения, облекается в звуки, или буквы. Тогда невещественное слово становится как бы вещественным, пребывая в сущности своей неизменным. И Слово Божие, чтобы вступить в общение с человеками, вочеловечилось.
При основательном взгляде на слово человеческое делается понятна и причина строгого приговора Господня, которым определено и возвещено, что человеки дадут отчет в каждом праздном слове. Божественная цель слова в писателях, во всех ученых, а паче в пастырях — наставление и спасение человеков. Какой же страшный ответ дадут те, которые обратили слово назидания и спасения в средство развращения и погубления!…»
«Не для всех возможно, — говорит И. В. Киреевский, — не для всех необходимы занятия богословские, не для всех доступно занятие любомудрием, не для всех возможно постоянное и особое упражнение в том внутреннем внимании, которое ощущает и собирает ум к высшему единству, но для всякого возможно и необходимо связать направление своей жизни со своим коренным убеждением веры, согласить с ним главное занятие и каждое особое дело, чтобы каждое действие было выражением одного стремления, каждая мысль искала одного основания, каждый шаг вел к одной цели. Без того жизнь человека не будет иметь никакого смысла, ум его будет счетной машиной, сердце — собранием бездушных струн, в которых свищет случайный ветер, никакое действие не будет иметь нравственного характера и человека не будет. Ибо человек — это его вера».
О том, в чем моя вера, и чему верует, и чем жило и живет мое сердце, — и поведет здесь немудрая речь моя.
Да благословит же Господь Бог Слово немощное моих записок послужить назиданию и спасению, а не развращению и погублению ближнего моего.
Глава первая. Оптина
I. От истоков Оптинских, Саровских и дивеевских к морю вечности. — Отъезд из Оптиной. — Первое знакомство с Оптиной. — Мой сон и о. Амвросий.
Духов день — праздник Святому Духу в 1912 году пришелся на 14 мая и совпал с днем празднования коронования Императора Николая Александровича. В этот день у лесных ворот ограды нашего благословенного оптинского уединения стояло два парных козельских извозчика, выносили на них последний наш ручной багаж и сами мы в числе четырех душ выходили, со слезами прощаясь едва ли не навеки с духовной нашей родиной, бесценно-дорогой, горячо любимой святой Оптиной Пустынью.
От истоков Божьей реки Оптинской утлую ладью нашу повернуло и понесло течением временной жизни к далекому, а может быть, — то в воле Божьей, — и близкому беспредельному простору моря вечности.
Так изволися Богу. Буди воля Его святая благословенна вовеки.
И красен же был денек тот!… Кто не видел Оптиной в весеннем уборе окружающих ее безмолвие фруктовых садов, могучего ее леса, вековых ее сосен, обрамленных веселой, молодой зеленью клена, осины, липы, рябины, орешника и молодого дубняка, — всей роскоши зеленого шума и звона торжественно-радостного шествия ликующей теплом и светом весны, тому не понять великой скорби нашего сердца, обливавшей слезами заветные могилки великих Оптинских старцев на прощанье с ними, со всей духовной красотой Оптинских преданий и с красотой окружающей их природы.
Тако изволися Богу. Слава Богу за все.
И думалось мне тогда, следя задумчиво-печальным взором за убегающей из-под колес нашего экипажа святой землей Оптинской, что, прощаясь с нею, прощаюсь я и с тою бездонною глубиною хрустально-чистых вод ее и моей Божьей реки, из чьей серебристо-струйной лазури так часто невод мой извлекал сокровенные в ней сокровища духа, что уже не петь мне Богу моему хвалы, дондеже есмь, что уже не бряцать перстам моим более на десятиструнной моей псалтыри, ибо с последним прощальным поклоном Оптиной иссякнет для меня чистейший источник вдохновений и захлестнет ладью мою и меня зловещая волна житейской мути.
Но не изволися тако Богу: опять я с тобою, дорогой мой читатель, и опять есть у меня что из дел Божиих тебе поведать, а тебе послушать.
Послушай же…
Оптину Пустынь впервые я посетил в июле 1901 года. В мае того года сын мой окончил курс орловской гимназии, и мы с ним решили ознаменовать начало нового этапа его молодой жизни паломничеством по святым местам.
Вскоре после первого посещения Оптиной я, выбрав свободное от хозяйственных забот время (я тогда еще жил и работал в своем имении), вновь поехал в этот великий питомник монашеского духа. Стояла глубокая, глухая осень. Пустынно было и в Оптиной, и в Шамординой и потому особенно хорошо для души, для сосредоточения ее в Боге и молитве, а где же было и молиться, как не в этих пустынных обителях?!
С благословения старца — отца Иосифа, я из Оптиной на время переселился в Шамординский монастырь собирать материалы для задуманного мною жизнеописания великого Оптинского старца о. Амвросия, основателя Шамординской обители. На третий или четвертый день пребывания моего в Шамординой заболели у меня глаза, я не обратил на это внимания, авось пройдет, и весь отдался захватившему меня делу. И вот, набегавшись за день по монашеским кельям и наслушавшись рассказов о недавнем прошлом Шамординой, тесно связанном с памятью о. Амвросия, я, поужинав и попив чайку в гостинице, лег спать и заснул крепчайшим сном. Проснувшись от рези в глазах слишком рано, я под утро вновь забылся легкой дремотой и увидел такой сон: иду я будто по прямой, широкой, мощеной круглым булыжником улице; по обеим ее сторонам проведены канавы, через них перекинуты мостки, и против каждого мостика вдоль всей улицы небольшие деревянные домики под тесовыми крышами, все фасадом в три окошечка на улицу. Между домиками тесовые заборы с воротами и калитками; за заборами дворы и садики — все в одном старинном провинциальном вкусе наших захолустных провинциальных городов. Улице и конца не видно… Иду я по середине улицы и вижу, что вся ее мостовая густо устлана цветами свежевысушенного, зеленого, душистого сена. Иду я и, на каждом шагу нагибаясь, большими охапками собираю эти ароматные цветы, и так цветов этих много, что весь я с головы до ног осыпаюсь ими. Смотрю: у калитки одного из тех домиков стоит и чего-то, видимо, дожидается небольшая, душ в семь или восемь, кучка народа; среди них примечаю одного из своих старых товарищей по гимназии. Подхожу к нему, чтобы спросить, чего он ждет, и вижу, что калитка внезапно отворяется и из нее выглядывает быстрая фигурка знакомого мне скитского иеродиакона, о. Анатолия, бывшего келейника старца Амвросия. Оглядывая всех нас беглым взглядом и увидев меня, он быстро скороговоркой кликнул меня:
— Нилуса к Батюшке.
И я понял, что «к батюшке» значило к о. Амвросию, и следом пошел за о. Анатолием в калитку, вглубь двора, где виднелся такой же, что и на улицу, дом, только размером побольше. Войдя за о. Анатолием в этот дом, я увидел просторную горницу и в ней сидящего в глубоком кресле старца о. Амвросия. С величайшей радостью кинулся я к ногам его и стал целовать его ноги, обутые в полуботики коричневого мягкого сукна; целую их, а Батюшка, чувствую, положил мне свою руку на голову, гладит ее и приговаривает ласково таково:
— Ишь ты какой! ишь ты какой! ишь ты какой!
При звуках этого любвеобильного, ласкового голоса я проснулся в величайшем умилении, а голос все еще продолжал звучать в ушах моих непередаваемой лаской. Глаза мои загноились, и я с трудом едва мог раскрыть их. Резь усилилась, и начиналось что-то вроде светобоязни. Несмотря на глазную боль, я все-таки пошел к обедне и потом чай пить к игумении. Рассказываю ей под свежим впечатлением, а она мне:
— Вы, — говорит, — видали ли когда-нибудь, какую обувь носил наш Батюшка?
— Нет, и понятия не имею.
— Тогда, — говорит, — пойдемте сейчас в его хибарку, я вам ее покажу.
В одной связи с игуменским корпусом в Шамординой находится и та келья, в которой окончил свои подвижнические, многоболезненные дни о. Амвросий. В келье этой вся обстановка сохранялась в том виде, в каком она была при его жизни, а в стоявшем там шкапчике за стеклом хранились все его носильные вещи. Матушка открыла шкапчик, достала с полки суконные ботики Старца: они были те самые, которые я целовал в утреннем сновидении, те самые до мельчайших подробностей, не исключая и цвета сукна, из которого они были сделаны… В изумленном благоговении я поцеловал их и приложил к больным глазам. Тут же в келье стоял кувшин с рудневской[238] водой; ею игуменья предложила мне омыть глаза и отереть тут же висевшим батюшкиным полотенцем, — и болезни моей как не бывало: ее рудневская вода в полном смысле слова смыла, как грязь какую.
Можно себе представить, в каком я был тогда состоянии!…
Сон этот, как оказалось впоследствии, предзнаменовал собою и предопределил всю мою последующую деятельность по собиранию цветов с духовного луга иноческого жития на Руси Святой, но, увы, уже не живых цветов, и не с цветущего луга, а из сена, хотя еще душистого, но уже убранного с луга жизни и выбрасываемого на попрание на бездушный, холодный камень улицы.
О Русь моя Святая! где ты? откликнись, отзовись!
[238] Руднево — хутор Шамординского монастыря, куда иногда любил уединяться о. Амвросий. Там по его указанию был ископан колодезь, вода которого почитается целебной.
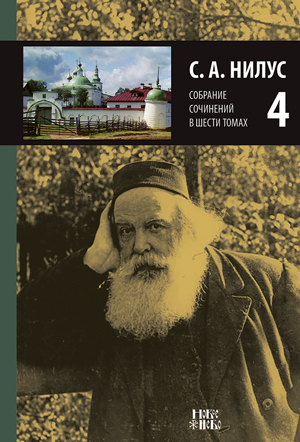
Комментировать