Язык аскезы
Духовная жизнь всегда аскетична. Существует мнение, что аскеза необходима прежде всего монахам, а миряне могут идти к Богу другим путем. Но в действительности узкий путь аскезы — один для всех: и для мирян, и для монашествующих. «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь». Но всякий ли узкий путь есть путь, ведущий к Богу? Сама по себе узость аскетического пути — не гарантия нашего спасения. Возникает вопрос, волнующий всякого христианина: как отличить истинную аскетику от ложной?
Вот перед нами человек, ведущий строгую подвижническую жизнь: посты, долгие молитвы, милостыня, воздержание, бдение и все то, о чем он прочел в Добротолюбии. Казалось бы, он вполне исправный христианин. У него есть ясная, высокая цель — спасение. У него есть необходимые для этого средства — аскетические упражнения. Они выбраны правильно, согласно Писанию: Сей род изгоняется только молитвою и постом (Мф. 17:21). Все хорошо, он становится с каждым днем сильнее, духовно богаче, ему кажется, что он все ближе и ближе к своей цели — спасению. Все добытое им аскетическими усилиями кажется ему тем сокровищем, на которое можно надеяться и опираться. Но можно ли? Это не мой вопрос, это вопрос Господа. Боюсь, этот вопрос опечалит его. Столько сил потрачено, и сокровище доброе, и цель близка. «Как же я могу расстаться со всем этим духовным богатством? Чем же мне жить? На что надеяться? Как же мне все это отдать? Если отдам свою душу, что же мне тогда спасать?» Страх этот ложный. Христос как бы говорит ему: «Я не хочу ничего у тебя отнять, Я всегда только даю, и сейчас Я стою пред тобою с даром, но Я не могу его вручить тебе, потому что твои руки заняты твоим богатством».
Это была аскеза? — Да. Но какая? Аскеза силы, аскеза духовного богатства, аскеза трезвого расчета, аскеза достижения, аскеза взросления.
Но есть иная аскеза: аскеза немощи, аскеза нищеты, аскеза доверия, аскеза отдачи и дара, аскеза тех, кто хочет стать, как дети. Но детьми во Христе не рождаются, ими становятся.
Корень первой аскезы — «Я». В ней человек, по слову Николая Бердяева, остается замкнутой монадой, ищущей спасения. Корень второй аскезы — «Ты», Христос и ближний. Имя первой аскезы — духовный эгоцентризм, это аскеза страха, холодная аскеза. Имя второй — любовь, это аскеза любви, горячая аскеза.
Из опыта святых отцов мы знаем, что такое аскеза любви в своем пределе. У преподобного Силуана Афонского, память которого мы ныне совершаем, и у многих святых мы встречаем трогательное обращение к Богу: «Господи, если возможно, спаси их вместо меня». Святой ради ближнего готов пожертвовать всем своим аскетическим восхождением к Богу, готов даже к нисхождению во ад, что есть богооставленность, то есть готов на самое страшное.
Если в духовном эгоцентризме мы видим бегство от страха, то в аскезе любви мы видим готовность ради ближнего согласиться на страшное. В этом добровольном отказе от главной цели аскетики и от самой аскетики — вершина аскетики, любовь.
Мы увидели предел аскетики. Это духовное состояние совершенных, обожившихся людей, святых. Но это предел без предела.
«Поистине невозможно человеку, — говорит преподобный Исаак Сирин — в шествии своем достигнуть предела, ибо и святые не дошли в этом до совершенства. Пути Премудрости нет конца: она восходит выше и выше, пока не соединит последователя своего с Богом. То и составляет ее признак, что постижение ее беспредельно, потому что Премудрость есть Сам Бог».
Нет предела, нет конца, но всегда есть начало аскетического пути. Оно не похоже на трудные будни подвижника, оно празднично, радостно. Сам Господь встречает нас Своей любовью, принимает нас как младенца, бережно, ласково и тихо. И в душе человека — мир, тишина и блаженство. И он смотрит на мир, как влюбленный. Отец Павел Флоренский писал: «Блаженство дается уже в начале искупительного пути, не достойно, а для бодрости, на долгий путь, на многие муки». Если в начале пути человек весь в себе и Господь пеленает его Своей любовью, как младенца, а в конце аскетического пути он умирает ради ближнего и Бог дает ему новые пелены, погребальные пелены Своего Воскресения, — он снова в полноте любви, потому что родился в новую жизнь, — то в середине своего духовного пути он начинает мучительно отрываться от себя и ощущает это состояние как тесноту, тяжесть, сухость, страдание. Он познает всем существом реальность слов Христа: В мире будете иметь скорбь, но ему только еще предстоит расслышать укрепляющий голос: Мужайтесь, Я победил мир (Ин. 16:33).
Почему в середине пути так трудно и больно? Что причиняет мне боль? — Мир и я сам. Я еще занят собой, но уже иду к ближнему и должен оторвать себя от себя. В начале человек был влюблен в мир и людей. Но в действительности он пока не научен любви: он любим Богом, но сам еще не умеет любить.
Когда начинается научение общинной жизни, все, радуясь друг другу, говорят: «Какие мы хорошие, как приятно быть вместе!» Но наступает момент, когда человек говорит: «Какие все противные!» — Я прикасаюсь к своей нищете, обнаруживаю зло и боль в себе, во мне возникает страх: все увидят меня, какой я есть, и отойдут от меня.
Здесь нужно сказать о целительности общинной жизни, о ее возможностях, которых не имеет каждый из нас сам по себе. Монахи ради спасения шли в монастыри, в пустыни. Христианин, живущий в миру, идет в общину, живет в ней. Она дарит ему ближнего, ближних, возможность увидеть себя таким, каков он есть. Ближние становятся моим зеркалом. Когда я стал отрываться от себя, чтобы идти к ближнему, это вызвало во мне боль и сопротивление. Но вдруг открывается мне тайна того, что ближний становится целителем моей души. Если я не принял ближнего как помощника мне, испугался его, не доверил ему свою боль, то есть не открыл свое сердце, то я начинаю искать спасения от боли на пути забвения, прибегая или к алкоголю, или к зрелищам и т. д. Наркотиком может стать все, что угодно, и особенно страшно то, что даже и религию можно превратить в средство моего забвения. Увы, здесь приходят на память печально знаменитые слова о религии как опиуме.
Я шел от себя к ближнему и Богу, но, так и не дойдя, вернулся к себе. Стал христианином–одиночкой, а это нонсенс. Христианинодиночка может попытаться встать на путь аскетики, но это будет аскетика страха, а не любви. Например, он может добросовестно, с увлечением прочесть Добротолюбие, вдохновиться на самый аскетический подвиг, со страстью отдаться аскетическим упражнениям, изнурить свое тело строгим постом — и ничего, кроме вреда, не принести себе. Мой духовный отец Серафим (Тяпочкин) из села Ракитного рассказывал мне с юмором: «Ко мне приносили постников, их приходилось отпаивать с чайной ложечки».
Христианин–одиночка способен даже любовь к ближнему и милосердие превратить в аскетическое упражнение, средство его спасения, о чем так хорошо писала мать Мария (Скобцова). Христианин–одиночка, даже придя в храм, где должно совершаться таинство собрания братьев во Христе, радуется, когда в нем никого нет. В книге «Беседы иконописца» архимандрит Зинон рассказывает, с каким удовольствием одна женщина поведала ему, как ей хорошо было молиться в пустом храме: никто ей не мешал.
Аскеза христианина–одиночки вредна, потому что бесплодна. Мать Мария, познавшая тайну Христовой Любви, писала: «Уничтожьте любовь к человеку, — и вы уничтожите человека, потому что, не любя его, вы его отрицаете, сводите к не–сущему». Николай Бердяев писал: «Нужна аскеза, которая приучала бы человека к общению и братству, это требует новых методов аскезы». Мы должны поставить вопрос в нашей Церкви — к этому давно уже подвела наша жизнь — о новой аскетике, аскетике общины. Язык этой аскетики — любовь.
Аминь.
Ересь жизни
Господь каждому из нас всегда предлагает выбор: жизнь или смерть.
Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие (Втор. 30:19). Человек в ужасе замирает пред этим выбором, ибо в этот момент в нем должна открыться таинственная глубина его последней свободы. Глубина эта бездонна и трагична, ибо сам по себе человек может пропасть в ней. И тогда он слышит спасительный голос: Избери жизнь (Втор. 30:19).
Спросим каждый себя: «Жив ли я? Выбрал ли я жизнь? И что мне нужно для того, чтобы вновь и вновь правильно выбирать ее?»
Если я выбираю не жизнь, то становлюсь изменником жизни, предаю ее. По слову Николая Бердяева, это есть ересь жизни — единственная настоящая ересь.
Чтобы не сделать ложного выбора, нужно всегда помнить заповедь Божию: Избери жизнь. Но что значит помнить? Держать в голове, знать умом? Мало. Помнить — это жить Богом.
Вдумаемся в то, что есть память. Память — это реакция на отсутствие. Нужно различить природную память и священную, или духовную память.
Природная память по отношению к хорошему прошлому рождает сожаление о том, что его уже нет. А по отношению к плохому она радуется избавлению от него. Но в обоих случаях она уничтожает прошлое, хоронит его, порой в очень красивой форме. Она говорит: «Прошлого нет», то есть отказывает ему в жизни. «La vita foga», жизнь убегает — сетовал Петрарка. Человеку трудно примириться с мыслью, что его прошлое исчезает. Но природная память бессильна перед временем.
Священная память побеждает время, актуализирует далекое историческое событие, превращая его в церковное «днесь». «Дева днесь Пресущественнаго раждает…», — поет Церковь каждый год на Рождество. Эта память — духовная, творческая, онтологическая, животворящая. В глубинном слое личности она творит полноту жизни. В человеке оживает все человечество. Поэтическая интуиция Максимилиана Волошина говорит об этом так: «Весь трепет жизни всех веков и рас живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас».
Священная память призвана соединить нас с Богом. Память эта есть жажда, желание человека соприкоснуться с Богом, припасть к Нему. И эта наша жажда утоляется в таинстве Евхаристии, которую мы всегда, по заповеди Христа, творим в Его воспоминание. Он просил нас: «Вспоминайте Меня». Не в том смысле, чтобы собирались и говорили о Нем, но чтобы мы реально соединялись с Ним. Память — это соединение со Христом всего нашего существа, всего нашего состава. Только священная память способна победить отсутствие и дать чаемое Присутствие, сотворить со–бытие.
А как она осуществляется в наших отношениях с ближними?
Священная память животворящая. Се, творю всё новое (Отк. 21:5). Она творит из ничего. Способны ли мы к такой творческой, обновляющей памяти по отношению к ближним? Мы всегда просим Бога сотворить вечную память о наших ушедших. А Господь просит нас не забывать тех, кто ныне рядом с нами. Он доверяет их нам, нашей священной памяти о них, памяти–любви.
Что значит память как творчество в нашей повседневной христианской жизни? Наш ближний утопает в грехах. Нетворческая реакция — реакция осуждения. Творческая память предполагает веру в него. Иисус Христос сказал об умершей девочке: Она не умерла, но спит. И все смеялись над Ним. Он сказал ей: Девица, встань (Мк. 5:41). И она ожила.
Сможем ли и мы так подумать о погрязшем в грехах человеке, что он не умер, но только спит, найти в себе такую веру в него, чтобы призвать его встать, пробудить его к жизни? Вера в человека и будет осуществлением нашей памяти как творчества.
Вторая форма нашей памяти о ближнем — это забота о нем. Заботиться — значит постоянно держать в своем сердце нужды брата, большие и малые. Заботясь о нем, мы не сможем сами прибавить ему роста хоть на локоть, но эта священная забота может устранить все внешние преграды и через разобранную кровлю опустить расслабленного к ногам Иисуса. И тогда плодом нашей заботы станет исцеление и жизнь.
Третья форма памяти — долготерпение — самая трудная. Трудная потому, что в этом случае мы сами бываем внутренне задеты, ранены недостатками ближнего. Нам мучительно трудно с ним, он нас раздражает, у нас не хватает сил терпеть его. Тогда мы не просто не хотим его помнить, мы стараемся забыть его, хотим идти на разрыв с ним, отступиться от него, словом, забыть, не помнить его.
Если мы не осуществляем по отношению к ближнему памятилюбви, памяти–веры, памяти–заботы и памяти–долготерпения, мы согрешаем против жизни, оказываемся еретиками жизни.
Мне хотелось бы рассказать об одном опыте церковной жизни, в котором братьям удалось избежать этой ереси, хотя опасность была велика. Речь пойдет о духовной заботе паствы о своем пастыре.
Пример этот может показаться необычным, потому что мы привыкли к тому, что священник заботится о христианах, а они, как овечки, принимают как должное эту заботу. Но в церковной творческой жизни возникают ситуации, когда овцы должны позаботиться о своем пастыре.
В одном из столичных приходов Латвии прихожане, пожелавшие жить общинной жизнью, воцерковиться, не встретили понимания со стороны настоятеля храма. Нужно было думать, как выйти из создавшегося положения. Прихожане — их было около десяти человек — начали с себя. Они решили пройти катехизацию самостоятельно, без поддержки настоятеля, ибо он не имел опыта катехизации и, следовательно, желания заниматься ею. Разговоры об общинной жизни вызывали у него ассоциации с сектантством, но вовсе не с истоками христианства.
Прихожане нашли духовную поддержку в тех местах, где была общинная жизнь, где совершалось правильное введение в Церковь, последовательное научение христианской вере и жизни.
Ценно, что в сознании братьев и сестер не возникло мысли о борьбе за идею против настоятеля или желания уйти от него, забыть его.
Но любовь Божия никого не забывает. «Христос любит каждого больше всех», — говорил патриарх Афинагор. Любовь подвигла прихожан бороться за своего пастыря, глубоко войти в его положение. Она не может отвергнуть брата, нуждающегося в помощи. Справедливость Бога — не справедливость человеческая, она — любовь. Бог дает нам только Свою любовь и хочет, чтобы и мы, христиане, поступали только по любви: молились с надеждой, что Бог всегда стоит у двери каждого сердца, даже когда она замкнута, и если нужно, Он будет ждать целую вечность, пока она не откроется.
«Господь, — рассудили они, — дал нам эти обстоятельства жизни, этого пастыря, этих братьев, этот храм, этот город, эту страну, и мы должны сделать все возможное, чтобы изменить все к лучшему, преобразить то, что еще не преображено любовью и терпением Христа».
Прихожане не стали противопоставлять себя пастырю, понимая, что ему тоже очень трудно, труднее, чем им самим, уже прикоснувшимся к тайне общинной жизни. «Нельзя избрать линию на разрыв, на конфликт, на игнорирование человека, — сказал один из братьев этого прихода. — Даже если в одной семье с нами больной человек, то грех на мне, когда мы провоцируем чужую болезнь. Что же сделает община для исцеления тела Церкви, если она не желает терпеть немощи этого тела? Церковь — наша семья, такая, какая она есть. Почему же мы должны быть в ней чужими друг другу?»
Мудрость святых подтверждает правильность такого пути: «Туда где нет любви, неси любовь, и ты найдешь любовь».
В наших отношениях с ближним есть путь силы, внешнего воздействия и есть путь закваски, путь внутреннего влияния. Недавно брат из этой общины написал мне: «Мне кажется, что в сердцевине всего лежит отказ от силы. Не поиск силы для совершения дела, а отречение от силы. Отказ от человеческой силы ведет к молитве. Наш Господь уже отказался от силы на Кресте ради нас. Он ждет, когда же мы также отречемся от силы ради себя и ради Него».
Братьям и сестрам открылось главное: путь силы и любовь несовместимы. Церковь наша ныне больна нелюбовью. Но силой эту болезнь не исцелить.
«Историческое христианство, — говорит Оливье Клеман, — обременено волей к власти, желанием убеждать силой. Церкви надо отказаться от власти, не отказываясь быть закваской, причем закваской во всех областях жизни. Вне всякой власти она может жить светом, иногда незаметным, иногда более явным, в зависимости от времен, стран, возможностей истории.
Надо также отбросить мысль, что мы можем извне влиять на общество: нам остается только внутреннее влияние, через умы и сердца в лучах этого света, через различные наши начинания.
Роль христианина — не бороться с секуляризацией, которая фактически уже наступила, но — делать ее позитивной, то есть давать Церкви быть закваской, а не властью, и также ставить последние вопросы бытия, на которые секуляризация не дает никакого ответа.
Может быть, Бог ждет от христиан творческой духовности, которая стала бы воздухом эпохи, незаметно меняющим общество.
Это все очень важно, потому что сегодня мы устали от христианства как идеологии группы, нации, государства. Мы устали от инквизиции, от необходимости думать о влиянии или значении: ведь мы можем быть бедными и свободными!
Сегодня, может быть, впервые в истории христиане становятся бедными и свободными. Появляется открытость малому, простоте, широта взглядов, возвращение к основам. Эта радость открывать главное, жить им в Церкви — в свободе личного выбора — великое преимущество нашего времени».
Путь закваски, внутреннего влияния оказался плодотворным для братьев и сестер рижского прихода. Своим живым отношением ко всему, что происходило на приходе, своим стоянием в любви они изменили духовную атмосферу жизни на приходе, помогли пастырю ощутить радость быть Телом Христовым, единой духовной семьей.
Наступил день, когда после Евхаристии, в которой участвовали все, настоятель сказал: «Как хорошо. Сегодня все причастились. Мы — как одна семья».
Это был первый опыт полной евхаристической радости, когда община и настоятель стали Единым Телом Христовым. Хотя путь их совместной жизни во Христе только начался, несомненно, это была настоящая духовная победа бессильных, бедных и свободных христиан на пути творения ими общинной жизни.
Когда любовь теряет из виду конечную цель — Бога и ближнего — она становится извращенной, становится силой не единения, а разделения. «От любви до ненависти — один шаг», — гласит поговорка.
Что же становится подменой Бога? Все, что не Он, все, что ниже Его. Что становится подменой человека? Все, что не он, что ниже его.
Когда христианин борется за идею, за букву, за канон, он, сам того не сознавая, впадает в «священную ненависть» и начинает бороться против человека. Самое опасное — то, что «священная ненависть» не распознается как грех, как искажение евангельского духа. Поэтому ею легко заразиться. Болея этой духовной болезнью, человек причиняет страдание ближнему, считая это полезным, крайне необходимым и оправданным. Крайняя степень этой болезни — фанатизм.
На Афоне, в болгарском монастыре Зограф, есть скорбное место — здесь во времена крестовых походов были сожжены монахи. Кем? Теми, кто боролся за идею, кто был одержим «священной ненавистью» и, вероятно, говорил в себе: «Я — истинный христианин, я так люблю Христа, что за Него я готов убивать».
Правда, которая пытается утверждать себя силой, становится ложью. Народная мудрость свидетельствует: «Правда не в силе, а сила в правде».
«Православие, — писал Николай Бердяев, — есть прежде всего ортодоксия жизни, а не ортодоксия учения. Еретики не столько те, кто исповедует ложную доктрину, сколько те, кто имеет ложную духовную жизнь и идет ложным духовным путем.
Православие есть прежде всего не доктрина, не внешняя организация, не внешняя норма поведения, а духовная жизнь, душевный опыт и духовный путь».
Человек всегда выше идеи, выше догмата, выше закона. Поэтому в стремлении изменить церковную жизнь, преобразить ее, нам следует всегда начинать с человека, с его исцеления, надо всегда помнить его, помнить памятью Бога, то есть памятью любви и сострадания.
Невозможно ради идеи благополучной духовной семьи вытолкнуть из нее больного брата и забыть о нем. Должно быть со–бытие с ним. Со–бытие — это значит, всегда помнить друг о друге. Христианству чужд индивидуализм. И если нет тебя, то нет и меня. Мы — многие — одно Тело. Но собирание разных личностей в одно тело — процесс очень трудный и драматичный. Об этом хорошо пишет брат Иоанн Калниньш из Риги:
«Когда мы, при взаимной нелюбви, которую мы не можем искоренить сами из наших отношений, при всех трудностях, обидах, при настоящей вражде, все-таки собираемся, чтобы быть вместе, делая это из любви ко Христу, то само это желание быть вместе в любви Христовой становится залогом того, что Бог творит наше собрание Телом Христовым. Порознь мы — одинокие грешники, страдающие от своих грехов, собранные вместе — страдающее Тело Христово, святая Церковь. Наша решимость собираться при всей боли, в которой мы живем, — начало принесения бескровной жертвы на Евхаристии.
Можно сказать парадоксально, что когда собираются любящие — это еще не Церковь, но когда собираются не любящие, ради Христовой любви — и Бог делает то, чего не может никто, — вот истинная Церковь».
И обретение смысла жизни в Церкви иное, иного качества, чем обретение его в одиночку. Интерес, приключения, успех переживаются в одиночку, любовь (эрос) переживается только вдвоем. Есть ценности со–бытия, которые переживаются только совместно, другим образом — нет. Таковы именно высшие ценности. Поэтому важно каждому из нас утвердиться в памяти о ближнем, в памяти со–бытия с ним, ибо Царство Божие переживается только вместе.
И если мы не стремимся к этому, не трудимся, то даже помимо своей воли становимся еретиками. Еретиками жизни, ибо ересь есть отступничество от жизни, измена жизни, противление жизни. Ближний дан мне как дар Божий, он помогает мне войти в Царство Небесное. И если я принимаю его, я избрал жизнь, я на пути Жизни. Если отверг его, то есть сделал неправильный выбор (а в переводе с греческого ересь — airesix — и есть выбор, избранный образ жизни или мысли), то я на пути смерти.
Но даже сделав правильный выбор, пытаясь принять брата, в реальном опыте церковной жизни мы порой торопимся силой исправить его, подравнять его под нашу идею, под наше понимание правил и канонов. Когда мы так принимаем брата, то не даем ему жизнь, расцерковляем его и расцерковляемся сами. Двойной урон. Даже тройной, ибо такими действиями мы саму Церковь уподобляем религиозному учреждению, механизму.
Песчинка, попадая в какой-нибудь механизм, либо перетирается им и исчезает, либо ломает сам этот механизм. Кто кого! Но вот эта же песчинка попадает в раковину. Живое тело раковины начинает обволакивать инородную частицу и постепенно она превращается в прекрасную жемчужину.
Со стороны рождение жемчужины выглядит красиво и легко, как в сказке. Но ведь песчинка, попадая в нежную ткань раковины, причиняет ей боль, ранит ее, так же как малейшая соринка в нашем глазу.
Подобно тому духовная семья, община, принимая в себя новых членов, должна обволакивать их своей любовью. Жемчужина созревает постепенно, так и члены общины становятся братьями не сразу. И это не бывает без боли. Нужно сердечно согласиться принять эту боль, согласиться на необходимое терпение и страдание.
«В Небесном граде, — говорил один пастырь, нет ни грамма золота, который бы не прошел через горнило, там нет ни одного драгоценного камня, который не побывал бы в пламени, там нет ни одной жемчужины, которая не родилась бы в результате страданий».
Миссия православного прихода–общины
Казалось бы, в конце второго тысячелетия существования христианства мы, христиане, должны пожинать обильную жатву веры, быть единой духовной семьей. К сожалению, этого нет. Церковь Христова расколота, и проблема заповеди единства является неизменно основной прежде всего для самой Церкви, для ее внутренней миссии. Врач! исцели Самого Себя (Лк. 4:23).
Начавшееся в нашей Церкви движение общинной жизни, евхаристического возрождения свидетельствует о стремлении живых ее сил исполнить Христову заповедь единения. Общинная жизнь, развивавшаяся в катакомбной Церкви во время гонений, стала проявлять себя все более открыто в некоторых приходах Москвы и других городов в 1970–е годы.
Важной вехой в развитии общинной жизни Церкви явилось рождение общинного прихода, основанного Преображенским братством в конце 1980–х годов сначала в г. Электроугли, а затем в некоторых московских храмах. Ныне общинный приход московского храма Успения в Печатниках является ведущим в исполнении миссии церковного возрождения. Те, кто в состоянии был оценить духовную значимость опыта общинной жизни этого прихода, приняли его как возможность восполнить свои личные поиски на трудном пути возрождения церковной жизни.
Немало в нашей Церкви тех, кто нынешнее возрождение общинной жизни воспринимает как нечто вредное и чуждое духу Православной Церкви, самое слово «община» ассоциируется у них с сектантством, поэтому вызывает неприязнь. Это не отречение от слова, это уничтожение корня Церкви.
Церковь начала свою жизнь в форме общины — маленькой духовной семьи, которая несла в себе всю полноту жизни во Христе. Заменить общину приходом невозможно, потому что приход — понятие вторичное для Церкви, он не заключает в себе сущность природы Церкви, будучи более организацией, нежели организмом.
Общину созидает Евхаристия, приход создают географическое место, совокупность общин и должностные лица. Кризис евхаристической жизни связан с кризисом общинной жизни, что привело к появлению безобщинных приходов. Древний принцип Евхаристии — всегда все и всегда вместе — сменился другим: не всегда вместе и не все.
В наши дни многие христиане совершенно не понимают смысла Евхаристии, того, что, единодушно участвуя в ней, мы, соединяясь со Христом и друг с другом, становимся единым живым Телом и тем самым являем Церковь бытийно, а не на словах.
Тот, кто сегодня живет Евхаристией, а завтра отказывается от нее; тот, кто сегодня любит всех братьев и сестер, а завтра — нет, свидетельствует о разрыве в своем церковном сознании, следовательно, и о своей невозможности быть свидетелем Христа в мире.
Приступив к служению на приходе преп. Евфросинии Полоцкой в маленьком латвийском городке Карсаве в 1982 году, я реально пережил кризис общинной, евхаристической жизни. Со временем сложилась группа из местных и приезжих людей, которым постепенно открывалась тайна евхаристической жизни.
Пребывая в постоянном живом общении с пастырем и друг с другом, занимаясь духовным самообразованием и впитывая все лучшее из церковного опыта наших предшественников и современников: архимандрита Тавриона (Батозского), архимандрита Серафима (Тяпочкина), протоиерея Александра Меня, протоиерея Всеволода Шпиллера, митрополита Леонида (Полякова), о. Георгия Кочеткова, — группа стала общиной.
Когда нам открылся миссионерский опыт воцерковления, катехизации о. Георгия, мы не только оценили его, но и пожелали принять его, сообразуясь с нашими обстоятельствами жизни. Община прошла катехизацию, чтобы восполнить нашу жизнь, по–новому, глубже пережить таинство единения со Христом и друг с другом.
Моей духовной задачей было желание устроить церковную жизнь так, чтобы приход вновь обрел смысл всех таинств, в первую очередь — таинства Крещения и таинства Евхаристии, ибо он был утрачен. Нужно было отказаться от сложившейся практики вступления в Церковь — крещения без подготовки (с улицы — в купель). Не имея возможности создавать группы оглашаемых, я занимался индивидуальной катехизацией, сроки завершения которой зависели от степени внутренней готовности катехумена принять крещение.
Наша небольшая община, единственная пока на приходе, всегда была и ныне открыта для всех, кто желал общаться с нами, она редко пребывает только в своем составе, но всегда увеличивается за счет гостей. Живя с нами, братья и сестры сами берут из нашего скромного опыта церковной жизни все, что им кажется полезным. Дух общинной жизни передается в живом общении с приезжими братьями и сестрами, оценивается ими положительно и побуждает их к созданию новых духовных семей в тех приходах, откуда они приехали.
Вначале с какого-нибудь прихода приезжают один брат или двое–трое; поживут в нашей общине. Напитавшись духом единения они, возвращаясь к себе, начинают свидетельствовать узкому кругу единомысленных и единодушных о новом для них опыте церковной жизни. Слушатели, принимая их свидетельство, приезжают в нашу общину уже маленькой группой. Всем им становится очевидно, что нужно прекращать жизнь христианина–одиночки и начинать учиться жить вместе, как заповедал нам Господь.
Вопреки возможному несочувствию их пастыря к созиданию общинной жизни на приходе, евхаристическому возрождению, они берут ответственность за свое воцерковление на себя, находя в лице нашей общины и в лице братьев и сестер общинного прихода храма Успения в Печатниках помощников и сотрудников. Наша община помогает им провести самый трудный третий этап оглашения — таинствоводственный, во время которого совершается семь Евхаристий, проводятся беседы о таинствах Церкви.
Таким образом в Латвии родилось уже несколько общин в необщинных приходах. Это чудо: в необщинном приходе рождается община. Один известный всем нам иконописец наших дней сказал: «Если перед Вами плохо написанная икона, нужно молиться вопреки иконе».
Пребывая в своем необщинном приходе, родившаяся община предстает в храме пред Богом как духовная семья, являясь для прихода закваской общинной жизни. Их миссия становится незаметной, они проповедуют своей жизнью, никому ничего не навязывая, но те, кто жаждет постоянного общения друг с другом во Христе, сами замечают их и вступают с ними в общение.
Разумеется, нормально, когда общинный приход рождает все новые и новые общины, создавая общинную грибницу, и мы радуемся такому, пока редкому в России, опыту братьев и сестер храма Успения в Печатниках в Москве. Мы к этому должны прийти повсеместно в нашей церковной жизни.
Возрождение общинной жизни, соборности в нашей Церкви началось снизу, а не сверху, и это — добрый признак того, что оно выстрадано и жизненно.
Теперь мне хотелось бы привести свидетельство Иоанна (Яниса) Калниньша, брата из рижской общины, которая проходила свой третий этап оглашения в нашей общине:
«Могу ли я что-то говорить об общинной жизни? С формальной стороны наша группа уже закончила оглашение, а община еще не родилась — сейчас время пустыни.
И все-таки, думаю, определенное знание об общинной жизни, личный опыт переживания ее у меня и у других есть — община уже родилась в сердцах, и теперь рождается — и когда мы будем, каждый, выбирать для себя жизнь в общине, мы будем это делать зряче, зная, что мы выбираем.
Единство братьев и сестер, прежде чем стать актуальной данностью, долго вынашивается в сердцах. Думаю, каждый много над этим потрудился в себе, внутри.
Во время нашего оглашения, еще во время первого этапа, мы в нашей группе часто забегали вперед: нам хотелось быть общиной уже сейчас, теперь. Многие из нас пришли в группу, уже будучи крещеными и причащающимися, другие (те, кто во время оглашения был крещен или перешел в православие из другой конфессии — Елизавета, Иосиф, Петр) довольно быстро почувствовали потребность присоединиться к телу Церкви… Иногда мы удивляли наших катехизаторов. Например, когда единодушно потребовали перевода всей группы на второй этап и взяли ответственность за двух сестер — Елизавету и Валентину, — которые к нам присоединились совсем недавно, но которых уже нельзя было оставить.
Была решимость покрывать чужие немощи. Катехизатору (это был Вадим) ничего не оставалось, как пойти у нас»на поводу».
Меня всегда восхищало, что мы не выбирали друг друга (по общности интересов, личной склонности, близости характеров, возрасту и т. п.), нас собрал Господь такими, какие мы есть, очень разными. Я пришел в группу, не имея дружеских связей, никого не зная…
Изначально наше общение уже было узким путем, тернистым и радостным. Меня восхищала эта способность, которую дает Христос, — любить не по выбору, эта тайна христианской любви, изливающейся на всех.
И в то же время сразу отношения с каждым из членов группы становились личными, особыми,»своими», приобретали интимную глубину (хотя бы потенциально).
Каждого знаешь в лицо и по имени, интимно. И было большое желание углублять эту интимность, достигать дружеских отношений, избранности. Это как бы желание взыскать в брате друга, желание достичь еще большей избранности — чтобы как каждый из нас был избран Христом (и в этом качестве мы и встретились в группе), каждый стал избранным и для другого; чтобы я избрал брата для себя так же, как избрал его Христос, и чтобы эта тайна Христова повторилась между нами, братьями.
Пожалуй, для оглашаемого такие задачи были трудноваты. Было желание сердца, человеческое ожидание, но были и собственные грехи, немощи, которые разрушали многие надежды. Часто мне в группе было очень тяжело… Преображение отношений (это было и личным и общим событием) наступило во время третьего этапа и примерно двух предшествующих недель, которые как бы срослись с ним, были его ожиданием, постом. Мы все, 14 человек, включая двухмесячную Марию, приехали в Карсаву, и третий этап начали на Преображение.
То, что мы не могли своими силами, то совершил Бог в эту неделю. То, что отягощало совместную жизнь и общение, усталость от взаимных недостатков — оказалось маловажным, стало таять, исчезать. Как бы что-то ожило, открылся животворный источник, повеяло Духом Животворящим. Конечно, здесь самое важное — семь литургий вместе. И этот дар нам был дан. Кровь Христова очистила, преобразила, оживотворила нашу общность. Можно сказать, что каждый причащался вместе с каждым, каждый причащался столько раз, сколько причащались все его братья и сестры. Значит, все — уже одно Тело.
Жизнь в общине — это жизнь преизбыточествующая, жизнь не одною жизнью (своей), а многими. Спрашивают, не ограничивает ли община личной свободы. Но для меня самое тягостное рабство — рабство у самого себя, то есть жизнь нетворческая. В общине ты избавлен от этого рабства, в общине — жизнь творческая, дана возможность постоянного обновления (если только ты сам не станешь спать), возможность неограниченно учиться друг у друга; видеть в других лучшее, чем то, что есть у тебя, стремиться к этому лучшему; возможность восполнять чужие немощи и самому находить восполнение в братьях и сестрах, вместе решать новые задачи.
Жизнь в общине раскрывает ту же тайну, которой жива Церковь, семья, брак — тайну Святой Троицы, тайну единства (единосущие при различии лиц).
Тайна Божия становится тайной человеческой, моей и моих братьев и сестер, нашей с ними внутренней. Именно в общине можно научиться, узнать, что такое Церковь и что такое человеческая дружба. Это догматика, сведенная в повседневную жизнь, будни; созерцание, перешедшее в деятельность; Евангелие, написанное в сердцах, благодатная жизнь, Богочеловечество.
В общении с братьями и сестрами постигается тайна самоотречения,»потери, погубления души своей…»,»полагания души за други», вольной смерти.
Хочу засвидетельствовать еще об одном чуде, которое я наблюдал в нашей группе–общине. В братском общении, благодаря ему и параллельно с ним, получает расцвет личная мистика, интимное приобщение тайнам Божиим.
Тайны Божии постигаются в повседневности, здесь, рядом. Вдруг, происходило, что брат или сестра»отверзали уста»и в немногих словах произносили что-то такое, что слышавших приводило в тихое изумление. Произнесенные слова были продолжением каких-то общих разговоров, которые ранее велись. Эти слова — плод общения не умов только, но общения сердец. Общая жизнь, общая приобщенность тайнам переливалась в каждого и продолжала жить в нем, даже когда пространственно мы были разделены».
О евхаристическом возрождении
Заповедь Иисуса Христа о единении — да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино (Ин. 17:21) — исполнилась в день Пятидесятницы, когда Его ученики совершили в Иерусалиме первую Евхаристию.
Апостолы в этом таинстве познали Христа как Жизнь — по слову о. Александра Меня, «полнота единения с Господом и между собою стала для них реальностью». Через Христа, через Евхаристию произошло становление собравшихся в одно тело (1Кор. 12:13).
Это единство, которое не может быть установлено человеком (единство снизу), исходит от Бога, это единство свыше. Именно в Теле Христовом Бог собирает и являет народ Божий, именно в Теле Христовом мы обретаем истинную жизнь. «Глубокое и таинственное общение существует между нами: причащаясь Святым Дарам в Церкви Божией, мы вступаем в общение с Отцом через Сына в Духе Святом. Поистине усыновленные в Сыне, мы таинственно и реально стали братьями друг для друга», — говорил патриарх Афинагор.
Природа Евхаристии на протяжении всей истории христианства осталась неизменной, но изменилось наше отношение к «таинству таинств». Ныне у многих нарушено экклезиологическое восприятие Евхаристии. Евхаристии регулярно совершаются в наших храмах, в монастырях и некоторых городских храмах даже ежедневно.
Однако несмотря на все это, по слову протопресвитера Александра Шмемана, «Евхаристия в реальном смысле отсутствует в нашей жизни. И в этом»отсутствии»коренится трагедия Церкви в наше время». Однажды после Евхаристии я спросил женщину: «Вы сегодня были в Церкви или в храме?» Она поняла вопрос и ответила: «К сожалению, я была сегодня только в храме».
В храме, где совершалась Евхаристия, молилось человек тридцать. К Чаше приступило человек десять, остальные только посмотрели на то, как причащаются другие. Женщина, о которой идет речь, была в числе непричастившихся.
В конце Евхаристии непричастившиеся пели со странным воодушевлением: «Видехом свет истинный, прияхом Духа небесного…», то есть благодарили за вкушение Тела и Крови Христовых, которые они вовсе не вкушали. Это звучало фальшиво, как благодарность хозяину дома за чай, который мы не пили у него. Мы воспринимаем ныне Евхаристию не как таинство единения, а как таинство индивидуального спасения. «Христиане хотят, — писал Н. Бердяев, — не столько реального изменения и преображения своей природы, сколько отпущения грехов».
Наше нынешнее церковное сознание крайне индивидуалистично. Ныне мы почти не видим воплощенного в евхаристической жизни древнего правила: «всегда все и всегда вместе», оно заменено другим «не всегда все и не всегда вместе». Мы сейчас почти никогда не бываем вместе, но каждый за себя и для себя. Нигде в чине Евхаристии не сказано о причащающихся и непричащающихся, но в нашей евхаристической практике это разделение давно уже существует. Древнее церковное сознание знало, почему надо быть всегда вместе собранными на одно и то же. Это основной принцип церковной жизни, он вытекает из самой природы Церкви. По слову прот. Николая Афанасьева, «каждый крещен в»одно Тело», и он не может существовать без этого Тела. Отдельное»я»не может существовать вне Церкви, так как оно всегда предполагает»мы», без которого»я»не может быть, так как»мы»первичнее»я». Евхаристия есть»мы», в котором состоит каждое»я»и через которое оно существовало в древней Церкви».
Евхаристия есть выражение нашей жизни в Церкви, поэтому мы должны сознавать ее как жизнь и делание.
«»Я иду в Церковь», — писал прот. Александр Шмеман, — это значит, я иду в собрание верующих, чтобы вместе с ними составить Церковь, чтобы быть тем, кем я стал в день крещения, то есть членом — в полном и абсолютном смысле этого слова, членом Тела Христа<…>Я иду явить и засвидетельствовать перед Богом и миром тайну Царства Божия, уже»пришедшего в силе». Оно пришло и приходит в силе — в Церкви. Вот тайна Церкви, тайна Тела Христова: Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18:20). И чудо церковного собрания в том, что оно не»сумма»грешных и недостойных людей, составляющих его, а Тело Христово. Как часто мы говорим, что мы идем в Церковь, чтобы получить от нее помощь, благодатную силу, утешение. Но мы забываем, что мы и есть Церковь, что мы ее составляем, что Христос пребывает в Своих членах и что Церковь не вне нас, не над нами, а мы во Христе и Христос в нас. И не в том христианство, что оно каждому дает возможность»личного совершенствования», а в том, прежде всего, что христианам дано и заповедано быть Церковью — народом святым, царским священством, родом избранным (1Пет. 2:9), являть и исповедовать присутствие Христа и Его Царства в мире».
В Церкви нет и не может быть отдельных действий — вот неизменный закон ее жизни, вытекающий из ее существа. «Отдельный христианин не принадлежит Христу, — говорит прот. Николай Афанасьев, — так как Ему принадлежат все вместе, когда они члены Его Тела, которые не могут жить и действовать без других. В этом был один из соблазнов для эллинского сознания, которое его не преодолело для себя, но внесло индивидуализм в христианство».
Идя на поводу индивидуализма, современная евхаристическая практика предпочла сослужение некоторых, но не служение всех, что сильно нарушило евхаристический характер церковных собраний. Христианин ныне не пребывает в своем достоинстве священника, потому и вопрошает: «Кто сегодня служит?» Он все возложил по существу только на священника, который служит для народа или за народ, а сам пребывает в состоянии пассивной принадлежности к Церкви, удовлетворяясь присутствием на Евхаристии и редким причащением.
Первоначальная и древняя Церковь не знала абсолютной принадлежности к Церкви, а знала только конкретную принадлежность к ней. Пребывание или непребывание ее члена в Церкви зависит от его участия или неучастия в Евхаристии — таинстве исполнения Церкви и исполнения членства Церкви. Нельзя состоять в Церкви без участия в одном определенном евхаристическом собрании. С точки зрения школьного богословия совершение Евхаристии в пустом храме или полном, но без причастников, не ущербляет таинство, не лишает его действенности. В действительности эта точка зрения свидетельствует о глубоких переменах, происшедших в церковном сознании, и означает утерю правильного понимания Евхаристии, Церкви.
Члены Тела Христова не хотят быть организмом, духовной семьей, то есть не хотят жить в Истине. Они не отдают себе отчета о ценности и значении Божественного дара — Евхаристии — и пользуются им неправильно. Грех в том, что человек этот дар хочет «украсть» для удовлетворения индивидуальных переживаний в ущерб осуществлению истинной цели. Семя, не ставшее деревом, — дар без плодоношения. Мое причащение имеет смысл только в контексте общения с другими, в контексте общины.
Когда у пастыря нет общины, нет духовной семьи, а есть приход, то невозможно совершить Евхаристию. Дело не в количестве молящихся: община может быть очень маленькой — три человека, десять, тридцать. Но важно, чтобы члены ее знали друг друга и пребывали в любви.
Совершая Евхаристию без причастников, порою сам не допуская желающих участвовать в ней, как это нередко бывает у нас, например, на Пасху, предстоятель занимается самопричащением, которое разрушает смысл таинства. Тайная Вечеря без апостолов немыслима. Евхаристия есть божественная общенародная служба. Слово «литургия», или «лейтургия», происходит от греческого слова «лаос», что означает «народ», и от «эргон» — «дело», «служба». Каждый верный в Церкви является священником Богу и Отцу своему (Отк. 1:6).
Духовник Спасо–Преображенской пустыни под Ригой архимандрит Таврион всегда побуждал и словом, и действием к единению всех молящихся с ним. «Вот это характер апостольской Церкви, когда в храме все люди как один поют, молятся и причащаются», — так всегда он говорил в своих живых проповедях.
Священнодействие совершается на Евхаристии не личной молитвой, а когда все вместе собираются в Церковь, все молятся, все сознательно и реально участвуют в священнодействии. Предстоятель должен молиться не вместо народа, а вместе с народом. Вот почему опущение совместных молитв в таинстве Евхаристии и превращение их в тайные является недопустимым. Они вовсе не тайные, а явные, в них постоянно повторяется слово «мы», что означает совместную молитву предстоятеля со всем собранием верных. Разве предстоятель в молитве: «Нас же всех, от единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого Духа причастие…» молится за себя? Это молитва всего собрания, самой Церкви о собирании Церкви — Тела Христова.
В древней Церкви все молитвы литургии произносились вслух в согласии с их прямым смыслом и содержанием, практика же чтения некоторых молитв про себя, тайно, утвердилась в Церкви поздно. Только к VIII веку она становится всеобщей.
«Великая, таинственная сила»тайных»молитв священника, — писал мне член моей общины, — несказанно способствует концентрации молитвенного внимания и просвещению сознания возвышенным чувством дыхания Промысла Божьего, реальному ощущению присутствия в храме светлых небесных сил, истинному объединению молящихся душ через священника в алтаре как через общий духовный центр. Пастырь и паства — как единое тело — обретают неповторимую исполненность, возрастает глубина и насыщенность тишины в храме во время их чтения, просветляется и както благоизменяется физическое время. Естественный ритм движения антифонов и ектений не нарушается искусственными замедлениями на пении»Господи, помилуй»или»Тебе, Господи»; определенное содержание и отличие каждых из них становится более очевидным, так же как и смысл заключающих их возгласов иерея. Диалог в едином духовном устремлении священника и паствы предстает во всей полноте от самого начала литургии, имея, конечно же, особое возвышенное проявление, подлинную мощь словесной службы во время анафоры.
Трудно молиться без чтения вслух этих молитв. Возникает убедительное ощущение нехватки самых вершинных смысловых моментов службы, вне сознания проходит глубинная связь и последовательность некоторых ее частей, например, после»Достойно есть».
Но главное — в них несравненная высота и Абсолютная Мудрость, явленная в словах, слышание которых сердцем молящегося делает строй его души несказанно облагодатствованным и глубоко готовым к Евхаристии».
Нельзя искать возрождения евхаристической жизни, как это делают некоторые христиане, на пути учащения причащения отдельных членов Церкви. Индивидуальное причащение остается индивидуальным актом, не священнодействием Церкви. По слову Вл. Соловьева, «отдельный человек, оставаясь и утверждаясь в своей отдельности, не находится в Истине и ума Христова не имеет».
Дело не в том, чтобы отдельные члены Церкви чаще причащались, а в том, чтобы вернулось осознание сущности Евхаристии как Трапезы единения и любви.
Вопрос к пастырям о том, как часто нужно причащаться — это вопрос одиночки, человека, живущего вне духовной общины. Тот, кто живет в семье, не спрашивает, когда ему нужно есть: хозяйка дома поставляет трапезу ежедневно. Так и человек, живущий в духовной семье — общине — участвует в Трапезе Господней всегда, когда его собратья собираются в храм на Евхаристию. Христианин, живущий вне общины, не имеет такого евхаристического опыта, не сознает себя в Церкви, он занят «спасением» своей души и в христианстве видит прежде всего религию «личного спасения».
Это человек, сузивший свою веру и духовную жизнь до себя, забывший или не знающий сущности Церкви.
Если мы хотим действительного возрождения евхаристической жизни, мы должны обрести понимание Церкви как Евхаристии, как организма любви. Сознательное участие в таинстве Евхаристии само отменит неверный вопрос о режиме причащения. В Церкви всегда есть те, которые понимают и с особой силой переживают космическое, всеобъемлющее призвание Церкви, и с ними связаны надежды евхаристического возрождения.
Церковное возрождение должно начаться тихо и медленно, в очень маленьких группах людей, опытно познавших тайну Евхаристии и тайну братского единения во Христе.
Не в пышности и многолюдстве, а в небольшой иерусалимской горнице, в теплой семейной обстановке принял Иисус Христос своих учеников и разделил с ними Трапезу любви.
Ныне нужно восстановить опыт Церкви как общины, возродить в сознании верующих исчезнувшее понятие общины, ибо уже давно в нашей церковной жизни община как бы растворилась, стала приходом, внешним собранием.
Когда появятся евхаристические общины, живые духовные семьи, находящиеся между собой в братском общении, в котором каждая личность открывается для своего брата как дверь к Отцу Небесному, то вновь, как в апостольское время в древней Церкви, каждый христианин почувствует себя во Вселенской Церкви, живущей чудом единства. Евхаристия всегда пребудет увенчанием этого единства.
Подвиг ученичества
Слова «подвиг», «ученичество» вызывают у нас привычный образ лестницы: необратимое движение вперед и вверх, последовательное восхождение по ступеням. В идее лестницы мы находим план, расчет, программу, гарантию, и все выглядит благополучно, удобно, хотя и трудно, поскольку совершаются усилия восхождения, но они обязательно должны вознаградиться. Дойти бы только до последней ступени… А где она? Какая она по счету? Было бы очень успокоительно знать, что тебе осталось пройти 613 ступеней, а завтра — уже 612, и когда-нибудь их останется 10, 9, 8…
Но дают ли нам эти гладкие образы понять и уяснить великую идею христианского ученичества? Очевидно, нет. Весь опыт нашей церковной жизни показывает, что христианское ученичество — это не мерное восхождение по ступеням, а скорее — падения и взлеты, умирания и воскресания, хождения по водам.
Познать тайну христианского ученичества жизненно необходимо каждому из нас.
Как становится человек учеником Христа и чему и как он учится в школе Христа, мы видим из Евангелия.
Учиться в этой школе приглашает нас Сам Христос. Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; Возьмите иго Мое на себя, и научитесь от Меня… (Мф. 11:28-29).
Иисус Христос приглашает к Себе, но не приневоливает, ибо Он всегда общается с человеком на расстоянии двух свобод. Христос приглашает к Себе человека затем, чтобы тот познакомился с Ним и понял, что Он есть Жизнь и без Него нет Жизни.
Призваны быть учениками все, но Его любовь может и привлечь человека, и отпугнуть. Когда человек начнет учиться у Христа — это тайна его сердца. Именно отклик человеческого сердца на призыв Христа и становится единственным «вступительным экзаменом» для поступающих в школу Христа. В сердце нужно встретиться со Христом, то есть потянуться к Нему всем своим существом, полюбить Его и пожелать соединения с Ним навсегда.
Но как человек узнает, что он принят в школу? Если он остро ощутит, что глубоко любим, так любим, как его не любил и не полюбит никто в этом мире: ни мать, ни отец, ни жена, ни дети, ни братья и сестры, так любим, что невозможно устоять перед этой любовью, — это и будет означать, что он принят в школу Христа, что на отклик его сердца Христос сказал: «Следуй за Мной».
Какова главная цель обучения? Всякая учеба — не самоцель, а подготовка к чему-то, к какой-то другой жизни, в основном профессиональной.
Здесь главным тоже является подготовка к жизни, но жизни иной, вечной. Поэтому внешние предметы в этой школе — а их, как во всякой школе, много — составляют лишь фон.
В школе Христа нет ставки на умственную выучку, ученик Христа осознает себя не искателем теоретической истины, а человеком, желающим научиться жить со Христом, быть с Ним всегда. В этом — разительный контраст: в земной школе учатся, чтобы уйти от учителя и зажить своей самостоятельной жизнью, а в школе Христа — для того, чтобы навсегда остаться с Учителем. Ученики Иисуса Христа не могут оставить своего Учителя, потому что связаны не с Его учением, а с Его личностью.
Он — Жизнь, без Него нет Жизни. Одна уверовавшая во Христа женщина выразила это недавно очень просто в своей молитве: «Господи, давай жить вдвоем».
Каков же Учитель в этой школе, что ученики ее стремятся познать не столько предмет ее, сколько Его Самого? Земных учителей мы оставляем, небесного нашего Учителя мы оставить не можем, потому что Он — совершеннейший Учитель, Которого превзойти никому не дано, и потому мы учимся у Него всю свою жизнь. Его учение не ветшает, но пребывает вовеки. Среди земных учителей — рабби, философов — Он выделяется как явление исключительное не столько потому, что не имел выучки у другого учителя, а потому, что учит как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи (Мф. 7:29).
Главный предмет школы — Любовь. Ученики Христа постепенно познают тайну Его любви. Что поразило учеников во Христе? То, что Он любит всех.
Законнического деления людей на чистых и нечистых, достойных и недостойных, у Христа нет. Никто не отвергнут Им: ни самарянка, ни блудница, ни мытарь. Все люди были Ему братьями и сестрами, были возлюбленными Божьими детьми, которые потеряли свой путь и которых Он пришел взыскать.
Блудницу, эту несчастную женщину, ее соплеменники отвергли и хотели по закону предать смерти за тяжкий грех. Но Христос не осудил ее, а помиловал. Спрашивается: а за что Христос ее полюбил? Не за грех, не за блуд. Своим поведением Он говорит: То, что ты делаешь, Я ненавижу. Это мерзость, это зло, это уродство, поругание красоты. Но это не ты. Грех — это не твоя природа. Твоя природа — это образ Божий. Я его люблю и хочу, чтобы он был всегда чистым и ясным. Иди и не греши.
Обвинители блудницы поступали по закону, но Христос — выше закона, и человека Он ставит выше закона. На наших глазах человек возвышается, и закон отступает. Жизнь, человек предпочитаются закону, идее справедливости и добра, отвлеченной и бессильной. Это было настоящей революцией в истории человечества, и люди до сих пор не в силах принять ее вполне. Суббота для человека, а не человек для субботы, — говорил Христос. Но и Евангелие, и наша жизнь показывают, как часто люди из любви к правилу, букве впадают в «священную ненависть», забывают о человеке и готовы убить его — как им кажется, во имя Христа. Христос претворял преступление в любовь, а мы способны превратить любовь в преступление. Не потому ли Гоголь писал о «грусти оттого, что не видишь в добре добра».
Архимандрит Серафим (Тяпочкин), известный белгородский старец, верный ученик Христа, умел смотреть глазами Христа, глазами Любви на согрешившего человека. Он видел прежде всего не грех, не тяжкий проступок человека, а его страдание и его муку. Сердце его исполнялось жалостью к согрешившему, и он начинал усиленно за него молиться.
«Когда Бог глядит на человека, — говорит митрополит Антоний Сурожский, — Он не останавливает Своего взора на зле и на недостающем в нем, потому что для того Сын Божий стал человеком, чтобы искупить человека, исцелить человека, вернуть его к той полноте бытия, к которой он призван. Он не глядит также на добродетели наши, потому что добродетелей у нас так мало, да и добродетель не наша, потому что все добро, что в нас, — это дары Божии; но Он глядит в глубины нашего естества, в те глубины, где отпечатлен Его образ, в те глубины, где этот образ живет и трепещет тем дыханием Божиим, которое Он вдохнул в нас. Эта связь между Богом и человеком не прерывается никогда».
Имея издревле заповедь любви, до Христа люди не знали в полной мере, что значит Любовь. Христос Своей жизнью явил ее, Любовь абсолютную, Любовь безусловную, Любовь неизменную, которая не ищет своего. Только такая Любовь в силах прервать бесконечную цепь зла, способна перевести людей в другой план жизни.
Когда мир слышит об убийствах, террористических актах, то христиане должны понимать их как крик о помощи заблудших детей Божьих, крик, неосознанный ими самими, вырывающийся из их душевного подполья.
Только ученики Христа, только в школе Христа, а не на страницах газет или по радио или телевидению нам правильно объяснят происшедшее и покажут истинный путь из нравственного тупика.
«Меня не любили, меня мало любили, меня обижали, меня не научили любить. А я хочу любви, хочу жизни», — вот что мы должны услышать в этих выстрелах и взрывах. Юридический закон глух к этому крику. Он не может дать просимую в такой парадоксальной форме любовь. Вместо нее он дает оковы, тюремную решетку, иногда — казнь.
Христос дает нам Свою любовь, не имеющую ни границ, ни предела, освобождающую от рабства правилам, и делает возможным то, что невозможно для закона.
В школе Христа сердце ученика начинает расширяться, и у него появляется жажда ближнего.
О ней хорошо сказал патриарх Афинагор в своих беседах с Оливье Клеманом: «Мне нужен другой, чтобы осознать собственное мое существование и существование Божие. Мое самосознание проходит через другого, самосознание, которое я воспринимаю от Бога как и познание моего ближнего. Мы стремимся соединить то и другое и совместно находим»центр, где сходятся все лучи»».
Ученик Христа понимает, что без ближнего, без служения ему нет пути в Царство Небесное, — только мой ближний, которому я должен служить всей моей жизнью, открывает мне дверь в Царство Небесное и вводит в него.
Жизнь для себя — самоубийство, только в отдаче себя Богу и ближнему мы обретаем Жизнь. «Всякий живет не для себя одного, но и для ближних; мало самому быть убежденным, если не убеждаешь и других», — писал святитель Григорий Богослов. Когда ближний мешает нам и в храме, и дома, и на улице, нужно серьезно подумать о том, что случилось в нашем сердце, почему оно слепнет.
Как часто ученики духовных школ жалуются на то, что, учась богословским наукам, все время говоря о Боге, ощущают, что сами становятся все суше и суше. Возникает конфликт ума и сердца. Один ученый монах рассказывал мне о себе:
«Я учился богословским наукам в лучших европейских духовных заведениях, слушал лекции многих знаменитых богословов. И голова моя стала очень большой, а сердце — очень маленьким, с грецкий орех. Это был конфликт, и я оказался в духовном тупике. В это время кто-то посоветовал мне поучиться в другой школе. Я оказался в общине Жана Ванье.
Однажды больной подросток лет 13–14, даун, впал в агрессию, бросал стулья, кидался на всех, и я не мог с ним справиться. Я почувствовал, что ненавижу его настолько, что готов убить его, изрезать на куски. Я понял, что во мне сидят и Гитлер, и Сталин. Я не знал, что делать с собой… Вдруг сзади кто-то подошел ко мне, обнял меня за плечи и поцеловал. Это был разбушевавшийся мальчик. Он как бы сказал мне:»Ты такой же больной, как и я. Со мной можно говорить только на языке любви». Так в этой школе любви я исцелился».
Христос дает Своим ученикам заповедь совершенства: Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный (Мф. 5:48). Он Сам воплощает ее Своей жизнью.
«Слишком часто христиане, — со скорбью говорит митрополит Антоний Сурожский, — остаются недорослями, благочестивыми, чистыми жизнью, но недорослями в том смысле, что в них две–три струнки звучат, а не весь орган… Но нам нужны люди расцветшие, люди, живые до глубин, которые могут в других родить жизнь».
В чем наше совершенство? Пытаясь воплотить в своей жизни евангельскую абсолютность, мы часто обманываемся, сводя подвиг совершенства во Христе к норме и правилам нашей жизни. Мы как ученики прилагаем усилия, чтобы добиться результата в нашей личной и общественной молитве, в посте духовном, душевном и физическом, в служении ближним.
Но совершенство Отца невозможно мыслить как норму, правило для грешного мира, потому что оно абсолютно. «Совершенство Отца Небесного, — писал Н. Бердяев, — ни к чему не относится и неприменимо, как правило».
По слову апостола, нас закон не может сделать совершенными (Евр. 10:1). Закон всегда относится к греху, совершенство всегда относится к Богу, к Его любви.
Совершенство не исполнимо, как правило, потому что оно абсолютно. Ученик должен прилагать много усилий, много учиться внешнему и внутреннему деланию, но у него не должно возникнуть самонадеянности, чувства самодостаточности, которые разрушают до основания духовную жизнь и смысл ученичества. Случаи падения святых мужей порой даже в конце их духовного пути ясно показывают, что в христианстве нет никаких гарантий. Что же, все наши усилия тщетны? Нет, ни одно доброе дело, ни одна святая молитва, ни одна слеза ученика Христа не пропадают, они запечатлеваются в Книге Жизни. Но страницы ее остаются тайной до тех пор, пока не будут сняты с нее все печати. Потому каждый новый день ученик должен начинать так, как будто в этой Книге о нем еще ничего не написано. Читая утреннюю молитву оптинских старцев, он может произнести в своем сердце: «Господи, хочу святого дня!»
«Христианин, — по слову митрополита Антония Сурожского, — должен постоянно следить за собой и постоянно себе напоминать, что он ничто, если им не руководит Божия благодать, и что Божия благодать ему дается не как постоянный дар, а в меру того, как он сам смиряется перед Богом, как он сам отрекается от себя и как он сам отдает свою жизнь другим, на служение… Я помню, — продолжает владыка, — отец Софроний мне как-то сказал, что Церковь построена словно пирамида, причем пирамида, стоящая вверх дном, стоящая на самом острие своей вершины. И чем человек делается ближе к Богу, чем он хочет больше себя отдавать на служение другим, тем он должен сходить ниже и ниже, глубже и глубже в этой пирамиде, и в конечном итоге вершина этой опрокинутой пирамиды — Сам Христос, на Котором все покоится, вся тяжесть мироздания, вся тяжесть человеческой грешности, все».
В земном ученичестве действует принцип «меня все больше, учителя все меньше». Учитель умаляется, уходит в тень, ученик возрастает и обретает самодостаточность, уровень, потом он сам становится учителем для других.
В евангельском ученичестве иной принцип совершенствования: «меня все меньше, Учителя все больше и больше». Участь христианина — «ученик не выше Учителя своего». Светский ученик ориентирован на наполнение и обогащение знаниями, фактами, теориями, ученик Христа, напротив, — на умаление и обнищание, и тогда он наполняется Самим Христом. «Господи, Сам во мне живи, Сам говори, Сам действуй». В светской школе — ставка на результат, в школе Христа — ориентация на стояние в любви. «Не мои умения нужны Христу», — сказал один из нынешних учеников Христа, я его свидетельство приведу в конце моего слова.
Быть всегда в любви — вот в чем подвиг ученика Христа. Христос всегда и неизменно нас любит, и наши грехи не могут отменить Его любви. Он не сводит счетов с нами. Он принимает нас такими, какие мы есть. Так и мы должны подражать Его любви, Его жизни, быть похожими на Него. Ведь святой человек — это тот, кто похож на Христа.
Христианин не может быть сегодня любящим, а завтра — не любящим, сегодня — добрым, а завтра — злым, сегодня — щедрым, а завтра — скупым. Свойство добродетели — постоянство, ее всегда можно узнать в лицо, она его не меняет.
Бритва всегда должна быть острой, христианин должен быть всегда горячим, не теплохладным, постоянно поддерживать очаг своего сердца, ибо его тепло — жизнь для ближнего. Я не имею права лишать его жизни. Я не могу сказать: пусть мой ближний сам заботится о своем очаге. Мое сердце без его сердца — словно куча хвороста без искры, которую мне должен дать он, мой брат во Христе.
Жизнь в духовной семье помогает этому горению. Рядом со мной всегда есть те, о ком нужно заботиться и всегда есть те, кто позаботится обо мне. Когда я отдаю, я богатею, и когда принимаю любовь и заботу — тоже богатею. Так в общине рождается полнота жизни, полнота любви.
Мы без любви будем только параллельны друг другу, будем людьми, занимающимися самоспасением. Но христианство не есть религия самоспасения. Из одного камня не высечешь искру.
Параллельных линий в христианстве нет, здесь есть только радиусы, которые всегда должны идти к центру, где мы соединяемся с Богом и с ближними, — тогда мы действительно пребываем в любви.
Теперь мне бы хотелось привести свидетельство ученика Христова Иоанна Калниньша из Риги о том, как он познал тайну своего ученичества.
«Для всякого верующего остро стоит вопрос о его личном отношении ко Христу. Кем я могу быть перед Богом, перед лицом Его безграничной, отдающей себя до конца любви, при моей радикальной неспособности достойно ответить на эту любовь? Как мне остаться с Ним, когда я ясно понимаю, что больше мне»некуда идти», и столь же ясно понимаю, что единственно честными могут быть для меня слова Петра:»Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный»? Я думаю, что в этом духовном пространстве и происходит ученичество у Христа.
То хорошее, что я, как кажется, имею, при проверке жизнью неумолимо оказывается подделкой. Я хочу восходить по лестнице совершенств, а вместо того все более жестоко проваливаюсь. Я дерзаю ступать по водам, но едва не погибаю; на грани погибели удерживает меня рука Христова, когда я в последний миг успеваю к Нему возопить.
Учитель может научить ученика делать то, чего тот никогда не умел и не делал. Тот, кто учится делать чертежи или плотничать, никогда не делал этого раньше. Не мои умения нужны Христу. Ученичество происходит на основе принятия друг друга. Иисус меня принял. Он меня зовет. А я? С моей стороны принятие Учителя означает молитву: внутренний взор, обращенный на Него.
Глаза подмастерья, обращенные на руки мастера, научатся ремеслу; сердце человека, обращенное на Христа, учится любить. После того, как Петр, утопая, возопил:»Спаси, Господи, погибаю», он научился молиться так, как никогда не умел молиться раньше.
Но иллюзия самодостаточности, гордость изживается с превеликим трудом. В конечном итоге она приводит к разрыву, нравственной катастрофе, крушению. Мы видим в Евангелии, какие нравственные трагедии переживали ученики Иисуса, переживали их на путях своего ученичества. На этих путях, когда случилось самое страшное, апостола Петра сохранила только молитва Учителя: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудевала вера твоя (Лк. 22:3132). Так и нас, когда наступает»власть тьмы», на путях ученичества сохраняет молитва братьев и сестер, живых и усопших, с которыми мы составляем одно Тело.
Действительно, обо всем можно сказать совсем просто: Христос учит любить. В последнем смысле — это все, что нужно. Только в любви мы можем быть вместе. Иначе быть вместе — ад.
Самое страшное, когда мы пытаемся любить без Христа. Тогда любовь становится убивающей, губящей.
Почему так неотразимы для человеческого сердца слова Писания: Бог есть Любовь? Мы способны осознать, что любовь — самое значительное из того, что мы встречаем в жизни».
Как в любой школе, в школе Христа нас тоже ждет выпускной экзамен. На нем каждому зададут только три вопроса…
Первый. Любишь ли ты Меня?
Второй. Любишь ли ты Меня?
И третий… Любишь ли ты Меня?
Таинство миротворения
Опыт зла, который человеком проживается как страдание.
Евангелист Иоанн Богослов говорит, что мир во зле лежит. Это христианское откровение отличается от восточного видения, суть которого в том, что материальный мир есть зло.
Если восточный человек просто принимает как данность то, что этот мир есть зло и единственное, что человек может делать, — это убегать от этого мира, то есть идти в некую недосягаемую для понимания сферу бытия, где эти страдания и зло уже его не затрагивают, то христианин, наоборот, призван на определенное служение в этом мире. Он понимает, что хотя мир и во зле лежит, но в своей основе он есть мир Божий. Христианин призван вырабатывать свое отношение к происходящему в мире, он не может не видеть зла. Зло есть в мире, и ему надо как-то противостоять.
Попытку противостоять злу для того, чтобы оно не становилось беспредельным, а имело какие-то свои границы, делает и государство. Оно старается эти границы положить. Но в государстве имеется такой изъян: принцип подавления и принцип репрессий, которые лежат в основе государства, и принцип страха человека перед наказанием, перед смертью, не изменяют жизнь к лучшему. Эти принципы могут ограничивать зло, но не могут искоренить его. Мы знаем из истории, что государство с его механизмами борьбы со злом не раз само становилось воплощением зла.
Иисус Христос, когда приходит в этот мир, принимает его. Он берет на Себя давление всего зла этого мира. Он соприкасается со злом во всех проявлениях, какие только возможны: непонимание, ненависть, предательство учеников, несправедливый приговор, мучения перед смертью и, в конце концов, позорная и как бы уничтожающая личность смерть на кресте.
Нас удивляет отношение Иисуса ко злу: Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5:43-48).
Прозрение, которое дает Христос на природу зла, таково: за всеми человеческими проявлениями зла стоит некая духовная сила, которую в Библии называют сатаной и дьяволом, то есть противником Бога, той силой, которая расчленяет, которая хочет разрушить, разделить, превратить в ничто дело Божие и сам Божий мир.
Действие этой силы проявляется так, что она старается ранить человека и спровоцировать его на то, чтобы энергия зла возросла в этом мире. Зло имеет волевое и энергетическое начала. Волевое начало состоит в том, что человек может выбрать зло, но может и покаяться, и тем самым отвергнуть зло. Однако совершенное им зло уже выпущено в мир, энергия этого зла продолжает действовать в нем, и вопрос всякий раз в том, кто и как сможет остановить это зло.
Если человек следует принципу беспредельной мести, которую видим, например, в образе Ламеха в Ветхом Завете, или если даже он дозирует мщение — «око за око, зуб за зуб», то все равно тяжесть этой духовной энергии, которая изливается в мир, умножается.
Эта сила способна вдохновлять людей на новое зло, она стремится к воплощению, так что могут возникать целые институты, социальные движения и идеологические системы, которые будут являть собой зло.
И вот Христос показывает, что есть только один способ не умножать зло и противостоять разгулу зла в мире: человек должен принять удар на себя или как бы вобрать это зло в себя и совершить что-то внутри своего сердца. Это и есть тот престол, на котором совершается великое таинство — таинство миротворения.
Таинство миротворения не бывает без жертвы, без страдания, без крови: человек должен вольно принять страдания, боль и пропустить их через себя, чтобы родился мир души. Но совершение всякого таинства невозможно чисто человеческими силами, потому что по–человечески на боль хочется ответить либо бегством, либо злом. И даже если во мне имеется добрая воля любить, то без Христа она может превратиться в ненависть. Таинство миротворения возможно совершить только вместе со Христом.
Мир, лежащий во зле, есть творение Божие. Это значит, что зло само по себе не имеет бытия. Все бытие, которое заражено злом, в духовном плане может быть исцелено и приведено обратно в добро, в состояние доброты.
Есть народная притча.
Является перед подвижником бес, огромный, и говорит:
— Я тебя сейчас могу проглотить.
— Это не великое дело, — говорит ему подвижник.
Тщеславный бес спрашивает:
— А что великое дело?
— Можешь ты в скорлупу ореха залезть? — говорит подвижник.
— Конечно, могу!
Бес влезает в скорлупу ореха, и подвижник закрывает скорлупу. Через некоторое время бес говорит:
— Ну, теперь выпускай!
— Я тебя выпущу только тогда, — говорит подвижник, — когда ты вспомнишь ту песнь, которую у престола Божия пел.
Бес визжит, скрежещет зубами, но все же потом начинает петь ангельскую песнь. Когда подвижник открывает скорлупу, то уже ангел отправляется на небо.
Каков смысл принятия зла на себя? Зло нужно внутренне, духовно преобразить.
С другой стороны, Христос всегда зло обличал. Христиане должны принять на себя эту смелость обличать зло, обличать все яснее и яснее, глубже и глубже осознавать корни зла, а не просто клеймить и проклинать зло.
Но и одного обличения недостаточно.
Надо трезво сознавать, как побеждали зло первые христиане: стойкостью, молитвой и словом, которое рождалось от Духа Святого. Таким же образом проходили свой подвиг противления злу многие мученики после революции в России.
Самое важное здесь то, что в молитве открывается любовь, плод любви — прощение, а плод прощения — мир.
Этот духовный труд, который человек проделывает, — молитвой и любовью, вне противления злу, — в христианской традиции и называется миротворчеством.
Христос о миротворчестве говорит глубокие слова: блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф. 5:9).
Христианство признает некое насилие над злом, но в плане внутреннем, в прогнании зла от своего сердца, чтобы самому не стать носителем зла. В этом христианство бескомпромиссно и жестко: со злом внутри не может быть никакого компромисса, оно должно быть вытравлено, выгнано из человека.
Псалом говорит о младенцах Вавилона, которые должны быть разбиты о камень (Пс. 136:9). Духовно это означает, что все злые помыслы, все страсти должны быть жесточайшим образом уничтожены в самом их начале. Без этого человек не сможет обрести мир в себе и принести его другим.
Только в той мере, в какой ему удается стяжать благодать Святого Духа, Духа мирного, он становится способным быть и творить мир.
В православной аскетике есть изречение: «Стяжи Духа Святого, и возле тебя спасутся тысячи». Это происходит не так, что человек должен что-то говорить или как-то убеждать, но самое присутствие Святого Духа действует на людей, и зло удаляется от них. В присутствии святости и Духа Святого человек может покаяться и увидеть свою неправоту.
На святого Стефана Пермского, который научился местному наречию для того, чтобы веру Христову принести этому народу, восстали жрецы, хотели остановить его проповедь, и трое из них пришли, чтобы убить его. Но они вернулись, не тронув его. Когда их спросили, почему они не уничтожили этого человека, они сказали: «Мы не могли этого сделать. Он нас встретил с такой любовью, что мы пали на колени и попросили его благословения».
Мой знакомый рассказывал, как он поссорился со своим отцом, который был деспотичным человеком. Они долго спорили. «Замолчи!» — крикнул ему отец. — «Ты мне всю жизнь рот затыкал. Молчать не буду», — ответил сын. Тогда отец взял пустую бутылку и ударил его по лицу так, что она вдребезги разбилась.
«В этот момент, — вспоминал мой собеседник, — со мной случилось что-то необъяснимое. Я схватил его, ударил, он упал на пол, а я его колотил. В один момент я взял его за плечи и сказал:
— Мне тебя убить?
Он ответил:
— А как хочешь, сынок.
И мои руки опустились. Если бы я не почувствовал то, что это действительно беспомощный человек и не услышал его голоса, я бы убил его. Потом никогда не простил бы себе, но в тот момент вспышки гнева я был как безрассудный, ярость поглотила все мое существо».
Что остановило руку сына? Вот это — «Как хочешь, сынок». Отец не сказал ему «сын», а ласковое «сынок», и это слово было услышано не только ухом, а сердцем. «Отец меня любит, несмотря на свою жестокость». В одно мгновение он освободился от ярости. Любовь победила зло.
Милосердие Божие, сначала втайне, а потом явно, приходит к нам, чтобы сотворить с нами то, что мы сами желаем сотворить всем сердцем, всей душой, но не можем.
Чтобы жить, нужно нравственно умиротвориться, ибо мы и в природе видим, что пышный расцвет является следствием тихой и ясной погоды, а не ветра и бури.
Нужно учиться твердо, спокойно и кротко принимать удары зла, не озлобляясь самому, но и не поступаясь ни йотой правды. Каждый, кто хочет идти к добру, не может миновать крестного пути. И мы должны идти по этому пути. Всегда бороться за человека и бороться против зла в нем и вокруг него. Иногда мы поступаем иначе: настроены против человека, играем со злом, оставляем ему место в себе. Но важно развить в себе способность обличать зло и грех по–христиански и никогда не утрачивать этой способности.
Ко Христу в Гефсиманском саду приближаются люди, которые были посланы, чтобы схватить Его. Когда Он говорит: «Аз есмь», они падают ниц. Если бы Христос им не позволил, не дал возможность приблизиться, зло не могло бы прикоснуться к Нему. Только когда Он Своей волей принял крест человечества и страдания, зло, казалось бы, получило власть. Христос это делает добровольно, чтобы победить зло и смерть не силою, а смирением и преданием всего Богу.
Вершина миротворчества совершается на кресте, когда Иисус прощает Своих мучителей и, умирая, говорит: «Совершилось!» Тем самым Он показал крестный путь добра.
Чтобы победить большое зло, надо сначала победить малое. Христос говорит: тот, кто будет верен в малом, тот будет верен в большом.
Что есть малое и большое зло?
Многие христианские подвижники древности говорили: «Тебя гонят — ты не гони, тебя бьют — ты не бей». Зло, которое нападает на нас, — малое зло. Зло, которое исходит из нашего сердца, — большое зло.
Существует духовный закон: Господь никогда не дает человеку испытания больше той меры, какую он может понести. Раньше, чем человек не научится побеждать малое зло, он не может духовно противостоять большому. Если человек не будет бороться с малым злом в себе, то он окажется во власти большого зла. Не в том плане, что с ним что-то произойдет. Он сам, того не ведая, может стать творителем большего зла. Когда мы малое зло с помощью Бога побеждаем, то обретаем большую свободу, и Господь вводит нас в уже большую меру служения.
Опыт церковной истории показывает: когда мы не соблюдаем Христову заповедь и начинаем со злом бороться при помощи зла, то это зло проникает в нас и мы сами становимся его носителями.
Мы знаем о борьбе со старообрядцами. Те люди, которые благословляли пытать их, уничтожать, думали, что ревнуют по Богу.
Когда человек заражается злом, грехом, то разрушается не только его духовный строй, но нарушается и его душевное устроение, страдает и его плоть, то есть он весь попадает под власть зла, испытывает какое-то непрестанное горение, но оно не радостное, а утомляющее и истощающее, оно как голод, как жажда, которые нельзя утолить. Зло само по себе таково, что его никогда нельзя насытить.
Образы адского состояния, которые дает Христос, известны людям, которые попали под власть такого зла и стали его служителями.
Попадая во власть зла, человек проходит три ступени падения. Первая ступень. Человек творит зло и мучается, потом кается. Вторая ступень. Человек начинает испытывать некую радость от зла, от того, что может доставлять страдания другому человеку. Он радуется как бы своей власти. Третья ступень. Зло становится внутренней потребностью человека, он совершает зло уже чуть ли не в виде религиозного акта. Небытие, смерть, зло, страдание, абсурд — все это неудержимо влечет его к себе. В служении злу он может стать своего рода аскетом, аскетом тьмы.
Человек ни при каких обстоятельствах не имеет права пропускать зло через себя. На мне оно должно остановиться. Это и есть непримиримое отношение ко злу. Парадоксальная диалектика: непримиримость рождает мир. Мир состоит в том, что я не пустил зло дальше. Я сам не смогу справиться, но Христос, Который во мне, остановит и попалит это зло. Я не должен его пускать через себя дальше — на ближних и дальних, на родных и чужих, на любимых и нелюбимых.
В этом принципиально отличается Ветхий Завет от Нового. Ветхий Завет знает об этой страшной силе зла, знает, что зло, грех заразны. Это знает и Новый Завет. Распространение зла подобно эпидемии, и самому человеку нет возможности остановить ее. Закон может только оградить зло, но не может уничтожить его. Ветхозаветный закон непримирим ко греху настолько, что в своей непримиримости нередко впадал в слепоту: он был готов уничтожить грех вместе с грешником.
Христос же являет совсем иную парадигму — мирного и непримиримого отношения ко злу: грех ненавидь, а грешника люби.
С грехом нельзя примиряться, грех надо ненавидеть, грешника надо любить и стараться быть с ним в мире, потому что все мы грешники и «от них же первый есмь аз». Христос нас принимает, и потому нет оснований соседа не принимать, ближнего не принимать, он ничем не хуже меня. Христос его тоже любит.
Особое коварство зла в том, что оно часто приходит к нам через самых ближних. Вот один из ближайших учеников Иисуса — Иуда, и через него войдет зло. И к Моисею идет зло через самых ближних. Удивительно поведение Моисея. Он падает на колени, молится за тех, которые говорили на него «злые слова», потому что понимает, что это бунт не против него, а против Господа.
Зло должно быть введено в какие-то границы. Есть грехи, которые недопустимы, грехи против жизни. Им надо класть предел. Победить зло в этом мире, который лежит во грехе, пока нельзя, но пределы ставить надо.
В личном плане человек не только может, а обязан остановить зло на себе, не пропускать его, он-то и должен стать живой преградой, границей, через которую зло не пройдет. Тогда он действует по образу Иисуса Христа, Который остановил все мировое зло на Себе, принял его на Себя. Сын Божий стоял насмерть, но мирно, и нам тем самым заповедал идти путем миротворчества. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены Сынами Божиими (Мф. 5:9). Достоинство и блаженство быть сыном Божьим дается тому, кто остановил на себе зло — миротворцу. Сейчас, увы, слово «миротворец» политизировалось и потому выветрилось.
Если Сын Божий, Христос, примирил Собой, кровью Своей и народы земли, и небо с землею, то и те, кто идет вслед Ему, — миротворцы — блаженны.
Мир, данный Христом, связан с единством. Апостол призывает: старайтесь сохранять единство духа в союзе мира (Еф. 4:3).
Вот сила Церкви, вот сила христианства. Настоящая сила. Не внешнее единение, которому Достоевский не верил и просил нас не верить, а единство духа в союзе мира, которое становится возможным лишь постольку, поскольку мы Дух Христов имеем в своем сердце.
Истинное служение истинному миру вызывает у людей непонимание, отталкивание и вражду. Так бывает и с любовью. По слову Сергея Аверинцева, для ада Христос — сущий ад. Явление настоящей любви поляризует сердца людей, они или влекутся духом любви или, наоборот, ожесточаются и стремятся к разрушению Духа Божьего. Мы не должны бояться приступить к служению примирения, нести слово примирения, примирения с Богом, с людьми и с миром. Апостол назвал примирение одним из служений, к которому все мы призваны.
Главное орудие этого служения — молитва. Молитва помогает нам сохранять разум в чистоте, не поддаваться заблуждениям, преодолевать в себе мелочность и гнев, избегать иллюзий и не попадать во власть жажды мести. Мы просим Господа наделить нас благодатью молитвы не для того, чтобы мы смогли лучше молиться, но для того, чтобы мы научились больше любить.
Господи милосердный,
Тебя называют Любовью.
Любовью Ты создал вселенную.
Любовь эту Ты подтвердил на кресте.
Благослови нас, чтобы мы смогли научиться
Твоей любви и принести ее туда,
где она пока встречает отторжение.
Миротворец должен заботиться о своем противнике так же, как и о самом себе, должен помочь ему освободиться от того образа мыслей, вследствие которого притеснение и насилие стали для него привлекательны. Следование принципам ненасилия в его высшем проявлении принесет обеим сторонам победу.
Евангелие и вся ранняя христианская традиция требовали от своих последователей отказаться от насилия. По словам Климента Александрийского, последователь Христа — это воин мира, член той армии, которая не проливает крови. Иустин Мученик говорил, что христианин не отнимает жизнь у другого, но во имя Христа отдает свою собственную.
Самое действенное противостояние немирности — это то, что я храню мир в себе, моя семья хранит мир, община хранит мир и Церковь хранит мир. Противодействовать злу мы можем только храня мир, то есть наша непримиримость ко злу — это и есть хранение мира, пребывание в мире с самим собой и с Богом. Это единственное, что может победить зло.
Зло пытается, прежде всего, лишить нас этого мира. Мы можем поддаться на искушение борьбы со злом и погубить в себе мирный дух. Когда кто-то ищет врагов как внутри церковной ограды, так и вне, это означает, что человек что-то не преодолел в себе. Все время мы находимся в этом искушении начать борьбу со злом его же средствами, средствами вражды. Но на всякое понижение нравственного, духовного уровня христианин отвечает только его повышением.
Надо являть другую жизнь, она состоит именно в том, что я мирен. Я начинаю с себя. По словам Семена Франка, «в ужасающей бойне, хаосе и бесчеловечности, царящих ныне в мире, победит, в конечном счете, тот, кто первым начнет прощать». Я должен примириться с Богом, с собой, с ближним.
С этого начинается все. Надо открыть важную для нас вещь: миротворчество — это не состояние, а действие, то есть человек не просто ожидает какого-то мира для себя, а он трудится. Но чтобы это действие стало возможным, человек должен стяжать внутренний мир. Церковь — это община миротворцев. Господь заповедал нам как ученикам Его быть миротворцами. Если в общине мир творится, значит, там есть Церковь, там есть Господь, там Царство.
Любовь к врагам является частью миротворчества. За врагов надо молиться, потому что об этом просит Сам любвеобильный Господь, Которому их очень жалко. И нам как их не жалеть, если они из-за нашей худости и скверности соблазнились и допустили злобу в свою нежную, богоподобную душу. Если разобраться, то они не нам враги, а себе.
Заповедь Иисуса Христа о любви к врагам — благословение проклинающих, благотворение ненавидящим, молитва за обижающих и гонящих нас — является высшей точкой миротворчества.
Эта заповедь служит для примирения с Богом как добрых, так и злых.
Миротворчество в библейском понимании не заканчивается примирением Бога с творением, но продолжается как некая реальность нового творения. Думается, что миротворчество не прекратится и после второго пришествия, как некий образ сотворчества Бога и человека и дальше в новом творении. Миротворчество можно назвать способом жизни и в Царстве Небесном.
В Церкви и обществе мы сталкиваемся с двумя разными способами жизни. В обществе мы можем жить, как в Церкви, но в Церкви мы не должны жить, как в обществе, которое есть порождение этого падшего мира.
Если в Церкви жить и бороться со злом по законам этого мира, то происходит ее обмирщение — потеря измерения мистического, измерения Царства Небесного.
Бороться со злом, быть непримиримым ко злу в Церкви можно только одним способом — жить в Боге, то есть жить по законам Царства Небесного.
Мы знаем, что закон Царства Небесного есть закон жертвы, отдачи себя. Это не установление границ, не установление неких рубежей, за которые злу нельзя двигаться, а именно способ жизни в Боге.
Перед человеком, живущим в Боге, зло останавливается само, как перед Аароном. Или же, если зло чрезвычайно агрессивно, оно убивает этого человека, как оно убило Иисуса и многих его учеников, например апостола Иакова, а недавно — брата Роже из Тэзе.
Но оно проигрывает, даже когда убивает. Зло, смерть только внешним образом добиваются своего. Нет ничего общего у Христа с Велиаром, нет ничего общего у Бога и у смерти.
Истинная победа над злом достигается через то, что человек начинает жить, а не бороться, начинает жить с Богом, заключая завет с Ним, входя в общение. Жизнь в миротворчестве, с Богом — это способность общения с Богом, потому что общение и есть плод мира, благоденствия.
Способность и возможность общения и есть плод примиренности, плод мира и мирного противостояния злу, плод жизни в мире и, как следствие этого, общение является признаком Царства Небесного. Участие в Евхаристии мы называем приобщением. Говорим: приобщились, то есть мы соединились через причастие со Христом и друг с другом.
Так через способность сохранять общение с каждым в этом мире, с каждым из этого общества, мы преодолеваем зло, потому что зло и, как конечное проявление зла, — смерть, есть разрушение общения, разрушение отношений или их прекращение.
Уходя от общения, от диалога, мы уступаем силе зла. Только через общение Церкви с обществом, если Церковь живет по законам Церкви, мы можем противостоять злу этого мира.
Миротворение — это всегда жертва. Мир приобретен жертвой Христа. Часто у миротворца возникает мысль о том, что все его усилия бесполезны, не помогают, мир не становится лучше. Но, как ни странно, именно этим погружением в кажущуюся тщетность, умалением достигается мир. Если для человека становится что-то невозможным, значит, время действовать Господу, время творить мир.
Об этом мире всего мира молился Шарль Фуко:
«Отче, Ты хочешь, чтобы между Твоими детьми царила неистребимая любовь, чтобы они терпели друг друга с нежностью и упорством, дабы сохранить мир, чтобы они без сопротивления принимали насилие, оскорбления, даже самую смерть, чтобы они предпочитали умереть, лишь бы не нанести брату раны, не бороться против него.
Отче, в какой же любви, в каком мире, в каком нежном единении Ты хотел бы видеть Своих детей.
В Твоем свете ясно как день, что малейшее умножение любви среди детей Божьих в тысячу раз ценнее, чем все материальные блага мира.
Не будем защищаться, когда нас обижают, подставим горло как агнцы, чтобы нам не вступать в спор с братьями, но побеждать их добротой, чтобы мы подражали божественному Агнцу, Который позволял бить Себя, оплевывать, ругать, завязывать Себе глаза и бичевать Себя, надеть на Себя терновый венец и возложить на Себя Крест.
Будем же переносить все оскорбления, все несправедливости, издевательства, насилия, пощечины, удары, раны, оковы и смерть. И будем молиться за тех, кто ненавидит нас:»Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И возблагодарим Бога, что Он удостаивает нас, столь недостойных, такого сходства с Собой. Аминь».
Тайна умаления
Начиная жизнь в Церкви, человек ожидает, что он будет становиться лучше и лучше, сильнее и сильнее, мудрее и мудрее, христианство он воспринимает как некую программу самоусовершенствования, восхождения по лестнице добродетелей. Ведь Господь всех нас призвал к совершенству: Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный (Мф. 5:48).
Но наступает пора недоумения, когда с человеком происходит противоположное тому, что он ожидал: нет никаких видимых успехов. Он раздражается и смущается. На исповеди говорит: «У меня нет любви, нет смирения, нет терпения». В чем причина?
Все потому, что, ожидая даров от Бога и получая их, он все больше и больше начинает уповать на сами эти дары. Центр тяжести духовной жизни незаметно смещается, и в итоге в душе человека воцаряется надежда на полученные от Бога качества, а не на самого Бога. Человек становится накопителем богатств, пусть и духовных.
Стремление к результатам в духовной жизни опасно, потому что вместе с идеей результата, успеха, достижения в душу вкрадывается идея обладания. В самом деле, раз я достиг чего-то, то по справедливости и по заслугам я буду этим обладать. Но в таком застывшем обладании всегда различим дух неподвижности, то есть смерти.
Истинные отношения с Богом не предполагают какого-то обладания.
Так что же, нам отказаться от усилий духовного роста? Нет, духовный труд обязателен, мы должны жить в подвиге, очищаться от греха, духовно расти, совершенствоваться и иметь посильные аскетические труды, опасность же состоит в том, что духовный рост может становиться самоценностью. И тогда, не продвигаясь вверх, мы унываем и ропщем, а получая духовные дары, поднимаясь на одну ступенечку, мы готовы на ней поудобней расположиться, сделать себе «кущи» и сказать своей душе как безумный богач: «…пей и веселись.»
Что же все-таки делать: стремиться к духовному росту или отказаться от него? И как иначе понимать сам духовный рост, если не как накопление добродетелей и высоких духовных качеств?
Мир, в котором мы живем, предлагает нам видеть призвание человека, смысл его жизни в том, чтобы становиться все сильнее и сильнее, богаче и богаче, умнее и умнее. Большой человек, «человечище», супермен, великий человек — вот «герой нашего времени». Мир утверждает культ великой личности, человека самодостаточного и самоутвержденного. В палеонтологии есть закономерность: если какой-то биологический вид начинает рождать гигантские формы — это симптом того, что этот вид стоит на пороге своего вымирания (а далеко не наступления поры его наивысшего расцвета, как может показаться). Не является ли вообще гигантское признаком вырождения, а не расцвета жизни?
Христианство всегда сознавало опасность гигантизма. «И всякий раз, когда человеком овладевает воля к могуществу в этом мире, — писал Николай Бердяев, — он вступает на путь охлаждения и иссякания духа, на путь рабства этому миру».
Церковь иначе отвечает на вопрос о предназначении человека, о его призвании к совершенству. Церковь предлагает нам такое величественное задание, такое великое предназначение, о котором мир не может даже помыслить. Она предлагает человеку стать Богом.
«Ты — подобие нетленной красоты, — говорит святитель Григорий Нисский, — оттиск истинного Божества, восприемник блаженства. Когда ты обращаешься к Нему, то становишься то же, что и Он. Нет ничего среди сущего, что могло бы сравниться с твоим величием. Ты способен заключить Его в себе. Он живет в тебе и не испытывает стеснения, пребывая в твоем существе».
Святые отцы прославляли величие человека, его глубину как местопребывание Бога. «Когда Бог смотрит на человека, — говорит митрополит Антоний Сурожский, — Он в нем не видит ни успехов, ни добродетелей, которых в нем нет. Он видит сияние Своего Образа, которое ничто не может разрушить в нем».
Христианский путь жизни поражает мир своей беззащитностью и пугает тем, что он будто бы дает несравненно меньше, чем реалистические схемы здравого смысла. Поэтому многие люди не принимают христианства. Им кажется, что Бог у них что-то отнимает. Христиане кажутся бедными, нелепыми и странными со своим желанием занимать последние места в жизни, в сравнении с теми, кто хочет первых мест, успехов и богатства.
И Церковь не оспаривает этого впечатления странности и неполноценности: Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом (1Кор. 1:26-29).
Сам Господь Иисус Христос избрал путь слабости, умаления.
И заслуга ХХ века, как кто-то отметил, в том, что в христианстве начало совершаться возвращение к тайне умаления, к Младенцу в яслях, путем создания духовных братств — малых братьев Иисуса Христа (Шарль Фуко) и малых сестер Иисуса Христа (сестра Магдалена). «Надо согласиться всегда быть маленькими, — говорила сестра Магдалена своим духовным дочерям. — Вы все еще слишком большие. Все ваши недостатки чаще всего происходят от того, что вы слишком большие. Будьте маленькими, маленькими, маленькими».
Нам, как ученикам Христа, призванным следовать за Ним, не следует удивляться тому, что нам нужно изучать высокое искусство немощи, умаления, и воплощать его в своей жизни. Ведь и апостолы вначале думали, что в этом мире больше тот, кто больший, то есть имеет много власти. Их представления о Мессии, о мессианском царстве были вполне человечны. Они думали, что мессианское царство наступит человеческим образом — силой и властью. И когда Иисус начал говорить о том, что Он должен пострадать: быть униженным, оплеванным, отвергнутым, распятым, то это никоим образом не входило в понимание учеников. Они этого просто не вмещали. А Петр даже стал прекословить Христу и удерживать Его.
И мы часто этого не вмещаем. Мы боимся стать самыми последними, а уж став на путь умаления, надеемся стать самыми последними. Но Шарль Фуко говорит нам: не бойтесь и не надейтесь. Последнее место уже занято. Кем? Иисусом Христом. Нам оставлено лишь предпоследнее место. Никто не может быть беднее, меньше и беззащитнее Христа.
Для учеников Христа постепенно открывалось, что Царство Божие требует каких-то внутренних изменений, преображений в самом человеке.
В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает (Мф. 18:1-6).
Здесь, конечно, не идет речь о том, что человек может как бы приостановить свой рост и превратиться в ребенка. Христос не имеет в виду инфантильность и не требует ее. Он не говорит: «Если вы не станете детьми». Он говорит: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное».
И это «как» очень важно, оно говорит о сути ребенка.
Это нас заставляет думать о том, что же в ребенке есть такого, что делает его великим пред Богом и достойным Царства Небесного. И Иисус Христос на этот вопрос отвечает: «Кто смирит себя, умалит себя, и будет как это дитя».
Ребенок полностью зависит от других людей, он немощен. Он не имеет той власти, которая дает возможность выживать людям в этом мире. Он зависим, незащищен и раним. Он может жить лишь упованием на любовь своих родителей, лишь доверием, что они его защитят, сохранят, накормят, обласкают, научат, то есть вся его жизнь наполнена каким-то изначальным доверием.
Иисус Христос говорит Своим ученикам, что Его Отец Небесный ищет вот именно такого доверия от людей к Себе. Доверие к Богу не позволит людям воздвигать вокруг себя какие-то стены, защищающие их, и увеличивать пределы своей человеческой мощи. Важно, чтобы они все более и более делали себя зависимыми даже в самом малом от Бога, не думали о себе и не переживали себя как центр своей собственной жизни и жизни других людей.
Источник духовной жизни — не в человеке, а в Боге. Им определяется наша духовная жизнь и к Нему восходит. Чтобы понять смысл смирения, тайну умаления, нам нужно вникнуть в образ Иисуса Христа, иначе мы исказим смирение, будем в него играть.
Смириться — не значит подавлять в себе свое естество, свою природу, как-то насиловать ее. Смиряться — это все более и более впитывать в себя образ Иисуса Христа, подражать этому образу и видеть, каков Он.
Будучи Сыном Божьим, будучи носителем Славы вечной, Он становится одним из нищих. Он мог родиться в царской семье, но Он избирает участь сына плотника, Он избирает общение с мытарями, грешниками, блудницами, с больными, изувеченными людьми. Он избирает Своими учениками не каких-то блестящих, образованных, знатных людей, а галилейских рыбаков. И, в конце концов, Он умирает на кресте как раб.
Только вникая в этот путь Иисуса Христа — а вникнуть мы можем только тогда, когда реально встретим Христа в своем сердце и полюбим Его, мы начнем постепенно понимать, что такое умаление, что такое смирение.
Встреча человека с Иисусом Христом происходит в тот момент, когда Бог снимает с себя ту Божественную мощь, которая не может беседовать с человеком, но способна подавлять его. Бог умаляется, чтобы встретиться с человеком, и человек должен в какомто смысле умалиться перед Богом.
Господь прост, как дитя, в отношении к человеку, и человек должен стать простым, бесхитростным, как дитя, по отношению к Богу. И вот на этом пределе обоюдного умаления появляется поле свободы, в котором возможно общение человека с Богом, в котором может действовать Бог. Именно в этой таинственной пустоте Он переделывает нас.
«Мы знаем, — говорит митрополит Антоний Сурожский, — как трудно остаться наедине с самим собой, когда к этому не привык: делается боязно — тогда открывается перед нашим собственным взором внутренняя наша пустота, и в эту пустоту, в эту пустыню нам надлежит войти.
Там будет одиноко, там будет пусто, там будет трудно жить, но только если мы сумеем жить в этой пустыне с Богом одним, сможем мы вернуться к людям, никогда не теряя Бога и способными, победив себя, победить все».
Такое взаимное умаление Бога и человека и создает возможность их личностной встречи как «Я» и «Ты». Когда Бог говорит человеку: «Это ты», в этот момент человек принимает от Бога свое «я» как дар. Одно дело собственными усилиями ковать свое «я», утверждать свою самость, и совсем другое — с готовностью и благоговением принять свое «я» из рук Божьих.
Отблеск этих отношений видим в одной восточной легенде.
«Однажды ночью один влюбленный, полный отваги и настроенный победоносно, явился к дверям своей возлюбленной.»Кто там?» — спросила она.»Это я!» — Но она отказалась открыть ему и жестко сказала:»Уходи». Молодой человек, обезумев от ярости, удалился, клянясь, что он ее забудет, что он ее уже забыл. Он отправился в путешествие по всему свету. Но он не нашел забвения. И любовь снова с непреодолимой силой привела его к дверям его возлюбленной. Вновь состоялся тот же диалог, что и в первый раз. Но, отправляя его, она прибавила краткую таинственную фразу:»Ты не произносишь единственного слова, которое бы мне позволило открыть тебе». Возмущенный, заинтригованный, удрученный, он ушел. Гнев и страсть постепенно уступили в нем место мудрости. Его любовь, утратив неистовство, приобрела глубину, и после многих лет вновь привела нашего влюбленного к дверям его возлюбленной, робкого, смиренного и более пылкого, чем когда-либо раньше. Он скромно постучался.»Кто там?»Негромким голосом он отвечал:»Это ты». И двери тотчас отворились».
Поле свободы может стать почвой творчества, ибо в нем нет своего собственного содержания, оно в каком-то смысле есть «поле ничто».
Бог творит мир из ничего. «Поле ничто», возникшее в отношениях взаимоумаления «я» и «ты», создает благоприятную возможность Богу творить, творить уже человеческую личность.
Если мне не удалось умалиться, я предлагаю Богу себя как плотно исписанный лист бумаги, в который Ему трудно вставить хотя бы слово. И великое умаление Бога — в том, что Он стоит передо мной — листом и терпеливо ждет, пока я сам не освобожу Ему место для строки.
А когда я могу освободить место? Когда своей волей возжелаю Бога. По слову митрополита Николая Кавасилы, жившего в XIV веке, любовь есть «добродетель воли». Бог ждет от нас только любви к Нему и дает Себя нам не за дела и подвиги, не в порядке какой-то оплаты, а только в ответ на эту волю–любовь, на возжелание Его жизни. Бог–Любовь хочет только нашей любви. Нам трудно терпеть в себе недостаток любви, потому что самая большая потребность и радость наша — все больше любить друга во Христе. «Любить — вовсе не значит быть совершенным», — говорила мать Магдалена. У нас могут быть большие недостатки, но важно, чтобы мы стремились только к любви.
Мир, в котором мы живем, боится этой любви, бежит от нее, это свойственно многим людям. Почему я боюсь любить?
«Любовь, — говорит Жан Ванье, — это поиск, необыкновенно прекрасный и вместе с тем страшный, потому что любовь делает нас уязвимыми, когда мы открываемся другому.
Когда мы встречаемся с другим человеком, мы открываем то, что спрятано в нас и незаметно с первого взгляда. Что происходит, когда я называю кого-то другом? Я разделяю с ним невидимую часть себя — свои чувства, надежды, страдание, которые, может быть, на первый взгляд не так очевидны. Дружить — значит делиться тем, что сокрыто глубоко в нас. Но как только я открываюсь и предлагаю разделить то, что есть во мне, я становлюсь уязвимым, потому что любовь включает в себя уязвимость, способность открыть другому человеку ребенка, сокрытого во мне. И все мы боимся этого, мы боимся включенности в любовь. Вот почему мы бежим от своей слабости и ищем укрытие в успехах, престиже и многих других доказательствах своей силы. И мир, который нас окружает, — это мир, в котором люди боятся любить».
Мы сейчас живем в мире, где все как бы определяется волей, стремлением человека не к Богу, а к власти, и способностью эту власть осуществлять, удерживать. Человек жаждет оказаться на виду, стать влиятельным, стяжать себе имя и славу. Сатана поощряет его в этом, говорит: «Смотри, сколько в тебе силы, возможностей. Не довольствуйся малым, у тебя будет власть над людьми».
И кому-то кажется, что это — единственный способ жизни, и можно не заметить, пройти мимо тех случаев, когда видим, что человек, живущий такой напряженной жаждой и удерживанием власти, истощает себя, калечит себя и очень многих людей вокруг.
Для лучшего понимания тайны умаления я хотел бы вдуматься в опыт общения ребенка и родителей, поскольку дети имеют особое призвание и назначение в созидании Царства Божия.
Что поражает нас в этих отношениях?
Ребенок — как икона, он побуждает нас к совершению внутреннего душевного движения. Перед иконой мы становимся иными. Ребенок, как и икона, как бы ждет от нас душевного усилия: войти в его мир, в его простоту любви и радости.
В общении с ребенком не действуют те маски, те личины, те знаки отличия, которыми пользуются взрослые в своем общении друг с другом.
Ребенок способен пробудить в нас того младенца, который спрятан глубоко, сидит как бы в тюрьме, связан, но который хочет играть, радоваться, и который хочет быть беззащитным, не вооружаться, не надевать на себя латы.
Если начальник, придя домой после работы, попробует говорить и общаться со своим ребенком, как со своим подчиненным, то эти отношения очень скоро потеряют под собой реальность любви, то есть реальность всякой жизни, они станут искусственными, неестественными.
Очень многие люди могут свидетельствовать о том, как дитя и опыт общения с ним приводили их к опыту Божественного, потому что ребенок требует любви, требует реального отношения к себе, и он очень остро чувствует, когда мы притворяемся.
Родители начинают понимать, что если они хотят реально общаться со своим ребенком, им, взрослым, нужно умаляться, учиться жить всей глубиной детства.
Умаляться — не значит, будучи зрелым человеком, играть роль незрелого. Духовное детство есть плод зрелой веры: человек сходит с того пьедестала, на который он сам себя поставил в безличностных отношениях с обществом.
Умалиться на самом деле — это не значит считать себя меньше всех, но просто отказаться от своей мании величия, которая тебя вольно или невольно заразила, от своей самости, которая привыкла властвовать и владеть чем-то, кем-то и навязывать кому-то чтото, и обрести свое истинное величие. Умалиться — это прежде всего означает отбросить то лишнее, что мешает человеку быть собой. Когда мы освободимся от всего лишнего в себе, Любовь Божия поспешит наполнить наше сердце, все затопить Собою. Царство Божие — это Царство Отца. Если ты себя чувствуешь в этом Царстве как ребенок, вот в этом и есть умаление. Ты себя ощущаешь не только сыном человеческим, но и сыном Божьим, ведешь себя, как ребенок. Ты одновременно маленький и великий, ты возрастаешь и умаляешься, страдаешь и улыбаешься. Такова одна из самых поразительных антиномий христианства.
Перед человеком стоит великий выбор: либо остаться только сыном человеческим (то есть избрать природную жизнь), либо стать сыном Божьим. Если он выбирает первое, он становится ниже человека, замыкается на себе. И только одухотворив себя, став сыном Божьим, он становится человеком вполне.
Но если в человека не входит Божественное начало и человек не соединяется с Богом, то это замыкание на себе порождает страх перед другим человеком, невозможность по–человечески относиться к нему. Он не может в другом видеть человека, проникнуть в его глубины, для него другой — это или конкурент, или соперник, это в каком-то смысле враг.
Сын Божий — это не сила, не насилие. Сын Божий — это полнота любви к Отцу, как сына к отцу.
Ребенок, который рождается в любой семье, как ни странно это звучит, в первую очередь — сын Божий, а во вторую очередь — сын человеческий.
Ребенок этот урок преподносит тем, кто имеет глаза и уши, чтобы видеть и слышать. Иисус Христос пояснил это Своим ученикам: Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня (Мк. 9:37). Значит, Сам Бог входит в семью с каждым ребенком. С каждым родившимся человеком заново возрождается Царство Божие, присутствие Бога среди рода человеческого.
Каждый ребенок, еще будучи бессловесным младенцем, пишет С. С. Аверинцев, «уже побывал в силе и славе» Божьей.
Мне рассказывал недавно отец четырех детей, как сильно переживалось им рождение нового ребенка.
«Когда рождается ребенок, — говорил он, — он смотрит на тебя, и ты видишь в его глазах одну только любовь, полноту, это вся его суть, и он не может ее скрыть, как тот человек, который уже вырастает и искажает ее. Он только что пришел в мир, еще не имеет имени, слов не различает, не прожил этой жизни, не вкусил ее опыта, его сознание еще не отделено от полноты Божества, того образа, который в нем посеян, а в нем дано уже то, что мы всю жизнь ищем. Это — откровение Божие. Если мы это мгновение переживаем, то не знаем, как за него благодарить Бога».
Умаление здесь — в том, что родитель созерцает «силу и славу» Божью, явленную в образе беспомощного младенца. Это возвращает его к собственному величию, к образу Божьему, к Самому Богу.
В этом истинном, а не мнимом величии человека мы получаем величайшее наслаждение от общения с Богом, от общения с вечностью, потому что всякое другое наслаждение, мания величия счастья человеку не приносят, они его только терзают, потому что это иллюзия, это невроз, болезнь, которую человек в себе культивирует.
Нельзя скрывать свое истинное лицо за именем, званием, достижениями.
Семья является естественной средой, живя в которой, человек может духовно выздоравливать, умаляться. Дети его в этом плане могут быть хорошими учителями умаления.
Семья, в которой ты живешь, сама создает рамки аскезы, тебе их не нужно придумывать. Аскетическое предание себя ближнему в семье совершается естественно: ты должен постоянно в чем-то воздерживаться, отрекаться от своей воли, умалять себя, уничижать, терпеть. В любой момент надо все бросить и бежать к плачущему ребенку. Родители реально узнают, что такое пост и бессонница, когда им всю ночь нужно качать ребенка.
В свое время я спрашивал в Иерусалиме: «Почему евреи в синагоге раскачиваются во время молитвы?» Мне ответили: «Их этому научили дети». В религиозных семьях много детей, родители молятся, укачивая ребенка. Потом это стало частью религиозной традиции — покачивание во время молитвы.
«Мы созданы для любви. Пока мы одни, жизнь бессмысленна, смысл рождается, когда есть другой. Тайну своей жизни не откроешь, размышляя в одиночестве. Смысл жизни — тайна, и открывается она в любви, через того, кого мы любим» (Томас Мертон).
Любовь заключается в самозабвении, полной отдаче себя любимому, потому что он важнее меня самого. Любящий истинно не «экономит» себя, не отвергает мелких дел или вещей ради сохранения сил для каких-то больших, значительных дел.
Это есть нищета любви. Здесь человек уподобляется Богу. Бог — самый нищий из всех. В каком смысле это можно понять?
Его нищета является в непрестанной самоотдаче. Бог есть любовь жертвенная, самоотдающая, то есть себя опустошающая.
Если богатый в мире сем есть тот, кто старается побольше приобрести и поменьше отдавать, то Господь действует совершенно иначе: Он ничего не хочет приобрести, а, наоборот, хочет все отдать. Иисус Христос говорит, что Его Отец уже не судит никого, но всю власть судить отдал Сыну. Он как бы умаляется перед Сыном.
Когда в семье один ребенок, ему очень трудно научиться самозабвению, отдаче себя, служению ближнему. Ему некому послужить. Когда несколько детей в семье, старшие дети вместе с родителями воспитывают младших, и в этом соработничестве они ощущают доверие к себе, обретают свое достоинство, учатся ответственности.
Церковь должна возрождаться через семью, через дух любви и служения, имеющийся в ней. Семья и Церковь должны взаимно питать друг друга. Только воцерковленные люди могут создать христианскую семью. Нельзя Церковь исправлять извне. Как говорил один пастырь: «Проповедовать — это не значит нести Бога другим, это обрести Его уже присутствующим в них. Это приблизиться к людям, увидеть их красоту, распознать, каким образом Бог уже живет в них».
Умаление не есть ничтожество. Умаление возможно только тогда, когда человек знает свое достоинство, находится в самом себе, является самим собой. Человек может ложно понять умаление и, тем самым, впасть в какое-то чувство малоценности. Читая аскетические книги, он может подумать, что чем хуже, невнятнее, грешнее я буду представляться самому себе, тем более я умалился пред Богом. Но в действительности он культивирует в себе вину и грех, которые сами по себе реальности не имеют.
Грех — это искажение реальности, искажение души. А умаление состоит в том, чтобы принять свое бытие как истинную реальность, как дар, данный Богом.
В спектакле Владимира и Людмилы Мезенцевых «Камера забытых вещей» поэт, почувствовавший, что все, чем он жил, — самообман, воскликнул: «Я ничтожество». Но мудрый смотритель камеры, его тайный учитель, говорит ему: Бог не может встретиться с ничтожеством, потому что Бог не творит человека для ничтожества.
Что есть чувство ничтожества? Это на себе сконцентрированный взгляд. Оно связано с каким-то потаенным желанием быть над кем-то. Оно мучительно потому, что человек внутренне приписывает себе какую-то сверхсилу, сверхбытие, сверхзначимость и, не находя этому желанию реального воплощения, мучается.
Сказать вслед за апостолом Павлом: Я… ничто (2Кор. 12:11), отнюдь не значит сказать: «Я — ничтожество».
Сознание ничто — есть истинно творческая основа. Очень трудно определить это состояние, но оно есть какая-то потенция в руках Бога, и Он может из этого ничто, из этого сознания ничто — творить.
Самое главное — в том, чтобы бытие не стало самозамкнутым и самодостаточным. Личность может жить только встречей с Богом, общением с Ним. Для этого она должна войти в состояние, которое предоставляет право действовать Творцу. В этом и есть умаление.
Чтобы состоялась эта встреча с Богом и, следовательно, состоялось умаление личности, человек должен встретиться с реальным Богом, а не с богом своего воображения, и предстать перед Ним как реальный, настоящий человек, без всяких масок, ложных представлений о самом себе, которые не могут дать личности силу возрастать. Индивидуальность любит идти путем все большего и большего самоутверждения: чем более я буду оригинальным и особенным, тем больше будет моя ценность. Следуя этому пути, человек все более отрывается не только от Бога, но и от окружающих людей, становится как бы над ними. Но при этом он отрывается и от самого себя, теряет себя.
Я никогда не видел своего духовного отца, архимандрита Серафима (Тяпочкина), в ложном положении в трудные минуты его общения с власть имущими, с гонителями Церкви. Он был в высшей степени свободным человеком, потому что всех любил.
Никакого внешнего величия, блеска, вся духовная красота таится внутри, как сокровище, священный свет.
Ты просто забывал, с кем ты говоришь. Ты забывал, что он пастырь, всеми любимый и почитаемый, ты видел его перед собой, вернее, не видел, поскольку лицо его становилось в какой-то степени невещественным и сияющим, — ты был сам весь перед ним. Он весь был для тебя, весь уходил в твои нужды и тревоги, его сердце полностью было с тобой.
Помню священника Даниэля из Хайфы, ныне уже покойного, который на братской трапезе, которую приготовлял сам, всегда ел последним. Всех накормит, убедится в том, что все сыты, и тогда ест то, что осталось. В этом не было рисовки. Он пережил войну, знал, что такое голод и как люди умирают от голода. Самозабвенное служение ближним было выражением истинного смирения, которое в нем было.
Перед Богом Отцом все мы — дети: и духовник, и отец, и мать, и дети, и только от Него мы можем получить жизнь и величие. Господь просит нас быть Его детьми.
Известно выражение одного из учителей Церкви о том, что слово «Бог» гораздо менее значимо для нас, чем слово «Отец». Слово «Бог» подчеркивает различие между Ним и нами, слово «Отец» показывает родство: мы — дети Ему, свои, родные, всегда неизменно любимые. И как радостно ответить нам на эту любовь.
Бог призывает человека к величию, но к величию, которое не обращено на себя, которое не любуется собою, которое не угнетает, не подавляет ближних, а к величию какому-то сокрытому, сокровенному.
В беседе со своими детьми знакомый мне отец семейства привел слова Иисуса о том, чтобы никого не называть своим отцом и учителем, ибо один у вас Отец и Учитель — Христос, и спросил их: «А кто же я?» Мальчики ответили: «Ты — папа». Дочь сказала: «Ты — брат».
Что это значит? Это значит, что ребенок интуитивно отрицает первенство в отношениях. Иисус Христос не хотел первенства по отношению к человеку, по отношению к Своим ученикам. Это полное равенство является в словах Иисуса, обращенных к ученикам: Я уже не называю вас рабами… но Я назвал вас друзьями (Ин. 15:15).
Господь посылает нас друг ко другу, чтобы нам научиться жить с Богом и с братьями в полноте любви. Это возможно только тогда, когда мы встанем на путь умаления себя, истощания, живя в семье по крови или в семье духовной, живя в Церкви Христовой. Нам нужно умаляться для того, чтобы, как говорил Антоний Сурожский, «сказать слово настолько чистое, настолько свободное от самого себя, от себялюбия, от тщеславия, от всего того, что делает каждое наше слово мелким, пустым, ничтожным, гнилым; делаем ли мы это с готовностью сойти на нет, только бы из этого человека вырос живой человек, невеста вечной жизни? А когда все это сделано, готов ли я сказать с радостью:»Да пусть совершится последнее, пусть и не вспомнят обо мне, пусть жених и невеста встретятся, а я сойду в смерть, в забвение, вернусь в ничто». Готовы ли мы на это? Если нет — как слаба наша любовь даже к тем, кого мы любим! А что сказать о тех, которые нам так часто чужды, безразличны?»
Будем же учиться быть маленькими, маленькими, маленькими. Как радостно сознавать, что ты — ничто, и что все из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки, аминь (Рим. 11:36).
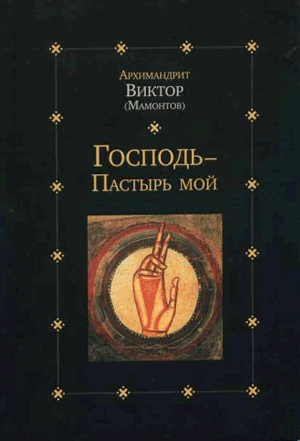
Комментировать