[Октябрь 1902 год.]
Михаил., иером. Новое христианство // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 385–400
(Мережковский: „Толстой и Достоевский“; Розанов. Статьи в „Нов. Вр.“: О классицизме и беседах свящ. Петрова; „Южный Край“ (Тамарин): статья по тому же поводу; Боборыкин: „Исповедники“ и др.; свящ. Петрова: „По стопам Христа“).
I.
Светская литература последних дней много внимания уделяет религиозным и даже церковным вопросам. Это крупное „знамение времени“, и, конечно, нельзя не приветствовать отмеченного факта с полной и горячей симпатией. К сожалению, у всякой медали есть оборотная сторона, есть она и здесь. В толках о Церкви, христианстве, его задачах иногда прорываются фальшивые ноты.
Основной мотив всех „разговоров“ этого рода можно выразить так. „Христианство слишком отдалилось от земли в сторону неба... Ближе к земле... Пусть христианство немного спустится с высот надмирного идеала и подойдёт поближе к человеку с его земными слабостями и земными страстями и нуждами. В этом-то призыве и скрыта „суть“ фальши.
Указанный лейтмотив, впрочем, не у всех звучит одинаково. У некоторых он носит вполне разумную и приемлемую форму.
„Наступает для Церкви время, – пишет г. Тернавцев, показать, что в ней заключается не один загробный идеал, наступает время открыть правду в ней и о земле, учение и проповедь об общественном спасении, о христианском государстве и призвании светской власти, о богосыновстве во властеносительстве, о Царстве Божием на земле и т. д.“.
К такому пожеланию нельзя не присоединиться. Г. Тернавцев желает собственно только осуществления на земле небесного идеала, – возможного приложения этого идеала к формам жизни, – организации жизни.
Иную окраску тому же мотиву придают Боборыкин, Мандельштам34 и К°. Эти считают совсем ненужным небо и требуют, чтобы христианство, отказавшись от вредных мистических грёз и мечтаний заботилось только о земле. Г. Боборыкин скорбит о сектантах за то, что и они думают о небе, а того вероучителя, который отрешил себя от этих личных упований и поставил высшим заветом человека исполнение божественной воли на земле, искренно считают антихристом.
Но всегда ли так будет? – спрашивает он. Нет, надеется Боборыкин, не всегда. Вот безграмотная Лукерья. Что мешает ей заботиться о загробном блаженстве? А в ней зашевелилось что-то иное. Что же именно? Потребность деятельного добра. Верность заветам Искупителя... Она вряд ли и понимает суть учения о благодати, вряд ли даже и сокрушается об этом. Она только хочет жить по-божески. И таких, – верит П. Д., – всё будет прибывать.
С этими pia desideria мы, конечно, уже не можем согласиться и уверены, что даже и баптисты со штундистами не осуществят надежд автора „Исповедников“.
Тем не менее странная проповедь почти и не задевает, не затрагивает нас. Думается, что и наши читатели не потребуют от нас её разбора. Всё это так старо и далёко, всё это говорится на каком-то неведомом нам языке. Мы смеем думать, что и Лукерьи никогда не перестанут считать антихристом тех, кто хочет совсем, отнять у них небо и потусторонний идеал.
Боборыкин за границей религиозного сознания, и нам не сговориться с ним. Потому-то, как мы сказали, проповедь его даже и не причиняет боли.
Наоборот, с невыносимой болью принимает христианин заушение от тех, кого смел считать между друзьями своими.
Разумею новый третий тип реформаторов, которые в последнее время, чуть не во имя интересов Церкви, кощунственно кричат, будто „христианство не удалось“. Учение этих „новых христиан“ заслуживает внимания уже потому, что во главе их стоят такие великаны, как В. В. Розанов, Мережковский.
II.
Новые реформаторы сильно отличаются от прежних своим своеобразно откровенным отношением к Христову христианству.
Прежде реформаторы перетолковывали Евангелие, но при этом утверждали, будто они проповедуют именно „Христово“ христианство, очищая от человеческих измышлений подлинное Евангелие.
Новые „корректоры“ идут дальше. Они откровенно заявляют, что Христово Евангелие само по себе нуждается в поправках. Христианство „Евангелия“, по их словам, отжило свой век и должно реформироваться в самых своих принципах. Историческое христианство должно уступить место христианству „будущего“.
Программу этого нового христианства и дают Розанов, Мережковский, Тамарин и другие.
Что же такое это новое христианство?
В формуле Мережковского будущее христианство – это христианство, подновлённое элементами классического язычества, – синтез язычества и Евангелия.
„Христианство „Христово“ (историческое) явилось, говорит Мережковский, результатом необходимости резко оттолкнуться от идеалов язычества, от обоготворения плоти. Христос захотел восстановить права духа. Но для того, чтобы дать победу духу, понадобилось временно резко отвергнуть старый идеал, как негодный, возвести дух в апофеозу, временно проповедовать права исключительно духа. Отсюда – аскетизм, односторонняя культура духа, которую особенно развил апостол Павел, „прививший к здоровому дереву арийства яд семитизма, – ненависть к телу“ (Мережковский).
Теперь, говорят, настало время дать обратный толчок, вернуться к языческому идеалу и синтезировать его с христианством, плоть объединить с духом.
Эта программа может возбудить большое недоумение.
Что же хотят взять от язычества? Поклонение форме, красоте? Но разве красота не одна из основ христианской этической формулы (истина, красота, добро)? Христианство ищет и всегда искало красоты.
Оно создало храм Софии – эту гигантскую симфонию, совершенное воплощение идеи вечного и вездесущего. Оно создало Леонарда да-Винчи и Берлиоза, скажу более, – всё европейское искусство есть выражение христианского идеала красоты. Чего же следует искать в язычестве? Всё человеческое в язычестве есть вместе и христианское. Разве „Антигона“ Софокла не может быть повторена в христианстве.
Но, может быть, есть ещё красота, которая не представляет собой воплощение христианского, то есть общечеловеческого идеала добра и истины?
Да, кажется, есть, это – красота чисто телесной формы, красота плоти. Следовательно, реформаторам нужно взять из язычества этот культ телесной красоты?
– Да, отвечают нам, в экстазе страсти вдохновение, откровение правды и красота тела и его движений, обожествление тела не низший идеал, чем обожествление души“ (В. В. Розанов и Мережковский).
Эта мысль весьма знаменательная, и мы на ней остановимся побольше.
III.
Обожествление плоти (в известном смысле) это – догмат и христианства, которое возвестило истину, что „Слово стало плотью“. Именно у апостола Павла раскрывается учение о конечном торжестве воскресшей плоти, которой обещана вечно блаженная жизнь.
По-видимому, нечему учиться у язычества с его проповедью прав плоти. Не правда-ли?
Но христианство, – уверяют нас, – проповедует самоубийство, умерщвление тела, аскетизм.
Кажется, г. Розанову можно было бы понять, что аскетизм есть не только гигиена духа, но гигиена тела, имени» результат благоговения к имеющему воскреснуть телу.
Плоть в христианстве „не злая тьма“ манихейская и не из тёмного начала. В человеке всё от присносущного света и всё к этому свету влечёт и в этом свете.
Аскетизм – это святая во Христе плоть и святой во Христе дух человека (Филевский).
„Христос пришёл во плоти. И теперь Им не отложена плоть, и Божество Его пребывает в воспринятом человечестве, не обнажённое от тела, и приидет Он с телом, в каком показался ученикам на горе Фаворе, когда Божество победило плоть человека“.
Не в умерщвлении тела и подавлении его жизненности поэтому состоит цель борьбы христианина аскета со своим телом, насколько оно идёт против высших его стремлений, но в том, чтобы самостоятельно и самодеятельно сделать его достойным своего высшего назначения поставить в полное гармоническое согласие с жизнью духа (А. Ф. Гусев).
„Полезнее укреплять тело, нежели ослаблять его в силе; лучше делать его бодрым, чем одряхлять произвольным каким-либо изнурением“ – говорили св. отцы. „Мы научились умерщвлять не тело, а страсти“, – говорит препод. Пимен Авве Агафону. „Умерщвлять, удручать и сокрушать плоть значит низводить душу в круг мелочных задач“, по словам св. Григория Богослова.
Вообще, христианство различает тело и плоть. Законы тела – это законы физической природы человека, против них не борется христианство. Законы же плоти это законы низших проявлений животной жизни, явлений физической жизни, проявление или „пережитков“ животной природы, или, наоборот, проявление животности, нажитой через грех человека, посредством культуры полового или вообще телесного наслаждения.
Если человек ниже себя, то он плоть. И „решил Бог погубить людей потопом, потому что они стали плоть“.
И я думаю, что отличие – счастье, а иногда, как увидим, и несчастье человека в том, что дух в нём приказывает телу.
Я укажу пример, особенно понятный автору книги „В мире неясного“. Только в человеке половое желание может явиться ранее половой зрелости.
Это минус, оборотная сторона прогресса: в человеке создалось извращение плоти, развращённый дух, загрязнённое воображение вызывает желание ранее, чем ему должно явиться по закону природы. У человека только может явиться желание к женщине, желающей быть матерью, т. е. искусственно развитая похоть побеждать инстинкт отцовства.
Культ жизни поставил здесь человека ниже животного. Христианское сознание требует не только борьбы с этим извращением природы, но ещё и положительного плюса. Христианин подчиняет тело закону духа, он ищет единения душ, а не тел, и „силой духа” половое стремление рождается в нём только тогда, когда родится стремление психическое. Половое желание для него свято только тогда, когда оно выражение своеобразно мистического духовного тяготения двух христианских душ.
Отсюда понятна 33-х-летняя борьба св. Иоанна Многострадального против похоти, против беспредельного желания плоти. С таким желанием христианство борется, как с чем-то вторичным, наносным, навязанным человеку.
В христианстве брак есть великая тайна по образу святейшего единения Христа и Церкви, это откровение любви ко всем, маленькая Церковь. Чадородие благословляется, как путь спасения для женщин.
А аскетизм? Но тут не только не противоречие, а единственное всестороннее решение вопроса. В браке свято психофизическое единение. В девстве св. Иоанна проявляется борьба с чисто-физическим, точнее наносно-физическим – греховным. Но если так, то ясно, что аскетизм и есть культура духа и тела. Пусть г. Розанову и другим аскетизм в христианском смысле кажется слишком широким, но они не могут не признать, что, по крайней мере, в первой своей половине он есть борьба за здоровье тела, за первичную гармонию физической жизни.
Тогда против чего же ратовать?
Ясно, что христианский аскетизм не враждебен красоте тела и его здоровью, а ищет этого здоровья, хочет, как мы уже указали, создать именно такое тело, в каком может обитать дух. Дух может жить с телом, но не с наносной грязью. Не думаю, чтобы такой культ плоти был ниже языческого. Однако, нас призывают именно к языческому культу.
Что же такое тогда языческий культ тела? Несомненно, что, в отличие от христианского, языческий культ тела, главным образом, будет состоять в поклонении постоянно накапливаемой силе полового желания (Венера) и то же постоянно выраставшему инстинкту хищнической силы (Ахиллес). Проповедуя так называемую чистую красоту, хотят лишь возродить культ Диониса, культ чистого наслаждения и опьянения ради опьянения. Зачем же нам воскрешать тих старых богов, от которых мы уже отказались?!
Во всяком случае, если они и потребовались теперь для чего-то, то всё же поклонение им невозможно синтезировать с христианской красотой. Здесь христианство и язычество отрицают друг друга по существу в самих основах, здесь два полюса. Принять Диониса – значит отречься от Христа: tertium non datur. Зачем думают „новые“ христиане повести нас от таинства плоти к Елевзинским таинствам, от агап к культу Венеры и Диониса?
IV.
Синтез христианства с язычеством это, как мы сказали, в некотором роде философская формула „нового христианства“. Гораздо чаще этому христианству будущего дают формулировку, значительно более упрощённую, так сказать, вульгарную. Сущность её в следующем. „Новое христианство не враждебно жизни, не проповедует борьбы против жизни, не громит проклятиями невинные развлечения свободного часа“ (Южный Край). Оно (новое христианство) не вмешивается в чужое царство, ограничивая сферу своего действования „богослужебной пластикой и совершением таинств“ (В.В. Розанов). Оно не стесняет естественного стремления к личным радостям, не требует непрерывного подвига самоотвержения, примиряет искания „моей“ радости с жизнью для другого (Южный Край. Статья о свящ. Петрове).
В этом отличие нового христианства от „ферапонтовщины“, теперешнего исторического христианства, то „новое слово в христианстве, которое создаст царство Божие на земле“.
Новое ли это слово? Я напомнил бы, что это христианство, не враждебное радостям жизни, можно отыскать во всех переделанных с римско-католических курсов учебниках нравственного богословия.
Те самые истины, „что человек может искать благ мира, только с условием не делаться их рабом, что человек может провести ночь в танцах, если на утро встанет со свежей головой и пойдёт к должности (буквально), что человек должен отдать 20–22 часа для ближнего, но два может взять и себе, что в его рубле только 50 коп. принадлежат ближнему, а 50 к. его“, – всё это гг. Тамарин и Розанов нашли бы, например, в учебнике нравственного богословия профессора Олесницкого.
Да, это христианство учебников.
Но такое христианство без подвига и отречения, приспособленное ко вкусам, приниженное, подогнанное под рост нового человека, не есть Христово. Оно действительно не помешает дожить до лет Авраама, как выражается В. В. о новом христианстве, но именно потому, что не поднимает человека, а оставляет его в области его обычных эгоистических стремлений, в сфере деятельности, определённой требованиями самосохранения.
И настоящее христианство радостно. Оно благословляет всякую святую радость, радость семьи, искусства, дружбы, беседы.
Я почти не могу представить себе восточного подвижника иначе, как с улыбкой радости на лице...
Ощущение будущего царства Божия переживается и здесь на земле, по мысли св. Макария. А пасхальный канон св. Иоанна Дамаскина, этот восторженный, безгранично широкий крик радости, разве он не выражение сущности христианства?
Первое чудо Спасителя было освящением радости.
Помните у Достоевского. И не доставшу вину, глагола Мати Иисусова к Нему: вина не имут.., – доносилось до Алёши чтение Евангелия... Ах, да, – шепчет он, я тут пропустил, а не хотел пропускать, я это место люблю. Это Кана Галилейская... Первое чудо... Ох, это чудо, это милое чудо. Не горе, а радость людскую посетил Христос, в первый раз сотворяя чудо, радости людской помог... „Кто любит людей, тот и радость их любит“... Это повторял о. Зосима поминутно, это одна из главнейших мыслей его была... Глагола ей Иисус: что есть Мне и Тебе, жено, не у прииде час Мой. Глагола Мати Его слугам: еже аще глаголет вам, сотворите... Радость, радость каких-нибудь бедных, бедных людей! Уж конечно бедных, коли даже на свадьбу вина не достало... И знало же другое великое сердце другого великого существа, бывшего тут же, Матери Его, что не для одного лишь великого, страшного подвига Своего сошёл Он тогда, а что доступно сердцу Его и простодушное, не мудрое веселие каких-нибудь тёмных, тёмных и не хитрых существ, ласково позвавших Его на убогий брак свой... Не пришёл ещё час Мой, Он говорит с тихой улыбкой (непременно улыбнулся ей кротко). В самом деле, неужто для того, чтобы умножать вино на бедных свадьбах, сошёл Он на землю? А вот пошёл же и сделал по её просьбе... Други мои, просите себе у Бога веселья: будьте веселы, как дети, – завещает Зосима.
Кто любит людей, тот и радость их любит.
Христианство, действительно, радостно, но оно требует, чтобы человек искал радости в нём самом, в самом христианстве, а не на стороне...
Возьмём для примера брак, как сожитие двух: это радость, освящённая Богом.
Сущность этой радости – в счастье слияния двух душ, духовном единении двух совестей; радость брака – радость осуществлённой заповеди Христовой о единении.
Счастье здесь есть в то же время и христианский подвиг... Муж и жена в браке берут на себя крест отречения от себя в пользу другого и будущих детей. Но это в то же время радость и с христианской точки зрения, понятно её празднование в Кане.
Чего же хотят проповедники нового христианства? Как выражается г. Розанов, они желают, чтобы христианство допустило радость за границей христианства, чтоб оно, например, позволило в браке видеть радость не только в этом счастье единодушие и подвиге любви, а и ещё в чём-нибудь постороннем христианству (в культе Диониса?).
Но такой радости христианство, конечно, не позволит. Само требование её нам кажется странным недоразумением мысли. Если христианство есть „жизнь“ – цельное мировоззрение, то, конечно, не может быть такой сферы деятельности, в которой действовал бы посторонний закон. Христианство может простить, если человек, по слабости, не руководится везде во всех своих отношениях началами самоотвержения, но считать позволительным, возводить в закон жизнь по стихиям мира рядом с исповеданием христианства, – оно, понятно, не может.
V.
Если в Евангелии дан идеал жизни, то непонятно и невозможно, чтоб христианство допускало отдельные часы и минуты, когда человеку позволительно было бы жить вне Евангелия, уйдя из ограды евангельского идеала. Куда же человек денет эти идеалы в такие часы? Что это за христианство с отпусками и антрактами? Христианство не может признать законным, чтобы ставший под знамёна Христа выходил из-под знамён, чтобы погулять на стороне, развлечься и отдохнуть, а потом снова вернуться к жизни со Христом. Такие отпуска для развлечения и радостей в другом месте – дезертирство, измена Богу, „блудодеяние“.
Христианство обязательно соединено с аскетическим требованием „всё до конца“... Христианство, повторяем, прощает человека, если он не уходит далее известного предела в следовании за Христом, но не может объявлять позволительным какое-то полу-делание, христианскую полу-любовь. Если человек отдаст из своего имущества 50%, то почему он остановится здесь?.. Значит, у этой границы сердце его смолкает?
Пусть он отдаст 98% и остановится здесь, не ясно ли, что он вовсе не двигается вперёд, а стал хуже, чем тогда, когда делал первые шаги. Тогда он шёл, теперь остановился.
Не врагами, а созидателями жизни были христианские подвижники, когда считали для себя „даже воздух стяжанием неправедным“. Полные любви к ближнему они совершенно последовательно думали, что каждая лишняя крошка хлеба будет хищением у этого ближнего, и потому не по ненависти к телу, а по побуждениям искреннейшего альтруизма ограничивали до existens-minimum свои потребности... (Поселянин). И, конечно, никакая логика ничего не может возразить против этой логики бесконечно любящего сердца...
Аскетический принцип – начало полного отречения неотделим от христианства, если оно не стало лицемерием. Но, конечно, вместить только „могий вместити“.
VI.
Проповедники нового христианства, вместо аскетического подвига вечного совершенствования, предлагают другой, будто бы более прямой, путь. Быть христианином, пишет г. Розанов, передавая взгляды священника Петрова35, значит, как бы идя посреди улицы, направо и налево кидать мешочки, или в душе своей растить, но без хитрости и вывертов и аскетического наркоза, неистощимый колос доброго пожелания, доброго расположения и, срывая с него вечные зёрна, бросать в жаждущую и ищущую толпу.
„Кто-нибудь скажет: тут нет философии! А не есть ли тут самая большая философия, окончательная философия христианства, далее которой идти опасно“?
„И Петров, – заканчивает г. Розанов, – не идёт дальше этого простого, трезвого добра, просто как здоровый человек, который хочет прожить так долго, как Авраам, и не хочет, рисковать ни физическим, ни душевным своим здоровьем“.
Что это за путь? На этот вопрос отвечает роман Шельдона: По стопам Христа, по поводу которого и сказаны предыдущие строки.
Действующие лица романа, после одной беседы пастора, решили идти за Христом... и пошли. Пошли в трущобы „прямого угла“, устраивают там беседы, просвещают, плачут с жертвами этих трущоб, жалеют и раздают добро направо и налево.
Вот этот прямой путь.
Да, действительно, этот путь слишком без философии!
Так просто можно раздавать по улицам только копейки или мешки с копейками, а не добро... Добро нужно сначала в себе вырастить, а только потом можно творить добро, действительно могучее. Не то, конечно, это значит, что до той поры не нужно ничего делать... Нет, это значит только то, что не нужно думать, будто делание добра столь лёгкое дело, как подача копейки...
„Любовь учительница, но нужно её приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгой работой и через долгий срок, ибо не на мгновение нужно любить, а на век, навсегда“.
Оттого и аскеты-христиане, уходя от людей, сначала раздавали всё и с радостью делали добро, как умели, направо и налево, но считали это ещё делом только начальным и несущественным. Служение людям всецело душой, а не деньгами, они считали не так уже лёгким, и правильно думали, что его можно успешно совершить только с выработанной душой. Они уходили из мира не для того, чтобы совершить только своё спасение, не убегали от служения, а шли служить своей молитвой и готовиться к служению и делом и молитвой.
Христианский аскетизм есть деятельное служение нравственному возрождению человеческих обществ и утверждению в мире царствия Божия. Любовь к ближнему во имя Божие наполняет сердце аскета и в начале его аскетических подвигов, и в конце его подвижнической жизни (А. Гусев. 448, Пр. Об. 1878, июль).
Г. Розанов предостерегает против обольстительного и болезненного наркоза аскетизма, который устами св. Исаака проповедует, будто человек должен сдерживать милосердие и ожесточать сердце своё, чтобы попечения о дольнем т. е. о людях не отвели его от Бога. Человек, таким образом, по св. Исааку, должен уклоняться любви к ближнему, как обольщения...
С глубокой болью читаем мы эти слова. Св. Исаак оказывается человеконенавистником. Но у него более, чем у кого-нибудь любовь к ближнему в Боге есть начало и конец аскетизма.
Вот поучительные и интересные для нас советы св. Исаака. Эти наставления даются аскетом отшельнического типа и, однако, что именно проповедует он и им? „Чтобы вытеснить из души человека не только грех действительный, но и саму наклонность к греху, св. подвижник требует полного одушевления с любовью к ближним. Св. Исаак от стремящихся к аскетическим подвигам требует сперва научиться любви к ближнему. Деятельная любовь к ближнему, одна она делает дух его способным для чистой любви к Богу.
В начале подвига необходимо сожительство со многим.
Горе пустыннику, если он в пустыню внесёт страсти свои. А это легко может случиться, если человек не проходит в начале подвига сопряжённого с выполнением заповеди о любви к ближнему, где при беспрерывных столкновениях с людьми воспитывается его душа. Только верное и постоянное выполнение заповеди о любви к ближнему отверзает ключ к божественным дарованиям и вместе служит верным признаком того, что есть в человеке, и что даёт себе знать любовь созерцательная и истинная к Богу.
Этим путём шли, по святому Исааку, все отцы и св. Василий Великий и Макарий и др.
Все они шли от любви к ближним и ей кончали.
В пустыню они уходили от людей, но какая цель этого ухода? Убежать „обольщения любви к близким“, удаляющей от Бога? Нет. „Воспитать такую любовь, чтобы человек, если он и 10 раз отдаёт себя на сожжение за любовь к людям, не удовлетворялся бы этим“ (Слова св. Исаака).
Аскеты никогда не одобряли уклонения от служения человеку.
Златоуст, будучи горячим сторонником современного отшельничества и сам строгий аскет, в то же время часто выражал глубокое сожаление, что пустыня отвлекла от мира и общества лучших людей того времени и лишала их благотворного влияния на народную массу. И сам Иоанн был непрестанным и неумолимым общественным деятелем, близко принимавшим к сердцу общественные интересы и нужды современного ему общества.
Даже Симеон Столпник, вознёсшийся как бы над самой землёй и, по-видимому, совершенно разорвавший связь с земной жизнью, не только с своего столпа утешает скорбящих, научает жаждущих истины, проповедует покаяние, но и пишет письма к правителям и пастырям Церкви (Гусев).
На удаление в монастырь аскеты смотрят, как только на приготовление к служению в мире; и мы знаем, что многие аскеты из пустыни действительно выходили в мир с душой, готовой для добра и сильной, чтобы побеждать во Христе любовью, как Василий Великий, Златоуст, Антоний Великий. В пустынях христиане созидали в себе ту любовь к человеку, которая подняла на воздух св. Макария во время его молитвы о людях и их благоденствии, ту горячую проникновенность в чужую, грязную и страдающую душу, какой отличаются старые подвижники.
А эти новые христиане, следующие будто бы „по стопам Христа?“
Какое право имеют они думать, что они нравственно выше той толпы, которую просвещают и якобы спасают? Где в них самих та нравственная сила, какую они думают переливать в других, откуда у них возьмётся та чуткость души, которая укажет им истинный путь воздействия? Не есть ли только брезгливое высокомерие эта проповедь, и попытки благотворить из своих кабинетов не есть ли это „хождение по путям Христа“, без своей души, только сантиментальное развлечение?
Когда пастор Мексуэл (в романе „По стопам Христа“) предлагает идти по стопам Христа, проверяя этими стопами каждый шаг, ему задаётся вопрос: „но откуда нам знать, как поступил бы Христос на нашем месте? Кто решит для меня, что делал бы Он в данном случае, благословит Он моё дело или нет“? Максуэл не даёт ответа, но, конечно, эти вопросы вполне естественны. Нужно, действительно, знать, как бы поступил в данном случае Христос, а для этого требуется проникнуть в Его волю, сжиться с ней, действовать не наугад, а углубившись в тайники своей души: процессом своего усовершенствования сделать свою душу способной всегда чувствовать путь Христов, чтоб идти по нему действительно твёрдой стопой.
Но это именно и есть задача аскетизма, подвига личного совершенствования. Собрать свою душу, сконцентрировать, извлечь наверх всё доброе в душе, создать в себе способность отодвигать назад эгоистические стремления духа, подчиняя их любви, – всё это может сделать и делает лишь то, что зовётся нравственным воспитанием духа, или по-гречески аскетикой.
VIΙ.
Г. Розанов, не ведая порядком ни христианства, ни аскетизма, толкует об „аскетическом наркозе, обольстительном, опьяняющем яде аскетизма“. Но в действительности наркоз не на стороне аскетизма.
Та любовь к ближнему, о которой говорит, хотя бы, например, книга „По стопам Христа“, часто действительно наркоз, самовнушение: человек эстетически вдохновляется красотой любви, искусственно возбуждает себя в этом направлении и только в наркозе самовнушения готов отдать жизнь за ближнего. Это состояние очень знакомо и аскетам, но ценилось по достоинству: они назвали его состоянием „прелести“. Это настроение самообольщения. В большинстве случаев эта любовь в сущности есть влюблённость в себя, в своё величие, это аффект на эстетической основе, а не настроение. Аскетизм осуждает аффект. Он желает создать безграничную любовь, как пребывающее, настроение, как спокойную и постоянную стихию жизни. Иоанн Милостивый своим дыханием согревает прокажённого. „Какой надрыв лжи,“ – говорит по этому поводу Иван Карамазов.
Да, это можно сделать именно в психопатическом надрыве, так и бывает у „эстетов“. Любовь богоискателей христианства „конца и начала века“ без аскетического её воспитания всегда будет только надрывом. Но Иоанн Милостивый делал своё дело без надрыва, как спокойное, неотклонимое требование воспитанной в любви души.
Это любовь аскета.
* * *
Надеюсь, никто не подумает, будто я не желаю, чтобы нашлись хотя бы такие христиане, которые под влиянием случайных впечатлений пойдут служить ближнему. Нет, да будут благословенны и они, но я боюсь, что такие делатели строят без фундамента; их делание непрочно, пока они не положат в основу своего делания заботу о созидаемых души своей, в орудие созидающего жизнь и человеческое счастье Духа Божия.
Может быть, практически проповедь укороченного „христианства с отпусками“ некоторым покажется всё-таки полезной. Люди так отвыкли понимать подлинное христианство, что, думают иные, хорошо, если примут хоть христианство в 50%. Но зачем это разжиженное христианство объявляют „новым фазисом“ в развитии христианства, новой совершеннейшей его концепцией. Ведь у богоискателей этот „новый фазис“ служит ступенью к упразднению подлинного христианства.
Пусть не будет этого. Не следует обкрадывать христианство, чтобы сделать его более легко-приемлемым. Проповедники! – скажем словами пастора Брукса, есть предел, за которым приспособительность делается слабостью. Есть нечто, чего св. Павел не потерпел бы, чтобы быть всем для всех. Мы должны давать нашим слушателям истину, а не то, чего они желают. Считайте недостойным вас, как служителей Евангелия, утешать скорбь и утолять чужую жажду из источника только на половину евангельского; опасайтесь предлагать чужой алчущей душе удовлетворение в другом месте, помимо высоких радостей духа. Самое печальное время жизни учителя, я думаю, то, когда он оставляет учительство с сознанием, что дал своим слушателям не то, что имел наилучшего, а только то, чего они требовали, чтобы успокоить мятущуюся совесть. „Подменять христианство для успеха проповеди стоицизмом, или одной моралью без внутреннего возрождения, направляемого богооткровенным догматом, той моралью, которая эстетикой „хороших поступков“ лишь прикрывает религиозную пустоту их, в наше поворотное время, преступно“ (Тернавцев).
И. Михаил
Григорьев К. Отношение христианства к государству по воззрениям гр. Д.Н. Толстого36 // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 401–415
Но как далеко позволительно христианину заходить с своей поддержкой содействием государству, – вот в чём вопрос. Вопрос этот, абсолютной моралью не решаемый, решается в каждом государстве в известную эпоху различно, в зависимости от нравственного развития народа. Господь, связав христианский прогресс с государственностью, предотвратил анархизм в области истинно-христианской жизни, с божественной мудростью умолчал о точной и постоянной границе между τὰ Καίσαρος и τὰ τοῦ Θεοῦ. Принеся в мир новую закваску, которая должна произвести всемирное брожение в различных местах и в различное время различное по силе и. содержанию, Он предоставил ход дела благодати естественному нравственному развитию человечества и формирующей силе жизни. Христос указал общую рамку процессу развития духовного человечества, предоставив последнему самому устанавливать взаимоотношение частностей при свете небесного идеала и земной действительности. И в связи с успехами и неудачами движения по пути нравственного совершенствования перемещалась и должна перемещаться граница между, кесаревым и Божиим. В своё время рабство, пытки и аутодафе не считались противными Богу по суду христианской совести, и относительная христианская этика не восставала против этих установлений. Но с дальнейшим шагом развития та же христианская совесть запротестовала против такого τὰ Καίσαρος и в конце всего добилась устранения из государства того, что признано безбожным. История христианской эпохи представляет длинный ряд приспособления области кесаря к требованиям воли Божией и наоборот. Умолчание Спасителя о точном содержании кесарева открыло безграничный путь прогресса государственной организации и функций под воздействием христианства. Непременное условие этого прогресса – сохранение принципа общественности, реформа общественных форм через общественное мнение, „мiром“ и „миром“, недопущение анархического индивидуализма и насилия революционного. Представителем этой общественности является кесарь, которому, по завету Христову, надо оказывать поддержку и содействие.
В добавление к обследованным важнейшим евангельским свидетельствам, доказывающим совместность государственной власти и подчинения с христианством, укажем евангельские факты, говорящие об уважении Иисусом Христом правового строя современного ему общества. Когда к Нему некто обратился с просьбой разрешить спор о наследстве, Господь отказался, не признавая за собой права на суд. „Кто поставил Меня судить или делить вас“, – отвечал Он просителю 37. Спаситель был строгим обличителем фарисеев и священников еврейских. Он гневно и беспощадно срывал с них маску напускной набожности и смело, и сильно изображал их растлевающее влияние на народ. Но, когда Ему приходилось касаться их юридических прав, Он сохранял неизменное уважение к закону. Исцелив прокажённых, Иисус сказал им: „Пойдите покажитесь священникам“, велел выполнить то, что полагалось по закону38. Предостерегая народ от подражания жизни, поведению своих вождей, Господь в то же время говорил: „Всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте“39.
Выводы, какие следуют из рассмотрения евангельского учения по отношению к государству, представляются весьма ясными. Иисус Христос во взгляде на государственную власть разделяет обще-еврейское верование в богоустановленность её, утверждал обязанность повиновения ей и чтил вообще правовую организацию общественной жизни. Относительно последней мысли, некоторое дополнение и усиление можно найти у Гарнака: „Иисус, – говорит он, – со всеми истинно верующими людьми был глубоко убеждён в том, что Бог Сам в конце всего воздаст по справедливости. Если Он не водворит правду здесь, то водворит её там (в будущей жизни). В такой концепции идея права, в смысле справедливого мздовоздаяния, отнюдь не была для Иисуса негодной, но возвышенной и даже доминирующей. Она определяет собой царскую функцию (Majestäts funktion) Божества... Итак, не может быть никакой речи о том, будто Иисус радикально осудил право и правоотправление (Rechtgübung). Скорей того каждый должен будет получать по справедливости, и ещё более: сами ученики Его примут участие в суде Господнем и будут судить“40.
Что касается текстуальных оснований толстовского отрицания государственности, то единственное серьёзное из них заключается в X гл. Евангелия Марка. После того, как известная просьба сынов Заведеевых, Иакова и Иоанна, изобличившая власто-и-честолюбие просителей, вызвала негодование в других учениках Спасителя, Он подозвал их всех к Себе и сказал: „Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой; и кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом“41. В толстовском изложении Евангелия это место читается так: „Вы ошибаетесь: только в мире считаются цари и начальники, чтобы им управлять народами. А между вами не может быть ни старших, ни младших. Между вами, кто хочет быть первым, тот считай себя последним“42. Как в толстовском, так и в подлинном Евангелии полагается, по-видимому, глубокая пропасть между жизнью государственников и христиан. Можно подумать, что правовой порядок жизни с его блюстителями здесь осуждается, и на его место поставляется свободный союз свободных людей, объединяемых смиренной любовью. В этих мыслях есть доля правды, но, чтобы увидеть всю правду, надо вспомнить, по какому поводу Господь сказал приведённые слова. Кажется, никто не будет спорить против того, что просьба сынов Заведеевых изобличала их взгляд на царствие Божие, как „на царство человеческое“, и невысокость их идеалов, по которым видное положение в государстве, слава, почести, власть есть нечто высокое, ценное, желательно само по себе. Господь, увидев это, спешит исправить мысль и чувство Своих учеников, обращая их внимание на единую святую силу царствия Божия, которая чужда власто- и-честолюбия и земных расчётов, – силу самоотверженной разумной любви и взаимного служения людей. „Кто из вас, говорит Он, больше разовьёт эту силу, тот будет выше других в царствии Моём“. Как видно, всем этим Христос осудил в очах Своих учеников всякие власто- и-честолюбивые мысли, которые в греховном мире не только не осуждаются, но ещё и одобряются. Вместе с тем Его осуждение пало и вообще на идеал учеников, освящавший действительность и, может быть, только едва возвышавшийся над ней. Поэтому, Он ставит перед их умственным взором идеал святости царствия Божия, по которому должно преобразовываться царство человеческое, и который должен всегда гореть перед христианином путеводной звездой и увлекать его всё выше и выше. Не властолюбием и честолюбием должен увлекаться христианин, а любовным попечением о людях, повышением их нравственного разумения и жизни. Всё это в приложении к государству ведёт не к отрицанию его, а к введению в его организацию духа любви и доброжелательного служения людям, к христианизации его. Осуждение Господне пало на эгоистичных властителей, силой и страхом властвующих над народом, но оно не коснулось тех правителей, которых по справедливости можно назвать слугами Бога и народа, руководящихся в своей деятельности разумной любовью к людям, правителей-христиан. Истинно-христианское правительство непременно основывается на альтруистических опорах и не есть, как говорит В. С. Соловьев, только обладатель всех прав, как языческий кесарь, но главным образом есть носитель всех обязанностей христианского общества43… Господь властно перевёл внимание учеников от нечистой действительности к белоснежному образу идеала, носителями которого они призваны были быть, чтобы они действительность рассматривали не иначе, как в свете чистой праведности, и её осуществляли, насколько то возможно. И христиане во имя этого идеала должны служить миру, помогать ему возрастать в полноту святых сил, пользуясь для этого всем, что само по себе нравственно безразлично, что может содействовать их миссии: властью, повиновением, богатством, нищетой и проч. Но всегда они должны „служить“ людям и их верно понятым интересам, а не „властвовать“ по своей прихоти и произволу. Только к морализации государства побуждают приведённые слова Спасителя, а не к отрицанию, уничтожению его, да ещё, заповедуя христианину быть слугой, конечно, разумным всем, устраняют крайний индивидуализм.
В Евангелии намечены лишь основные идеи, касающиеся государства: богоустановленность власти, обязанность повиновения ей, ограниченного повиновением Богу, уважение к праву. В апостольских творениях те же мысли высказываются яснее, отчётливее и подробнее. Власть здесь признаётся богоустановленной так ясно, что никакие криво-толкования делаются невозможны44. Подчинение правительству, содействие ему делом и молитвой вменяется в важную обязанность христианина45; но как и в Евангелии эта обязанность ограничивается религиозным долгом наибольшего повиновения воли Божией46. Вообще же правовой строй жизни, связанные с ним государственные должности и повинности, а также и право Христовыми апостолами признаются вполне совместимыми с христианством47. Подробно останавливаться на изложении апостольского учения о государственности не приходится в виду того, что для толстовцев апостольского авторитета не существует, так как им доподлинно известно, что апостолы неверно поняли учение Христа, вернее, что св. апостолы своим учением особенно очевидно осуждают последователей графа. С другой стороны, приводить подлинные слова апостолов и факты новозаветной истории нет нужды потому, что их знает, кажется, каждый грамотный христианин. Отметим ещё одну апостольскую мысль, выражающую то, что в Евангелии только подразумевалось. Как божественное установление, государственная организация жизни должна иметь и ценную, достойную божественной санкции, цель, осуществлять которую она призвана на земле. Приведём слова первоверховных апостолов, в которых указывается такая цель, как достаточная причина повиновения власти. „Будьте покорны, пишет ап. Пётр, всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро“48. Ап. Павел то же назначение государства указывает в более широком всеобъемлющем смысле: „Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины“49. Как видно, по мысли апостольской, государство имеет нравственно ценную цель своего существования: умиротворение людей, обеспечение им безмятежной жизни, борьбу с преступностью, содействие нравственному совершенствованию человечества и, следовательно, спасению людей, что особенно „хорошо и угодно Спасителю нашему Богу“. Как этическое по природе и идеальным целям своим учреждение, государство освящается и благословляется Богом, и это так естественно, что не может вызывать недоумений: добро всегда благословдяется добром. Что замечательно в приведённых словах ап. Павла, так это сближение благотворных результатов государственной организации с делом спасения людей, мысль о государственности, как некотором условии усвоения обществом (а не отдельной личностью) правды царствия.
Уж если апостолы Христовы имеют в глазах Л. Толстого меньший авторитет, чем какие-нибудь квакеры и менониты, то, конечно, не больше весу имеют для него свидетельства наиболее близких к апостолам и апостольским временам христианских учителей. Проф. А.Ф. Гусев в своём труде: „Основные религиозные начала гр. Л.Н. Толстого“ приводит мысли мужей апостольских: св. Климента римского, Иустина мученика, Иринея лионского, по которым власть признаётся установлением Божиим, обязанность повиновения ей необходимой, вообще же государство – учреждением благодетельным50. С своей стороны, мы могли бы указать много подобных мыслей у древних христианских апологетов: Татиана, Афиногора, Феофила антиохийского, Мелитона сардийского, Минуция, Феликса51. Св. Феофил, например, писал в первой книге к Автолику: „Царю некоторым образом вверено от Бога управление... Царя почитай благорасположением к нему, повиновением ему, молитвой за него. Поступая так, исполнишь волю Божию“52. Афиногор в своём прошении о христианах говорил Марку Аврелию, Люцию и Аврелию Коммоду о всех христианах, что они „преимущественно перед всеми питают самые святые достодолжные расположения к Божеству и царской власти“53. Такой взгляд и такое отношение было у первых христиан к власти языческой. Если бы анархические идеи были сродны христианству, то они, несомненно, с чрезвычайной силой проявились бы во время диких гонений языческого правительства на последователей Распятого. Но этого не было. Христиане оказывали повиновение власти, допуская только словесный протест и пассивное сопротивление только требованиям вероотступничества. Языческий характер власти, гонения, государственность, как основанная на почве испорченности человеческой природы и напоминающая о роковой победе зла над добром, хотя и направленная на ослабление зла, – всё это едва-едва и то в очень немногих отдельных лицах побеждало в древности общехристианское уважение к власти и долг законного повиновения. Одно, в чём не уступали и не повиновались первые христиане государственной власти, – это новая их вера Христова, за которую они шли на кресты, костры и в когти диких зверей.
Вообще, кажется, можно решительно утверждать, что ни Евангелие, ни апостольские творения, ни христианская древность не дают в руки Л. Толстого никакого оружия для защиты его анархизма. Наоборот, всё говорит за то, что по истинно-христианскому убеждению всех времён государство, как своеобразная система средств борьбы со злом, есть установление весьма ценное и богоблагословенное. Л. Толстой в своей проповеди безгосударственного строя жизни на началах непротивления остаётся только с духом христианства в руках, „ошибочно истолкованным“, под влиянием утилитарно-реформаторских поползновений и философских верований, с христианством, „слепо“ втискиваемым в наличную жизнь. Потерявший веру в личное бессмертие, но сохранивший жажду счастья собственного и всеобщего, утративший истинное разумение христианства, но сердцем учувствовавший мир, преобразующую силу его, граф невольно пришёл к эксплуатации Евангелия в интересах земного благополучия. Увлекательная мечта осчастливить человечество заставила его похитить из цельной картины царства Божия драгоценный камень непротивления и попытаться этим камнем создать царство Божие на земле. Но то непротивление весь смысл и цену свою получает, как часть от целого, от всей картины, а само по себе такой цены вовсе не имеет и заменить собой царство Божества, ввести в него вовсе не может. И тем более оно неспособно оправдать надежд похитителя, что как взятое из другой жизни, непригодным оказывается для современного обитателя грешной земли, непригодным и для того, кто принимает его (духоборы-толстовцы), и вредным для тех, около кого осуществляется оно (канадцы). И если Прометей, похитивший огонь с неба и осчастлививший человечество, был, по суду богов, жестоко наказан за святотатство, то современный Титан из Ясной Поляны находит себе тихое и печальное осуждение в сердцах истинных христиан...
Читатель был бы наверное не удовлетворён, если бы мы кончили свою речь об отношении христианства к государству опровержением толстовских суждений на эту тему и доказательством богоблагословляемости государственного союза, не давши никаких суждений по вопросу о взаимном жизненном отношении τὰ Καίσαρος и τὰ τοῦ Θεοῦ. Мы выше видели, как Л. Толстой разделяет Кесарево и Божие, относя к первому „деньги, имущество, труд“, ко второму „душу“. Такой взгляд, высказываемый нередко в западноевропейской и русской литературе, в самое последнее время повторил в Германии известный учёный А. Гарнак. Приведя слова Христа о воздаянии кесарева кесарю, почтенный профессор говорит, что Спаситель провёл здесь непроходимую черту между государственной и христианской жизнью, что „Бог и император суть владыки совершенно различных сфер“. Спорный вопрос, предложенный фарисеями, Христос разрешил указанием на эту пропасть, которая так велика, что никаких столкновений быть не может. Монета есть нечто земное и носит образ кесаря, так пусть отдают её кесарю, но и в этом заключается восполнение мысли. Душа и все её силы ничего с тем общего не имеют; они принадлежат Богу54. Как мы уже замечали, такое решение поставленного вопроса имеет важный недостаток в том, что оно предполагает невозможной и несуществующий дуализм в человеке, коренное отделение деятельности от действующей души. Та же сама душа, которая творит Божие, выполняет и кесарево, и если человек призван Самим же Богом к выполнению, между прочим, государственных обязанностей, то, очевидно, пропасти непроходимой между τὰ Καίσαρος и τὰ τοῦ Θεοῦ нет. Это подтверждается ещё несомненными и многочисленными фактами столкновений этих двух царств, столкновений, из которых первое окончилось Голгофской Жертвой. Всё заставляет обратиться к другому решению вопроса об отношении христианства к государству, которое (решение) ведёт к теории христианского государства55.
Уже сама по себе богоустановленность государственной власти даёт ясно понять, что государство связано с христианством жизненными нитями. Ведь, если бы государство было враждебно христианству по природе и целям своим, если бы оно не могло приобщиться духа христианской жизни, то Господь не мог бы благословить государственную организацию народной жизни и обязать христианина подчиняться кесарю. Один и Тот же Бог санкционировал государство и дал христианский закон жизни; значит, государство имеет какое-то отношение к конечным планам Божиим, открытым в христианстве, т. е. к царствию Божию. И с этой стороны приходится допускать, что непроходимой бездны между кесаревым и Божиим не может быть, что где-то есть пункт, объединяющий эти две области. Громадное значение государства для нравственного прогресса человечества и его способность к количественному и качественному усилению этого значения дают право утверждать, что такая конечная цель, осуществлению которой должно содействовать государство, есть осуществление царства Божия. Так необходимо думать потому, что для всего земного вообще христианством поставляется одна все-объединяющая цель – царствие Божие. Гр. Брандис, Мюлер и Шталь особенно ярко высказывают эту мысль; по их утверждению, „государственная власть установлена Богом (непосредственно) с тем, чтобы вести людей к царствию Божию; отсюда следует, что государство должно стать христианским, дабы исполнить своё назначение“.
Против такого соображения возражают, что „божественное происхождение власти никак не может служить обоснованием специально христианского государства, так как по смыслу Писания и власть татарского хана и турецкого султана так же установлены Богом, как и власть его апостолического величества или христианнейшего короля“56. Возражение это бьёт мимо цели: мы говорим о том, чем может быть и должна быть государственность, а возражение указывает на то, что есть на лицо. Богоустановленность государственности ручается именно за то, что всякое государство способно служить конечной цели человечества и указывает на то, что оно с точки зрения христианина должно служить такой цели, т. е. водворению царствия Божия. Всякое государство от Бога, и должно творить волю Его, „Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины“57. Если же турецкое государство не содействует достижению этой цели, то ведь этот факт горячего поклонника Голгофского Страдальца может лишь подвигнуть на дело противо-мусульманской миссии и потрудиться над покорением Магомета Христу и царства первого – царству Второго. А пока со-просвещённые христианством государства по-своему служат, насколько могут, воцарению на земле естественной праведности, приготовляя людей к праведности благодатной. Такое значение за государством вообще надо признать даже с точки зрения толстовской, по которой „общественное жизнепонимание“ и, следовательно, государство представляют шаг вперёд к „Божескому жизнепониманию“ и царству Божию, только у графа своеобразное понимание последнего жизневоззрения и жизнеустройства. Да и весьма было бы странно, если бы Христос, принеся в мир новую закваску, которая должна произвести всечеловеческий процесс брожения, государство поставил вне потока этого брожения. Государство, самое крупное и мощное из всех человеческих учреждений, притом получившее санкцию христианскую, не может и не могло не привлекаться христианством на служение истине. Господь отделил religio от regio и дал международный, универсальный характер Своему делу не для того, чтобы кесарево навсегда осталось в стороне от Божия, но, чтобы кесарево, рассеянное по всей земле, свободно преклонилось перед Единым Божиим. Отлучённое от Божия кесарево должно было с тех пор свободно стремиться к Божию, которое составляет последнюю цель человечества. Если бы τὰ Καίσαρος имело в очах Господа самостоятельное значение и цель, независимую от царствия Божия, то оно было бы противобожественно и не получило бы благословения Божия. И если последнее дано государству, то единственно потому, что Господь поставил для него целью „Божие“, ввёл его в круг жизни христианской. Поэтому переворот, произведённый христианством в области религиозно-общественной мысли, сводится прежде всего к разделению принудительно-связанного (в язычестве) кесарева и Божия к низведению кесарева на второе место после Божия и в призвании кесарева к свободному усвоению Божия и преобразованию по образу последнего. Пропасть, положенная между τὰ Καίσαρος и τὰ τοῦ Θεοῦ, назначена была к пополнению, к уменьшению. Мост, связывающий границы этих двух областей, дан в человеке-христианине в единстве нравственной природы личности. Не может христианин, живущий в своей частной жизни по духу Евангелия, при исполнении государственных обязанностей и дел, руководиться каким-то особым „духом кесаревым“. Народ, просвещённый христианством и придерживающийся Христова нравоучения, не может государственную организацию и жизнь устраивать на совершенно других, нехристианских началах. Как государство не может не проникаться нравственностью вообще, так государство христианского народа неизбежно насыщается основами Христова нравоучения. Ведь человек не состоит из двух, совершенно не влияющих друг на друга, половин – государственной и христианской, но представляет из себя единую, цельную, нераздельную личность, которая остаётся такой и в храме, и в суде, и на дому, и в городской думе. А к такому именно делению человеческой природы приводит та теория, которая, признавая за человеком-христианином обязанности к государству, ставит последнему какие-то особые нехристианские цели.
Естественно необходимая христианизация государства у христианского народа должна становиться для последнего свободно-разумным делом, религиозно-нравственным долгом. Христианин и христианский народ по силе своих убеждений обязан проводить в государственную жизнь христианские начала нравственности. Это не значит, что Церковь Христова должна стремиться к захвату государственной силы и к охристианению народа и государства посредством этой силы. Нет, Церковь должна охранять свои благодатные и незыблемые устои нравственного союза верующих и отнюдь не обращаться к принудительным мерам. Она представляет собой и по нравственным принципам и по самим средствам осуществления своих целей, чуждых физической силы, идеал, по которому должен формироваться государственный строй. Церковь, действуя на душу народа, на его нравственность, через морализацию народа должна вести к христианизации государство, и конечная цель деятельности Церкви при этом всегда должна полагаться в осуществлении царства Божия. Ту же цель преследует по-своему и христианское государство, создавая в своих учреждениях и деятельности кристаллизованную христианскую мораль, которая, с своей стороны, христианизирующим образом действует на народ.
Здесь нам всегда могут возразить, что истинно-христианская жизнь несовместима с государством, и идеал государства не знает государственности, а потому христианского государства быть не может. Можно указать целую книгу, направленную против идеи христианского государства, основанную целиком на таком соображении. Разумеем L. Jacobowski «Der christliche Staat und seine Zukunft» (Berlin 1894). Такую же мысль можно было заметить и у Гарнака, мысль по существу совершенно справедливую. Действительно, царство Божие в полноте своего осуществления чуждо всякой государственности, и последнюю непосредственно нельзя связать с тем царством чистой святости и союза свободной, братской любви. Но как мы уже говорили, на государство нельзя смотреть и к нему нельзя относиться по требованию безусловного идеала христианской морали. С высоты этого идеала можно и всё наличное христианство живых людей признать нехристианским и наилучших христиан отнести к числу христианствующих язычников. Приходится смотреть на государство при свете абсолютной нравственности, но под углом преломления её лучей в атмосфере наличной несовершенной жизни. Только рассматривая его с точки зрения неизбежного компромисса идеала и действительности, который намечен Самим Господом, можно прийти к тем заключениям, к каким мы пришли. Нельзя требовать от людей в данный момент невозможного и по силе невыполнимых требований осуждать их. И термином „христианское государство“ мы вовсе не думаем заявить, будто такое государство входит в идею христианского общественного совершенства и требуется им. Такое название прилагается к государству, считающему себя орудием в осуществлении царства Христова и стремящемуся по мере возможности служить идеалу царства Божия. Так как указанное, по существу справедливое, выражение вызвано пониманием слов „христианское государство“ в смысле „идеально-христианское“, то мы согласны заменить такое сочетание понятий словами „христианизированное государство“. Это значило бы, что государство может проникаться началами Христова учения, но не может стать христианским, потому что последнее равносильно прекращению существования государства.
Как частный вывод из первого, возможно второе возражение. Выше сказано, что государство в самых своих мерах борьбы со злом должно приближаться к церковной организации, т. е. к такому состоянию, при котором принудительные меры стали бы не нужны. Но ведь это значит ставить целью государства уничтожение государства! Да, христианское государство в отличие от языческого имеет свою цель не в себе самом, а вне себя, в осуществлении царства Божия, и, конечно, с достижением этой цели оно должно упраздниться, как совершенно излишнее, бесцельное. Когда здание выстроено, леса не нужны, когда всё кесарево растворяется в Божием, тогда первое исчезает, и остаётся один „Бог – всё во всём“.
Когда христианство заставило признать языческую власть, что в делах веры надо повиноваться более Богу, чем человеку, тогда пала первая опора языческого государства. Теперь предстоит христианству изгнать языческий эгоизм из области права, изгнать, конечно, мерами духовными, „миром“ и „мiром“. Но сломивши безусловное верховенство государственности и проникнув в сферу правовых отношений, христианство ещё не может сказать про себя, что оно победило мир. Мир может принять от христианства оба этих дара, отвергнув третий и самый ценный – идеал царства Божия. И тогда христианство окажется обманутым, ограбленным, а обокравшее его государство не будет христианским, но может оказаться даже вообще безбожным. Глубочайшая сущность языческого государства в том, что оно хочет быть чисто-человеческим. Внутренняя основа христианского государства коренится в том, что оно хочет быть царством Бога, созданным союзом свободных личностей, объединённых между собой с Отцом Небесным узами святой любви. Его идеал божественно выразил Христос, когда молился о человечестве. „Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут едино, как Мы едино... та любовь, которой Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них“58. Отсюда третье и самое важное дело мировой миссии христианства – сообщение народам христианской религиозности, государствам – христианского идеала для руководства в деятельности. Христианство только тогда окончательно победит язычество в государстве, когда, снявши государство с божественного пьедестала, очистив его святой любовью, приведёт его к ногам христианского Бога. Тогда государства быстро и свободно пойдут к самоуничтожению в царстве Божием. Правда, Евангелие предупреждает нас, что до конца мировой истории будет существовать государственное устройство жизни59, и знакомство с человеческой природой подтверждает библейское пророчество, но Евангелие же призывает нас к напряжённому „исканию царства Божия и правды его“ и возбуждает нас молиться Богу: „да приидет царствие Твое“.
К. Григорьев
Итоги суждений о штундизме на Орловском епархиальном миссионерском съезде // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 416–420
Как известно, в г. Орле с 16 по 24 сентября минувшего года происходил миссионерский съезд, который был проектирован и организован в удовлетворение назревшим потребностям исключительно Орловской епархии. Но действительность превзошла всякие предположения и ожидания. Вместо чисто-местного епархиального съезда, по сообщению „Орловск. Еп. Ведом.“ (1901 г. №№ 45 и 48), получился по составу своих членов областной, чтобы не сказать полу-всероссийский, съезд. Значение его, конечно, лучше всего оценит история. Но уже и теперь оно живо чувствуется. В состав его вошли выдающиеся миссионерские силы отечественной Церкви. Здесь собрался целый сонм ино-епархиальных миссионеров, известных своей опытностью и своими литературными трудами. Здесь присутствовали многие ревнители православия, бывшие прежде раскольниками и сектантами и на основании личных опытов и наблюдений поведавшие съезду немало нового. Таким образом, было у кого и чему поучиться. Масса новых сведений была сообщена не только по истории и обличению расколо-сектантства, но и вообще по богословию и пастырской практике. Справедливо поэтому многие сельские священники называли Орловский съезд второй для них семинарией и даже академией. Не говорим уже о том благотворном значении, какое имел съезд для подъёма миссионерского духа среди священнослужителей епархии. Последние теперь хорошо поняли, что дело миссии не есть свободное художество одних присяжных миссионеров, а священный долг каждого православного христианина вообще, обязанность же пастырей Церкви и их ближайших сотрудников в особенности. Великую пользу принёс съезд и епархиальным миссионерам. Он восполнил их теоретические и практические познания, исправил ошибки одних опытом других, дал им возможность разрешить все свои сомнения, недоумения и затруднения, установил между ними единство взглядов, приёмов и действий, укрепил тесную нравственную связь и влил в их душу новые силы к многотрудному и тернистому служению на пользу Церкви и отечеству. Время, проведённое на съезде, оставило в каждом из его участников дорогие, никогда неизгладимые, впечатления, и воспоминание о нём будет для каждого истинным утешением и назиданием на всю жизнь.
Отметим резюме сообщений о штундизме на Орловском миссионерском съезде. Название штундизм – научное и административное; в народном же употреблении слово это очень неопределённое. Штундой крестьяне иногда называют молоканство, хлыстовщину и другие секты. Сами штундисты не любят этого названия; они именуют себя „баптистами“, „евангелическими христианами“, „евангелическо-баптистического вероисповедания“, „евангелической веры“, но только не штундистами. Объясняется это, с одной стороны, тем, что название это – иноземное, а с другой стороны, строгим законом 1894 года по отношению именно к штунде.
В настоящее время штунда существует на юге России, в средней полосе её и даже на севере. В этом отношении на съезде было установлено, что Великороссия представляет не менее благоприятную почву для пропаганды штундизма, чем Малороссия. Быстрое распространение штунды объясняется самим характером этой секты. Штунда – вера „голая“, лёгкая; она проповедует спасение одной верой, без добрых дел. Глубоко вдохнуть в себя Христа, вот что достаточно для спасения с точки зрения штундистов. То обстоятельство, что в штундизме каждый член общины чувствует себя живой силой, имеет право говорить на собраниях, располагает к нему сектантов даже других направлений. Вообще прозелитизм составляет отличительную особенность этой секты.
Штунда имеет правильно и хорошо организованную миссию. Нередко собирающиеся у штундистов конференции занимаются определением вероучения и богослужения, организацией сектантских общин, но преимущественно делами миссионерского характера. Конференция избирает миссионерский комитет; а последний, в свою очередь, руководит миссионерами и книгоношами, разъезжающими по всей России, и платит им деньги за проповедование, для чего располагает миссионерским фондом. Помимо этих специальных миссионеров, всякий вообще способный штундист является проповедником своей веры, что даёт ему преимущество перед рядовыми сектантами. Для пропаганды своего учения штундисты пользуются всяким удобным случаем. Они проповедуют во время полевых работ, на фабриках и заводах, около православных святынь, куда стекается масса народа (напр. в Киеве), и даже в тюрьмах. Способами пропаганды, кроме живого слова, являются: листики в вопросо-ответной форме и брошюры заграничного происхождения, подчёркнутые экземпляры Библии, материальная и денежная помощь и т. п. Распространению штунды благоприятствуют, с одной стороны, показная добрая жизнь сектантов, их „смиренно-лукавствие“ в отношении к преследованиям, обаятельно действующие на православных, а с другой стороны, встречающиеся недостатки самих православных (пьянство, разврат и проч.). Наконец, личные отношения пастыря к пасомым иногда служат поводом к отпадению в штунду.
Сама проповедь штундистов начинается с критики церковной обрядности, с отрицания икон, храмов, иерархии и т. п. Догматика штунды слишком скудна и неопределённа, и поэтому не может нравиться православным. Тем не менее штунда сильна именно силой своего отрицания, основанного будто бы на слове Божием. Такая проповедь находит благоприятную почву среди нашего невежественного, незнающего своей православной веры, простонародья. Крестьянин ничего не может возразить на подкреплённую цитатами из Библии речь штундиста и сдаётся. В отношении личной религиозной настроенности штундисты могут быть разделены на три категории: 1) убеждённые и усердные сектанты (таких немного – на десяток два), 2) эксплуататоры народного невежества, пройдохи, которые смотрят на штунду, как на профессию (слово миссионера для них недействительно), 3) наконец, накипь, нагар в среде народной по освобождении крестьян, люди недовольные, протестующие против общественного строя и условий современной жизни. Из недавних уголовных процессов видно, что сектанты последней категории очень часто принимают участие в фабричных беспорядках и других народных движениях. Очевидно, что считаться с ними – не миссионерам.
У штундистов нет символических книг. По словам штундистов, они черпают своё учение из слова Божия. При чтении его, они будто бы получают откровение Божие. Больше для спасения ничего не нужно: ни иерархии, ни таинств и никаких обрядов. Это учение, отрицающее всю внешнюю сторону в религии, принадлежит той фракции штундизма, которая известна под именем „младо-штундизма“ или „духовной штунды“. Богослужебные собрания духовных штундистов имеют исключительно молитвенно-назидательный характер, состоят в чтении и толковании св. Писания, пении духовных стихов по разным сборникам заграничной фабрикации, напр., „Голос веры“ и в произнесении импровизированных молитв с преклонением колен. Но есть другая фракция штунды, более старейшая, – это старо-штундизм, или штундо-баптизм, который имеет у себя нечто в роде иерархии и некоторые обряды, именно крещение и преломление хлеба. Ближайшее изучение штунды показывает, что нахальство, дерзость, презрение и жестокосердие к православным, богохульство, порицание православной святыни – это обычные явления в жизни штундистов, которые и вызывают ненависть к ним со стороны православных, оскорблённых в своих религиозных чувствах, – ненависть, иногда доходящую до кулачной расправы. Далее, в семье своей штундисты часто бывают деспотичны. Молодое поколение среди штундистов, воспитанное вне Церкви, отличается полным религиозным индифферентизмом и склонностью к отрицанию всего, к нигилизму. Штунда именно и страшна той деморализацией, которую она производит в народной среде, живущей и дышащей одной верой. Даже обратившийся из штундистов редко бывает духовно вполне здоров; по большей части это – сухая смоковница.
Конечно, никто не может утверждать, что штунда есть секта исключительно социально-политическая, поставившая своей специальной задачей разрешение социальных и политических вопросов; иначе это был бы социализм. Но нельзя сказать, что эта секта только религиозная. Бывали случаи, когда штундисты, напр.. в Тамбовской губернии, проповедовали, что царя должен выбирать народ; а в Екатеринославской губернии они пытались, хотя и безуспешно, завести коммуну. Вообще, вследствие произвольного толкования св. Писания, у штундиста является масса незрелых запросов, а жизнь не может удовлетворить их. Естественно, зарождается чувство недовольства, возмущения. Штундизм раздражает народные нервы, открывая широкий простор для исследования и не давая удовлетворения; он создаёт чувство недовольства жизнью, чувства противогосударственные. Та церковная анархия, та свобода понимания св. Писания, какую мы видим в штундизме, при тяжёлых условиях народной жизни, ставит штундистов друзьями нигилистов. Таковой же штунда признаётся и правительством, как это видно из известного циркуляра Министра Внутренних Дел в 1894 году. Там говорится, что штунда вносит смуту в народную жизнь, порождает смуту в душе, семье и обществе, воспитывает протестующее настроение и недовольство в смысле социальном. Но ни пастырь, ни миссионер в своих беседах с сектантами не должны касаться этой стороны в штундизме; иначе они внушат к себе недоверие, предубеждение, даже ненависть; лучшее средство для борьбы со штундой – это личный пример доброго пастыря, любящего своё дело и своих пасомых, доверие и уважение к нему со стороны прихожан и обличение сектантских заблуждений, якобы обоснованных на св. Писании, посредством того же св. Писания.
Жизни в себе самой и будущности штунда не имеет: она сама себя бьёт своим произволом в толковании св. Писания. Уже теперь вследствие этого она раздробилась на массу толков. В недалёком же будущем она разрешится или полным религиозным индифферентизмом, или возвращением в лоно православия. Дай бы Бог, чтобы заблудшиеся возвратились „во двор овчий“! 60
Смирнов Л., свящ. Значение школьного образования в деле противо-раскольничьей миссии 61 // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 421–428
Современное состояние раскола не богато какими-либо крупными внешними движениями и переменами. Оно более интересно со стороны внутренней его жизни, в которой, несмотря на её кажущуюся неподвижность, постоянно идёт движение в какую-либо сторону, сообразно так или иначе сложившимся для раскола условиям в известной местности. Прежде всего, стало быть, трудно говорить о состоянии раскола вообще. С большим правом и удобством можно поделиться своими наблюдениями над жизнью раскола в одном небольшом районе. Мой приход села Тихонова, Калужского уезда, в этом случае особенно удобен. Небольшой по пространству, он представляется однако очень значительным по количеству раскольников (более 4000), являясь вторым после г. Боровска центром раскола в Калужской епархии. Притом же на нём успела уже в известной степени отразиться деятельность и епархиальной миссии и приходского духовенства. Фанатизм и нетерпимость к православию совершенно исчезли в массе современных нам раскольников и отошли уже в область истории. В нашем приходе нет и за последние десять лет не было ни одного случая оскорбления раскольниками православного священника, нарушения порядка при церковных торжествах, или чего-нибудь тому подобного. Можно сказать более этого, современные раскольники не только не фанатичны, но в большинстве и не тверды в своей вере и далеко не крепко убеждены в несомнительности своего священства. Беседы, в начале привлекавшие к себе горячее внимание раскольников, теперь для них мало уже интересны, так как они уверены, что с теоретической стороны на беседах всегда ожидает их поражение, что они не могут доказать законности своего отделения от Церкви. Однако, несмотря на это, движение в православие ещё очень слабо; 10–20 присоединений в год из 4 т. душ нашего прихода не могут бороться с естественным приростом населения, и раскол год-от-году численно умножается. Невольно приходится задуматься православному пастырю-миссионеру, какова причина такой устойчивости и живучести раскола.
Ответа на это нужно искать в наблюдениях над внутренней жизнью раскольников. Раскол, правда, расшатан с теоретической стороны, но кто из простых русских людей, не только раскольников, но и православных, придаёт большое значение этой стороне своих верований? При сплошном невежестве, неразвитости наших крестьян нельзя ожидать, чтобы они переменяли своё вероисповедание из-за убеждений в его догматической несостоятельности. Мы говорим раскольникам: „священство ваше неистинно, безблагодатно“, а они хорошо не представляют, что такое священство, благодать и т. д. Мы разъясняем им эти понятия, а они не могут сами убедиться, что мы говорим правду, на слово же нам верить для них нет никаких оснований. Отсюда получается такой печальный результат наших бесед: раскольники часто бывают вынуждены на беседе признать свою несостоятельность, а массовых обращений всё-таки нет, а если кто обращается, то большей частью не вследствие бесед, а под какими-либо другими влияниями.
Объяснить это явление можно ничем иным, как односторонностью нашей миссии. Религиозная жизнь раскольников основана и питается не догматическими учениями, а строгим и истовым соблюдением обрядов и богослужения и выдержанностью внешнего порядка жизни. Всем известно, с какой любовью и тщанием раскольники кладут на себе крестное знамение; приступают ли они к пище и питью, входят ли в дом, они обязательно истово крестятся несколько раз, а входя в храм, они кладут известное количество крестов и с определёнными молитвами, с чётками в руках и подручниками. Приходит пост: все они не только взрослые, но даже и маленькие дети едят сухую пищу без масла два раза в день, а во время говения и один раз. В храме раскольники стоят чинно или сложив руки на груди, или крестясь и кланяясь вслед за уставщиками дружно, все вместе. Всё это они совершают с любовью, видя в строгом соблюдении всех обрядностей и постов главное условие для своего спасения. И попы их на исповеди спрашивают о постах да поклонах, и мать маленьких детей учит тому же. Весь склад их жизни выдержан в обрядовом духе.
Глядя на православных, раскольники находят у них совсем не то отношение к основам их религиозной жизни, как у себя. У православных не только мирские люди, но и священники не обнаруживают такой любви к обрядности и постам; у них редко бывает епитимия за плохое говение. Таким образом, раскольники с своей точки зрения имеют все данные для того, чтобы считать себя правыми, веру свою лучшей и не обращать большого внимания на поражения своих начетчиков на беседах. Впрочем поражения эти не мешают начетчикам сохранять своё значение. Придя домой с беседы, они найдут, чем оправдаться перед своими, потому что будут говорить не о вопросах, разбиравшихся на беседе, а о несостоятельности православия в том или другом отношении. Кроме того, начетчики, уставщики и молельницы до самого последнего времени состояли единственными учителями и воспитателями всех детей состоятельных раскольников. Учение это состоит в заучивании канонов и чтении Псалтири и в развитии в детях духа нетерпимости и противления православию. Ученики таких школ, делаясь взрослыми, теряют, конечно, постепенно внушённый им дух нетерпимости, но сохраняют недоверие к Церкви.
Итак, и семейное воспитание, и школьное-раскольничье, и влияние попов, всё это вместе образовывает в современном раскольнике тот душевный склад, который даёт ему силу противостоять условиям православной миссии и делает его спокойным за правильность его пути ко спасению.
Поэтому борьба с расколом должна носить характер столь же сложный, как сложны те условия, в которых живут раскольники. Главный фактор устойчивости раскола – семейное воспитание; стало быть, и главным средством борьбы с ним нужно считать воспитание же детей раскольников в сельских школах в духе православия. Таким образом, школы в деле возвращения раскольников в лоно православной Церкви нужны прежде всего; без школ мы никогда не достигнем массового обращения старообрядцев, потому что одни беседы не могут этого сделать, они не могут перевоспитать населения; без школ мы не будем иметь на беседах таких слушателей, которые могли бы сознательно отнестись к нашим словам и путём самостоятельной проверки наших положений прийти к православию.
Многие могут сказать, что никто и не думает оспаривать значение школ, и что школы уже есть почти во всех селениях, заражённых расколом. Действительно, школы есть, и они во всяком случае полезны для дела миссии, – это бесспорно, но такова ли польза от этих школ, которой можно бы достигнуть через них, так ли они поставлены, как это нужно для торжества православия? Так как у нас существуют два типа школ: земские и церковно-приходские, то прежде всего возникает вопрос, какие из них должны быть признаны более полезными в раскольнической местности. Конечно, церковно-приходские. В земских школах Закон Божий большей частью в загоне, на третьем месте, славянское чтение ведётся только по Евангелию и самым небрежным образом, пения почти совсем нет, в богослужении дети не только не участвуют, но целой школой редко бывают. Такая постановка учебного воспитательного дела в большинстве земских школ совсем непригодна в раскольничьей местности. Грамотность сама по себе есть только орудие знания. Этим орудием грамотный может воспользоваться и в другую сторону, может читать Швецова, Усова, подпольные раскольничьи издания и тому подобное. В Боровске всё юношество обучается в городских школах, с курсом более обширным, чем простые земские школы, и раскольничья молодёжь, по отзыву отчёта боровских миссионеров, не только не приближается к православию, но, что ещё хуже, впадает в религиозный индифферентизм. Совсем другое представляют школы церковно-приходские. В них священник полный хозяин, от него зависит всё направление школьного дела. При преподавании Закона Божия он может и должен внушить детям правильное отношение к обрядам, особенно к крестному знамению, образовать в них должное почтение к догматической стороне христианского вероучения, подробно изучив с ними вопрос о Церкви, её признаках, необходимости принадлежать к ней, о непрерывности иерархии и о таинствах. Славянское чтение в церковных школах начинается с Псалтири, продолжается Часословом и оканчивается Евангелием, и уже этим школа приобретает симпатии раскольников. Церковное пение, обязательное в церковных школах, даёт возможность приохотить детей к православному богослужению. Мне приходилось наблюдать, как в школе дети постепенно отвыкали от своих прежних привычек, как через два–три месяца им начинала казаться странной раскольничья манера петь в нос и в один голос. Наконец, если возможно, священник без насильственных мер может привлечь раскольничьих детей к православному богослужению и даже к участию в нём, или приводя их в храм, или, при отдалённости храма, совершая некоторые службы в школе. Все эти меры, если они проводятся мягко, любовно и старательно, и не сопровождаются грубым обличением раскола, могут произвести полный переворот в детях старообрядцев. Опыт только доказал, что собственно полемики с расколом вести в школе никак нельзя. Стоит законоучителю допустить две–три нетактичных выходки против раскола, и доверие к школе пропало. Дети и их родители станут держаться настороже и будут противиться всякому участию в православных службах. В этом случае нужна величайшая осторожность и терпеливость.
Таким образом, и одноклассные церковно-приходские школы, несмотря на краткость их курса, могут принести громадную пользу: они рассеют несколько мглу невежества, приобретут любовь населения своей постановкой, уменьшат недоверие к православной Церкви, разрушат отчасти пренебрежение догматической стороной религии; одним словом, – почти совсем перевоспитают молодое поколение.
Обращаясь к своему приходу, я к сожалению не могу сказать, что школьное дело стоит в нём так, как следовало бы, хотя я с самого поступления на приход держался того убеждения, что с расколом можно успешно бороться только школьным путём62.
Кроме нескольких одноклассных, в моём приходе есть ещё одна второклассная мужская школа. Без всякого сомнения, второклассные школы могут принести ещё более пользы для дела миссии. В них налицо все благоприятные условия для воспитания детей раскольников: и расширенный круг преподавания Закона Божия с возможностью изучения краткой истории раскола, и сравнительно больший уровень развития детей, и, наконец, что главнее всего, жизнь их вне семьи (в общежитии). Пройдёт два–три месяца жизни раскольников в школе, как они станут глядеть уже совершенно другими. В школе образуется своя семья с своими привычками и обычаями, с общими молитвами, общим хождением в храм и религиозно-нравственными чтениями. В Тихоновской второклассной школе, существующей уже четыре года, есть достаточный опыт, чтобы на основании его утверждать, что ни один раскольник из неё не выйдет твёрдым в своей вере. Уже двое школьников присоединились к православию, многие готовы на это в душе, но не могут преодолеть нежелания родителей. Находятся и такие из них, которые согласны присоединиться против воли родителей, но, во избежание семейных драм и озлобления против школы, мы убеждаем их терпеливо дождаться удобного времени. Даже на родителей-то своих такие дети имеют доброе влияние. И не обращая внимания на такое действие школы, раскольники не перестают отдавать своих детей в неё. Сначала, в первый год существования школы, ученики-раскольники не ходили в храм, некоторые не молились на общей молитве. Мы нарочно предупреждали их, что в этом случае они свободны, что мы не требуем от них участия в наших службах и молитвах. И вот один за другим, они постепенно все и во всём стали подражать православным, стали просить нас о допущении их к чтению в храме, что мы и дозволили с согласия их родителей. Потом к этим уже привыкшим мальчикам-раскольникам стали присоединяться и вновь поступающие, так что теперь без всяких усилий учащих, школа уже одним порядком своей жизни влияет на детей, К сожалению специальное назначение второклассных школ было причиной того, что в новом положении об этих школах находится запрещение принимать в них раскольников, как не могущих быть впоследствии учителями. Между тем, у нас был уже случай обращения окончившего курс и поступления его в учительскую школу. Поэтому желательно ходатайствовать перед высшим начальством о разрешении детям раскольников и впредь поступать в Тихоновскую второклассную школу.
Изобразив, насколько возможно, условия успеха миссионерской деятельности школ, я хотел бы обратить внимание ещё на одну сторону этого дела. До сего времени во всех школах девочек учится много менее, чем мальчиков. А всем известно, что женщина в расколе представляет большую силу. они более консервативны и менее развиты, чем мужчины. Живя в мире предрассудков и суеверий, не зная грамоты, они особенно свято соблюдают обряды, часто доходя в этом до мелочности, а потому никогда не чувствуют и не замечают недостатков своей веры. Поэтому-то для них не менее, чем для мужчин, необходимо школьное образование63, а потому в приходах, с расколо-сектантским населением обязательно должны быть заводимы женские школки, которые должны перевоспитать молодое поколение женской половины раскола, тогда последний зашатается и сам падёт.
Свящ. с. Тихонова Леонид Смирнов
Поездка раскольничьей депутации на Восток в 1900 г.64 // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 429–447
14 апреля прибыли в Константинополь. Справившись с формальностями придирчивого турецкого таможенного осмотра, мы отправились в самую центральную часть города и остановились в отеле на главной улице Пера. Первый день посвящён был ознакомлению с городом, чтобы сразу нам было удобно освоиться.
В гостинице мы встретили миссионера-грека, говорящего по-русски. В этот же день нам удалось найти другого человека – грека, более почтенного и заслуживающего доверия, жившего когда-то в России и свободно владеющего русским языком, которого мы и пригласили с утра на следующий день служить нам в случае надобности переводчиком.
В субботу 15 апреля в 9 час. утра мы отправились в сопровождении переводчика в Фанар (так называется митрополия, где живёт вселенский греческий патриарх). Пройдя сначала по улице, по которой мы спустились с высоты Пера книзу – в Галату, на набережную Золотого Рога, по которому постоянно снуют тысячи шлюпок и небольших пароходиков, постоянно переполненных народом, садимся на пароходик, чтобы пересечь на нём Золотой Рог и выйти в Стамбул (старый город), где находится Фанар. Вдруг на пароходе среди пассажиров видим сидящих трёх греческих священников; подходим к ним и через переводчика вступаем в разговор. Все трое средних лет, замечательно то, что они своей внешностью, благообразными манерами и вежливостью невольно располагали к себе. Очень заинтересовавшись нами, как русскими путешественниками из такого дальнего края России, как Урал, они с другой стороны парохода пригласили сидевшего там четвёртого уже священника – монаха, который не замедлил тут же к нам прийти и, к удивлению и удовольствию нашему, заговорил с нами по-русски. Этот священник, также средних лет, и, можно сказать, обладающий необыкновенно располагающей к нему внешностью, оказался человеком изучившим и кончившим высшую науку по богословию. У нас сразу, тут же на пароходе, завязались самые оживлённые разговоры не только с ним, но со всеми ими. При посредстве его и нашего переводчика, разговор был общий. В начале разговора мы умолчали о серьёзной цели нашего любопытства и о том, что мы – старообрядцы, чего не знал даже и переводчик наш; мы объяснили простым интересом путешественников увидеть Фанар и осмотреть древнюю патриаршую церковь, на что они любезно предложили нам своё полное содействие. С из-под-тиха разговор подошёл к существующей разности служебной и обрядовой между греческой и русской Церквами, – разности пения: в греческой Церкви введено древнее носовое пение, и ни под каким видом не допускается введённое в России итальянское партесное пение, которое они считают неприличным нововводством. Греки также избегают и живописи картинной итальянской; тогда как у нас, в России, в продолжении громадного периода времени, итальянская живопись была столь излюбленной, что ею наполнены все церкви. Лишь за последние 10–12 лет начали от итальянской живописи отставать и постепенно приближаться к древнегреческому византийскому стилю, доказательством чего служит новый Киевский собор, Самарский собор и много других новых церквей. Затем разговор перешёл на обряд крещения, и когда они услышали от нас только допускаемое нами предположение о возможности обливательного крещения в их греческой Церкви, то они все с сильным резким отпором заявили, что нигде и никогда греческий священник, ни в какой стране, ни в какой Церкви, не может окрестить обливательно, так как в этом вопросе греческая Церковь очень строго всегда смотрела на латинское обливательное крещение, и священник никакой не решится это допустить, и если бы допустил, то будет наказан. Они знают, что в России на обливательное крещение смотрят гораздо снисходительнее, и они имеют понятие, что в западном крае безусловно допускается обливание среди бывших униатов. Но в греческой Церкви существует только лишь целый ряд соборных постановлений, осуждающих латинское обливание и подтверждающих греческим священникам не только крестить трёхпогружательно, но и присоединяющихся католиков принимать первым чином, т. е. совершенно крестить. На наш вопрос, каким чином греческая Церковь принимает католиков, – они ответили: всегда и всюду в Греции принимали одним первым чином, т. е. совершенно крестили; но, с сожалением и с сознанием отступления от существующих правил, они должны с грустью сознаться, что за самое последнее время, т. е. дет 10–15, были случаи принятия вторым чином, под миропомазание, и что причинами к этому послужили очень многочисленнейшие и серьёзные обстоятельства, которых не могли обойти.
Пароходик пристал к пристани, и мы все в сопровождении наших духовных спутников отправились пешком в Фанар, до которого от пристани было уже недалеко. Наши спутники провели нас прямо в канцелярию патриарха, где мы застали несколько ещё духовных лиц чёрного духовенства, которому мы при входе раскланялись, и затем нас представили сидящему за письменным столом за бумагами, видимо, высшему духовному чину над другими; этот оказался так называемый протосингел патриарха65.
Этот человек, также ещё не старый, с приветливым добрым выражением лица, сейчас же оставивший видимо неоконченную свою работу, с большой любезностью предложил нам сесть и просил нас высказать причину и цель нашего посещения. В это время вошёл светский, средних лет человек, и сейчас же заговорил с нами отлично русским языком. Мы немало поразились тем, что так скоро мы встретили уже двух человек, говоривших по-русски. Это оказался секретарь патриарха, также грек, но по чистому выговору едва ли можно отличить его от настоящего русского человека. Прошло лишь несколько минут, как мы сидели совершенно непринуждённо, окружённые отцом протосингелом, отцом богословом, встретившимся на пароходе, секретарём, тремя священниками, приведшими с парохода, и несколькими ещё бывшими до нас в канцелярии. Они очень заинтересовались нами, как русскими людьми, приехавшими из глубины перед-сибирской России, предпринявшими столь далёкое путешествие, и высказывали удовольствие нашему любопытству, которое дало возможность и им послушать нас о далёком и неизвестном им крае России.
Исподволь разговор перешёл на интересующий нас вопрос о крещении и, услышавши от нас лёгкость суждений о допущении нами предположения только, что греки могут допустить обливание, мы получили резкий, горячий отпор как от протосингела, так и от секретаря, которые определённо, твёрдо заявили то же самое, что нам высказал богослов. Они высказали, что греческой Церковью неукоснительно, твёрдо содержится одно из самых главных таинств, как таинство крещения, и никто из священников никогда не решится сделать нарушение оного и совершить крещение обливательно, по-латински, и допущение такого изменения в таинстве столь серьёзном неминуемо было бы жестоко наказано. И если бы так легко начала относиться греческая Церковь к своим основам, то чем же бы она могла противодействовать в борьбе за восточное православие, представителем которого она является столько веков на земле, терпя и прежде, и сейчас нападки врагов своих, утеснения и от мусульманских властителей, и от всесветного влияния пап римских, и даже от немалого в различных вопросах тяжёлого подчас давления и российского синодального управления. К правильному совершению таинства крещения, согласно правилам и уставам Церкви, греческая Церковь не может относиться безразлично, и она ещё настолько сильна, что имеет возможность наблюдать за своими священнослужителями, а потому они твёрдо заявляют и утверждают, что обливательное крещение во всей греческой Церкви не совершается иначе, как только трёхпогружателно. Присутствовавший тут священник патриаршей церкви заявил, что у него назавтра после обедни крещение младенца, что было для нас очень кстати.
Относительно же принятия католиков они объяснили, что долго греческая Церковь крепилась и принимала их только первым чином, но вследствие очень многосложных причин и обстоятельств самого разнообразного свойства за последние годы стали принимать вторым чином под миропомазание, – подобные единичные случаи были допущены никак не больше лет 15–20 тому назад, а участились со времени присоединения последней греческой принцессы, лет 8 тому назад, которую пришлось принять, под политическим давлением вторым чином. Никакого соборного или патриаршего постановления об этом составлено не было и его не существует. Между многими причинами этого нарушения правил, главная заключается в давлении российского синода и тяжёлого изолированного положения греческой Церкви, не имеющей ни откуда поддержки, а отовсюду только получающей ограничение и преграды к её влиянию и развитию. И дабы не допустить совершенную преграду к присоединению в её лоно заблуждающихся, и имея в виду многие исключения, бывшие допущенными и святыми отцами Церкви ради единения церковного и привлечения к Церкви Христовой еретиков, решились сделать, скрепя сердце, эту уступку, расходящуюся безусловно с правилами, чего не сознавать по совести они не могут.
Затем мы поведали, что мы – старообрядцы и задались целью узнать, во что бы то ни стало, сущность совершения и данное время греческой Церковью и таинств и обрядов и вообще самолично увидеть всю суть современного состояния греческой Церкви; для этого мы ходатайствуем и просим доложить его святейшеству патриарху не отказать людям, желающим одной только истины и утверждения в ней, не отказаться дать нам аудиенцию, т. е. принять лично нас и не лишить нас удовлетворить на наши вопросы ответами по интересующим нас предметам, по истине и правде, которых он должен быть высоким представителем в его великом святительском сане.
Отец протосингел и секретарь, переговоривши между собой, порешили сейчас же доложить его святейшеству, и секретарь вышел во внутренние комнаты на половину патриарха.
Мы же возбудили вопрос о митрополите Амвросии, прося отца протосиагела именем Бога не отказать, по совести перед Богом, высказать откровенно всё то, что ему известно об этом святителе, ушедшем из их Церкви к старообрядцам русским; без задней какой-нибудь затаённой мысли сказать только одну правду, был ли митрополит Амвросий до перехода к старообрядцам или после запрещён или извержен из сана. Ушедши сохранил ли он преемственность хиротонии или потерял оную? И как греческая Церковь может считать происшедших от него священников, – священниками ли, имеющими преемственность хиротонии, или же лже-попами? В случае бы присоединения к греческой Церкви священника такового, можно ли его принять священником или простецом только? В это время вернулся секретарь и ответил: „его святейшество, снисходя к вашей просьбе, принять вас не отказывается и предлагает вам с этой целью явиться послезавтра, в понедельник, 17-го апреля, утром, часов в 11-ть“.
Затем отец протосингел и секретарь высказали нам совет изложить кратко и сжато письменно, хотя бы в форме докладной записки те вопросы, какие мы только словесно высказали, и на какие нам желательно получить ответ от патриарха, обещая, по мере возможности, нас удовлетворить и предварительно с наших слов обещали передать его святейшеству патриарху. Не входя больше сегодня в разговоры, мы поблагодарили за столь доброе к нам отношение и простившись со столь добрыми для нас духовными лицами греческого патриарха, отправились с посланным с нами псаломщиком осмотреть находящуюся тут же патриаршую церковь, войдя в которую, мы были приятно поражены её благолепием. Все иконы древнего греческого письма. Ни одной иконы итальянской живописи. У задней стены и с боков хоры, огороженные решёткой, там стоят женщины отдельно от мужчин. В общем в греческих церквах женщины всегда стоят отдельно. На правой стороне церкви находится деревянная резная кафедра патриарха, которая будто бы от времён св. Иоанна Златоуста и. по преданию, будто бы его своеручной работы. Каменный столб, к которому будто бы был привязан Христос во время мучений.
На следующий день, в воскресение 16 апреля, в половине восьмого утра, мы уже снова были в патриаршей церкви, чтобы послушать обедню. Только что начали читать часы. Чтение продолжительное, внятное, неторопливое, видимо, без пропусков. К началу обедни вход патриарха, которого духовенство встречает на паперти, где возлагают на него соборную мантию; он, идя к своему месту, с посохом, на кафедру или трон, благословляет присутствующих. Всё время обедни он остаётся тут, так как сам не служит. Временами садится. Служение обедни, почти до 11 час., совершается очень чинно, пение сильно носовое, особенное от всякого известного нам пения. Больше подходит оно к древнему столповому, чем к партесному, которое в греческих церквах не принято. С обрядовой стороны почти ничего особенного не выдаётся, лишь евангелие дьякон читает с особого для того возвышенного места, устроенного с левой стороны, против места патриарха, и когда он туда с Евангелием идёт, то ему предшествуют 4 стихарных мальчика-псаломщика. Мы простояли всю обедню до конца, и на нас произвело служение самое благоприятное впечатление. Личность патриарха Константина представительная, величественная. Он ещё не стар, и его выразительное лицо, с чёрной впроседь бородой, имеет самый представительный вид строгого, умного пастыря. После обедни мы прошли в канцелярию, где встретили опять почти всех тех лиц, которые тут и вчера были; мы вручили заготовленную нами докладную записку, написанную сжато, где изложили те существенные вопросы, на которые желали получить разъяснение. С громадным интересом все присутствующие старались усвоить содержимое в ней. В это время нам предложили по чашке кофе, от которого мы не отказались; затем тут же отец протосингел, богослов (имени его мы не записали), секретарь стали развивать разговор относительно наших вопросов. Мы же стали просить доложить патриарху о нас и о возможности принять нас сегодня, в виду ускорения нашего времени отъезда, как людей заезжих. Секретарь, возвративши нашу записку, пошёл доложить и, вернувшись, сказал, что после присутствия при обряде крещения, которое сейчас должно начаться, мы будем приняты. Отправились в церковь. Обряд крещения у греков вообще, как нам выяснили, совершается большей частью в церкви и всегда с известной торжественностью, в роде того, как у нас совершаются браки... В церковь собираются несколько близких лиц родных и знакомых, которые и присутствуют при обряде с зажжёнными в руках свечами. Сначала, когда привезли ребёнка, то его внесли только лишь в притвор на паперть, где поставлен был аналой с крестом и подсвечники с большими зажжёнными свечами, и куда вышли, священник и дьякон в полном облачении. Они начали служение прочтением очистительных молитв от „скверны“... Чтение оных продолжалось минут 15–20, не меньше. Потом вошли и стали по средине церкви, где была поставлена довольно большая, видимо довольно-старая медная купель, такой же формы, какие употребляются и в России. Впереди купели аналой с крестом. По мере совершения обряда, нам последовательно объяснял и переводил отец богослов (не запомнивши его имени, будем его так называть). Вначале священник помазал маслом голову ребёнка, потом и тело, осенял дуновением и перстосложением ручным воду крестообразно, это до погружения ещё, само погружение совершено трижды тщательно и правильно с провозглашением; „Во имя Отца – аминь, и Сына – аминь, и Святого Духа – аминь“. Потом помазание миром также по всему телу, было совершено и хождение кругом купели трижды, – ребёнка несла кума, имея в руке большую зажжённую свечу. Словом, весь обряд крещения совершён правильно в три погружения, не торопясь, чинно и благоговейно. Времени прошло от начала ровно 1 ч. 10 минут. Всем присутствующим родственникам крещаемого „Александра“ розданы были небольшие бронзовые образки на память, в том числе и нам. Из церкви прошли снова в канцелярию, откуда, нас сейчас же секретарь пригласил в патриаршие комнаты. Сначала мы вошли в зал, где он показал нам большие масляной краски портреты константинопольских патриархов. Из залы он ввёл нас в кабинет патриарха, – не особенно большая комната с 2-мя большими окнами, из которых открывается дивный вид на Константинополь, так как постройки Фанара на довольно большой возвышенности. За письменным столом, у самого окна, сидел патриарх и привстал при нашем входе. Мы, не приближаясь близко, кланяемся, рукой касаясь земли. Мы высказываем прежде всего благодарность за ту доступность к его особе, какую он проявил нам, неизвестным дальним людям. Он опускается в кресло и предлагает нам сесть в большие кожаные кресла, стоящие почти кругом стола. Мы садимся. Разговор происходит при помощи секретаря. Сначала он спрашивает, откуда мы, и какие цели нашего путешествия. Когда один из нас заявил о принадлежности своей к беспоповству, то патриарх делает движение и невольно вырывается у него „протестант“. Высказываем причины и цель нашего посещения и просим не лишить своим ответом, разрешить наши недоумения; высказываем уверенность в истинности его слов, как святителя. Вручаем нашу записку, которую ему сейчас же на словах секретарь переводит, и он живо интересуется нашими вопросами. В это время, по восточному обычаю, подают нам угощение на двух вазах фруктовое варенье и холодную воду в стаканах. Мы, не зная обычая, кладём варенье в воду; заметивши это, патриарх рассмеялся и пошутил: „заметно, что русские люди не знают наших обычаев“. Варенье следует есть ложкой и лишь припивать водой. Затем, сделавшись серьёзным, он высказал подтверждение твёрдое, что в греческой Церкви ни один священник не может крестить иначе, как в три погружения, и крещение обливательное допустимо быть не может. В этом вы твёрдо можете быть уверены. Допущенные за последние только годы исключительные принятия католиков вторым чином в лоно греческой Церкви есть уступка обстоятельствам и интересам Церкви, хотя и нежелательная и, может быть, временная.
О митрополите Амвросии он только может сказать, что не существует никаких данных говорить и утверждать его извержении из духовного сана, или запрещении и, хотя он самовольно удалился к русским староверам, и не вернулся с раскаянием, отрицать на нём хиротонию немыслимо в виду того, что и от еретиков даже хиротония признаётся действительной, то как же отвергнуть на нём.
На этом аудиенция закончилась, и обременять большими вопросами мы сочли неудобным. Сердечно мы высказали, как умели, нашу благодарность и, получив от патриарха доброе напутствие, снова очутились в канцелярии и имели снова продолжительную беседу с теми же лицами: отцом, протосингелом, богословом и секретарём. Эта беседа окончательно выяснила нам ясно все желаемые вопросы. Они выяснили потом, что патриархат, оберегая свои отношения к российскому церковному управлению, вообще избегает давать объяснения какие-либо на поступающие многочисленные ходатайства русских старообрядцев, в особенности нельзя рассчитывать на ответы официальные и письменные, что может вызвать нежелательные неудовольствия и неприятности, так как патриархату известны печальные и грустные духовные недоразумения, вызванные уходом митрополита Амвросия к старообрядцам, каковой поступок митрополита патриархия, конечно, одобрить не может, а безусловно порицает и осуждает и скорбит, что греческий митрополит породил своими действиями или, вернее, увеличил раскол в российской Церкви, столь нежелательный с точки зрения единства церковного. Но оставаясь на высоте истины и правды к совершившимся событиям, которые уже переходят теперь в историю, они не могут скрыть того, что митрополит Амвросий был неизверженным и незапрещённым, а лишь был без кафедры, или епархии, потому что турецкое правительство, пользуясь своей властью, принудило патриарха отозвать его из Боснии, из города Сараева, где он имел кафедру. Подобных случаев при турецком мусульманском режиме всегда было много. И на этом основании патриархия не может отвергнуть на нём, как и на происшедшем от сего священстве, преемственности хиротонии, хотя по вышесказанным причинам они стараются замалчивать это. Со скорбью коснулись вопроса о болгарской Церкви, которую патриархия считает раскольнической на основании происшедшего соборного осуждения и отлучения; высказали порицание, что российский синод допускает общение с отлучёнными греческой Церковью, чем пораждается разъединение. Выяснили, что в служениях в российской и греческой Церквах существует некоторая разность. Греческая Церковь не одобряет введённое в России итальянское партесное пение, в особенности массу так называемых „концертов“, какие поются за литургией, вместо причастных стихов, и не сочувствует итальянской картинной живописи. По-видимому, они могли бы и ещё кое-что указать относительно существующей разности, но старались сдерживаться и умалчивать. Относительно же крещения с основательными разъяснениями, заслуживающими доверия, они категорически ещё раз повторили, что в греческой Церкви не существует, никогда не существовало и не могло быть допущено даже в единичных случаях обливательного крещения, а, следовательно, и митрополит Амвросий обливанцем ни в каком случае быть не мог. И католиков всегда принимали первым чином и лишь за последние годы, как об этом выяснено выше, допустили принятие вторым чином. Однако и сейчас принятие католиков, смотря по данным каждый раз обстоятельствам и по усмотрению священника и соглашению его с принимаемым, в иных местах продолжает совершаться первым чином. В общем же присоединений из католичества, очень бывает мало, и оные являются довольно редкими единичными случаями, а потому они не порождают острых запросов и суждений о том. Ещё об очень многих частностях касался наш разговор с этими добрыми и доступными в христианском духе простоты людьми, но мы считаем излишним распространяться и удаляться в сторону. Искренно от всего сердца поблагодарив наших собеседников, мы сердечно простились с ними и, получивши их добрые пожелания, в нашем далёком ещё пути, вышли с радостными чувствами из патриархии мысленно благодаря Бога, что наши труды не пропали, и мы получили массу сведений, имеющих громадное· значение по интересующему нас серьёзному вопросу.
Считаем не лишним упомянуть, что в патриархии нам сообщали о являвшихся в прошлом году туда каких-то старообрядцах-казаках, которые так нетактично и нелогически требовали тоже каких-то разъяснении, что и понять их не могли и отказались с ними вступать в какие-либо разговоры, и они, недовольные, рассерженные, ушли ни с чем. Эти люди оказались теми уральскими казаками, которые уж несколько лет подряд ездят заграницу и ищут неведомое и несуществующее Камбайское Беловодское царство, где будто бы процветает полное благочестие при патриархе и сонме митрополитов, епископов и священников. Найти же оное (как не дающийся клад) не могут. И эти же казаки, как слышно, распускали слухи о каком-то диковинном, неслыханном, необыкновенном обряде крещения у греков. К рассказам этим следует относиться несколько сдержанно, так как казаки эти представляются необыкновенными фантазёрами, буквально помешанными на идее разыскивания фантастического „Камбайского Беловодского царства“. Они яро отвергают уверения знающих географию людей, доказывающих им, что такого царства не существует, остаются при своём убеждении и продолжают мыкаться со всеми возможными лишениями по свету.
Осмотрена нами в Константинополе и болгарская новая и довольно хорошая по постройке церковь, где служит болгарский экзарх Иосиф, считающийся греками отлучённым от Церкви раскольником. Лишь только войдя в церковь, мы могли вообразить, что находимся в России. Новая, яркая итальянская живопись, которая, как оказалось, вся прислана из Москвы и московской работы, русской синодальной типографии служебные книги, московской работы сосуды, а также и облачение московское. Видим, что всё тут создано и находится под покровительством России. Какой резкий контраст с древними греческими церквами, с их многовековыми, древними иконами.
Осмотрели ещё другую болгарскую церковь, старую и древнюю, в том же роде, как и греческие церкви. Встретили старика священника, которого спросили о крещении. Твёрдо и сильно он заверил, что крещение истинное только трёхпогружательное, а обливательно крестят безусловно одни лишь католики. Великое впечатление производит храм Софии. Его массивность, его громадные входы, коридоры папертей уже дают большую внушительность громаднейшей древней византийской постройке. Внутренность же, несмотря, что тут теперь мечеть, вызывает невольное трепетание в каждом христианине. Явственно видишь вдавшиеся полукружья бывших 3-х громадных алтарей, и лишь всей душой хочется видеть постановку отсутствующих иконостасов. Сквозь штукатурку и краску стен глаза желали бы проникнуть и увидеть имеющиеся тут и по настоящее время драгоценные мозаичные изображения св. икон. Не хочется верить, чтобы в этих святых стенах, где служили великие святители, столпы и основатели веры Христовой, цареградские патриархи, как св. Иоанн Златоустый и другие, остались бы на веки поработители креста, сыны полумесяца, и не восстановилась бы никогда истинная служба Небесному Царю Христу. Осмотрена нами мечеть, в стенах коей была некогда церковь монастыря Спаса, времён Византии. Следующие дни были посвящены осмотру достопримечательностей Константинополя. Осмотрели музей, многие старые мечети, где были прежде христианские церкви и теперь представляющие нетронутые старинные памятники древних греческих величественных построек. На многом ещё и до сих пор видны признаки бывшего здесь христианства! Осмотрели ещё несколько греческих церквей, ничем особенно не отличающихся.
19 апреля в 10 час. утра мы покинули этот древний мировой город, полный исторического глубокого интереса для каждого путешественника. Тихо, плавно отходили мы в Мраморное море на громадном пароходе русского общества „Чихачев“.
Целый день мы шли Мраморным морем, и почти всё время чуть виднелись и европейские берега с правой стороны и азиатские – с левой. Около 9 ч. вечера мы проходили Дарданельским проливом, в 8 ч. утра увидели вдали город Смирну, находящийся на малоазиатском берегу Архипелага и представляющий из себя большой торговый город Турции, чуть ли не второй после Константинополя. Смирна по климату имеет почти уже тропическое положение.
В 10 ч. утра наш пароход бросил якорь на рейде, и мы тотчас же отправились на шлюпке в город. Пароход должен отойти в 3 часа и, следовательно, времени нам оставалось достаточно для осмотра города, осмотра церквей и предположенного свидания с кем-либо из греческих священников. Идя по набережной, мы встретили массу толпившегося самого разнохарактерного народа, назойливо предлагавшего на всевозможных языках свои услуги быть проводниками и переводчиками. Очень скоро нам попался грек, говоривший по-русски, которого мы взяли и, нанявши фаэтон, поехали по городу. С самого начала осмотрели церковь, кажется, св. Георгия, в которой встретили в общем невысокого художества греческого стиля иконы, но между ними некоторые были и высокой работы древнего письма; потом проехали в собор, где также живопись тёмная, греческая, но заурядной работы, и лишь некоторые иконы представляли для нас интерес.
В обеих церквах мы не встретили никого из духовенства, а лишь одних сторожей. Поэтому из собора мы отправились в квартиру старшего священника протоиерея, которая помещалась тут же у церкви, в церковном доме. Через переводчика священнику доложили, что русские путешественники осматривали церковь и желают видеть его и поговорить. Сию же минуту лично сам выходит к нам священник, крепкий старик, лет 65, и с необычайным интересом и полным радушием приглашает в комнаты, высказывая симпатию к нам, как родным братьям по вере и защитникам греков против Турции.
Объяснивши интересом путешественников наше прибытие к нему, мы разговорились вообще о их жизни и быте среди турецкого, иногда враждебного вообще христианам, режима, и он охотно знакомил нас со своим бытом. Затем вопрос перешёл на служение церковное, обрядности, и дошли до обряда крещения и, когда он услышал от нас, что мы допускаем возможность совершения греческими священниками обливательного крещения, то сразу встал возбуждённо с кресла и с обидчивой горячностью нам заявил решительно: „Не верьте никому этой удивительной лжи, что греческий священник может окрестить обливательно по-латински, ни один по-латински крестить не может“. И по отношению к католикам вообще высказался презрительно. О принятии же подтвердил, что недавно стали принимать их вторым чином в Константинополе, но что здесь у него никогда присоединений не было и нет, и что по настоящему их должно снова крестить. В Смирне живёт митрополит, и он настоятельно советовал пойти к нему, говоря, что митрополит сильнее его убедит нас и докажет, что крещение у них совершается истинно православное, трёхпогружательное, что им неприятны несправедливые сомнения, какие мы высказали. Поблагодаривши его, мы простились и поехали осматривать город, решивши не ходить уже к митрополиту и не беспокоить его, вперёд уже зная его отзыв. В 4 часа мы уже продолжали путь по Архипелагу, направляясь в Грецию, в Пирей.
На следующий день 21 апреля, в 9 час. утра, мы увидели порт Пирея, где стояли разных национальностей суда, и бросили якорь среди бухты.
Пирей – красивый, растущий по-европейски город, царящий по возвышенностям над отличной закрытой бухтой. Итак, мы, побывавши уже в 3-х государствах: в Австрии, Румынии и Турции, достигли уже четвёртого – Греции, почти самого южного края Европы, откуда уже рукой подать и да Африканского материка – до Александрии, недалеко уже до Палестины. Пароход наш „Чихачев“ шёл в Александрию (Египет). И мы уже начинали большое искушение иметь, побывши сначала в Афинах, со следующим пароходом поехать в Египет и в Палестину, но слухи о чумных карантинах и потеря времени уничтожили наше намерение,
Из Пирея мы предпочли поехать на лошадях и, нанявши коляску, поехали по отлично шоссированной дороге в неизвестной и уже очень дальней от нас стране. Езды до Афин час: или полтора – не больше. Сзади мы оставляли море, дорога шла сначала по равнине, а потом между довольно порядочными возвышенностями, большей частью на верху оголёнными и выжженными знойными лучами южного солнца. За то в низменностях богатая южная растительность, громадные пальмы всевозможных сортов и пород, с преобладанием финиковых пальм и латаний, обворожительно ласкают взоры. Попадают дачи, утопающие в царстве пальмовых громадных деревьев и в массе роз и других цветущих растений, наполняющих воздух своими ароматами. По ту и другую сторону дороги в канавах и на бровках тротуаров живой стеной, через которую не пройдёшь, стоят в 3–4 аршина вышиной колючие кактусы; у подножия их и на пустошах полей сплошь краснеется, как ковёр, мак. Хлеба уже поспели, и мы видим жатву, и это 21 апреля! Велик интерес для жителей севера увидеть южные страны. Остановившись в греческой гостинице, мы сейчас же отправились знакомиться с городом. Нынешние Афины представляют чудесный, благоустроенный европейский город. Красивые в 3, 4, 5 этажей дома, архитектурные, почти все светлых палевых цветов, чудесные асфальтовые мостовые, или из тёсаного гранита, электрическое освещение, трамваи, образцовая чистота делают Афины передовым городом. Осмотрели в первый же день знаменитые исторические памятники древней, ещё языческой Греции, как знаменитый Акрополь, с полуразрушенными языческими храмами Минервы и других, и тут же видели место, „горнюю возвышенность“, с которой впервые раздалась первая проповедь учения Христова ап. Павлом. Затем осмотрели очень многие древние и новые церкви. Две церкви есть небольшие, вросшие в землю, с необыкновенно толстыми каменными стенами, маленькими окнами, древними высокого письма иконами и, по утверждению греков, построенные с первых веков христианства. Подобные церкви, с малым освещением из узеньких своих окон, образцовой чистотой застланных коврами каменных полов, с запахом ладана, с своеобразным монотонным особенным служением греков и их носовым пением, переносят вас в какую-то древнюю историческую эпоху, и вы положительно стоите, смотрите и слушаете, и совершенно впадаете в какое-то забытьё. Переноситесь воображением мысленно в древнюю эпоху первых веков христианства. На вас действует как-то успокоительно, вы как-то затихаете, смиряетесь, и жалко вам станет этого состояния, когда бурная действительность вас заставит очнуться. Вот какое впечатление мы выносим из этих древних греческих церквей.
Новый кафедральный собор представляет собой громаднейшую и великолепную церковь. Живопись новая, греческого стиля. Осматривая собор в неслужебное время и уже выйдя из него, увидели тихо идущего по улице священника, с громадной седой бородой. С нами был грек проводник, которого мы послали остановить священника, просить его зайти в церковь на несколько минут поговорить с русскими путешественниками, желающими его спросить об интересующих нас вещах. Священник тотчас вернулся, и мы снова вошли в церковь. Он оказался настоятелем этого собора и благочинным. Не будем распространяться уже подробно обо всём нашем разговоре, лишь только скажем главную суть: полное подтверждение трёхпогружательного крещения и с негодованием, с озлобленностью отвержение от возможности „обливания“. „Соберите 1000 человек народа и спросите каждого из них относительно совершения греком-попом обливания, и всякий удивится даже вопросу. Они крестят в храмах всенародно, не втайне, народ греческий знает свою службу и понимает её, и скрыть совершение такого важного таинства невозможно; поэтому если вы не верите духовенству, то спросите любого грека и вы получите один ответ. Одни католики латиняне крестят обливательно“, – сердито добавил он. Мы расстались. В следующий день мы заехали ещё в церковь, на каком месте будто бы была построена самая первая церковь, по принятии греками христианства, но потом после пожара она, конечно, уже перестроена. Это было в 3 ч. дня, но по счастливой случайности встречаем выходящих из церкви 4-х священников, – с ними среднего класса женщина, гречанка, одетая просто и прилично, и, к удовольствию нашему, жившая когда-то в Одессе и говорящая по-русски. Один священник ушёл, а с троими мы вступили при посредстве этой женщины в разговоры, которые вышли очень горячими. Дело в том, что не только священники заявили, что противное правилам латинское крещение невозможно совершать грекам, но что и католиков иначе принять нельзя, как снова крестить. Мы же твёрдо заявили, что принятие католиков 2-м чином уже нам известна из собеседований наших в Константинопольской патриархии, где нам сказано, что там такое принятие допущено; они стали оспаривать и доказывать, что принятие вторым чином невозможно. Мы же были удивлены и поражены неприятным спором, начиная думать о лицемерии, иначе как же могло это быть? И вот приводится случай, бывший до этого за несколько недель. Была присоединена католичка в этой самой церкви, и переход оной совершён был при помощи и посредстве именно этой женщины, и оная с клятвой перед иконами уверила, при категорическом подтверждении всеми тремя священниками, что упомянутую католичку приняли действительно первым чином: в этой именно церкви была поставлена большая кадь, в которую она, опустившись, три раза погружалась при обряде крещения. И когда мы высказали недоверие, то видели неподдельное негодование на нас и этой женщины, и священников, так что трудно допустить, чтобы эти люди врали. Приходится убедиться, что в настоящее время в некоторых местах Греции продолжают принимать католиков первым чином, а это обстоятельство и доказывает о несуществовании какого-либо соборного постановления и приказа принимать обязательно католиков вторым чином, о чём нам сказано и в Константинополе.
22 апреля, мы выехали из Афин в Пирей на лошадях, а там сели на небольшой греческий морской пароходик и в ночь отошли на нём по Коринфскому проливу, имея цель путешествия греческий остров Корфу. В 12 ч. ночи наш пароход стоял у г. Коринфа, которого за темнотой нам, к сожалению, увидеть не пришлось. В 8 ч. утра 23-го мы остановились у гор. Патраса. Остановка до 11 ч. дня. Мы отправились в город. Был воскресный день. Шла обедня чинно. Служили священник и диакон. Народ стоит благоговейно. Движения толпы нет. Пение такое же, какое мы уже много расслышали. И в этот раз нашли подтверждение уже выведенному нашему мнению, что в греческих церквах никакого бесчинства не существует, и всюду виден должный порядок и благочиние. 24 апреля в 8 ч. вечера мы достигли острова Корфу. В продолжении пяти дней нашего пребывания в гор. Корфу мы посетили в самом городе один мужской и один женский монастыри и приходскую церковь, и всюду мы имели разговоры с духовенством, монахами и монахинями. И ещё ездили на лошадях за 25 вёрст на другую сторону острова Корфу, в монастырь, называемый „Костриц“, стоящий на самом берегу моря, на высоких скалах, и там были в келье архимандрита, древнего старика, живущего в большой бедности со своими не многими монахами, и результат разговоров являлся всё один и тот же, твёрдый, определённый. Нигде и никогда в Греции крещение обливательно не совершается. Все они относятся к католикам с презрением и полным осуждением. Ни одного голоса мы не слышали хотя сколько-нибудь снисходительного по отношению к латинскому крещению. Остров Корфу был последним греческим пунктом в нашем путешествии, и тут кончились наши исследования по духовным вопросам. С Корфу мы проехали в Италию, в гор. Бари (или по древнему Бар-Град), где покоятся св. мощи Николы Святителя, и посетили католическую церковь, где в подземной церкви, под католическим престолом нам указали св. мощи, к которым, от пола аршина на два с половиной в землю, существует круглое, в 4 вершка, отверстие в роде трубы, в которое решительно ничего не видно за темнотой, что производит удручающее недоумение и сомнение в существовании тут мощей, в отталкивающем каждого русского человека католическом храме, с его изваянными статуями, большей частью римских пап, и напоминающим языческие храмы с их изваяниями языческих богов. Потом мы посетили Рим, Париж, Берлин и через Варшаву и Москву вернулись домой.
Считаем нелишним добавить, что мы имели в виду посетить в Турции гор. Энос, где родина митрополита Амвросия, но по наведённым справкам это оказалось бесцельным. Энос – маленький ничтожный городок с одной церковью, не очень в большом расстоянии от Константинополя, в заведывании Константинопольской патриархии, и там единственное духовное лицо – это молодой, недавно поставленный священник, посланный из Константинополя; так как никаких новых данных там мы получить не могли бы, то и ехать туда сочли лишним.
Из миссионерских писем, дневников и летописей
Боголюбов Д. Миссионерские очерки 66 // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 448–453
II. Распустился мир
Как-то около Пасхи зашёл ко мне подгородный священник о. Александр. Разговорились. Спрашивает:
– Чего вы не приедете к нам?
– Да что у вас делать? У вас ещё сектантство не обозначилось.
– Эх, не обозначилось! – с грустью протянул о. Александр. За то у меня свои мужики – золото, я вам доложу. Да и молокане уже шумят.
– Ну? – от изумления выкрикнул я.
– Да, свой мир, можно сказать, прямо распустился, а под шумок-то сектанты залезли в приход.
Я в волненье стал бегать по комнатам. О. Александр грустно углубился в самого себя.
Немного успокоившись, я уселся. Велел подать нам чаю и спросил о. Александра:
– Расскажите пожалуйста, в чём дело?
О. Александр медленно начал.
– Дело большое. Всё-то сразу не перескажешь. Теперь заваривается в приходе сектантская каша. Начальство будет писать о „миссионерском воздействии“ на народ. А подите, воздействуйте на него! Я просто ум теряю.
По лицу было видно, что о. Александр скорбит глубоко и искренно. Насколько мог, я успокоил его; обещал своё сотрудничество проповедью.
Подали чай. Выпив стакан, о. Александр успокоился нервами и мог рассказывать. Он заговорил:
– Чтобы вам правильно судить о моём приходе и заранее знать, с кем вы будете иметь дело, я расскажу вам о некоторых нравах из жизни наших мужиков. Знайте наперёд, что прихожане мои пьяницы отчаянные. И не то, чтобы в одиночку они валялись у чужих плетней, а как-то пьют скопом, всем миром. Тут от стакана не оттащишь такого человека, который один никогда его в руки не возьмёт.
Вот, сколотившись на сходку, думают мужики, – как бы выпить?
– Да, ребята, зашумит один, нам надо пожарного старосту выбрать?
– Что ж? И выберем, – отвечают старики.
– Кого же?
Все сосредоточенно молчат и думают.
– Смекайте! – говорит зачинщик. Тут нужен человек основательный.
– Нетто Ивана Тихонова? – указывает в толпе корявый мужичонка на своего соседа, у которого три больших брата. Ему, следовательно, хозяйство „позволяет“ быть старостой.
– Нет, Иван Тихонов не подойдёт. Это – не модель! – уверенно заявляет коренной „мироед“. Он чувствует, что выбор Ивана Тихонова безнадёжно отдаляет мысль о мирской рюмке. Семейный, „кредитный“, Иван Тихонов не поставит мужикам водки.
– Вот, ребята, настоящий староста – Егор Филатов! – продолжает „мироед“. Да, вот это человек! – указывает он на единственного сына старика церковного ктитора. У этого ктитора есть мельница, и от двора никому оторваться нельзя.
– И то! – галдит сходка.
– И то!.. Куда лучше!..
Мир „рюмочников“ дружно подаёт голоса за Егора Филатова. Его выбирают единогласно в пожарные старосты. Чтобы настоящим образом воздействовать на избранника, сейчас же о происшедшем составляют приговор.
– Александр, пиши!
Писарь садится за бумагу. Кое-как, „для виду“, заполняет её буквами. Начинается рукоприкладство.
Егор Филатов чувствует, что сидеть ему лето у пожарного сарая, и он начинает у „мира“ отпрашиваться:
– Освободите, братцы, мне некогда, – видит Бог! Я уж вам за уважение пол ведёрка водки поставлю.
Обещанное угощение сейчас же является на сходке. Мужики радостно освобождают Егора Филатова от пожарных забот и принимаются за водку.
– Не подумайте, что сказки рассказываю про своих мужиков, – вставил замечание о. Александр. Чистая быль. А то вот ещё случай: галдит сходка. Нет случая для даровой выпивки. Загорюнился „мир“.
– Ребята, это с какого же права два двора на верхнем порядке завладели общественной землёй? –заявляет коновод.
– Какой?
– Да той, что лежит клином там между огородами!
– И то. Не желаем эту землю отдавать даром! – шумят мужики. Хотим сдать её в аренду. Кто снимет?
Два двора, завладевшие несчастным клочком земли, никому и ни на что ненужной, волей-неволей „раскошеливаются“, ставят миру „четвёртку“, и дело улаживается просто.
Мы сидели в тяжёлом раздумье. Картинки с действительности, искусно нарисованные о. Александром, придавили нас. Молчанье нарушил рассказчик:
– Что запечалились? Приезжайте-ка, вот и повлияйте словом на таких людей. Я уж из сил выбился. А тут молокане заводятся. Да все люди „некудашные“. бобыли, грубияны. На них и „воздействовать“ трудновато. Есть у меня один такой молоканин Ермолай, вроде тургеневского, что бродил с Балеткой. Забубённая голова и озорник!
Недавно возле своей избёнки он говорит бабам:
Слышно, Иверскую понесут нашим проулком? Тесно больно. Как бы бока себе она не ободрала. Дело летнее. Черви накинутся. Тогда тащите ту икону ко мне. Смажу оленьим рогом, – и вмиг все заживёт!
Хорошо, эти безбожные речи услыхала одна благочестивая старуха. Она такого дыма нагнала на проходимца Ермолая, что он, позабыв картуз, стремглав убежал в избу. .
Этого же Ермолая я, недавно видел сильно пьяным. Спрашиваю:
– Таким-то родом обучился ты в молоканстве?
Говорит:
– Ныне все ослабли. Нигде нет настоящей веры!..
И поплёлся опять к винной лавочке.
А вот ещё в моём приходе проживает тип. Это – старик, ехидный, малограмотный и озлобленный. Тоже молоканин. Посему, он распускает такие мысли:
– Православная богородица – нет ничего! Символ веры – хвалюга: верую в то и другое, а в жизни ничего не исполняю. Мощей Митрофания нет. Под полотно положи, что хочешь, – за мощи сойдёт!
Слышат такие злохуления мужики и молчат. Потому они – „сердцем хладные скопцы“. Им бы выпить. А вера что? От неё не поживёшься на сходке.
Немного осталось в моём приходе людей, – закончил свою речь о. Александр, – которые не преклонили колен перед Ваалом. Хоть ради этих приезжайте!
Я дал обещание о. Александру и пошёл провожать его на вокзал. Вечерело. На дворе сыро. Хлестал холодный дождь. На моём плаще дождевые капли выбивали какую-то барабанную дробь. Что-то торопливое, напрасное слышалось в их падении...
А на душе у меня проносились самые мрачные мысли. Я усиленно просил о. Александра именно пешком пройтись до вокзала. Времени до отхода поезда оставалось много. Я надеялся по дороге ещё что-нибудь услыхать от о. Александра. Но мы оба упорно молчали. Меня давило сознание какой-то беспомощности и одинокости. О. Александр был также печален.
За то на вокзале было людно, суетливо, светло. Там мы опять повеселели и разговорились. Расстались мы при убеждении, что не вечно будет царить тьма на русской земле. Настанут дни, когда свет Евангелия Христова озарит наши смрадные сердца.
III. После бесед с молоканами
Два дня, ранней весной, бился я, увещевая вновь совратившихся в молоканство. Заблудившиеся были упорны. Один из этих новых молокан Осип почти не слушал меня. На мои речи он отвечал кощунством и смехом.
В удручённом настроении возвращался я домой. До ближайшего вокзала – вёрст семь; я решил идти пешком по лесу. Мне хотелось в уединении погрустить, поскорбеть о потерянных детях нашей Церкви. С другой стороны, я основательней надеялся осмыслить те меры, которые нужно было принять для успокоения смущённой, совести православных.
И вот пошёл я напрямик лесной чащей. Кругом тишина. Только ветер, поднявшись, колыхнёт вдруг верхушками деревьев, и всё заговорит, заноет, поведёт свою могучую, непонятную речь... О чём так болтливо говорят листья? Что им надобно? Их как бы гнетёт пустота, бесцельность существования. Они остались висеть на деревьях ещё с прошлого года. И чуют они стихийно, что недолго им жить; надобно уступать места новой зелёной листве. Всё старое, безжизненное, при наступлении нового и свежего, должно исчезнуть. Оттого-то это „старое“ шелестит жалобно, стремясь скорее пойти на удобрение земли.
Но вот застонала огромная осина. Маленькие листья её пугливо сжались в трубочки. Стон слышен всё чаще и резче. Да, должно быть, трудно жить в безмолвном созерцании вечной борьбы между старым и новым, между жизнью и смертью. И такие могучие опоры старины, как эта осина, тянут свою унылую песню...
Картины природы властно вызывали в моей голове целый поток мыслей. Мне казалось: вот мы, русские люди, жили стариной, верой в дедовскую правду. Ни о чём особенно крепко не задумывались. Да о чём и думать нам, когда у нас, по словам летописца, „земля велика и обильна“?..
Между тем в этой действительно, обильной земле от времени накопилось много тёмных явлений. Мы, в массе-то, бессознательно владели сокровищами старины. Кое-как знали свою веру, но содержание её усвоили преимущественно с обрядовой стороны. О делах истинного и разумного христианства пристально не размышляли.
И вот разразилась над нами гроза. Появились на св. Руси ереси и расколы. Стонут от давления противных бурь древние устои нашей Церкви. Стонут, но не поломаются. Эти устои сооружены Самим Господом. Они вечны. Не поколебать их тёмным сектантским силам.
И пусть многое в нашей жизни умрёт. Пусть исчезнут с лица земли разгул, бессознательность в делах веры, отсутствие ревности к своей Церкви. Всё это грехи наши. Они, как старые листья, исчезнут перед нарождающейся новой листвой. А листва эта уже появляется. Её несут с собой церковные школы наши, увеличивающаяся строгость священнослужителей к своему долгу, разгорающаяся любовь у русских к своим племенным особенностям.
На почве этих новых явлений миссия наша против отщепенцев церковных окрепнет и принесёт плод сторицей.
С такой верой вышел я из лесу и скоро же с поездом отправился домой.
Д. Боголюбов
Ивановский Н., проф. Единоверие в Сарапуле, Вятской губернии // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 454–467
(Из путевых впечатлений).
В начале июня прошлого года нам пришлось, по приглашению преосвященного Владимира, бывшего епископа Сарапульского, викария Вятской епархии, быть в г. Сарапуле, для собеседований со старообрядцами и для других, соприкосновенных с миссией, дел. Сарапуль представляет собой один из видных центров бегунства, где имеет своё местопребывание, будто бы даже свой дом, важное в бегунской иерархии лицо, ревизор нескольких областей, – кажется, от Казани до Тюмени, некто Савва Онисимов. Там, на так называемой Старцевой горе, главные притоны бегунов. Но вследствие энергичной деятельности станового пристава У...го, сумевшего открыть многие тайники, беспаспортные бегуны спускаются и в сам город, где про них мало знают. Укрыватели бегунов почти все именуют себя „часовенными“, т. е. последователями беглопоповства, и на них внимания не обращается. А между тем, если и не в самом городе, что пока неизвестно, то в уезде бегунская пропаганда вырывает свои жертвы; в этом мы успели убедиться особенно по одному делу в духовном правлении. Дело производилось о совращении в раскол одной женщины. Из него видно, что совратителями её были какие-то пришлые из Тагила люди, которые и для присоединения возили её в Тагил. Хотя все они, и совратители и совращённая, называют себя часовенными, но, очевидно, это неправда; беглопоповцам незачем было бы ехать так далеко. Бегунство же в Тагиле свило себе прочное гнездо; оттуда, да из Ярославля выходят главные его начетчики и распространители. Поэтому связь и сношения с Тагилом и с тамошними проповедниками большей частью „видовыми“, т. е. имеющими паспорта, очень опасны.
Возникали в Сарапуле и другие дела о бегунах, доходивший до окружного суда, но окончившиеся прекращением, и не по вине суда, а по неправильности возбуждения их по 203 ст. Уложения67.
Но не о бегунах, о которых много уже нами писано, хотим мы повести теперь речь, а о Сарапульских единоверцах. То, что мы здесь видели относительно единоверия, заслуживает, чтобы на нём остановиться.
Единоверие, отпраздновавшее в 1900-м году столетие своего существования со времени утверждения „Правил“ еп. Платона, до сих пор служит камнем преткновения и даже соблазна с разных сторон. С одной стороны, раскольники забрасывают его грязью, доказывая, что оно и незаконно, и доселе под клятвой собора 1667 года находится, что в тоже время оно – лицемерная ловушка, во всяком случае, другая Церковь в сравнении с православной, что и власть последней через допущение оного впала в противоречие с собой и превысила свои права, не сделав сношения с восточными патриархами, и прочее, и прочее. Но мы не имеем теперь в виду разрывать эту грязь и показывать, что это именно одна грязь. Мы хотим коснуться лишь того, как обстоит дело с другой стороны, т. е. насколько ясно и определённо представление о единоверии в сознании православных, как у нас его понимают и какими глазами на него смотрят. Высшая власть отечественной Церкви и частные её представители не раз заявляли, что единоверие и православие составляют единую, в символе веры исповедуемую, святую, соборную и апостольскую Церковь, и, казалось бы, этого заявления довольно, чтобы утвердиться на взгляде Церкви. Но, к сожалению, заявления эти недостаточно проникли в жизнь. И многие из наших смотрят на единоверие, как на что-то подозрительное: одни, чтобы поставить на вид власти церковной, что она превысила свои права, и что для надлежащего якобы его узаконения требуется собор иерархов, соответствующий по внешнему его составу собору 1667 года; при этом они жалуются и на нужды, проистекающие из существующей постановки единоверия, на его неравноправность с православием. Это разная пишущая братия, желающая, по-видимому, возвысить единоверие, поставить его даже выше православия, но на деле играющая в руку раскольников, и поддерживающая их возражения. И их нарекания, и проекты мы также обходим здесь молчанием. Мы много раз говорили о сём на наших беседах и в Казани, и в Нижнем Новгороде, и в Петербурге, говорили об этом и в Сарапуле; наша точка зрения, собственно не наша лично, а церковная изложена в печатной нашей статье „Старообрядство и раскол“, помещённой некогда в „Страннике“, а потом вошедшей в „Собрание“ наших сочинений (т. I. Казань). Из неё ясно можно усмотреть, что многие соборные законоположения, установленные под угрозой клятвы, отменялись, или просто теряли силу без всяких новых постановлений на соборах. Но помимо этого и не пишущая братия, уже из строго православных, оберегающая, по-видимому, интересы православия и Церкви, также колеблются относительно взгляда на единоверие с его особенностями. Правда, после решительных и ясно определённых заявлений св. синода, что единоверие составляет одну Церковь с православием, эти колебания и какая-то подозрительность высказываются не прямо, а намёками, довольно прозрачными, и, чаще всего касаются тех или других частных его особенностей. Спросите священника, его жену, ревностного православного мирянина, спросите о том, можно ли и спасительно ли молиться двуперстно, и один прямо назовёт такого молящегося „старовером“68, т. е., по их представлению, полу-православным, полу-раскольником, другой заговорит о правильности троеперстия, т. е., перенесёт речь на относительное превосходство, рискуя услышать возражения и доказательства противного, от чего могут последовать пререкания и споры, легко доводящие до взаимного раздражения; толку от этих споров никакого, ибо ни тому ни другому не убедить своего противника, а между тем взаимный мир уже нарушен без всякой благословной причины. Дело в том, что всякий обряд, как внешний знак, получает жизненность и значение не сам по себе, а от того, какая мысль в него влагается, да при том вполне он и не в состоянии выразить эту мысль, а выражает её только одной какой-либо стороной. Особенно это нужно сказать о непостижимейшем догмате единосущие Божественных Лиц. Святые отцы древней христианской Церкви, рассуждавшие о непостижимом Существе Божием, учили, что если и можно находить символы единосущие св. Троицы, то в слабых лишь подобиях видимого мира, причём указывали и сами подобия без всяких усилий доказывать исключительное превосходство одного подобия перед другим (Твор. свв. Афанасия, Василия и Григория Богослова). Не можем пройти молчанием один, особенно выдающийся пример св. Великомученицы Варвары, которая знак св. Троицы изобразила в трёх окнах, в бане (Четьи-Минеи 4 дек.). И этого никто не зазрил. Какие поэтому могут быть споры о правильности, или неправильности и внешнего символа перстосложения, или относительного превосходства одного перед другим? Зачем же взаимными препирательствами мутить души? Пусть история послужит нам уроком. В ней и единоперстие (не монофизитское) было (Бес. св. Злат. на ев. от Матф. 54), и символ Троичности без обозначения двух естеств во Христе (Ефр. Сир. сл. 105-е), и двуперстие без знаменования трёх перстов (Пётр Дамаскин), и двуперстие с троеперстием, соединённое в несколько разных видах, и с неодинаковым знаменованием (Стоглав, Послание п. Иова в Грузию, Большой Катехизис, кн. Кириллова, Предисл. к Псалтири п. Иосифа и книга о Вере), и одно заменялось другим без всяких пререканий. И это вполне соответствует существу предмета. Ибо для единства веры и для спасения требуется единение духа и упования, в союзе мира, а не единение обряда69.
Мы остановились на двуперстии, как на самом видном отличии всего старообрядства, которое считается едва не коренным его догматом. Другие особенности единоверия касаются или отличий языка, или относительной правильности перевода, или таких вопросов, например, о количестве, просфор на проскомидии, о круговых хождениях посолонь или против солнца, об относительном превосходстве которых тоже можно рассуждать и спорить без конца. И всё выйдет бесплодный в деле веры и спасения мутящий душу спор.
Иные, сознавая своё бессилие сладить с вопросом о единоверии в его принципах и основах, но не желая в то же время отказаться от своих подозрительных взглядов, переносят вопрос на почву жизни и её фактов, говорят о том, каковы – единоверцы. Действительно, перенесённый в область живых людей, с их понятиями и привычками, с их симпатиями и антипатиями, вопрос этот может получать очень разнообразные ответы, и само единоверие казаться то таким, то иным, то полезным и желательным, то подозрительным, вместо пользы церковной вред приносящим, создавшим лишь двусмысленные отношения. Каждый при этом указывает на то, что пришлось ему подметить во взглядах и поступках частных лиц из единоверцев и их отношений к православию. Кто, серьёзно присматриваясь к единоверцам, видит в них искренних членов Церкви, в глазах того и существующие особенности отодвигаются как бы вдаль и не портят впечатления, а иногда некоторые даже похваляются, от чего и само единоверие является прекрасным и желательным. Но если замечают в единоверцах стремление к резкой обособленности от православия, проявления сепаратизма, что и приметить бывает легче, как всякое отрицательное свойство, то отсюда делают невыгодное заключение и о самом единоверии, судя о нём именно по людям, которых перед собой видят. Понятно, что такая точка зрения неверная, но отрешиться от неё могут лишь немногие; разубедить же в её неправильности никогда почти не удаётся, так как факт на лицо.
В Сарапуле нам пришлось увидеть нечто совсем обратное сему и просто непонятное. С одной стороны, факты говорили нечто доброе, примиряющее и совсем близкое к нам, а с другой – суждения о единоверии через меру тяжёлые, и взгляды на него подозрительные, мрачные. Поэтому-то мы и решаемся сказать о тех и других.
Почтенный о. протоиерей единоверческой церкви Рябов пригласил нас побывать за литургией в воскресенье 11-го июня, и мы изъявили полную готовность и желание исполнить его просьбу. В назначенное время нас привезли в неизвестный нам храм. Вошли и думаем, можем ли мы знаменоваться троеперстно, как на это посмотрят. Мы знаменаемся и в церквах единоверческих троеперстно по особой причине, о которой скажем далее. Начали молиться, никто не обращает внимания, как мы крестимся. Слышим пение не то, принятое единоверческое пение, какое доселе слышали, а какое-то особенное: напевы древние, но исполнение на четыре голоса, при полной гармонии (согласии), хор весьма хороший. Мы слушали и пожалели, от чего в большинстве наших православных храмов потеряны эти древние напевы. Далее, всматриваемся и замечаем, что молящиеся стоят в разнообразных одеяниях, видны и кафтаны, и пиджаки, и платки и шляпы у женщин на головах70; и кланяются молящиеся не в то только время, когда по уставу положено, но полагают поклоны и при других молитвенных возглашениях. Вслушиваемся в само богослужение и в возгласы, слышим „веком“, „отложим печаль“ (на херувимской песни) вместо „попечение“; но опять видим великий выход по принятому в православной Церкви обычаю, с поминовением Государя и Царствующего Дома. Это, положим, принято и во многих других единоверческих церквах. Но далее, после слов: „Благодарим Господа“, поют: „Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельней“. Ещё прежде, на ектении великой, слышали слова: „о соединении всех“, а не „совокуплении“. В конце литургии слышали песнь: „Видехом свет истинный...“ Слыша всё это, мы невольно останавливались на мысли, туда ли нас привезли, в единоверческую ли церковь, не в православную ли, по ошибке, тем более, что и служил священник, нам незнакомый (не о. протоиерей Рябов). Но вслушиваясь в некоторые выражения, сознавали опять, что мы, действительно, находимся при единоверческом богослужении. И снова в душе являлось какое-то недоумение, что-же это такое?.. Церковь была полна молящимися. Во время причастия нас попросили в алтарь, где мы и увиделись с почтенным и. протоиереем. О. протоиерей обратил наше внимание на храм, благоукрашенный, на довольно богатую ризницу. Мы выразили ему своё удивление по поводу особенностей, сближающих единоверческую службу с православной, и в объяснение сего услышали, что это не вдруг явилось, а стоило тридцатилетних трудов. Вот и нашлась разгадка! Останавливаясь теперь мыслью на этом необычном явлении, мы, действительно, не можем не понять, чего такое сближение стоило, и насколько потерялся в нём присущий ещё многим единоверцам обрядоверный характер и свойственное, пренебрежение к обрядам православия. Не говоря о женщинах в шляпах, мы сами испытывали нечто подобное относительно троеперстного знаменования, о чём, к случаю, думаем рассказать. На первых порах, немало лет назад, когда мы впервые стали посещать единоверческий храм и знаменоваться троеперстно, к нам подходили и оговаривали, но мы оставались непреклонны, большего ничего не случилось, а потом нас оставили в покое. Случалось только, – и это было недавно, – одна старушка, видя, что мы, стоя даже в алтаре, молимся прямо перед св. престолом троеперстно, всё вздыхала и довольно громко шептала: „ох, Господи, хоть-бы молился-то не в алтаре!“… А почему мы так поступали и поступаем, на это есть своя причина. Не менее 20 лет назад, когда мы на наших беседах говорили, что можно молиться и троеперстно, и двуперстно, что спасению это не вредит, и сами не раз знаменовались двуперстно, показывая тем, что мы и двуперстием не пренебрегаем и ересью его не считаем, – один из единоверцев спросил нас, почему мы не знаменаемся двуперстно, когда бываем в единоверческих церквах при богослужении, тогда как даже архиереи при посещении их храмов крестятся двуперстно? Это-де показывает, что на беседах мы неправду говорим, лицемерим. Мы отвечали, что архиерей, посещая их храмы, является, как их пастырь, пасущий находящихся в его стаде овец, привыкших к известным обычаям, и потому исполняющий их, чтобы овцы от него не побежали, я же являюсь, как простой молящийся, поэтому пример архиерея ко мне не подходит. Впрочем, продолжали мы, я согласен и по-вашему поступать только, под условием: если вы, когда приходите в собор, или в Казанский монастырь, или в другую православную Церковь, будете молиться троеперстно, то и я, приходя к вам, стану молиться двуперстно! Единоверец заметил, что это ему не подобает. Тогда и мы сказали, что и нам, значит, не подобает. Ибо, если он уважает свой обряд, Церковью благословлённый, то и я уважаю свой, обдержно Церковью принятый. На этом мы и примирились, сохранив достоинство того и другого обряда... Но вот, закончили мы, если буду когда участвовать в вашем богослужении, например, если буду восприемником (крестным) при присоединении кого-либо из раскола, или буду читать у вас канон, или что другое, тогда и исполнять стану всё по вашему. Так, действительно, мы и поступаем, и думаем, что это в порядке вещей, и согласно с духом и правилами единоверия. Мысли свои мы сообщили и отцу протоиерею.
Рассказав о том, что пришлось нам видеть и слышать у Сарапульских единоверцев, осветим несколько слышанное и виденное. И прежде всего заметим, что не форма сама по себе нас заинтересовала, – о форме можно рассуждать, сколько угодно и за и против, – а дух сближения, какой в этой форме или в этих отличительных особенностях проявляется. Это совсем не то, что дух раскола, разменявшийся на мелочи, готовый придраться к каждой йоте и черте. Некогда, при начале раскола, его вожди, в числе обвинений на православную Церковь, предъявляли и то, что после слов „достойно и праведно“ прибавлено: „покланятися Отцу и Сыну и Св. Духу, Троице единосущней и нераздельней“, и это находили „неподобным прилогом“71. Также обвиняли они и за пение „Видехом свет истинный“. Что в том и другом нехорошего по существу, понятно всякому: ведь чины и молитвы богослужения не установлены раз навсегда, неизменно, и литургийное песнопение „Единородный Сыне и Слове Божий“, да и песнь херувимская внесены уже после свв. Василия Великого и Златоуста. Будет ли таким образом грехом прибавить несколько хороших молитвенных слов, или и ввести новую молитву и песнопение?! Конечно, нет! И только, человек, утопающий „на брезе грамматического разума“, может так думать и говорить. Единоверцы, положим, этих обвинений прямо не предъявляют, но себя строго оберегают от всего нового, хотя бы и хорошего, почему иные и Царской Фамилии на великом выходе на литургии не поминают и из-за чтения введённой особой молитвы за Царя после сугубой ектеньи возбуждают местами препирательства и не читают её. И здесь у некоторых единоверцев обнаруживается таким образом таже излишняя приверженность к редакции „старой“ книги, хотя им самим хорошо известно, что и между этими старыми книгами есть много несходного, встречаются и прибавления молитв и прошений на ектеньях (чин крещения по Потребникам пп. Филарета и Иосифа. См. в нашем Руководстве по Облич. раск., стр. 115). И сами же они не последуют даже Служебникам патриаршим до лет п. Никона относительно, например, количества просфор на проскомидии, а руководствуются лишь Номоканоном, при Потребниках Иоасафовском и Иосифовском напечатанных (См. наше „Руководство“, стр. 142). От излишней привязанности к книжной букве и выходит, что когда священник возгласит: „Благодарим Господа“, то хор отвечает лишь двумя словами: „Достойно и праведно“, вследствие чего слова эти или чрезмерно растягиваются, пока служащий успеет прочитать положенную молитву, или просто в молчании приходится выжидать следующего возглашения, да при этом и мысль как будто обрывается и не доканчивается, – что именно „достойно и праведно“. Затем, когда, при окончании литургии, священник возгласит: „Спаси, Боже, люди Твоя...“, то в ответ слышится молчание, а между тем в это время дискос с св. престола переносится на жертвенник, и совершается каждение перед потиром; вследствие этого происходит молчаливый перерыв. В церквах православных в это время и поют: „Видехом свет истинный...“ Старое слово „о совокуплении“ всех, с развитием языка, утратило свой прежний смысл и потому естественно заменено словом „соединение“.
А что касается до положения поклонов в неуказанное время и до покрытия женщинами своих голов шляпами, то, во 1-х, уставы, коими положено в известное время полагать поклоны (поясные или земные), нигде не воспрещают полагать их и не в указанное время. И это понятно: такое воспрещение не соответствовало бы благоговейному настроению молящегося, его потребности преклониться перед Господом, и не в урочное время. Во 2-х, хотя св. апостол и повелевает женщинам в церкви иметь голову покрытой, в знак подчинения мужу, но форма покрытия также не установлена, даже ношение длинных волос называется уже покрытием (1Кор.11:5–15). Поэтому платком, или шляпой, или чем другим покрывать голову, это по апостолу всё равно; если же у нас принято покрываться платком, то по русскому только обычаю. Правда, в последнем случае указывают на модное щегольство, в церкви неприличное. Но разбирать, кто для чего одевает шляпу, а не платок, невозможно: и в шляпах ходят иногда женщины престарелые и вовсе не щеголихи; да бывает, что иная шляпа далеко хуже и проще дорогого платка, которым также можно щеголять.
Эти наши замечания не понравятся, вероятно, многим единоверцам. Но что же делать?.. Недавно один преосвященный в застольной речи назвал нас другом единоверцев. Так оно и есть. Но дружба на том именно и держится, чтобы не всё без разбора хвалить, а иное и не одобрять, а только говорить правду.
Мы могли бы указать и ещё на некоторые частности в богослужении Сарапульских единоверцев, сближающие их в обычаях с православными, но и сказанного довольно. От этого единоверческая церковь посещается и многими православными, что, кажется, и вызывает недовольство некоторых. Но как же быть? Ужели запереть церковные двери?
Как бы то, впрочем, ни было, но заслуживает внимания то непредвиденное обстоятельство, что при таком сближении единоверия с православием в Сарапуле, первое как-то унижается там некоторыми православными, как нечто сомнительное, и заподозревается теми из православных, от коих всего менее можно было бы этого ожидать. На беседе нашей о единоверии, когда мы раскрывали ту мысль, что единоверие и православие составляют одну Церковь, какой-то старообрядец заявил, что это только наше мнение, а здесь думают и на беседах говорят иначе, причём указал и на одно отсутствующее лицо. Мы не придали значения этому заявлению, думая, что оно или ошибочно, или прямо лживо. Но вскоре оказалось, что это – правда. Подозрительный на единоверие взгляд, как на что-то сомнительное и даже неполезное, по существу худшее православия, и не могущее поэтому быть одной с ним Церковью, со слов перенесён на бумагу и попал в печать.
В Вятских епархиальных ведомостях за 1900 год (№ 1-й) напечатана речь, в коей говорится, что, хотя в Вятской епархии и возлагают в борьбе с расколом надежды на единоверие, но в Сарапульском викариатстве этой надежде места нет. Единоверие в отношениях своих к православию заявило себя стремлением не помочь православию, а ослабить его, поживиться на его счёт, попользоваться плодами православной миссии... Мы с изумлением прочитали этот жёсткий приговор и искали каких-либо фактов, подтверждающих оный, но их не оказалось. А между тем этот приговор произнесён ни много, ни мало, как бывшим викариальным миссионером г. Трониным72. В чей собственно огород брошен этот тяжёлый камень, кто и чем воспользовался его миссионерскими трудами, про то он также умалчивает. Конечно, в семье, быть может, и не без урода, но один урод не может давать основания к огульному нареканию. О единоверии в самом городе Сарапуле мы вынесли совсем обратное впечатление. Затем, один из священников викариатства в сильных выражениях письменно протестовал против высказанного обвинения. „Первая моя забота, писал он в одной бумаге, по принятии священства, была о благоустройстве храма... Второй предмет моей заботы и, можно сказать, самый главный, это овцы ины, находящиеся вне двора Господня. Чтобы привлечь их в этот дом Господень, я старался и стараюсь, как можно торжественнее и без опущения, совершать божественную службу как общественную, так и частные христианские требы, с этой же целью посещаю дома прихожан и душевно беседую с ними о необходимости принадлежать к числу членов Церкви Божией и быть участниками трапезы Господней, разъясняя им всю гибельность их заблуждения, и, благодарение Господу, нашлись добрые сердца, которые вняли моему призыву и возвратились с гибельного пути. В разное время мной присоединено к Церкви 106 человек“. При этом почтенный пастырь ссылается на одобрительные печатные отзывы о его деятельности лиц, занимающих официальное положение. „Хорошо также понимая, продолжает он, что в борьбе с расколом великую помощь может оказать и церковная школа, с первых же дней моего служения я обратил на это святое дело особенное внимание, устроив школу. Школа приобретает с каждым годом всё более и более себе доверия, как со стороны православных, так и раскольников, которые охотно отдают учиться как мальчиков, так и девочек, которые и Закон Божий изучают с примерным усердием“73.
„При помощи Божией, благодаря беседам и школе, раскол заметно слабеет, а фанатичные вожаки, видя своё бессилие защищать своё лжеучение, сочли за лучшее убраться в другие места“. О таком ослаблении раскола в данной местности также свидетельствуют и другие, лица официальные.
„Служа в единоверческом приходе, я всегда старался разъяснять как ранее обратившимся, так и вновь обращающимся значение единоверия, что оно только тогда спасительно, когда будет в полном единении духа с православной Церковью, и отрадно для меня то явление, что прихожане мои не чуждаются храмов православных, но посещают с одинаковым благоговением“... За ревностную и плодотворную пастырскую деятельность священник в 1895 г. был награждён набедренником74.
К этому протестующему голосу единоверческого священника против огульного печатного обвинения единоверия в Сарапульском викариатстве, голосу, вылившемуся „от туги сердца“, добавлять нечего. Дело говорит само за себя, и официальные данные подтверждают это.
Понятно, что брошенное тяжёлое обвинение против Сарапульских единоверцев произвело удручающее впечатление не на одного только означенного священника, но и на других иереев и понимающих дело мирян. Видимо, не только по вопросу о деятельности единоверческого духовенства, но и по вопросу о самом единоверии существует какое-то крупное недоразумение. В видах прекращения этого недоразумения и разъяснения истинного смысла единоверия, его значения и законности, а также и взгляда на него высшей церковной власти, мы и сочли необходимым предложить публичную о нём беседу. Главными вопросами на этой беседе были: вопрос о допущении обрядового разнообразия в одной местной церкви и вопрос об отношении единоверия к постановлениям собора 1667 года, а отсюда и вопрос о безусловной якобы необходимости для разрешения употребления отменённых на нём обрядов в созыве нового, соответствующего собора. Рядом соборных правил древней Церкви мы показали, что такой необходимости нет, так-как и древняя Церковь разрешала употребление того, что прежде было отборами запрещено, под угрозой даже клятвы, без новых соборов (См. в „Собрании“ наших сочинений, т. 1, ст. „Старообрядство и раскол“). Дай Бог, чтобы недоразумение скорее прекратилось, чтобы на единоверие перестали смотреть, как на мост из православия в раскол, что высказывают иногда и в других местах люди неразумные! Да помогут этому и сами единоверцы своим искренним отношением к православной Церкви, живой с нею связью и духовным единением!
* * *
В Сарапуле мы пробыли пять дней и сделали четыре беседы: первую об антихристе, вторую о пути спасения, третью о единоверии и четвёртую о бегунах. Все беседы посещались очень усердно и духовенством, с преосвященным Владимиром во главе, и представителями образованного класса, и простым народом.
Не можем не выразить в заключение нашей сердечной признательности преосвященным Алексию, епископу Вятскому и Слободскому75, благословившему наши труды по телеграфу, и Владимиру, бывшему епископу Сарапульскому, любезно принявшему нас в своём доме и своим постоянным вниманием облегчавшему наши труды.
Проф. И. Ивановский
Картушин К. Наблюдения и мысли православного миссионера (из бывших расколо-учителей) // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 468–475
(Доклад Донскому миссионерскому съезду).
Почтенные отцы и братия.
Число раскольников в Березовском округе, в котором я миссионерствую, восходит до 17-ти тысяч; из них две трети беглопоповцев, одна треть приемлющих австрийское священство окружников и незначительное число беспоповцев. Сектантов, именующих себя баптистами, числится 104, молокан тамбовского уклеинского толка – 200, духоборцев – 56 и хлыстов открытых – 34.
Очагами беглопоповщины можно назвать станицы: Глазуновскую и Малодельскую, по многолюдству раскольнического населения, а также хутора: Орешкин, етеревской станицы, и Медведев, скурпшенской станицы. В первом часто бывают собрания наставников беглопоповства даже из отдалённых мест, напр., с Поволжья, а во втором жительствует поставщик требоисправителей; близость железнодорожной станции облегчает последним сношения с таковыми же агентами по приисканию требоисправителей, живущих во внутренних губерниях. Раскольники австрийского толка особенно сильны в хуторах: Ендовском, ново-александровской станицы, Абрамовом, арчадинской станицы и Полковом, островской станицы. В первых двух всё население состоит из раскольников одного австрийского толка со лже-попами из местных жителей во главе. Надо много иметь мужества, чтобы члену так тесно сплочённой общины открыто высказать сомнение в правоте раскола; взысканные же милостью Божией и присоединившиеся к св. Церкви вынуждены были переселиться из хутора Абрамова в станицу Краснокутскую, а из хутора Ендовского идти в услужение к землевладельцам и хлеботорговцам.
В хуторе Попковом хотя раскольники австрийского толка составляют не более трети населения, но место это, как родина именующего себя „старообрядческим архиепископом московским Иоанном“, моего родного брата, казака Иустина Картушина, пользуется особым его покровительством благостынею его почитательниц; на его или их средства построен в хуторе внушительных размеров двух-этажный дом; верх весь приспособлен к молитвенным собраниями, чтецы и певцы получают от него же определённую плату за свой труд, чем поощряются к исправному совершению богослужения с нескрываемой целью „затмить никонианство“. Лже-поп Михаил, двоюродный брат лже-владыки, облачен сим последним большими полномочиями. Он благочинный, он духовный следователь без ограничения местности до Петербурга включительно, он же и посол на все соборы. Возвращаясь из своих поездок, он убаюкивает своих доверчивых слушателей рассказами о подвигах их передовиков, о том, что они там „в министериях“ чуть не добились уже полного равноправия с православными; для того же, чтобы рассеять сомнения в правоте раскола, Иустин часто посылает сюда известного защитника раскола К. Перетрухина.
Как переживший всевозможные видоизменения в развитии религиозного сознания, от робкого сомнения, до той стадии, с которой начинается процесс умственной работы с положительным характером, я осмеливаюсь предполагать, что усилия защитников раскола могут иметь успех. Учение их, как плевелы, могут заглушить в самом зачаточном состоянии ростки от семени чистой пшеницы слова истины. Беспоповщина, по своей малочисленности, не имеет у нас ни прочного гнезда, ни видных представителей, разделяется на четыре толка. Поморцы живут в хуторах Усть-Хоперской станицы, никудышники в хуторе Глинском, раздорской станицы, христиане 8-го века в станице Усть-Медведицкой и средники в хуторе Мостовском, глазуновской станицы.
Не буду утомлять вашего дорогого внимания описанием внешнего положения расколо-сектантства. Я нахожу более полезным для дела характеристику внутренней стороны в жизни местного раскола и оценку толков его по степени вреда, какой приносит он теперь и может принести в будущем православной Церкви. Раскол австрийского· толка, несмотря на видоизменения его после издания Окружного Послания как будто к лучшему, в сущности нисколько не подвинулся к сближению со св. Церковью; многочисленные защитники раскола изощряются в приискании новых обвинений на православную Церковь, после того как предъявленные родоначальниками русского раскола обвинения были опровергнуты; а это обстоятельство свидетельствует об отсутствии в них христианского смирения и миролюбия, о неготовности их сердца любить истину. Правда, один из сродников передавал мне, будто Московский владыка заповедал ему меньше остерегаться общения с никонианами, нежели с раскольниками других толков, и я сам не очень давно видел, как один старообрядец, по входе в дом одновременно с православным, из числа трёх входных поклонов, два положил вместе с православным; даже Перетрухин в частной беседе со мной при немногих свидетелях сказал мне: „нам с вами не следовало бы препираться, а общими силами ратовать против общего врага беспоповщины“. Но как поступок рядового раскольника, молившегося с православным, так и слова расколоучителя имеют под собой худую подкладку. В первом случае сказалось обычное в наше время безразличное отношение к требованиям своей веры, а расколоучитель своей мнимой благонамеренностью по отношению к православной Церкви хотел бы усыпить бдительность её защитников, чтобы удобнее сеять свои плевелы. Из разговоров с старообрядцами о том, усомнились ли в своём уповании, надёжно ли оно, я узнал о таком двуличии расколовождей: если кому из них предлагает недоуменный вопрос человек, носящий слабые зачатки сомнения в правоте раскола, таковому он отвечает целым рядом обвинений на православную Церковь, дабы напугать вопросителя и тем рассеять его сомнение, если же предлагает вопрос человек, порядочно осведомлённый, что греко-российская Церковь в богословии не погрешает, таковому расколоучитель говорит в успокоение: „знаете, голубчик, Церковь понятие растяжимое; никониане в богословии не погрешают, а мы и тем паче, следовательно, в обширном смысле слова мы составляем одну Церковь, а следовательно, имеем и одну главу Христа; священство исполняет служение рук, наше священство правая рука, а их левая, понял? Теперь подумай, какая рука лучше исполняет веление головы? – Конечно правая“. В прошении, поданном Константинопольскому патриарху, раскольники именуют управляемую ими Церковь хранительницей православия и всех уставов церковных, а на беседе с миссионерами стараются доказать, что греческая Церковь „погубила веру“ ещё до Никона. Оказывается, что действительные отношения вождей австрийского толка к господствующей Церкви такие же враждебные, какие существовали и у предков их. Под давлением доказательств, представленных защитниками православия, холодный, не согретый любовью ум раскольника ищет выхода из своего ложного положения без раскаяния и ещё больше запутывается в софизмах. Вот образчик: один борзописец из австрийских в своей книжонке построил обвинение против православия по следующим правилам: в книгах печати патриарха Иосифа молитва св. Ефрема читается так: „Господи, и Владыко животу моему, дух уныния, небрежения, сребролюбия и празднословия отъими от мене“, а в новоисправленных, после перечисления нравственных недостатков, стоят слова: „не даждь ми“; из этого сопоставления развязный раскольничий адвокат-начетчик вывел такое заключение: они, раскольники, в молитве к Богу исповедуют свою греховность и просят очистить её „отъими от мене“, а никониане считают себя чистыми, Бога же представляют имеющим эти вышеуказанные нравственные недостатки и просят Его не давать их им, так и сказал: „пусть они останутся при Тебе“. Комментарии, как говорят учёные, излишни. Я писал брату Иустину, спрашивая, каково его участие в составлении и распространении подобных книжонок, и сказал в письме, что буду несколько утешен, если такая грязь разливается не его рукой, но не получив никакого ответа, я с прискорбием заключаю, что и он увлечён общим потоком слепой борьбы со светом истины. Вот картина, прославляемой в светском обществе и печати, самой, по-видимому, благонамеренной части раскола, взятая с натуры. Стоящим на страже Христова стада предстоит подвиг в рассеянии мрака невежества, смягчении упорства воли и обличении лукавствия сердца.
Беглопоповцы, несмотря на своё численное превосходство, чувствуют себя не особенно хорошо. Затруднения при добывании требоисправителей, открытое лицемерие их вождей, которые берут напрокат всякий нравственный отброс из православной иерархии на неделю или на две, без всякого чиноприёма, внося наперёд условную плату за труд, поставило беглопоповщину лицом к лицу с вопросом: „в православие, в австрийщину, или уж дальше от попов. – в стариковщину?“ Такое брожение умов послужило поводом к устройству собеседования расколовождей между собой: окружника Перетрухина, беглопоповца Глухова и беспоповца Худошина. Брожение это, благоприятное для деятельности миссии, продолжается и доселе.
Беспоповцы ещё менее опасны для православия, чем беглопоповцы. Слишком уж дикими кажутся православным, несколько осведомлённым в беседах, воззрения беспоповцев на настоящее время, как на время господства последнего антихриста. Отеческая попечительность правительства, правосудие, оберегающее безопасность личности, честь имени и неприкосновенность собственности, – как блага вещественные, свобода веры и убеждений, открытая проповедь Евангелия, беспрепятственное служение Богу и поощрение к доброй нравственности, как блага духовные, при лёгком разъяснении, кажутся православным несовместимыми с понятием о временах последних, когда люди побегут в горы, „во еже скрытися от находящих зол“. Что же касается до последователей учения христиан 8 века, воображающих, что они живут под новым небом и на новой земле уже после второго пришествия Христова и последнего суда, празднуют третью пасху, то такое учение для окружающих сектанта православных, пока они находятся в здоровом уме, не заразительно. Гораздо опаснее для сынов православной Церкви секты с практической подкладкой и жизнерадостной окраской, каков баптизм, гнездящийся в Хоперском округе. Весь катехизис этих сектантов состоит из одного слова „веруй“! Такой лёгкий способ спасения очень заманчив для людей, необученных в подвигах самоограничения. Средства для обращения раскольников и сектантов к православию употребляются обычные: собеседования публичные и частные. В последние годы моей службы устройство публичных бесед встречает затруднение в отказе являться на беседы заурядных начетчиков и наставников, а раз не пойдёт наставник, не пойдёт и народ. В возмещение этого мы пользуемся всяким случаем, чтобы побеседовать о вере, будь это случайный спутник. Я ведь не знаю, сколько мне внимают и на публичной многолюдной беседе, – может быть, меньше одного. Плодами наших бесед похвалиться не можем, эта сторона дела оставляет жажду неудовлетворённой. Но то уж наша личная вина, наша жизнь, на подобие известных животных, прирастающих к земле, лишает наше слово небесного огня, необходимого для умягчения сердца слушателей. Идея миссии и пожалуй даже организация её, думаю, тут неповинны. Одно утешительно, что православные переводят себя из оборонительного в наступательное положение: теперь не редкость встретить немного грамотного православного, который даёт отпор подобному себе рядовому раскольнику, а подчас и наставнику. Будем надеяться, что будущие деятели на ниве Господней, располагая большими познаниями, почерпнутыми из сокровищницы науки, и большим опытом, при помощи Божией принесут больший плод. Это доставит нам радость и здесь и в том мире.
На вопрос, как поставить дело миссии в Донской епархии, чтобы оно могло иметь в будущем больший успех, я отказываюсь отвечать, потому что считаю постановку миссии достаточной, как по личному составу, так и по тем способам, которые даны миссионерам к исполнению лежащей на них обязанности, разумею пользование церковными библиотеками и взимание даровых подвод. Но если бы кто спросил меня, нет ли таких препятствий, к воссоединению раскольников и сектантов с православной Церковью, которые лежат вне области, ведаемой деятелями миссии, то я сказал бы, что такие препятствия существуют. Известно, что сектанты на своих богослужебных собраниях читают слово Божие, с целью истолкования и научения; какое у них толкование, – это другой вопрос, но они толкуют, потому что слышат и разбирают читаемое. Наоборот, раскольники не считают для себя обязательным понимать то, что поётся и прочитывается в богослужении, но они строго наблюдают, чтобы всё, положенное по уставу, было выполнено. Теперь представим себе такой случай: два человека – раскольник и сектант слегка усомнились в основательности своего упования; как скоро сомнение сознано, т. е., человек признался сам себе в наличности сомнения, то фанатизм уступает место любопытству, иногда страстному. Хочется всё сразу узнать; человек ко всему присматривается и прислушивается. Вот, эти два человека вошли в храм во время богослужения и, как неубеждённые, а только носящие в душе задатки возможности убеждения, естественно сделают сопоставление того, что они наблюдают в православных с тем, что у них соблюдается. Всегда ли и везде будет в пользу православия такое сопоставление? Не думаю, чтобы у кого достало смелости дать утвердительный ответ. В передовой статье апрельской книжки „Миссионерского Обозрения“ за настоящий год дана печальная картина народного невежества; там сказано, что переселенцы в Приамурский край в четвёртом члене символа веры вместо слов; „распятого же за ны при Понтийстем Пилате“, читают: „распятых жены примостывся стреляти“, и происхождение этой тарабарщины приписано заимствованию от самоучек. А я, хотя с большим прискорбием, прихожу к предположению, что вина подобных извращений лежит не в одних самоучках, а и в поспешном и невнятном чтении молитв и песнопений в храмах. Ещё теперь, когда учебные заведения выпускают массу молодых людей с специальной псаломщической подготовкой, не редкость слышать в псалме: „Господь потоп“ и так звучно, а потом „населяет“ беззвучно скороговоркой в связи с последующими словами, или на страстной седьмице „богословствует земля“..! Вот истинная причина, по заявлениям самых миролюбивых раскольников и сектантов, препятствующая воссоединению их с св. Церковью. Теперь вопрос: можем ли мы требовать, чтобы расколо-сектанты были снисходительны к нам так же, как должны быть снисходительны к ним мы. И в чём же должно выражаться наше снисхождение к ним? В удовлетворении их законных желаний, мы же, как изволите видеть, хотели бы, чтобы к нам были снисходительны в поступках сомнительной законности. До последнего времени мы стыдились признаться себе, что разоряем одной рукой то дело, которое другой сами же делаем. Но всему есть предел: я опять обращаюсь к психологии раскола. Кто имел счастье родиться в православии, воспитаться под сенью благодати Божией и свободен от фарисейского презорства, возведённого в расколе чуть не в добродетель, тот едва ли и может понять то огорчение и муки, какие испытывает даже самый благонамеренный раскольник, созерцая наши слабости. Нечего и говорить, какое оружие этим мы даём в руки ярых врагов Церкви, всегда и везде с злорадством ставящих наши слабости в вину Церкви.
Если съезду благоугодно будет, под руководством церковного священноначалия, сделать что-нибудь к устранению указанной мной причины, – такое дело будет идти прямо навстречу назревшей и перезревшей потребности не только миссии, но и всего русского народа.
Окружной миссионер Донской епархии Каллиник Картушин
Из миссионерской полемики
Шалкинский С. Беседа о причинах отделения раскольников старообрядцев от православной Церкви // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 476–490
Миссионер. Русский раскол, присвоивший себе наименование старообрядчества, возник в 1653 г., вследствие некоторых обрядовых исправлений, предпринятых патриархом Никоном. Сам Усов в предпоследней беседе сказал, что „когда патриарх Никон исправил некоторые церковные обряды, то мы не захотели принимать этих исправлений и остались при всём старом“. И другой защитник раскола Василий Механиков говорит в своей книге „Историко-каноническое обозрение старообрядческого общества“: „История разделения, до того времени вполне единой, русской Церкви на старообрядческую и новообрядческую имеет своё начало и причину. Начало это относится к половине ХVII столетия, и именно к 1652 и 1653 гг., когда перед самым наступлением великого поста патриарх Никон рассылал по московским церквам послание, так называемую „Память“, в которой, между прочим, повелевалось, чтобы во время чтения молитвы св. Ефрема Сирина („Господи, Владыко животу моему“) полагались земные поклоны не все, а только четыре; двенадцать полагались бы поясные, и чтобы кроме того крестились тремя перстами. Эта-то „Память“ и делается первичной причиной разделения русской Церкви“ (л. 6 об., 10 об.). Но такие исправления, как замена 12 земных поклонов поясными, и сам Мельников далее называет исправлением „самым непредосудительным“ (там же л. 11). Если же это так, если исправления, предпринятые патриархом Никоном и при том вызванные крайней необходимостью, и сам раскольнический писатель называет „самым непредосудительным“, то тем более является предосудительным поступок первоучителей раскола, из-за непредосудительных исправлений, решившихся порвать единение со св. Церковью и оклеветать её еретической. Усов – сторонник и защитник учения своих первоучителей, оклеветавших св. Церковь еретической. Поэтому я и прошу его указать, какие в 1653 г. патриарх Никон ввёл ереси, которые заставили раскольников отделиться от нашей св. Церкви?
Усов. И только?
Миссионер. Пока отвечайте на этот вопрос.
Усов. Когда обвиняли нас, вы были многоглаголивы, а теперь что-то прячетесь.
Миссионер. Это лишнее. Отвечайте на вопрос.
Усов. На ваш вопрос и отвечать нечего. Вы спрашиваете, что заставило нас отделиться от св. Церкви? Но старообрядцы никогда ни от какой Церкви не отделялись. По-вашему, отделиться – это значит отойти на какое-нибудь расстояние что ли? Отделиться вот от этого стола легко: отошёл от него шаг или два, вот и отделился. А отделиться от Церкви Христовой – значит отступить от истинной веры, принять ереси. „Ересь отделяет от Церкви всякого человека“, говорит седьмой вселенский собор (Деян. вс. соб. т. 7, стр. 93, изд. 1873 г.), а мы от истинной веры не отступали, никаких ересей не принимали, следовательно, мы никогда от св. Церкви не отделялись, а оставались и остаёмся в той истинной Церкви Христовой, которая сияла благочестием до патриарха Никона, которая свято содержится и теперь нами. Мы содержим те же обряды, какие содержались до патриарха Никона, мы совершаем богослужение по тем же книгам, по которым оно совершалось при 5 первых благочестивых патриархах, а вот сама ваша новообрядчествующая Церковь, действительно, отделилась от св. Церкви, преслушала её и за это преслушание стала еретической. Я пока не буду вдаваться в подробное перечисление ересей новообрядчествующей Церкви, а только попрошу о. миссионера, пусть он мне ответит, почему они отделились от св. Церкви, что в ней было нехорошего, еретического? А пока о. миссионер, поражённый таким неожиданным для него оборотом беседы, собирается с духом и соображает, как выпутаться из затруднения, я укажу слушателям на одно обстоятельство, которое показывает, что Сам Бог обличает о. миссионера и называет его раскольником.
Усов достал из бокового кармана № газеты „Приазовский Край“ и хотел что-то прочитать, но сидевшие около него раскольники вырвали из его рук газету, упрашивая его не читать. „Дайте сюда газету!“ – обиженно сказал им Усов и, когда, после краткого препирательства, газета очутилась в его руках, он прочитал: „с 18 января с. г. в Ростовском городском соборе открывается ряд публичных собеседований против раскольнического миссионера екатеринославской епархии, священника Сергия Шалкинского, его знаменитым начетчиком Иваном Григорьевичем Усовым“. Видите, даже светская газета и та называет о. Сергия раскольническим миссионером. Ясно, что Сам Бог обличает его.
О. К. Молчанов. Так как я писал это объявление, то позвольте сказать мне несколько слов. В только что прочитанном Усовым печатном объявлении есть две опечатки: мной было написано: противо-раскольнического миссионера с известным начетчиком, а напечатано вместо: противо – против, вместо с – его, поэтому печатное объявление и вышло таким неясным. Видеть какое-то оправдание для раскола в этом объявлении и может только Усов, не разбирающий средств для своей защиты.
Из толпы. Усов богохульствует, батюшка! Он говорит, что Сам Бог называет о. Сергия раскольническим миссионером, а назвал его так не Бог, а наборщик типографии! Кощунствует он!
В народе поднялся шум, хотя до этого за всё время ведения бесед царила образцовая тишина. Видно было, что выходка Усова, так легкомысленно употребляющего имя Божие, произвела на православных неприятное впечатление, озлобило их против Усова. Неприятна была эта выходка и раскольникам. И. Ф. Жаров не утерпел и тут же заметил Усову: „я говорил тебе – не читай: здесь не деревня!“
Миссионер. Доказательство Усова „от Приазовского Края“ ясно характеризует современных защитников раскола, которые давным-давно убедились, что в старопечатных книгах им нет оправдания: книги эти не оправдывают, а обличают раскол, поэтому теперь не редкость слышать от защитников раскола целые тирады, выхваченные из светских газет, а в особенности из „С.-Петербургских Ведомостей“, „Русского Труда“ и подобных. Если бы встали теперь первые вожди раскола и взглянули бы на Усова, читающего на душеспасительной беседе светскую газету, они непременно бы возопили: „оле, прелести!“ и отшатнулись бы от него, как от еретика. Да не только Аввакуму и подобным ему неприятна такая защита „древнего благочестия“ газетами, неприятна она и вот этим старичкам, жаждавшим услышать от своего „знаменитого“ начетчика защиту „не от Приазовского Края“, а от писания божественного; вижу по их лицам, что они осуждают своего защитника, недовольны им. Но строго осуждать его нельзя, потому что он делает это в силу крайней необходимости: ему остаются только два пути – или сознаться в своём заблуждении, или защищаться чем попало. Усов избрал это последнее, как и другие подобные ему защитники раскола, поставившие своей целью не выяснение истины, а затемнение её перед малоначитанными слушателями. Но Бог им судья. Оставим это и займёмся разбором ответа Усова на мой вопрос. Усов говорит, что старообрядцы никогда ни от какой Церкви не отделялись. Но вот эта книжка написана тем же Усовым. Послушаем, что скажет он здесь по этому вопросу.
„Старообрядческая Церковь отделилась от еретичествующих иерархов и их последователей, подобно тому, как Церковь древних времён отделилась от еретичествующего папы и его Церкви“ (Е. Антонов: Рассмотрен. изд. поповщ. австр. согл. книги „Разбор ответ. на 105 вопр.“, вып. I, стр. 5). Итак, раскольники отделились от наших епископов и их последователей, т. е., от нашей Церкви. Когда это было и через что, отвечает Механиков, свидетельствующий, что „разделение Церкви произошло в 1653 г. через издание „Памяти“. Усов привёл слова седьмого вселенского собора: „ересь отделяет от Церкви всякого человека“. С этим мы не спорим, а только просим Усова указать, какая же ересь в 1653 г. была введена Никоном патриархом, ересь, отделившая его и всех русских и восточных иерархов от св. Церкви. Мы знаем, что патриарх Никон и его преемники никакой ереси не вводили, а потому они никогда и не отделялись от единения со св. Церковью, но всегда пребывали и пребывают в ней. Плохого или еретического они во св. Церкви ничего не видели и· не указывали, а видели они только в богослужебных книгах и обрядах некоторые отступления и изменения от древних богослужебных книг и эти изменения исправили. Но эти исправления, говорит и Механиков, защитник раскола, непредосудительны. Усов говорит же, что патриарх Никон через исправление книг впал в „преслушание Церкви“. Но это не верно: не преслушал патриарх Никон св. Церкви этим великим делом и богоугодным исправлением книг, а только выполнил заповедь Стоглавого собора, заповедавшего богослужебные книги исправлять. Выполнил он то, что желал бы выполнить и его предшественник патриарх Иосиф, при котором богослужебные книги были переполнены ошибками. Не патриарх Никон, считавший необходимым исправлять книги, впал в преслушание Церкви, а раскольники, упорно отрицающие эту необходимость вопреки ясному повелению отцов Стоглавого собора.
Усов. О. миссионер, как бы сам не зная, спрашивает меня, какие ереси ввёл патриарх Никон? Он возвёл обряды церковные в догмат веры, и за непринятие этих обрядов догматов предавал проклятию православных христиан. В XII т. „Истории русской Церкви“ митрополита Макария (на стр. 191) читаем: „предание прияхом с начала веры от св. апостолов, и св. отец, и св. седьми соборов, творити знамение честного креста с тремя первыми перстами десные руки, и кто от христиан православных не творит крест тако по преданию восточные Церкви, еже держа с начала веры даже до днесь, есть еретик и подражатель арменов. И сего ради имамы его отлучена от Отца и Сына и Св. Духа и проклята“. Это изречение показывает, что новообрядцы признали обряд перстосложения за догмат веры, так-как только за нарушение или непринятие догматов человек отлучается от Св. Троицы, а чтобы такая кара налагалась за обряды, этого мы в истории Церкви не встречали. Далее, св. Церковь предавала отлучению и проклятию только еретиков, а новообрядцы предали проклятию даже православных христиан. Где это они нашли такое правило, чтобы не еретиков, а православных предавать проклятию! Такого правила или примера нигде нет и не было: св. отцы так не могли поступать, они заботились о спасении христиан, а Никон отлучал их от Св. Троицы. Это был патриарх грязный, низкий по своим нравственным достоинствам, хуже даже сатаны. А новообрядцы превозносят его, считают начальником своей веры; скоро даже причтут его к лику святых (В народе начинался ропот, волнение).
Не волнуйтесь: я не от себя говорю, а на основании исторических данных. Вот как отзывается о Никоне антиохийский патриарх: „иногда и сатана по нужде говорит истину, а Никон истины не исповедует“ (Макар. XII т. стр. 736). Как мы будем доверяться Никону, принимать его учение, когда он хуже сатаны, когда он никогда не исповедует истины, а одну только ложь! Нет уж, слуги покорные, мы лучше будем доверяться благочестивым семи русским патриархам, чем лжецу Никону; мы знаем, что всякая ложь от диавола и его слуг, а последователями дьявольских слуг мы не желаем быть, и даже жалеем, что вы до сих пор не образумились.
Миссионер. Как при решении вопроса о незаконности австрийской иерархии мало имеют значения личные качества митр. Амвросия, так и при решении вопроса о причине отделения раскольников от св. Церкви личные качества патр. Никона не должны иметь никакого значения. Если раскольники отделились от св. Церкви потому, что патр. Никон, как злословит Усов, был грязный, низкий и т. д., то они подлежат отлучению, а их мнимые священники и епископы извержению, как учит 13 прав. второ-первого собора. Если же отделились они, не греховного ради извета, а за ересь, то о нравственных достоинствах Никона нет никакой надобности и говорить, а следует только доказать, какие ереси ввёл патр. Никон в 1653 г., так как отделение раскольников произошло именно в этом году. Но так как никаких ересей, как в этом, так равно и в последующих годах наша православная Церковь не вводила, то Усов и старается хотя бы очернением личности великого патриарха несколько оправдать поступок своих предков. Но и это ему мало удаётся. Слова антиохийского патриарха, сказанные в раздражении, мало имеют значения. Мало ли что может сказать в раздражении человек, и неужели этому всему нужно придавать значение? Мы придаём значение не частному какому-либо мнению, но соборному; а это последнее о Никоне говорит: „Если патриарх Никон в прочих внешних вещах и в своём отречении и погрешил, как человек, но в догматах православной веры был благочестивейший и правый, в апостольских же и отеческих преданиях восточной Церкви был большой ревнитель“ (Гиббенет. Истор. исслед. дела патр. Никона, ч. 1, стр. 86; Макар. XII т. стр. 363). За исправление книг в первое время не обвиняли Никона даже его враги: „среди всех укоризн Никону нет ни слова против исправления им церковных обрядов, которое уже начиналось тогда; не видно и тени какой-либо привязанности к старым обрядам, на которые будто бы посягнул Никон“ (Макар. XII, стр. 130). „Осудил большой собор Московский самого патр. Никона, осудил некоторые его распоряжения и действия, но не осудил важнейшего из его действий исправления церковных книг. Напротив, вполне одобрил и утвердил для всеобщего употребления исправленные, по его распоряжению, и напечатанные книги; а осудил тех, которые не хотели принимать этих книг, и из-за них хулили Церковь, называли её еретической, отказывались повиноваться ей, и через то самовольно отделились от неё“ (стр. 770 там же). Следовательно, принимая исправленные книги, мы последуем не патр. Никону, а собору, одобрившему эти книги. Усов обвиняет патр. Никона в том, что он будто бы возвёл обряды церковные в догматы веры и предал проклятию православных. Но это несправедливо. Никон никогда не считал церковных обрядов равными догматам веры. А вот сами раскольники, действительно, не хотят различать догматов от обрядов, и из-за перемены обряда порвали союз со св. Церковью, хотя св. отцы это строго и воспретили: „срамно есть, говорит св. Василий Великий, из-за обрядов ратоватися“. Усов говорит, что не находил примера в истории Церкви, когда бы предавали отлучению за обряды. Предают отлучению не за сам обряд, а за противление Церкви. Нам известен древний апостольский обычай, существовавший в малоазийских Церквах, обычай праздновать Пасху вместе с евреями. Впоследствии этот обычай был отменён Церковью, и противники церковного распоряжения подверглись: святители – извержению из сана, а миряне – отлучению от Церкви. За что? за сам ли этот обычай? Нет, не за обычай, а за противление церковной власти.
Говорит Усов, что предали проклятию православных христиан, тогда как древняя Церковь проклинала только еретиков.
Нет, не православных христиан предали проклятию, а тех от православных христиан, которые ранее были православными, но потом своим противлением Церкви, неповиновением её распоряжениям отпали от православия. Апостол Павел говорит: „Если бы даже мы (т. е. св. апостолы), или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествуем, да будет анафема“ (Гал.1:8). Видите, ап. Павел предаёт проклятию не только тех от православных („иже от нас беша, но не беша с нами“), которые порвали союз с церковью, но даже апостолов и ангелов, если бы они искажали божественное учение. 121 прав. Номоканона говорить: „яко недостоит просту человеку, укорити священника или запрещати, или поношати, или обличати в лице, аще негде и истина суть, аще же постигнет сие сотворити простолюдин, сиречь простой человек, да есть анафема, и да изгнан будет из Церкви, отлучен бо себе от св. Троицы, и послан будет во Иудино место“ (Иоасаф. Потреби, с Номокан.). Здесь проклинается и изгоняется из Церкви православный христианин – мирянин, дерзнувший поносить одного священника, а Усов уверяет, что не могут быть преданы проклятию и изгнанию из Церкви те из православных, которые нарушили единение со св. Церковью, оклеветали её и через это соделались уже не православными, а раскольниками. В 75 главе Стоглава есть даже отлучение православных от Отца и Сына и Св. Духа. Выяснив, что „никто не должен вданное Богови в наследие вечных благ от Церкви Божьей восхищати или отъяти, или продати, или отдати,“ Стоглав говорит: „Аще ли кто, забыв страх Божий и заповеди св. отец, оболкся в бесстудие, дерзает таковая сотворити: аще убо епископ, да извержется от епископьи, аще ли игумен, то из монастыря изгнан будет, яко зле расточающа, их же не собра; аще ли ин кто от священнического чина убо суще, да извергнутся. Мниси же или мирстии человецы, в каковом сану ни буди, да отлучатся, аки суще осуженики от Отца и Сына и Святого Духа, да устроени будут, иде же червь их не умирает и огнь не угасает“ (изд. 2, Казань 1887 г. стр. 158–159).
Итак, мы выяснили, что св. Церковь имеет право предавать отлучению тех из своих членов православных христиан, которые перестали быть таковыми, порвали союз с нею, вышли из её повиновения, каковыми являются и раскольники. Они до отделения своего тоже были православными христианами, но порвали союз с Церковью, сделались раскольниками и унаследовали вместо благословения клятву.
Выяснили также, что патр. Никон никакого обряда в догмат веры не возводил, никакого еретического учения не проповедовал; если же и был раздражителен, то это не может служить к обвинению всей св. Церкви и к делу не относится. Не могу не обратить внимания слушателей на то, что Усов до сих пор не сказал нам, какая главная причина заставила их в 1653 году отделиться от православной Церкви. Он указал изречение восточных патриархов, предающих проклятию некрестящихся тремя персты, но это изречение принадлежит не патр. Никону и произнесено оно не в 1653 году, а позднее, когда, раскол уже, хотя и неофициально, существовал.
Усов. О. миссионеру хочется, чтобы я показал, какие ереси ввёл патр. Никон. Хорошо, я покажу такие ереси в вашей Церкви, каких не проповедовали даже злейшие еретики первых веков христианской Церкви. В догматике 4 гласа до Никона патр. пели „волкохищное овча, обрет“, а в новоисправленных поют: „горохищное овча, обрет“. Есть ли тут хоть какой-нибудь смысл! может ли гора похищать овец! Не яснее ли, не лучше ли петь волкохищное! Мысленный волк, т. е., диавол похищает души человеческие, а не горы. Вот вам исправление книг! и такое-то исправление нам навязывают, приказывают нам, под страхом наказания, непременно принимать, хотя бы и сознавали, что древнее лучше: принимай то, что велят, а не примешь – раскольник, посыплются на тебя проклятия, укоризны, гонения и прочие подвиги христианской любви к заблуждению. Но мы покажем ещё и лучшие исправления. В молитве св. Ефрема Сирина мы читаем: „Господи и Владыко животу моему, дух праздности, любоначалия, празднословия отжени от мене, т. е., отгони этот дух от меня, а по исправленным книгам читают: не даждь ми! Не явная ли это ересь! Разве Бог даёт нам дух праздности. разве даёт он нам дух любоначалия и празднословия? Господь научает нас, что любоначалие есть дух сатанин, что празднословие есть тяжкий грех, за который придётся давать ответ на страшном суде. Как же мы осмелимся подумать, что Бог даёт нам этот дух! Не ясно ли, что ваша никонианская Церковь приписывает Богу дела диавола! Считает Бога подателем злых дел. Это ли ещё не ересь! Да, Боже, нас сохрани быть в общении с такой Церковью, которая так хулит Бога. Она дошла до такого нечестия, что не только считает Бога способным на дела диавольские, но и верует даже, что этот диавол – есть Бог, этого Бога-диавола она призывает при крещении: „молимся тебе, дух лукавый“. И это, скажет о. миссионер, не ересь.
Из толпы. О. миссионер! пожалуйста запретите этому богохульнику продолжать беседу! он клеветник, а не собеседник.
Усов. Что? не нравится? Если вам не нравится, так нам ещё больше. Вы хотите, чтобы и мы молились духу лукавому, так нет уж молитесь лучше вы, а мы будем молиться Богу.
Миссионер. Успокойтесь, братия православные христиане! Наглая клевета г. Усова будет обличена.
Из толпы. Он оскорбляет всех нас, оскорбляет св. храм своим присутствием, его место на базаре, а не здесь.
Миссионер. Успокойтесь, успокойтесь! клеветы Усова только доказывают, что ему нечем оправдать своего отделения от св. Церкви. Знайте, что враги спасения всегда употребляют это средство для удаления слабых от Бога. Ещё в раю диавол употреблял это средство при обольщении Евы.
Усов. Позвольте, я протестую: вы нарушаете условие, не даёте мне говорить, стараетесь уклониться от беседы, боитесь продолжать её. Так делают еретики. Не нравится вам ваше учение, так откажитесь от него, сознайтесь в своём заблуждении, раскайтесь.
Миссионер. Если вы имеете ещё что-нибудь сказать, говорите, изрыгайте весь свой яд на Христову невесту.
Усов. Я не клевещу, а говорю на основании ваших книг. Вы не только при крещении молитесь духу лукавому, но призываете его и в других молитвах. Так, в молитве какого-то Трифона вы читаете: „еще заклинаю вы великим именем, иже на камени написаннем и не могущем понести, но расседшимся яко воск от лица огня“ (заклинат. слов. муч. Трифона). Это великое имя, написанное на камени, и есть имя диавольское. В Четьи Минеи на 2 января в житии св. Сильвестра, папы римского, рассказывается, что когда св. Сильвестр в беседе с жидами победил их, тогда волхв Замврий повелел привести буйного вола и хвалился, что лишь только он скажет этому волу на ухо имя Божие, тотчас же вол падёт мёртвым, так как „ни кожа, ни хартия, ни древо, ни камень, ниже кая-либо вещь может имя то написанное на себе содержати: ибо абие и пишущий, и та вещь, на ней же пишется, погибает“. А это имя не Божие, а диавольское, и это-то диавольское имя никонианские священники, подобно жидовскому волхву Замврию, призывают в своих заклинательных молитвах вместо имени Божия! Вот какие ереси содержатся в ваших новоисправленных книгах. Как же нам, боящимся Бога и Ему единому поклоняющимся, быть в общении с вами, верующими диаволу!
Миссионер. Христос Спаситель в Своей прощальной беседе с возлюбленными учениками сказал им: „Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел“ (Ин.15:18). Ненависть врагов Господа часто доходила до того, что они открыто славные дела Его называли делами диавола, считали Его другом мытарей и грешников, нарушающим законы и т. под. Если же говорит Господь: Меня гнали, то будут гнать и вас (Ин.15:20), так как раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его (Ин.13:16). Как ясно сбываются словеса Божии ныне на нас, смиренных слушателях Бога. Ненависть к нам и ко всей нашей св. Церкви, высказываемая г. Усовым, превосходит меру. Он в слепой злобе на св. Церковь Божию решается обвинять её в таком тяжком заблуждении, что положительно недоумеваешь, что заставляет этого человека так яростно, так злобно, так дерзко и несправедливо клеветать на неё: отсутствие ли страха Божия, или умопомрачение. Его обвинения сводятся к тому, что мы: а) в молитве св. Ефрема Сирина приписываем Богу дела диавольские, б) призываем диавола на воду св. купели при крещении и в) употребляем имя диавола, называя его Богом, при заклинании. Все эти обвинения не новы и давным-давно разъяснены, поэтому ещё большему наказанию перед Господом подлежит Усов, сознательно решающийся возводить эти обвинения на св. Церковь.
Он утверждает, что мы приписываем Богу дела диавола, читая в молитве св. Ефрема: „дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и проч. не даждь ми. Но такая молитва не новая: она находится в очень древних богослужебных как рукописных, так и древне-печатных книгах. Так в уставе церковном 15 века (Хлуд. библ. № 122) она читается: Господи, Владыко живота моего, дух празднества, лукавствия, любовластия, празднословия не даждь ми. В уставе того же века (таже библ. № 123) читается: „Господи и Владыко животу моему, дух уныния и небрежения, сребролюбия, празднословия не даждь ми. В Часослове, напечатанном в Кракове в 1491 году (за 161 год до патр. Никона), в Псалтири со восследованием, напечатанной в Венеции в 1561 г. (за 91 год до патр. Никона) и в такой же Псалтири, напечатанной в 1643 г. (за 9 л. до патр. Никона) в Киеве, эта молитва читается также. Желающий видеть ещё много указаний на книги, содержащие эту молитву с такими же словами, да чтёт книгу А. Озерского „Выписки“ (ч. 2. ст. 25). Если Усов видит в словах „не даждь ми“ ересь, то в этой ереси он должен обвинить и св. Ефрема Сирина, написавшего эти слова, обвинить и всю древнюю русскую и киевскую Церковь, читавшие их. Но здраво рассуждая, в словах „не даждь ми“ духа праздности и пр. нет никакой ереси.
Все мы читаем молитву Господню, все знаем, что в ней есть слова: не введи нас во искушение, а однако и сам Усов не дерзнёт сказать, что в этих словах приписываются Богу Отцу дела диавола, хотя он и знает, что Бог не вводит во искушение. „В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого (Иак.1:13), искушениям подвергается человек от своей плоти (Иак.1:14) и от диавола (Мф.4:1–3). Если в словах молитвы св. Ефрема Сирина: „дух праздности и пр. не даждь ми“ Усов видит ересь и даже приписывание Богу дела диавола, то тем более он должен обвинить в этом Господа нашего Иисуса Христа, научающего нас молиться словами: не введи нас во искушение, так как искушениям человек подвергается от диавола. Вот до какого безумия доходят современные защитники раскола, решающиеся публично обвинять Самого Господа в ереси! И этим защитникам тёмная масса раскола верит, на них надеется, перед ними благоговеет, тогда как следовало бы стыдиться их, как отъявленных богохульников.
Второе обвинение Усова, что мы при крещении будто бы молимся духу лукавому, так же дерзко, кощунственно и неосновательно, как и первое. Для того, чтобы нагляднее была ложь Усова, я попрошу подать мне сюда Требник. Вот слушайте, кого мы призываем при св. крещении на уготованную воду. Просим Господа, чтобы вода сия освятилась действом и наитием Святого Духа, чтобы „показатися ей отгнанию всякого навета видимых и невидимых врагов“, чтобы „под знамением образа креста Господня сокрушились вся сопротивные силы“. Далее священник читает: „молимся Тебе, Господи, да отступят от нас вся воздушная и неявленная привидения и да не утаится в воде сей демон темный, ниже да снидет с крещающимся дух лукавый, помрачение помыслов и мятежи мыслей наводяй. Но Ты, Владыко всех, покажи воду, сию, воду избавления, воду освящения“ и дал., следовательно, мы молимся Господу, чтобы дух лукавый не утаился в воде сей, а Усов клевещет, что мы призываем в этой молитве диавола, как Бога! Какая наглая, дерзкая клевета, и эту клевету защитник раскола осмеливается высказывать публично, при таком громадном стечении благочестивых слушателей, в храме Божием! Да, справедливо заметил кто-то из слушателей, что с таким собеседником не должно продолжать беседу: он пришёл сюда не для выяснения истины, а ради спора, от которого заповедал и апостол удаляться, потому что такие споры слушать не к назиданию, а к развращению, не к созиданию мира и единения. Усову, конечно, известно, что в старопечатном Потребнике, в „последовании просвещения святых богоявлений,“ есть такое прошение на ектеньи: „о погрузитися силе душетленного супостата в водах сих, Господу помолимся“ (патр. Филар. л. 6). Что же? Неужели мы будем по-усовски утверждать, что до Никона патр. молились Господу о том, чтобы вода освящалась силой душетленного супостата? Нет, мы знаем, что ни один здравомыслящий человек об этом молиться не будет, а если и есть такое прошение, то оно ошибочно и при исправлении книг заменено: „о еже освятитися водам сим силою и действом, и наитием св. Духа, Господу помолимся“. Никакой укоризны, никакой насмешки не высказывалось по поводу оного неправильного прошения. А если бы подобное прошение было в новоисправленных книгах, чего бы – чего только не наговорил тогда Усов.
Вот обвиняет нас Усов в том, что мы, подобно волхву Замврию, призываем в молитве муч. Трифона имя диавола. Опять наглая и дерзкая клевета! Мы прежде всего должны обратить внимание на то, что эта молитва не новая: она находится в древнем (15 века) сербском Требнике, она находится в древнем греческом Требнике, присланном Гедеону Балабану, епископу львовскому, антиохийским патр. Мелетием; она же напечатана Гедеоном в изданном им в Стрятине в 1606 году (за 48 л. до патр. Никона) Потребнике. А Гедеон Балабан, напечатавший этот Требник и совершавший по нему молитвословия, был не еретик, а православный епископ, как свидетельствует и кн. Кириллова (л. 509). Следовательно, эта молитва не новая, а древняя, не еретическая, а православная. Что же касается заявления Усова, что волхв Замврий называл „великим именем“ диавола, то нужно помнить, что он этим хотел соблазнить христиан, уверить их, что он призывает имя истинного Бога, так как имя еликое есть имя Божие, как говорит и Писание: Во израили велие имя Его: исповедоваться имени Твоему великому, яко страшно и свято. Велий еси Ты, и велие имя Твое! Наша св. Церковь учит: „не ино же есть имя великое, токмо имя Божие“ („Жезл“). Итак, волхв Замврий думал обмануть христиан, что призывает имя Божие при своём волхвовании, а Усов, наоборот, хочет уверить вас ложно, что св. Церковь в своих молитвах призывает имя диавола! Хотя у Замврия и Усова приёмы и разные, но цель одна: ввести в заблуждение православных христиан.
Нам остаётся ещё сказать несколько слов о том, что Усов считает ересью даже и слова богородична 4 гласа: „заблуждшее горохищное овча обрет“, так как читать следует будто бы не горохищное, но волкохищное.
Но какая тут ересь? Какого еретика? Конечно, никакой. Слова горохищное означает похищенное горою, укрывшееся или заблудившееся в горах, так как у восточных народов паслись стада большей частью в горах, о чём говорится в причте Спасителя о заблудшей овце (Мф.18:12,13). Это овча, как говорится в притче, не было похищено волком, а только заблудилось, ушло из стада в горы, поэтому и правильнее читать горохищное, нежели волкохищное.
Окончив рассмотрение высказанных Усовым ложных обвинений на нашу св. Церковь, считаю нужным обратить его и ваше внимание на то, что он, мало того, что клеветал на св. Церковь, но ещё и говорил всё это не по вопросу. Я спрашивал его: в 1653 году какие патр. Никон ввёл ереси, заставившие раскольников уклониться от общения с св. Церковью, так как отделились они именно в этом году. Усов на это ничего до сих пор не ответил, так как указанных им мнимых искажений в книгах в то время ещё не было: к книжному исправлению тогда ещё не приступали. Пусть он ответит на этот вопрос хоть теперь. Но при этом прошу Усова говорить только то, что относится к делу, а такой наглой клеветой, какую он допустил в последней речи, не возмущать и не оскорблять религиозного чувства православных: в противном случае я вынужден буду прекратить беседу.
(Окончание будет).
Мисс. свящ. Сергей Шалкинский
Двинская А., сестра. Из моей келейной полемики с столичными пашковцами // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 491–499
О христианской свободе.
Не знаю, известно ли кому, как много странствует по православной России самозваных проповедников евангельского учения, выдающих себя тёмному люду за „посланников Божиих“. Поддерживая общение с столичными пашковцами в течении многих лет, я воочию убедилась, как много бродит таких самообольщённых самозванцев, и как ни странно, зачастую приезжали к нам такие учителя из-за границы и поучали русских доверчивых людей на наших собраниях. Не зная ни одного русского слова, не имея, следовательно, никакого понятия о наших религиозных убеждениях и о православии, заморские лжеучители просвещали нас через переводчиков, каковую роль принимали на себя... кто бы, вы думали? Столичные столбовые бояре, даже из баронов и князей, того и другого пола. Смешно и больно бывало слушать, как эти самозваные проповедники с серьёзным видом и зажигательным пафосом выдают себя настолько уже святыми, что Сам Бог будто бы говорит с ними и посылает их просвещать „сидящих во тьме и сени“, т. е., нас православных, – что Бог требует от них отчёта в том, сколько из нас „приняло Христа“, и как мы служим Ему. Переводчики переводят нам бывало усердно и добросовестно эту ахинею, с усилием однако скрывая на своём лице улыбку и сарказм. И хотелось тогда крикнуть из толпы: madame, переводчица или monsieur, ведь вы не верите, и вам смешна речь иностранного проповедника, вы не перевариваете её, зачем же, эту нездоровую пищу преподносите доверчивым тёмным людям? Или вам кажется, что мужицкие желудки переварят и этот духовный суррогат? Вы потешаетесь, пришли сюда скуки ради, как на некое представление!.. Постыдная, преступная потеха над людьми, для которых вопросы веры и спасения составляют жизнь и смерть, альфу и омегу!!
Какую же цель преследуют незваные как заморские, так и наши доморощенные просветители православного русского люда, в чём их задача? Главная задача – „спасение“ молодёжи и тёмного рабочего люда и „поддержка лиц, борющихся и изнемогающих“ в неравной борьбе с представителями господствующей Церкви.
Сущность проповеди наших просветителей сводилась к тому, что все мы верные дети православной Церкви находимся в заблуждении, поступаем против Евангелия, что мы ещё язычники, через то и страдаем; они же познали Христа и уже не имеют страданий. Если бы мы знали Христа, были бы послушны Его воле, а не ходили бы на привязи у диавола, „водящего нас кого на канате, кого на золотой цепочке“, тогда давно было бы у нас (в православной России) царство Христово.
Предметами проповедей служили разные темы, касающиеся основных догматов православной веры, пререкаемых, обыкновенно, сектантами, так называемого, рационалистического направления.
Любимой же и, так сказать, начинательной темой всякого проповедника был вопрос о свободе во Христе, которая в конце концов представлялась в понимании толпы, как разрешение „верующему“ или „принявшему Христа“ на всё.
Слушаешь, бывало, эти речи самозваных проповедников и страдаешь душой, так как чувствуешь, что истина их речей и поучений смешана с ложью, правда евангельского учения превращается в кривотолки. А возражать и вопрошать у нас, на пашковских собраниях, не принято, особенно женщинам, да и небезопасно: навлечёшь на себя подозрение братии и гнев настоятельницы секты, болярыни Елизаветы, и тогда двери собраний и сердце покровительницы пашковцев будут заперты для того, кто позволит себе иметь своё суждение. Свобода во Христе у сектантов только на словах, а на деле-то – везде и во всём рабство и деспотизм, а у боляр-сектантов наибольшее... Мне часто думалось, что это фанатическое отторжение от Церкви и закабаливание в секте, держание всеми способами и средствами в своей общине со стороны сектантов бар – ничто иное, как духовная отрыжка, атавизм блаженной памяти крепостничества.
Не имея духа и, по правде сказать, не умея сразу без подготовки возражать на собраниях, я потом записывала всё слышанное у себя в убогой квартирке, а после тщательно обдумывала, где тут правда, и в чём ложь, перечитывала Евангелие, запасалась сочинениями православных богословов, из них почерпала опровержения лжемудрований наших самозваных просветителей.
И потом, бывало, в частных беседах с единомышленниками, особенно же с сёстрами „по пашковскому братству“, среди которых много юных пламенных душ, подготовленных, увы! к школьному учительству, – разбираешь речи и доводы проповедников.
Ныне я совсем отрясла пашковский прах от ног своих и порвала все сношения, и считаю нравственным долгом на душевную пользу заблудших братий и сестёр напечатать мои келейные полемические беседы, направленные против пашковских лже-мудрецов и их лже-мудрствований. Начну изложение своих бесед с любимой пашковцами темы „О свободе во Христе“.
Конечно, в моих возражениях читатели „Мисс. Обозр.“ ничего нового и особенного не встретят, но зато в передаче учения пашковцев они найдут, наверное, кое-что новое и интересное, которое потом опровергнут сами лучше меня. В этом и цель опубликования моей полемики.
* * *
В основе проповеди „О свободе во Христе“ пашковцы ставят всегда слова второго послания ап. Павла к Коринфянам: „Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода (2Кор.3:17). Приводя эти слова, лжеучители говорят, что нас православных нет этого Духа Господня; мы рабы и настолько возлюбили рабство, что не хотим снять его с себя; мы привыкли ходить на том канате, который надел на нас закон человеческий, и мы покорны ему; Духу же Господню не покоряемся, подобно евреям, которые так возлюбили рабство египетское, что не хотели даже покидать Египта им было страшно снять ярмо, надетое на них фараонами, которым было выгодно держать евреев в рабстве; евреи со страхом и покорностью работали на фараонов и благоговели перед ними. Так и вам православным, учат пашковцы, кажется, что вы не можете жить без этого ярма, что вы непременно погибнете без него. А всё это не более, как ваше заблуждение, бессилие воли. Приведши и протолковав в том же духе Втор.27:26; Авв.2:4; Лев.18:5, проповедник восклицает: Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (ибо написано: проклят всяк, висящий на древе) (Гал.3:13). Христос избавил вас от закона, а вы, пренебрегши искуплением Христа, снова одели ярмо закона.
Между тем все мы верующие во Христа заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой, по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя. Нет уже Иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (ст. 23–25, 28). Итак из этих слов ап. Павла не ясно ли, братья и сёстры, заключает проповедник, что в царстве Христовом, среди тех, кто суть истинные христиане, нет уже больше ни раба, ни господина, а все равны.
И если в Церкви Христовой все равны, то все и свободны. Этот вывод, учат еретики, апостол и делает в следующих словах того же послания к галатам; Итак, братия, мы дети не рабыни, но свободной. Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства (Гал.4:31,5:1).
Зная по опыту и непосредственным наблюдениям над собратьями, как эти рассуждения о свободе разнуздывают зверя социальных страстей, я поняла, что пашковцы и штундисты, являются действительно сектантами опасными в государственном смысле; возглашая, что в Церкви Христовой все равны и все свободны, пашковцы тем самым вольно или невольно, но направляли мысль слушателей к тому, чтобы отвергать не только духовную, но и гражданскую власть.
В своих келейных собеседованиях с собратьями я стараюсь выяснить вопрос о том, о какой свободе в приводимых лжеучителями местах говорит ап. Павел? Истинно свободным может быть назван только тот, кто приобрёл надлежащее христианское самообладание и, господствуя над своими страстями, охотно подчиняется божественному закону. В этом смысле свободным может быть всякий истинный христианин, и. об этой свободе и проповедуется в слове Божием. Я вычитывала по этому поводу прекрасные по своей возвышенности следующие рассуждения св. Иоанна Златоустого. „Внешняя свобода и рабство в отношении ко Христу равны. Как ты – раб Христов, так и господин твой. Но каким образом раб может быть свободным? Христос освобождает тебя не только от греха, но и от внешнего рабства, хотя ты остаёшься рабом. Он делает раба не рабом, но человеком, остающимся в рабстве; это и чудно. Когда же раб бывает свободным, оставаясь рабом? Когда он освобождается от страстей и душевных болезней, не предаётся корыстолюбию, гневу и другим подобным страстям. Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков (1Кор.6:20). Это сказано не только рабам, но и свободным; ибо можно и в рабстве не быть рабом и в свободе быть рабом. Когда же раб не бывает рабом? Когда он делает всё для Бога, когда служит нелицемерно и не из человекоугодия: это и значит быть рабом людей и оставаться свободным. И, наоборот, когда свободный бывает рабом? Когда он служит людям в чём-нибудь худом, в чревоугодии, корыстолюбии или честолюбии. Такой человек, хотя и свободен, хуже всякого раба. Вот пример того и другого. Иосиф был рабом, но не раболепствовал в рабстве людям; потому и в рабстве был свободнее всех свободных; он не покорился госпоже, склонявшей к удовлетворению её похоти. Госпожа, напротив, была свободна, но оказалась ниже всякого раба, обратившись к рабу и с лестью, и с убеждением, и однако же не могши склонить его, свободного, к тому, чего он не хотел. Подлинно, он был не рабом, но в высшей степени свободным; ибо рабство было ли ему препятствием к добродетели? Послушайте вы, рабы и свободные, кто оказался рабом: тот ли, которого просили, или та, которая просила? Та ли, которая убеждала, или тот, который презрел её убеждения? Так, есть пределы рабства, положенные Богом, есть законы, до чего оно может простираться, которых преступать не должно. Когда господин не требует ничего противного воле Божией, тогда должно повиноваться ему и покоряться; а простираться далее не должно; так раб остаётся свободным! Если же ты простираешься далее, то делаешься рабом, хотя и свободен. Это внушает апостол словами: не делайтесь рабами человеков. Если бы не так, если бы он повелевал оставлять господ и стараться получить свободу, то как бы он стал говорить: каждый остаётся в том звании, в каком призван; рабы, под игом молодящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им (1Тим.6:1–2). Отсюда видно, что он отвергает не внешнее рабство, а происходящее от пороков, бывающее и с свободными, и самое тяжкое, хотя бы подвергался ему человек свободный. Какую пользу получили братья Иосифа от того, что были свободны? Не оказались ли они ниже всякого раба, обманув отца, солгав перед купцами и перед братом? Не таков был он, но везде и во всём был истинен и оставался свободным; поработить его не могло ничто, – ни узы, ни рабство, ни любовь госпожи, ни пребывание в земле чужой, но всегда он оставался свободным. Это и есть высшая свобода, которая сияет и в рабстве. Таково христианство: оно и в рабстве доставляет свободу, как тело, по природе своей неуязвимое, оказывается неуязвимым тогда, когда, будучи поражаемо стрелой, не терпит никакого вреда, так и истинно свободный оказывается таким тогда, когда, находясь под властью господ, не делается рабом. Посему апостол и повелевает оставаться в рабстве. Если бы рабу невозможно было быть христианином, каким следует быть, то язычники могли бы обвинять наше благочестие в немощи; но слыша, что рабство нисколько не препятствует благочестью, они не могут не удивляться проповеди. Вредно не это рабство, возлюбленный, а рабство истинное – рабство греху. Если ты не подвергся ему, то благодушествуй и радуйся: тебе никто не может причинить никакого зла, как чуждому рабства в душе своей. Если же ты подвергся ему, то хотя бы ты был тысячекратно свободен, свобода не принесёт тебе никакой пользы. Что пользы, если ты человеку не служишь, а страстям раболепствуешь? Люди умеют и щадить, а эти властители никогда не насыщаются твоими бедствиями (Бесед. на 1 посл. к Коринф., т. I, стр. 335–338). Ты почтён свободой, – говорит тот же отец, – не для того, чтобы употреблять эту честь на прекословия, а для того, чтобы употреблять эту честь на послушание Почтившему. Бог почтил тебя не для того, чтобы ты оскорблял Его, но, чтобы прославлял. Бог поступил с нами подобно человеку, который берёт к себе сироту, уведённого варварами в их землю, дабы не только освободить его от плена, но заместить ему собой попечительного отца и вывести его в люди. Так, говорю, и Бог поступил с нами; не только освободил нас от прежних зол, но ввёл в ангельскую жизнь и уравнял нам путь к совершеннейшей добродетели, отдав нас под защиту праведности, убив прежнее зло, умертвив ветхого человека и руководствуя нас к бессмертной жизни. Итак, будем ожидать этой жизни, как действительно живые, потому что многие, хотя, по-видимому, и дышат, и ходят, однако-же находятся в состоянии более жалком, чем мёртвые. Будем же избегать умерщвления, по которому вживе умираем; для христианина нет никакой выгоды, имея веру и дар крещения, покорствовать всем страстям (Бесед. на посл. к Римл., стр. 243).
Учение св. отца заинтересовывало моих собеседников: они перечитывали его не раз.
Понятно теперь, говорила я, к какой свободе должен стремиться истинный христианин: он должен стараться, чтобы грех не царствовал в его смертном теле (Рим.6:12); но эти стремления истинного христианина освободиться от господства греху (Рим.6:14) не только не исключают его зависимости от гражданских законов общества и подчинения установленной власти, но прямо предполагают даже эту зависимость, потому что гражданская власть со всеми её установлениями является ничем иным, как стимулом, ограничивающим греховную волю человека и сдерживающим его похотливые и злые страсти. Поэтому всякий честный член общества, устраивающий свою жизнь по Закону Божию, найдёт в гражданской власти могущественного для себя союзника. „Начальствующие, – говорит апостол, – страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти! Делай добро и получишь похвалу от неё, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое (Рим.13:3–4). При столь тесном, можно сказать, органическом единении христианской свободы и внешней подчинённости земным властям слово Божие настойчиво убеждает нас с одной стороны освобождаться от греха и с другой – покоряться установленным от Бога земным начальникам.
Объяснив по разуму св. Церкви приведённые места св. Писания, я останавливала внимание моих заблудших братий на том священно-историческом обстоятельстве, как особенно классическое место о покорности власти у ап. Павла, на которого так любят ссылаться пашковцы: Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь (Рим.13:1,2,7), говорила я в заключение, в апостольские времена появлялись лжеучители, которые проповедовали о неповиновении властям, установленным свыше; эти лжеучители в апостольских писаниях подвергаются самым грозным и беспощадным обличениям; апостолы называют еретиков, презирающих начальство, бессловесными животными, псами, свиньями, свирепыми морскими волнами, которые пенятся срамотами своими, звёздами блуждающими, которыми блюдётся мрак тьмы на веки (2 Петр. и посл. Иуд.) и т. п. Таким образом обыкновенно со-вопросники ничего серьёзного не возражали на это и я тогда просила вычитать учение о гражданской свободе и непокорности властям никоим образом не может претендовать на апостольское происхождение: апостолы никогда не проповедовали анархии. И между нашими лжеучителями, трактующими об этой свободе от закона, и апостолами лежит такая же пропасть, какая существует между светом и между тьмой. В самом деле, что может быть общего между Христом и Велиаром (2Кор.6:15)!
„Если возьмёте иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен, найдёте покой душам вашим!“ Вот девиз истинного христианина. Итак учитесь же от Христа, Он наш учитель, кто хочет быть с Ним, тот иди Его путём, путём кротости и повиновения, путём смирения и покорности, и тогда только достигнем истинной свободы и равенства, тогда получим благо для душ наших, тогда только Он скажет: „приидите, возлюбленные Отцом Моим, так как вы возлюбили Меня и исполнили всё, что Я заповедал вам, и были послушны закону Моему, и при всей трудности жизни во всем исполняли волю Мою, так войдите теперь в царство Моё, и разделите со Мною славу Мою, вы есть други Мои“.
Келейные беседы убедили меня, что сектантские кривотолки о христианской свободе ставят толпу сектантскую на скользкий опасный путь, которым легко воспользоваться для целей самой ужасной смуты, которая будет находить опору в извращении слова Божия.
Сестра Агния Двинская
Орлов А. Миссионерство, секты и раскол // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 500–520
(Хроника).
Вопросы расколо-сектантства на страницах светской печати. – Гонимые или гонители? Сибирские раскольники и их отношение к православным. – Н.А. Гурьев в роли защитника скопцов. – Скопцы в С.-Петербургской и Рязанской епархиях.
Либеральная светская печать за последнее время с особенной энергией выступила на защиту сектантства и забила тревогу о мнимых его притеснениях за веру. Она пользуется каждым малейшим поводом и случаем, чтобы поговорить по тем или другим вопросам, касающимся раскола и сектантства. Суждения о религиозно-нравственном и экономическом состоянии сектантов, о их быте и правовом положении в государстве – не редкость встретить теперь не только на столбцах газет, в научных или публицистических статьях, но даже и в беллетристических произведениях. Но, к сожалению, все эти суждения в большинстве случаев односторонни и крайне тенденциозны. Все газетные и журнальные статьи, посвящённые вопросам сектантства, переполнены восхвалением сектантских добродетелей. Сектантство – явление светлое и отрадное; сектанты – лучшая часть населения России. Они образец честности, трезвости, трудолюбия, они лучшие хозяева и колонизаторы, и этот цвет населения подвергается всевозможным притеснениям и преследованиям со стороны правительства и духовенства; вот о чём шумливо кричат либералы, упорно отстаивая религиозные положения сектантов и свободу их исповедания. При этом наши радетели раскольников и сектантов, чтобы произвести давление на общественное сознание, поворотить его в желательную для себя сторону, не останавливаются не только перед искажением действительных фактов и событий, но иногда не прочь и создание своей фантазии выдать за действительность. А наши интеллигенты, интересующиеся умственною жизнью народа, но совершенно не знающие народа, а тем более – раскола и сектантства, или знакомые с ним по произведениям исследователей вроде г-жи Бородаевской-Ясевич, льют крокодиловы слёзы о России, не умеющей ценить „лучшей и талантливейшей части нашего народа“. Перед их расстроенным воображением предносятся все ужасы средневековой инквизиции, причём невинными страдальцами за веру являются сектанты и раскольники, а фанатичными гонителями православные священники и миссионеры. А между тем в действительной жизни дело обстоит совершенно иначе. Но, к сожалению, наши непризнанные друзья расколо-сектантства не хотят знать этой действительной жизни, где раскол и сектантство являются перед нами без всякой фальши и прикрас, где представляется возможность ознакомиться с их действительными отношениями к господствующей Церкви, её последователям и представителям.
Загляните в отдалённые уголки раскола и сектантства, загляните в селения, где среди раскольничьего и сектантского населения православные составляют меньшинство, и вы увидите, какими нетерпимыми и фанатичными гонителями православия являются эти, мнимо угнетаемые и преследуемые за веру, раскольники и сектанты. Здесь раскол беззастенчиво и открыто глумится над православием и насилует совесть православных, здесь православные иногда буквально мучаются и стонут под гнётом раскольников и сектантов. Вот что говорят о положении православия в таких местностях участники одного из местных миссионерских съездов Томской епархии. В селениях, где раскольничье население составляет большинство, в особенности же там, где сельские и волостные власти из раскольников, там раскол властвует и всем „верховодит“, а православие принижено, безгласно, бесправно и угнетено. Волостные и сельские власти из раскольников, всячески притесняя православных, открыто говорят, что „пока власть в их руках, всё можно сделать“! И они, действительно, делают для вреда православия всё, что хотят, игнорируя всякие требования закона и справедливости. Так на беседе в деревне Воронихе, в мае 1898 г., староста-раскольник оштрафовал одним рублём православного за то, что он будто бы нарушил порядок во время беседы, высказавшись в защиту православия. Священник села Меретского, Стефан Коченгин, сообщил о себе, что во время хождения им со св. иконами на Пасхе в деревне его прихода Верхнем Сузуне, сельский староста-раскольник непрерывно в продолжение трёх дней в явное издевательство религиозному чувству православных, в то самое время, когда нужно было служить молебны, созывал сходы и приказывал идти за деревню зарывать кости палого скота. Раскольники деревни Тайны также всегда собирали сельские и общественные сходы по воскресным и праздничным дням утром не ранее и не позже того времени, когда братский учитель-миссионер отправлял для православных службы в молитвенном доме. Учитель входил с жалобой на такие действия сельских властей к чиновнику по крестьянским делам, на запрос которого „власти“, не стесняясь отвечали, что они, действительно, собирают сходы в указанное время, потому что „это для них всего удобнее“. Так же поступают облечённые властью раскольники и в тех случаях, когда приходской священник или наезжий миссионер желали бы организовать миссионерскую беседу. Они всегда ухитрятся отыскать благовидный и законный предлог, чтобы устранить от беседы возможно большее число своих односельчан. Те же раскольнические власти не дозволяют православным приносить в их селения св. иконы, препятствуют им в устройстве молитвенных домов, церковных школ, в особенности же церквей. Нередки случаи, что раскольники составляют общественные приговоры, чтобы никто из жителей общественников не отдавал своих детей в православную школу, и нарушители приговора подвергаются денежным штрафам. Случается также, что раскольничьи власти силой не пускают своих односельчан православных на обще-приходские сходы по вопросу о построении церквей и запрещают им подписывать приговоры о достройке, мотивируя это запрещение тем, что если подпишут приговор они – православные, то после „потянут под церковь“ и всё сельское общество.
Вновь приезжающих в их селения православных раскольники обыкновенно соглашаются принимать только под условием перехода в раскол, в противном же случае в приёме отказывают, никому из домохозяев-старожилов не дозволяют продавать им свои дома и даже отдавать квартиры; если же православный поселится в раскольничьем селении без приёмного приговора, то раскольники или выгоняют его силой, нередко разламывая его жилище, или облагают его чрезмерными поборами в пользу своего общества. Не принимая в своё общество православных, которые остаются тверды в своих верованиях, раскольники в то же время стараются об усилении самого общества своими же единоверцами, чтобы тем легче и скорее подавить и заглушить „малое стадо“ православных. Когда, например, в деревне Воронихе проживавшие там до двадцати семейств православных решили строить церковь, раскольники, чтобы не дать усилиться православию, начали сзывать сюда из разных мест своих одноверцев и вскоре же приняли до ста семейств раскольников, а православных ни одного, хотя многие из соседних православных жителей и сильно желали переселиться сюда под сень новостроящейся православной Церкви (Обзор деятельности 1-го епархиального миссионерского съезда в Томске).
Тумановские раскольники не принимают к себе ни одного из православных, если он не даст подписки в том, что впредь ничем не будет „касаться к православному священнику“ и детей своих будет крестить стариками. Если православный новосёл не даст такой подписки, то раскольники не примут его в своё общество ни за какие деньги; и он даёт такую подписку и по необходимости становится, по крайней мере, по наружности раскольником и скрывает до поры до времени своё сочувствие православию, потому что только заяви он о нём, и через день–два его не будет уже в деревне. Кроме подписок, тумановские раскольники, принимая к себе новосёлов, требуют иногда ещё и особые удостоверения от их прежних обществ о том, что они „с попами не знаются“. И удостоверения эти чисто официального характера даются. Вот одно из таких удостоверений, предявленное тумановскому обществу переселенцем Василием Булыгиным: „Удостоверение Мириновского сельского общества, Макаровской волости, Пермской губернии, Шадринского уезда, 1895 г., марта 26 дня. Дано сие удостоверение нашему односельцу Демиду Булыгину в том, что он, Булыгин, с попами не знается, а живёт по старообрядческому закону, в чём и подписуемся“. Следуют подписи и печать сельского старосты. Кузинские раскольники держатся несколько иной политики в отношении к православным, они принимают их к себе и без подписок; но не успеет такой новосёл ещё оглядеться на новом месте, как его уже обложили разными поборами, а то ещё и того хуже, выбрали на какую-либо службу на полгода; или бросай семью и хозяйство и служи сам, или нанимай за себя другого рублей за 30–40, а где взять такую сумму разорившемуся ещё на родине новосёлу? Но беда новосёлу, если он так или иначе выразит своё сочувствие никонианству! Такого раскольники не задумываются гнать от себя и преследовать, будь то православный, или даже их собрат. 13 апреля 1898 г. раскольники деревни Тумановой собрали сход с целью составить „отпорный“ приговор на православного своего однообщественника Кирилла Мокрушина. „Он нам негоден, неистово кричали вершители общественных дел, если бы не он, то и миссионера не было бы у нас, кто бы пустил миссионера к себе на квартиру кроме Мокрушина!“ Для совещания о том, как им выжить из своего селения миссионера, тумановские раскольники призывали даже своих единоверцев из соседнего селения Черемшанки, которые давали тумановцам такие советы: „Зачем вы пустили миссионера? Вот у нас общественники составили приговор, чтобы никто не пускал к себе на квартиру миссионера. Сначала прислали учителя Репина, наши не пустили на квартиру, потолкался немного и уехал. Потом прислали учителя Алексеева; этот день ездит по деревне, просится на квартиру, никто не пускает; ночь придёт, ночевать пустят, а утром опять та же работа. Поездил, поездил по деревне, да и уехал прочь, а вы вот пустили миссионера, да и мучаетесь с ним, на беседы к нему ходите“. Раскольники деревни Воронихи, узнав, что православные их однообщественники начали ходатайствовать о постройке храма, стали применять по отношению к ним с одной стороны меры явного насилия, разрушая строящиеся избы тех православных переселенцев, которые водворились в Воронихе без приёмных приговоров, с другой – меры всевозможных стеснений при пользовании пахотной и сенокосной землёй, хотя годной для этих целей земли имеется в более чем достаточном количестве (Дневник миссионера Томской епархии). Особенную энергию в этом отношении проявил местный сельский староста раскольник Ксенофонт Харин. Он поставил главной целью своей деятельности – осуществить желание своих однообщественников раскольников, чтобы „не бывать в Воронихе никонианской церкви“, вопрос о постройке которой был уже решён. Православные, которых насчитывалось в селении не более пятнадцати домов (а раскольников до 200), скоро почувствовали на себе тяжёлую руку грозного старосты; с ними не стеснялись как с смутьянами и бунтовщиками: подвергали штрафам, арестам, грозили выгнать из деревни и разбросать по брёвнам их будущую церковь и кощунственно и открыто издевались над их затеей. Но когда, несмотря на всё это, православные остались тверды в своём намерении, и построение церкви стало делом несомненным, Харин решил создать препятствие для образования здесь прихода и лучшим средством для этого счёл – не допускать в Ворониху желающих переселиться сюда ближе к церкви православных. Но боясь, чтобы впоследствии, по ходатайству православных, не сделало этого само высшее начальство, в виду того, что при деревне Воронихе имеется много свободных земель, Харин поспешил пригласить на эти земли раскольников, и в один год было выдано раскольникам до 200 приёмных приговоров (Томские епарх. вед.). Вообще в селениях, где общественная власть в руках раскольников, православные жители не могут добиться удовлетворения самых законных своих желаний, не смеют поднять голоса в защиту самых священных своих прав; всякое своеволие, всякое беззаконие раскольников в отношении к ним остаётся совершенно безнаказанным. Не только открытые кощунственные ругательства над православием, обиды и притеснения православных, но даже явные насилия с целью воспрепятствовать удовлетворению религиозных нужд православных легко сходят с рук раскольникам. Например, православные жители деревни Буханской, Томской епархии, выразили желание поставить на одном месте крест, покрыть его крышей и огородить деревянной оградой; раскольники об этом и слышать не хотели, у православных-же не нашлось смелости идти против раскольничьей партии. Наконец в 1899 году лесной объездчик решился выстроить небольшой деревянный крест над крышей. Раскольники среди белого дня собрались толпой ко кресту и тут-же, после шумного совещания, решили крест сломать (Томские епарх. вед.). Нередки случаи, что во время крестных ходов раскольники загромождают улицы брёвнами и разным хламом, выливают помои с крыльца при попытке войти в их дома с св. иконами и вообще позволяют себе такие кощунственные выходки, что даже передавать их, не оскорбляя религиозного чувства православных, невозможно. Поэтому некоторые, проживающие в раскольничьих деревнях, православные не решаются приглашать в свои селения священника со св. иконами, хотя и сильно желают этого, зная какой взрыв негодования и злобы обрушится на них за это со стороны раскольников. Православные селений Новопокровки и Ащагула так смущены постоянными насмешками молокан над священным обычаем иконопочитания, что прямо говорят: „нам уж с иконами нельзя показываться в деревне“. Только и слышно: „вон ваши деревянные боги идут, вон идолов несут“. Нашего терпения больше нет. Пытались, было, православные обращаться с жалобами в суд, – но оправданные молокане делались ещё назойливее. Составляемым же православными приговорам о выселении из их среды молокан, как вредных членов общества, гражданское начальство не придаёт никакой цены. Православные деревни Шарчиной: (Томской епархии), испросив себе разрешение на постройку церкви, освятили под неё место, огородили его и поставили крест, с кружкой для пожертвований. Раскольники разнесли ограду, разбили кружку, а на месте, предназначенном под церковь, выстроил себе дом и поселился раскольник. Когда те же православные посеяли общими силами несколько десятин хлеба, предназначая выручку от продажи его на постройку церкви, раскольники испортили посевы (Обзор деятельности 1-го епарх. миссионерск. съезда в Томск. епарх. вед.).
Но с особой злобой и ожесточением преследуют раскольники тех из своих одноверцев, которые обнаруживают чем-либо сочувствие к православию или присоединяются к православной Церкви. Особенно тяжело положение православных членов раскольничьих семей. Епархиальная печать изобилует фактами, иллюстрирующими это положение.
Так, по сообщению священника Томской епархии, Иоанна. Козмина, в селе Силонеченском девочка-раскольница лет 14 была страшно избита отцом за то, что с своими сверстницами православными ходила встречать православные иконы. Всегда и везде бьют своих православных жён мужья раскольники за то, что те выражают желание исповедаться или крестить своих детей в православной Церкви. Одна говельщица рассказывала тому же священнику, что её жестоко избил муж раскольник, когда узнал, что она ходит в православную церковь. Он же увёз от матери всех своих детей и держал их взаперти, боясь, как бы они не последовали примеру матери. Православная жена, одного раскольника была намеренно оставлена своими родственниками раскольниками без всякой помощи при родовых муках; её заперли в баню и грозили не выпустить до тех пор, пока она не даст обещания остаться в расколе и не крестит будущего своего ребёнка в православной Церкви. В деревне Тамбарской, Мариинского округа, один раскольник, женив сына на православной, настойчиво требовал от своей невестки отказаться от православной веры и когда та не уступала, он не позволял ей есть и пить с мужем, а затем и совсем разлучил от совместного брачного сожительства, угрожая, в случае дальнейшего упорства, совсем прогнать её из семьи („Томские епарх. вед.“). В Сенненском уезде, Могилевской епархии, раскольница Анна Феодосова заявила священнику о своём желании присоединиться к православной Церкви и вступить в брак с православным. Раскольники, не успев увещаниями и угрозами склонить Анну, изменить своё намерение, прибегли к насилию: они толпой человек до 200 напали на свадебный поезд, схватили Анну, отвезли её в дом одного фанатика раскольника, а отсюда решили отправить её вёрст за 50 в раскольничью слободу и там держать её на цепи. Но Анне удалось убежать; босая и в лёгкой одежде, с отмороженными на ногах пальцами, она прибежала в дом священника, и в назначенный день была присоединена к православной Церкви („Могилевские епарх. вед.“). В селе Верх-Убинском (Томской епархии) дочь раскольника Данилова присоединилась к православной Церкви и вышла замуж за православного крестьянина Митрофанова. Данилов напал на дом Митрофанова, выбил окна, выломал двери, но в этот раз взять дочери не удалось ему. В другой раз он подстерёг её на реке и, избив, увёл домой, где заковал железным прутом и хочет выдать на свод.
Не церемонятся раскольники и с православными священниками и миссионерами. Они не упустят удобного случая, чтобы осмеять священника, оскорбить его, оказать ему демонстративно непочтение и неуважение. Вот как описывает священник села Салонеченского Иоанн Козмин приём, оказанный ему раскольниками в первый приезд его в деревню Туманову, приписанную к его приходу. 30 ноября он приехал в д. Тумановку и остановился на земской квартире. Через час явился сельский староста раскольник с расспросами, зачем приехал? Священник объяснил, что приехал навестить своих новых прихожан. ознакомиться с ними и удовлетворить их религиозные нужды. Староста заявил: „в деревне нашей никаких треб нет; мы живём здесь 50 лет и никаких приходов не знаем; ты напрасно к нам приехал, мы тебя не принимаем, и ты нам никто“. Однако по просьбе священника созвал сход и объявил о приезде его. Услышав такую новость, раскольники подняли невообразимый шум. Одни кричали: „откуда к нам его принесло, кто его прислал“? Другие: „не надо, не надо нам его“! Третьи: „пешком его выпроводить из деревни, откуда приехал, туда и пойди“! Порешили наконец позвать попа и общим голосом „отпереться от него“. Когда явился священник, то на приветствие его: „мир вашему собранию“, выступил из толпы начетчик и раздражённо закричал: „по какому праву ты приехал к нам? Живём здесь 50 лет, никого не знали! Не хотим знать и тебя, не надо нам тебя“. О подобном же отношении к раскольникам сообщает и другой священник Томской епархии о. Тимофей Чешунин. Священник этот, проходя однажды со св. иконами по деревне своего прихода Каламанке, подошёл к дому крестьянина Медведева и, так как дом был заперт, прошёл дальше. Но через некоторое время, когда он служил молебен в доме другого крестьянина, Медведев подошёл к нему и грубо спросил: зачем ты заходил ко мне? Разве я никонианин? Священник ответил: заходил потому, что считал тебя православным. Медведев удалился, но через короткое время снова явился с толпой раскольников. Раскольники с шумом ворвались во двор крестьянина Сапегина, в доме которого в это время священник служил молебен, подняли крик и брань, поносили св. иконы и неистово кричали: „давайте нам сюда вашего попа! Какое он имеет право ходить по нашей деревне“! („Томские епарх. вед.“).
В проявлении своей вражды к православным священникам и миссионерам раскольники не ограничиваются дерзостью, насмешками и издевательствами, они не задумываются прибегать к угрозам и даже насилиям. Одному они прямо говорят, что ему „несдобровать“, другому угрожают „отхватить космы“, третьего – „спустить в реку“. И это говорится не для запугивания только. Небезынтересные в этом отношении факты сообщены миссионерами и священниками Томской епархии на первом епархиальном миссионерском съезде. Например, желтоногинские раскольники нанимали, беглого бродягу, чтобы расправиться с проживавшим у них миссионером Кудрявцевым. Один из кулчинских раскольников нанимал другого за 100 руб. убить миссионера Бакарева. Обо всём этом в своё время возникали следственные дела. На миссионера Гурия Макарова делали ночное нападение три раскольника, от которых он избавился только благодаря скоро подоспевшей помощи. Делали раскольники ночное нападение и на священника Сибирячихинской единоверческой церкви о. Никиту Сорокина, причём он был сильно ранен. В-е раскольники не на шутку совещались „успокоить“ своего приходского священника. Одни предлагали покончить пулей, так как „еретика не грешно и из ружья застрелить, другие, отвергнув это, потому что из ружья де „гулко будет“, предлагали пустить в дело простой стяг, удар по виску, и всё копчено“... Вот неприкрашенные факты действительной жизни, с достаточной ясностью обрисовывающие положение раскольников в их отношениях к православной Церкви, её последователям и представителям. Вспомним для полноты картины павловских толстовцев, своим святотатственным злодеянием так недавно ещё возмутивших всю православную Россию, – штундистов Киевской губернии, силой врывавшихся в православные храмы и там препятствовавших совершению богослужения, скопцов с их насильственными изуверствами, и в настоящее время нередко отмечаемыми на страницах судебной хроники. Таковы в действительной жизни эти мнимо-гонимые и преследуемые за свои религиозные убеждения, о чём так много „жалких слов“ говорят наши интеллигенты. Приведённые факты убедительнее всяких „жалких слов“ свидетельствуют о том, кто гонимые и кто гонители, кто подвергается большим преследованиям за веру – раскольники, или живущие вместе с ними православные.
Убедительно же и наглядно говорят отмеченные факты и о том, к чему привело бы осуществление заветного желания наших либералов о предоставлении раскольникам и сектантам полной религиозной свободы, выражающейся не только в разрешении безнаказанного отпадения от православия и открытого исповедания своей веры, но и совращения других. Тогда положение православных среди раскольников и сектантов было бы поистине ужасно. Тогда подобные павловскому злодеянию изуверства, с разгромом православных церквей, с самыми ужасными насилиями, стали бы явлением обычным.
Но, к сожалению, наши либеральные радетели раскола и сектантства не хотят знать фактов действительности. Не зная ни жизни, ни учения сектантов и раскольников, или зная о них только понаслышке, они, в увлечении современными либеральными идеями, доходят до того, что принимают под своё покровительство даже такую изуверную секту, как скопчество, даже в ней видят „светлое“ и „отрадное“ явление, окружают изуверных скопцов, ореолом честности, благонамеренности, восхваляют их выдающееся трудолюбие, их бескорыстную взаимную братскую помощь и требуют для них полной свободы. С такой ревностной не по разуму защитой скопцов выступил некто Н. А. Гурьев в своей брошюре „Сибирские скопцы, их экономическое и правовое положение“. В предисловии к названной брошюре автор заявляет, что тяжёлое положение сосланных в Сибирь скопцов, ничем не вызываемые и ничем не оправдываемые стеснения их местной администрацией побуждают его выступить на защиту этих невинно угнетённых (!) сектантов. Гурьеву кажутся странными, непонятными и незаконными такие меры предосторожности в отношении скопцов, как запрещение им без разрешения полиции надолго отлучаться из постоянного места жительства, проживать в городах и строгий полицейский контроль их корреспонденции. Он требует предоставления сосланным скопцам полной свободы, хотя бы в пределах Сибири и выражает уверенность, что они, „вырвавшись из тесных рамок узкой сектантской жизни, утратят тот мертвящий сектантский дух, которым опутаны теперь“. По его мнению, „нет никакого основания опасаться пропаганды со стороны скопцов, так как они большей частью давно уже утратили все внутренние побуждения к этому“.
На чём же основаны все эти, более, чем странные, суждения и скороспелые выводы г. Гурьева? Во всяком случае они не могут быть основаны на тех данных, которые собраны в его брошюре. По обычаю наших либеральных защитников сектантства г. Гурьев останавливается прежде всего на внешнем материальном благосостоянии скопцов и расточает восторженные похвалы их редкому трудолюбию, предприимчивости, трезвости. Скопцы лучшие хлебопашцы; огородники, мастеровые. Своим экономическим благосостоянием они очень резко выделяются на общем фоне окружающей их бедности, так что в некоторых местностях Сибири они являются единственными поставщиками всех продуктов первой необходимости. Отсюда, по мнению Гурьева, следует, что скопцы представляют лучшую часть населения Сибири, оказывают самое благотворное влияние на окружающих и что для расширения района этого благотворного влияния необходимо освободить скопцов от всяких мер стеснения и предоставить им полную свободу. Но останавливая главное внимание на экономическом благосостоянии скопцов и с мелочностью лавочника высчитывая каждый пуд снятого ими хлеба и овощей, каждый фунт масла и крупы, г. Гурьев забывает самое главное, забывает то зло, которое приносят скопцы, и которое далеко не искупается этими плодами скопческого трудолюбия. Скопцы и до настоящего времени остаются теми же „врагами человечества“, теми же „развратителями законов Божеских и человеческих“, какими они были высочайше признаны ещё при Александре I. И до настоящего· времени они продолжают фанатичную пропаганду своего бракоборного учения, пропаганду, сопровождаемую гнусным и изуверным людорезничеством, разрушающим семью и, следовательно, подрывающим самые основы человеческого общежития. Вот факты, иллюстрирующие эту ужасную деятельность трезвых воздержанных и трудолюбивых скопцов. В декабре 1897 г. было обнаружено широкое распространение скопчества в Петергофском, Царскосельском и Ямбургском уездах, Петербургской губернии. Скопцы уже в течение многих лет энергично вели здесь свою тайную пропаганду, сопровождаемую изуверными операциями. Много было изуродовано ими людей, много разрушено семей и среди православных, и среди лютеран. При этом, для достижения своих целей, скопцы по обычаю не гнушались никакими средствами, не исключая и насилия. В увлечении своей фанатичной пропагандой, они не щадили даже детей.
Первыми привлечёнными к судебной ответственности за принадлежность к скопческой секте были крестьяне деревни Лендовщины, Петергофского уезда, Павел Овчинников и сын его Фёдор. Наружно они исповедовали православную религию и, по свидетельству односельчан, казались даже усердными прихожанами, напр., Павел Овчинников на свой счёт исправил местную часовню. При этом Павел и Фёдор Овчинниковы были образцом трезвой и воздержанной жизни, они водки не пили, не курили и даже не употребляли в пищу мяса. Но при этом у них часто по ночам происходили подозрительные собрания; к ним приезжали какие-то неизвестные люди, как мужчины, так и женщины, которые проводили у них иногда день, а иногда и два, причём в это время ворота и ставни дома Овчинниковых запирались, и никому никогда не удавалось подсмотреть, что там делается. Раз как-то односельчане, проходя ночью мимо дома Овчинниковых, в то время, когда там были таинственные гости, захотели подслушать, что делается в доме, но лишь только они с этою целью остановились, как Фёдор Овчинников, открыв окно, стал тревожным голосом спрашивать, „кто такие“ и, не получив ответа, выбежал на улицу и прогнал их.
Судебно-медицинским освидетельствованием на предварительном следствии было обнаружено, что Павел и Фёдор Овчинниковы оскоплены, первый неполным оскоплением, «малой печатью“ (отнятие яичек), а второй полным оскоплением (отнятие яичек и ствола полового члена), причём об обстоятельствах своего оскопления Павел Овчинников показал следующее: в деревне у них проживали две набожные старушки Наталья и Меланья Ивановы; он часто посещал этих старушек и там неоднократно встречал каких-то странников, с которыми проводил время за чтением душеспасительных книг. Однажды он встретился у Ивановых с двумя странниками, которых раньше никогда не видел; странники эти целый вечер читали ему божественные книги, а потом стали убеждать его, что для спасения души и получения царствия небесного необходимо оскопиться. Хотя он и не поддался убеждениям странников и на оскопление не согласился, но на другой день снова пришёл побеседовать и остался вместе с ними ночевать у Ивановых. Ночью он проснулся от сильной боли и, когда, по его просьбе, Меланьей Ивановой был принесён огонь, убедился, что оскоплён. Меланья Иванова достала какую-то жидкость и стала примачивать ему рану, что проделывала в продолжение четырёх или пяти дней, которые он пролежал у неё в доме. Странники-же, оскопившие его, скрылись, поэтому он и не заявил на них жалобы.
По показанию Фёдора Овчинникова, и обстоятельства его оскопления были таковы-же; но при этом он заявил, что дал странникам своё согласие на оскопление и не раскаивается, что оскоплён, так как, по его мнению, поступил вполне хорошо и согласно с волей Божией. Если-бы он был на свободе, то другим не стал-бы давать советов оскопиться только потому, что боялся бы попасть за это в тюрьму. Проживавшая в доме Овчинниковых в течение 8 лет, в качестве прислуги, крестьянка Екатерина Иванова, по освидетельствовании, также оказалась оскоплённой и при допросе сослалась на ту же умершую старушку Меланью Иванову, объяснив, что та убедила её оскопиться, обещав ей за это царствие небесное, а когда она согласилась на это, то Меланья Иванова собственноручно отрезала ей груди и изуродовала половые органы. Вслед за Овчинниковыми были привлечены к судебной ответственности за принадлежность к скопческой секте ещё до сорока женщин и мужчин. Все они на судебно-медицинском освидетельствовании оказались изуродованными – с вырезанными грудями, выжженными половыми органами – и в тоже время все с фанатизмом заявили, что довольны своим оскоплением, так как глубоко веруют, что оно необходимо для спасения души и получения царствия Божия, поэтому они всегда готовы и других убеждать оскопиться. Вот более характерные показания некоторых из этих фанатиков об обстоятельствах оскопления. Крестьянин Андрей Лаурикайне показал, что его покойная мать была оскоплена и его убедила оскопиться и оскопила у себя в избе. Ещё до оскопления года за три он перестал иметь супружеские сношения с своей женой, считая это за большой грех, но так как ему было трудно воздерживаться, то он и решил оскопиться. В настоящее время он верует, что для получения царствия Божия необходимо оскопиться, поэтому оскоплением очень доволен, и если бы произошло чудо, и у него снова выросли-бы половые органы, то он снова отрезал бы их. Крестьянин Пётр Талойне объяснил, что он оскоплён был двенадцати лет от роду своим отцом при следующих обстоятельствах: как-то он с отцом отправился на сенокос, где пробыли около недели; спали они вместе в шалаше. Однажды ночью проснувшись от сильной боли, он убедился, что у него отрезаны половые органы, и на рану положена повязка. На вопрос его, что это значит, отец ответил: „ничего, это нужно для спасения души“. Об оскоплении своём он никому не заявил, так как отец строго запретил ему это. Исаак Хус объяснил, что бабушка его, умершая уже лет пять тому назад, с детства внушала ему, что для спасения нужно оскопиться. С таким убеждением он и вырос, поэтому и пожелал принять оскопление. Операция эта была совершена над ним каким-то незнакомым странником, которому он заплатил за это 15 руб. В настоящее время он твёрдо верует, что для получения царствия небесного необходимо оскопиться. А если бы кто-нибудь обратился за советом по этому поводу, то он ответил-бы так: „если ты можешь воздержаться от совокупления с женщинами, то не оскопляйся, а если не можешь, то оскопись“. По его убеждению, человек должен жить совершенно чисто, т. е., никогда не иметь сношений не только с чужими женщинами, но даже и с своей женой. Бог Адама и Еву выгнал из рая за то, что они совокупились. Крестьянин Андрей Анис об обстоятельствах своего оскопления и о причинах, побудивших его оскопиться рассказал следующее: читая Священное Писание, он нашёл, что в 19 главе Евангелия от Матфея ясно говорится, что для получения царствия Божия надо оекопиться, а потому он и решился оскопиться „большой печатью“, т. е., совершенным отнятием половых органов. Операцию эту совершил над ним какой-то старик, по имени Потап, ныне уже умерший. Старик этот завёл его к себе в дом, положил на кровать и в один приём отрезал ему все половые органы. После операции он в доме старика проболел около месяца. В настоящее время он глубоко убеждён в том, что для получения царствия небесного необходимо оскопиться, и если бы кто-нибудь обратился к нему за советом по этому поводу, то он посоветовал бы оскопиться. По его убеждению, Бог сотворил человека чистым, но впоследствии плоть человека была осквернена грехопадением Адама и Евы. Плоть человеческая в настоящее время портит человека, а потому с ней надо бороться и уничтожать в ней те именно члены, которые ведут её ко греху, а так как таким членом является прежде всего детородный член, то его и надо отрезать, чтобы предохранить плоть от греха. „И если бы у него было столько членов, сколько сучьев на дереве, то он все-бы их вырубил“. И главными вдохновителями этих изуверов, как обнаружено следствием, были сосланные в Сибирь главари скопческой секты, поддерживающие самые оживлённые письменные сношения с оставшимися на родине своими последователями. Это те сибирские скопцы, строгий надзор за которыми Н. Гурьев считает совершенно излишним и даже незаконным, которые, по его мнению, давно уже утратили все внутренние побуждения к пропаганде своего изуверного учения, и которым поэтому нужно предоставить полную свободу.
Скопцы представляют тесно сплочённую общину, члены которой где-бы ни находились, как-бы далеко ни были разбросаны друг от друга, поддерживают постоянные и самые оживлённые сношения между собой; так что скопцы всех местностей образуют одно чисто кагальное, живущее узкими кружковыми интересами общество. Порвав все связи с внешним миром и его интересами, одушевлённые одной мыслью о скорейшем наступлении скопческого царства на земле, они все силы посвящают пропаганде своего изуверного учения и привлечению в свою секту всё большего и большего числа последователей, пока число скопцов не достигнет апокалипсической цифры 144 тысяч (Апок.14:1–4). Когда же исполнится это число, тогда скопческий лже-искупитель произведёт открытый суд над миром, „смирит явного царя“, удалит его с престола,, а сам примет „скипетр и державу“ и „в пречистом своём теле“ воцарится в обновлённой и очищенной от всякой нечистоты России. Тогда наступит торжество скопцов. Для скорейшего достижения этой желанной цели, каждый скопец жертвует всем своим имуществом, на которое он и смотрит не как на личную собственность, а как на собственность секты. И действительно ни один скопческий „корабль“ не допустит, чтобы имущество, оставшееся после смерти кого-либо из членов его, досталось не скопцу, хотя-бы даже и родственнику умершего. Все такие имущества всеми правдами и неправдами укрепляются обычно за кем-либо из членов секты. Путём такого перехода скопческих имуществ от одного члена секты, к другому и создаются те колоссальные скопческие кагальные богатства, которые с одной стороны составляют основание выдающегося благосостояния скопцов, а с другой – служат целям их пропаганды.
Пропаганда эта так хитро организована, ведётся так скрыто и умело, что уследить за ней не представляется никакой возможности. Поэтому почти никогда не удаётся захватить скопческое брожение в самом начале и вовремя противодействовать ему. Прежде, чем в том или другом месте скопчество бывает обнаружено, оно уже успевает пустить глубокие корни и захватить немало жертв. Этим и объясняется та неожиданность, с какой и в настоящее время часто обнаруживается скопчество в тех местностях, где о существовании его никто не подозревал. Такою, напр., неожиданностью было обнаружение скопчества в Скопинском уезде, Рязанской епархии. Здесь во второй половине 1901 г. было опознано много последователей этой гнусной секты с признаками физического оскопления. 16 скопцов и 26 скопчих были привлечены к судебной ответственности. На вопрос о причинах оскопления и о том, кто побудил их к этому, они все с фанатизмом заявили: никто не учил нас этому, мы сами оскопили себя. В этом нет никакого преступления. Разве мы не вольны в своём теле? Мы следовали словам Евангелия и учению Спасителя. Он Сам сказал: есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для царствия небесного (Мф.19:12). Оскопление – это подвиг, и Спаситель о нём сказал: „Могий вместити, да вместит“. Не всякий может перенести этот подвиг; а вот нам вместилось это, мы и оскопили себя для царства небесного. И апостол Павел говорит: „без пролития крови не бывает прощения“ (Евр.9:22). Поэтому и Христос два раза пролил свою дражайшую Кровь, – в первый раз Он пролил её в восьмой день от рождения, когда Его обрезали (под обрезанием скопцы подразумевают оскопление), а второй раз при распятии на кресте. Нет в оскоплении и греха. Какой грех – отрезать свой член, чтобы избавиться от похотной страсти? Ведь нет-же греха отрезать свой палец или руку, или ногу, или выколоть себе глаз. Спаситель-то прямо говорит: лучше тебе войти в жизнь без руки, или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; лучше тебе с одним глазом· войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную (Мф.18:8–9).
Не странны ли после этого сетования Н.А. Гурьева на строгость мер надзора, применяемых к скопцам, не наивны ли требования его о предоставлении полной свободы этим изуверам и о „распространении их культурного влияния на возможно больший район“? Если обычных воров и убийц изолируют и всякими мерами стараются препятствовать их преступной деятельности, то почему же скопцы, у которых людорезничество возведено в догмат, должны иметь простор в своих действиях, подрывающих самые основы человеческого общежития? Гурьев уверяет, что сосланные скопцы давно уже утратили все внутренние побуждения к пропаганде своего лжеучения, и что умственный и нравственный склад сибиряка, чуждого всякого мистицизма, лучшая гарантия от увлечения скопческими идеями. Но, к сожалению, факты говорят совершенно противоположное. Во-первых, все почти скопческие судебные процессы открывают немало самых неопровержимых данных, свидетельствующих, что вожаки скопческой секты, сосланные в Сибирь, находятся в постоянных и самых оживлённых сношениях с оставшимися на родине своими последователями и являются главными вдохновителями их в их изуверных подвигах. Во-вторых, и история и современная жизнь свидетельствуют, что мистические бредни всегда находили благоприятную почву среди сибирского населения. Ещё скопческий бог Селиванов не без успеха вёл здесь свою пропаганду и за время пребывания своего в Сибири он приобрёл здесь немало последователей. В настоящее же время как среди сибирских переселенцев, так и среди коренных сибиряков с большим успехом распространяется хлыстовщина родоначальница скопчества. В увлечении внешним благосостоянием и богатством скопцов, г. Гурьев не видит кроющихся под этой привлекательной внешностью язв скопчества. „Высокие, большие дома с громадными окнами, тесовыми и железными крышами, разные резные фигурки из дерева, жести и меди на окнах и воротах, цветы на подоконниках, палисадники под окнами76 – вот что главным образом обращает на себя внимание Гурьева в жизни скопцов; восторгается он и тем, что „не услышишь в скопческом селении пьяной разгульной песни, не увидишь подвыпившего мужика, без чего нельзя себе и представить обыкновенной русской деревни“77. И действительно, кому неизвестна зажиточность скопцов, поставляющих наживу целью своей жизни, сосредоточивающих в своей среде громадные богатства и при помощи их завлекающих в свои сети бедных, беспомощных, стеснённых лишениями и нуждами. Кому также неизвестна и трезвость скопцов, у которых „хмельного не пить“ является одной из основных заповедей... Но если среди этих богатых и воздержных скопцов не увидишь пьяных, не услышишь пьяной, разгульной песни, без чего нельзя представить себе обыкновенной русской деревни, то не увидите среди них и лучших сторон обычной крестьянской жизни. Не увидишь здесь семейного людского счастья. Не услышишь детского крика, не увидишь подрастающего молодого поколения, не увидишь проявления веселья, как результата нормальной трудовой жизни и довольства. На всём здесь лежит печать смерти, повсюду видны следы вырождения, отовсюду веет мертвящим сектантским духом, каждая скопческая семья оставляет впечатление вымирающего дома. „Предоставьте скопцам право свободного жительства, дайте им свободу, позвольте пользоваться всеми благами образования и просвещения, и вы увидите, что сектанты скоро совершенно ассимилируются с остальным населением“, говорит Гурьев; по его мнению, единственным препятствием к этому служит только „замкнутость скопцов в душной тесной сектантской среде“78. Такую наивность только и можно объяснить совершенным незнанием Гурьевым ни истории скопчества, ни духа и характера секты. Напр., в царствование Александра I-го скопцам была предоставлена правительством полная свобода. Сектанты эти представлялись не более, как несчастными, жалкими жертвами изуверства, достаточно уже наказываемого самим собой. Но эта кротость правительства, дав сектантам простор и волю, ещё сильнее одушевила их в их изуверных подвигах. Скопцы беспрепятственно плодились даже в столице, открыто распространяя заразу своего лжеучения и словом и делом, так что наконец Высочайшим приказом велено было признавать скопцов „врагами человечества, развратителями нравственности, нарушителями законов Божиих и гражданских“.
Нет, никакая свобода не может рассеять мертвящий дух этой секты. Для изуверов, положивших на себя скопческую печать физического уродства, нет возврата и раскаяния. „Печать батюшки искупителя“ навсегда отрывает их от мира семейного и общества людского. Нет для них интересов, кроме интересов секты; единственная цель их жизни – это распространение своего лжеучения, приумножение подобных себе несчастных. С своим материальным довольством и богатством они повсюду несут разрушение семьи и смерть. Если и встречаются среди них немногие, осуждающие скопчество, сознающие вред заблуждений этой секты, то это те несчастные, которые в детстве сделались жертвами скопческого изуверного насилия, которым только остаётся сожалеть о своей загубленной жизни.
А. Орлов
Библиография
Барснев В. [Рец. на:]: «Божья Нива». Троицкий собеседник для церковно-приходских школ. Издание Троице-Сергиевской лавры // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 521–524
Возрождённая Высочайше утверждённым 1884 г. Положением церковная школа успела приобрести в помощь своему святому делу два печатных органа: в Киеве издаётся более 10 лет ежемесячный журнал под названием „Церковно-приходская школа“. Более 5 лет выходит в свет официальный орган церковной: школы: „Народное Образование“. В истекающем 1902 г. народилось новое церковно-приходское издание под вышеприведённым названием: „Нива Божья“. Здесь на помощь школе пришла Троице-Сергиевская лавра в лице своего так хорошо всем известного архимандрита Никона, издателя „Троицких Листков“. Последнему принадлежит инициатива нового издания, он же является душой и главным работником на „Ниве Божьей“. Уже одно это рекомендует новое издание с наилучшей стороны. И действительно всякому, кому дорога церковная школа, а наипаче же учителю, у которого в душе есть горячее искреннее желание дослужить истинному просвещению народа, этот небольшой объёмом, но богатый содержанием журнальчик является ценным литературным даром, необходимым пособием. Цель издания „оказывать нравственную поддержку всем, кто трудится в церковно-приходских школах в великом деле воспитания народа в духе христианского благочестия и родных преданий старины, дать этим труженикам возможность обмениваться мыслями по тем вопросам, которые особенно тревожат их христианскую совесть; показывать на фактах, как велико и свято то дело, коему они служат; как и чем проявляет себя это дело в жизни, как в самой школе, так и вне её; в чём состоит тот идеал, к какому должна быть направлена вся их будничная работа: „Божья Нива“ будет стремиться указать, при помощи Божией те пути и средства, коими возделывается добрая по природе нива детского сердца“.
В состав программы нового издания входят следующие отделы. 1. Церковь и школа. 2. Семья и школа. 3. Школа и народная жизнь. 4. Школа, как воспитательница эстетического чувства. 5. Летопись церковных школ. 6. Переписка наших читателей. 7. Страничка для детей. 8. Приложения, „Трицкие листки“ и книжка, как материал для собеседования и для чтения детям. Рисунки. Сроки выхода от 6 до 12 раз в год. Цена 1 рубль с пересылкой.
Для указания средств воспитания нужно – знание отличительных свойств детской души, отчётливое представление того идеала, к которому должен стремиться человек христианин, и того пути, который несомненно приводит к этому идеалу, и действенность которого засвидетельствована веками русской народной жизни. Всё это в журнале „Божья Нива“ указывается, прекрасно разъясняется и освещается многочисленными фактами из истории и быта русского народа и церковно-приходских школ. Наблюдения, заметки и дневники оо. заведующих, наблюдателей и самих учителей находят должное место в этом журнале и придают содержанию журнала жизненность и ту реальную правду, которая поучительнее кабинетного доктринёрства писателей-педагогов. Что касается народного религиозного идеала жизни, то, справедливо полагая его в „спасении души“, „Божья Нива“ старается звать своих читателей – народных просветителей к охранению того пути просвещения, которым искони шёл русский человек, спасая свою душу. Путь этот – „церковность“, ей посвящена первая, так сказать, основная статья „Божьей Нивы“, на которой мы и остановим внимание читателей. „Церковность“ есть жизнь в духе заветов, уставов, заповедей, таинств, обрядов и всего богослужения православной Церкви, имеющей своей целью внести таинственное освящение во все проявления и события обыденной жизни христианина от момента рождения до смерти. По воззрению русского народа „зло, зараза греха и тление проникают весь мир, так сказать, до мозга костей: заражён воздух, которым мы дышим, заражена вода, которую пьём, пища, которую вкушаем, заражён весь человек со всеми своими естественными мыслями, чувствами и желаниями так, что не может сделать ни одного шага, чтобы не нуждаться в освящении всего, чем он пользуется для продолжения и устроения своей жизни“... Набожная русская душа в самой атмосфере храма Божия или монастыря ищет и находит для себя благодатное освящение и обновление, изменяясь в ней иногда до неузнаваемости. Жажда божественного, святого, стремление жить не в разрез с идеалом человека благочестивого – идеалом, всосанным с молоком матери и проникающим все убеждения и воззрения русского простолюдина на жизнь, обнаруживается в весьма симпатичных особенностях, привычках и обычаях большинства нашего народа, напр., освящать молитвой начало и конец труда, осенять знаменем креста двери дома и некоторые предметы хозяйства.
Останавливаясь за сим на вопросах, что и как способствует воспитанию церковности в детях, и прежде всего – в чём может состоять эта, так сказать, школьная церковность, долженствующая полагать прочные и благодетельнейшие задатки церковности для всей дальнейшей жизни будущего гражданина родной страны, „Божья Нива“ утверждает, что „практика жизни ушла здесь значительно вперёд теоретической разработки дела, и надо отдать ей справедливость – ушла вперёд не по неверному пути, хотя успехи её немало теряли от недостатка прочных теоретических основ. Учение начиналось у нас с разучивания псалтири – глубоко мудрый и психологически незаменимый способ соединения обучения ума с воспитанием сердца и воли“. Ознакомление детей с псалтирью – этим святым, неподражаемо художественным поэтическим произведением – умеет, сверх внутренних её достоинств, громадное значение со стороны именно воспитания в детях церковности. Язык псалтири по преимуществу стал языком Церкви. Большинство молитвословий и песнопений церковных сложены именно языком псалтири и буквальным повторением её умилительнейших и дышащих благодатно-неземной теплотой выражений. Трудность языка псалтири с избытком вознаграждается теми благами, какие даёт церковно-славянский язык, благодаря своему родству с греческим, передавая всю силу, красоту и своеобразность подлинника. В качестве средств, прививающих детям дух церковности, могут служить также привлечение их к участию в чтении и пении при богослужении и паломничество в местные обители и святые места земли русской. „Что может быть трогательнее, умильнее и поучительнее зрелища, когда стройная толпа малюток, как нежный всход недавно засеянного зерна, мило колышется по запылённой летней дороге в какую-нибудь из святых обителей, без всякой принудительности, свободно упражняя свои первые и самые чистые святые порывы богоугождения и благочестия в этом подвиге путешествия по св. местам отечества“. Обилием фактов, помещаемых оо. наблюдателями, заведующими и учителями, „Божья Нива“ свидетельствует, что церковность пользуется самой глубокой и непринуждённой любовью чистых детских сердец. Это и понятно.
„Обратитесь к воспоминаниям собственного детства, и вы увидите, что воспоминания о минутах вашего общения с жизнью, Церкви – самые живучие светлые и невыразимо отрадные. Впечатления великопостных, страстных и пасхальных богослужений укладываются в памяти с мельчайшими подробностями. Подобным образом впечатления от святых обителей и других чтимых святынь родной земли, особенно посещаемых в первый раз, и в годы светлого, восприимчивого детства, ложатся неизгладимо светлой точкой на всём запасе наших духовных приобретений, и кто мог бы измерить всё значение и громадную ценность этой маленькой точки, которая способна влить столько незримой силы для борьбы с тяготой жизни в одних, столько утешения посреди труднейших испытаний в других, столько благодатных струй во всю жизнь и настроение третьих. „Божья Нива“ доказывает, что опыт школьной жизни достаточно показал, что церковный распорядок жизни вообще вовсе не представляет чего-либо несовместимого с распорядком чисто учебной стороны. Даже в течение учебных дней можно без всякого обременения детей, пользуясь всякими поводами, возбуждать и подогревать церковность детей всевозможными способами. Наилучшим образом достигли бы цели школы с общежитиями, под сенью приходского храма, а ещё лучше монастыря, и всего лучше женского.
Из других · статей „Божьей· Нивы“ общий интерес имеют: „Взгляд на воспитание на заре христианства“, „Достоевский о воспитании“, – Димитрия Введенского и „С какой поры детского возраста нужно начинать религиозное воспитание“ – Прот. А. Иванова. Мелкие рассказы, дневники и письма учителей, учительниц и наблюдателей служат богатой иллюстрацией к передовой статье „Церковность“.
Церковно-школьное просвещение молодого поколения народа служит самым верным орудием миссии Церкви, в её борьбе с расколо-сектантской тьмой; школы народные – это основа и фундамент специальной миссии. Последняя самым живым образом заинтересована в успехе школьного дела, а потому и „Миссионерское Обозрение“ долгом считает приветствование нового со-работника в вертограде церковном – „Божью Ниву“ с успешным началом своей просветительной службы общей нашей матери-Церкви и желает журналу такого же широкого распространения, каким заслуженно пользуются „Троицкие Листки“ досточтимого о. Никона.
Василий Барснев
Леонович В. [Рец. на:]: Прот. Т. Буткевич, профессор харьковского университета. Религия, её сущность и происхождение. (Обзор философских гипотез). Книга I, Харьков. 1902 // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 525–528
Нельзя не подивиться трудолюбию и плодовитости достопочтенного автора, почти ежегодно делающего вклад своими обширными исследованиями в научную библиотеку русской философии и богословия. Настоящий труд представляет собой весьма объёмистый том (560 стр.), посвящённый интереснейшему и вместе с тем основному богословскому вопросу: о религии, её сущности и происхождении. Правда, по этому вопросу мы имеем уже прекрасное исследование покойного В. Р. Кудрявцева-Платонова. Но, как справедливо замечает автор, „после него явились новые взгляды на религию, которые в настоящее время представляют общий интерес и признаются господствующими, напр., Μ. Мюллера, Каспари, Шульце, Ницше, Спенсера, Леббока, Тэйлора“ и др. Кроме того, взгляды некоторых мыслителей, по нашему мнению, заслуживающие внимания не менее других и бывшие несомненно известными В. Р. Кудрявцеву, у него обойдены почему-то совершенным молчанием“. Труд прот. Буткевича имеет целью, таким образом, пополнить пробелы в исследовании В. Р. Кудрявцева и дать полный обзор философских гипотез о существе религии и её происхождении.
Он состоит из обширного введения (1–79 стр.) и 11 глав.
Во введении выясняется понятие религии.
Автор подробно останавливается на этимологии и первоначальном значении слова „religio“ и склоняется к объяснению, данному Цицероном, по которому religio означает страх, благоговение.
Автор полагает, что такое толкование более правильно, чем данное Лактанцием и наиболее распространённое, в смысле „союза“ человека с Богом, потому что язычники-римляне существенное значение приписывали именно страху, трепету в религии. Но одно чувство страха не составляет ещё сущности религии; вот почему „многие современные нам, даже западноевропейские учёные в последнее время всё больше и больше утверждаются в мнении, что слово „религия“ далеко не соответствует тому понятию; которое им обозначают“.
Что же такое религия? Существует множество противоречивых определений этого понятия. Автор останавливается на важнейших из них и, находя их неудовлетворительными, односторонними и отвлечёнными, путём анализа религии, как эмпирического факта, устанавливает и выясняет существенные признаки „действительной (а не измышляемой) религии“. Таковых признаков он находит 8:1) вера в бытие живого и личного Бога, 2) вера в возможность и действительность божественного откровения, 3) вера в бытие особого мира духов, 4) вера в личное бессмертие души человека, 5) нравственность и благочестие, основанные на учении божественного откровения, 6) особенное настроение духа или религиозные чувствования, 7) религиозный культ и 8) религиозная община или Церковь. Проф. Буткевич останавливается на этом излишне-дробном перечислении существенных признаков религии (так, напр., 2-й пункт уже содержится с необходимостью в первом, равно как религиозные чувствования непременно входят в понятие „веры в живого и личного Бога“, (п. 1) которая в противном случае была бы мёртвой и сухой, благочестия (п. 5) и лежат в основе религиозного культа (п. 7) и не идёт далее. Вследствие этого он впадает, по нашему мнению, в крайность, противоположную той, в которой он обвиняет своих предшественников. Если те ради единства в определении упускали из вида многосторонность содержания, то наш автор наоборот не заботится о том, чтобы богатое разнообразие установленных им признаков объединить какой-либо руководящей идеей и связать в одном стройном и логически-правильном понятии.
Ознакомив читателя с существенными признаками действительной религии, автор переходит к рассмотрению тех многочисленных гипотез, которые предложены многими мыслителями для разрешения труднейшего вопроса о сущности религии и об её происхождении в человеческом роде.
Здесь автор обнаруживает свою редкую начитанность и умение излагать и разбирать чужие воззрения ясно, последовательно и оживлённо. Серьёзные рассуждения по местам приправлены солью остроумия. Так, напр., характеризуя философское учение Фихте о религии, которое не отличалось устойчивостью, автор замечает: „Угоняешься ли за таким „быстроногим Ахиллесом“? Ведь иметь дело с учением Фихте о сущности религии, которое в своём роде может быть названо petpetuum mobile, не легко. Мы даже затрудняемся кратко ответить на вопрос: в чём Фихте полагал сущность религии? В этом случае Фихте похож на евангельскую самарянку, у которой было пять мужей, и тот, которого она имела последним, не был её мужем. Фихте выдавал за свои много чужих гипотез о сущности религии, но и последняя по времени не была его законной гипотезой... (стр. 516).
Вообще несмотря на учёный характер исследования, книга читается легко и с интересом. Для лиц, интересующихся богословием, сочинение прот. Буткевича даёт обширный материал, собранный умелой рукой. Особенно полезна может быть эта книга для преподавателей основного богословия или христианской апологетики и для студентов-учеников, изучающих этот предмет, Наше основное богословие Августина уже сильно устарело и далеко не везде отличается основательностью своей критики. В книге прот. Буткевича можно найти много разобранных им фактов и возражений, приведённых в защиту той или иной гипотезы, с которой знакомят нас старые руководства и исследования.
Таким образом, в исследовании прот. Буткевича перед нами проходит целый ряд великих умов с их мыслями о религии, и все они получают должную оценку. К сожалению, каждая из этих гипотез у прот. Буткевича стоит особняком. Автор не позаботился об их систематизации и не указывает нам принципа, которым он руководился при распределении их в своём исследовании 79. Таким принципом могли бы служить исходные точки в суждении о происхождении религии тех или других мыслителей. Не трудно видеть, что тогда, как одни из них источником религии считали нечто стоящее вне человека (объективные теории), будет то Бог (гипотеза традиционализма), или природа (натурализма), или „другие“ люди (политически-анимистическая гипотеза), другие производили её из внутренних потребностей человеческого духа (Спиноза, Кант, Фихте и др.) – субъективные теории. Такое деление сразу же намечает план и вносит порядок в исследование. Можно было бы также следовать хронологическому порядку изложения.
Прот. Буткевич не держится ни логического, ни хронологического порядка.
Впрочем, указанные недочёты в самой схеме и построении, равным образом, как и в определении основных понятий темы, не лишают сочинение прот. Буткевича, богословского интереса и научной ценности.
Почтенный труд профессора протоиерея Буткевича должен иметь важное значение в нашем деле миссионерской полемики с религиозным разномыслием образованных со-вопросников нашего смутного в области веры времени.
Познакомившись с обзором религиозно-философских гипотез, современные мыслители поймут и убедятся, что они в их умствованиях повторяют заблуждения, память о которых прошла с шумом. От души желаем широкого распространения многополезному труду почтенного автора.
М. Леонович
Козицкий П. [Рец. на:]: Беседа о святом причащении (первая). Священник Пётр Злотников. Рига. 1901 г. in 8-ю; 80 стр.; ц. 35 к // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 528–529
Предлагаемая вниманию наших читателей брошюра священника. Петра Злотникова направлена в обличение старообрядцев-беспоповцев, лишённых святейшего таинства евхаристии, в продолжение более 200 лет, потерявших о нём правильное понятие, а вследствие этого небрегущих о таинстве св. причащения. Брошюра эта представляет для нас тем более интереса, что она вышла из-под пера бывшего старообрядца. Об этом автор так говорят? „Мы не чужие старообрядцам, а кость от костей, плоть от плоти их: наши деды и прадеды, до шести поколений, помним мы, были старообрядцы; сами мы блуждали, к несчастью, вне ограды церковной до 22 лет и поэтому во всяком старообрядце видимы прежде всего несчастного брата, блуждающего по стремнине вдали от отчего дома. Движимые проистекающей отсюда любовью, мы естественно желали бы от всей души принести им посильную· пользу“ (5 стр.). Как и следовало ожидать, автор – основательный знаток Священного Писания и святоотеческой литературы, обставляет свою беседу не только данными, заимствованными из этих источников, но и опирается также на старопечатные книги, уважаемые старообрядцами. Доказательства свои он группирует весьма умелой и опытной рукой: одни из них относятся к подтверждению истины, а другие в защиту её против неправомыслящих. Установив истинное понятие о таинстве вообще и о числе их, на основании Священного Писания и святоотеческой литературы, и подкрепив его выдержками из уважаемых старообрядцами книг, о. Злотников переходит к раскрытию учения о таинстве Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа и речь свою при этом ведёт применительно к воззрениям на данный предмет старообрядцев-беспоповцев. Указав, что в таинстве причащения, как и во всяком таинстве должны быть три стороны: вещество, форма и совершитель, он переходит к разрешению тех упований, кои приводят беспоповцы в оправдание отсутствия у них таинства причащения, а равно и своих воззрений на это таинство. Хлеб и вино (вещественная сторона таинства) должно понимать буквально, а не в переносном духовном смысле, как учат беспоповцы. Беспоповцы, лишившись законной иерархии, а вместе с тем лишившись возможности приобщаться Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа и входить с Ним в теснейшее единение, в успокоение своей совести немощной, начали учить, что: а) видимое причастье может быть заменено невидимым – духовным, так называемым огнепальным желанием, что b) ангел может причастить их чудесным образом, как это неоднократно причащались, отцы-пустынножители от ангельской руки и что с) хлеб и вода, которые едят и пьют за обедом они старообрядцы, составляет их причащение. Автор все эти старообрядческие изощрения опровергает в корне и неоспоримыми ссылками на Священное Писание, святоотеческую литературу и старопечатные книги, показывает всю их тщету и неосновательность, убеждая при этом старообрядцев со всяким тщанием и пастырской любовью оставить свои заблуждения! Последние страницы брошюры (70–80) написаны тепло и проникнуты любовью к заблуждающимся. Слово обличения, согретое любовью и проникнутое пастырскою ревностью о спасении погибающих и седящих во тьме и сени смертней старообрядцев, вылившееся из-под пера о. Злотникова, придаёт его брошюре особенную ценность. Поэтому мы можем рекомендовать её, как полезное и дельное пособие при собеседовании со старообрядцами-беспоповцами. Пожелаем, для пользы миссии, чтобы из-под опытного пера нашего автора вышло в возможной скорости ещё несколько бесед по пререкаемым с раскольниками вопросам!
Желающие выписать рекомендуемую брошюру благоволят адресоваться с требованиями к автору: С. Расколы, через Штокмансгоф, Лифляндской губ.
П. Козицкий
Козицкий П. [Рец. на:]: Беседа о св. кресте Господнем. Священник Пётр Злотников. Рига. 1901 г. in 8-ю, 62 стр // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 529–530
Беседа о кресте Господнем, принадлежащая перу священника П. Злотникова, как и выше рассмотренная нами его беседа о св. причащении, имеет в виду раскольников-старообрядцев, разнствующих даже в вопросе о почитании св. креста Господня с православной Церковью. Общеизвестен факт, что раскольники-старообрядцы чтут только восьмиконечный крест; формулу же четырёхконечного креста отвергают, называя его „разбойничьим“, „печатью антихриста“, „мерзостью запустения“, „кумиром“, „ветхозаветной сенью креста“. По их воззрению, четырёхконечный крест приличествует только на царских златницах, на священных облачениях, но ни в каком случае не может быть предметом поклонения во славу распятого Господа. Кроме этого они выдают за несомненную истину, что крест Христов был составлен из трёх дерев: кедра, кипариса и певга т. е. был тридревен. И все эти воззрения возводятся старообрядствующими раскольниками в догму!.. Наш автор историческим путём устанавливает, какой формы, т. е. о скольких концах был крест, на котором был распят Христос, и свои положения обосновывает свидетельствами, заимствованными из Священного Писания Нового Завета и из творений мужей апостольских, св. отцов и учителей Церкви, и подкрепляет историческими данными. Опровергая раскольнические заблуждения касательно святости только восьмиконечного креста Господня, он указывает также на ряд, противоречий, допускаемых самими старообрядцами: те же старообрядцы осеняют себя четырёхконечным крестом; таинства совершаются через осенение четырёхконечным крестом; наконец многочисленные чудеса, о которых свидетельствуют Пролог и Четьи-Минеи, совершены через осенение четырёхконечным крестом, – и всё это не свидетельствует ли о святости четырёхконечного креста (61 стр.), и не признают ли всё это практически сами старообрядцы? Не входя в подробное раскрытие всех данных, приводимых автором в доказательство святости четырёхконечного креста, мы скажем только, что рассматриваемая нами беседа; написана очень убедительно, назидательно и составлена в чрезвычайно примирительном тоне. О. Злотников, возгреваемый пастырски-миссионерской попечительностью о заблудших овцах, приглашает старообрядцев оставить пререкания о форме, числе и имени дерев св. креста и чтить один крест Христов, как орудие нашего спасения, и в заключение беседы молит Бога мира и Пастыреначальника нашего Господа Иисуса Христа, да просветит очи слепых духовно и устроит путь спасения их (62 стр.)! Отмеченные достоинства рассматриваемой нами беседы сами говорят о много полезности для миссионерствующей братии труда, нашего автора. К сожалению, мы не можем пройти молчанием того обстоятельства, что брошюра эта издана довольно небрежно, нередко попадаются опечатки и ошибки в цитатах.
П. Козицкий
Лисицын М., свящ. [Рец. на:]: Диакон Димитрий Георгиевский. Начальное наставление в Законе Божием. Москва. 1902 г. Стр. 272 // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 530–531
Данная книга даёт гораздо более, чем она обещает своим заглавием. Обыкновенно под „начальным“ наставлением в законо-учительской практике понимается сообщение кратких сведений о Боге, объяснение начальных молитв и сведений о важнейших событиях св. истории Ветхого и Нового Заветов. Автор поставил себе более подробную задачу. В беседах о Боге он останавливается над рассмотрением каждого из свойств Божьих в отдельности. В молитвах он не ограничивается объяснением отдельных выражений, как это делает большинство „начальных“ наставлений, но и говорит о молитве, о характере её, уясняет почему мы должны молиться, даёт перевод каждой молитвы по-русски, указывая на её назначение в ряду других молитв. Священные истории изложены языком простым, доступным пониманию и немудрых читателей. Некоторые пункты, как, напр., объяснение, что такое образ Божий в человеке и подобие Божие, изложены образцово. Хорошо также, что автор везде объясняет ветхозаветные прообразы в приложении к новозаветным лицам и событиям. Прекрасно также сделал автор, что выпустил историю царей после разделения царств, связав её отчасти с историей пророков, живших во дни того или другого царя. В прежних учебниках эта история излагалась самостоятельно, отчего приходилось повторять и излишне обременять память учащихся. Новозаветная история изложена не менее обстоятельно, причём история праздников сопровождается тропарями и их объяснением. Особенно хорошо автор изложил богослужение, где объяснён каждый малейший его штрих. Вообще же книжка о. диакона Георгиевского, заключая, кроме того, в себе обстоятельное объяснение Символа веры и заповедей Господних, вполне удовлетворяет не только «начальным» требованиям предмета Закона Божия, но даже объёму четырёх классов гимназии и реальных училищ. Она имеет в себе всё необходимое и существенное и опускает всё то, что признано при последней выработке программ Закона Божия менее важным (как, напр., отдельная история царей иудейских и израильских). Всё сказанное весьма рекомендует книжку о. Георгиевского и его самого, как опытного, педагога, стоящего на высоте требований современной методики Закона Божия.
Свящ. Μ. Лисицын
Миссионерский Вестник // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 532–544
Тридцатипятилетие служебной деятельности В. К. Саблера
19 сентября во всех учреждениях синодального ведомства совершены были благодарственные Господу Богу молебствия, по случаю исполнившегося в этот день 35-летия должностной служебной деятельности г. товарища обер-прокурора св. синода сенатора Владимира Карловича Саблера. Именитому юбиляру отправлены были в Рим, где в то время находился Владимир Карлович, приветственные телеграммы с выражением чувства глубокого уважения, и нелицемерной преданности сослуживцев и подчинённых досточтимого юбиляра, с пожеланием ему многих лет столь же многоплодного, бодрого и энергичного служения на пользу св. Церкви и отечества, каким ознаменовано истекшее 35-летие. Имя Владимира Карловича и заслуги церковно-государственной деятельности юбиляра слишком общеизвестны. Кто так или иначе сопричастен или хотя бы соприкасался с синодальным ведомством, тот знает редкую среди сановников, для всех равную чуткость, чисто христианскую отзывчивость к нуждам и просьбам каждого, от иерарха Церкви до послушника, от сановника до простолюдина... Кому неизвестны чарующая приветливость и доброта юбиляра, так окрыляющие духом веры и надежды изнемогающих среди столичных канцелярских лабиринтов в поисках добра и правды, мощного заступления и утешения! А как близки сердцу Владимира Карловича интересы и нужды миссии и её скромных деятелей – это хорошо известно миссионерствующей братии из того живого участия, какое юбиляр принимал во всех всероссийских съездах миссионерских.
Сообщаем краткие биографические сведения о жизнедеятельности юбиляра и его портрет.
Сенатор, тайный советник, Владимир Карлович Саблер происходит из дворян Тульской губернии, родился в Москве в 1840 году. Высшее образование получил в Императорском московском университете по юридическому факультету, который и окончил в 1867 году; 19 сентября был зачислен на государственную службу и оставлен при вышепоименованном университете для дальнейшего научного усовершенствования. В 1870 г. В. К. был командирован за границу с учёной целью и, по возвращении обратно, защитил диссертацию на степень магистра уголовного права на тему: „О значении давности в уголовном праве“, а в следующем году занял должность доцента по кафедре уголовного судоустройства и судопроизводства.
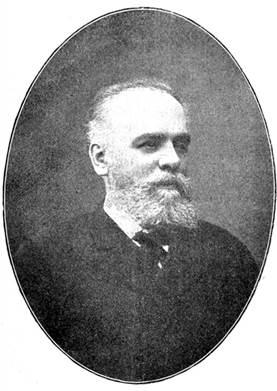
Сенатор В.К. Саблер.
В 1873 г. В. К. оставил московский университет и перешёл в ведомство министерства юстиции. В 1875 г. был пожалован званием камер-юнкера Высочайшего Двора, и с 1875 по 1880 гг. В. К. состоял при Августейшей особе её Императорского Высочества Великой Княгине Екатерине Михайловне. В 1881 г. юбиляр определяется на службу в св. синоде, где занимает должность юрисконсульта при обер-прокуроре и в 1883 г. получает назначение на должность управляющего канцелярией св. синода. В этот же период времени В. К. состоял представителем от духовного ведомства в учреждённой при министерстве внутренних дел комиссии для пересмотра устава о предупреждении и пресечении преступлений. С 1885 года В. К. состоял помощником председателя совета для заведывания церковно-приходскими школами при св. синоде. В 1890 г. юбиляр произведён в тайные советники и в 1892 г. Высочайше назначен на занимаемый им пост товарища обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода. В 1896 г. В. К. Высочайше повелено присутствовать в Правительствующем Сенате. Кроме того, юбиляр состоит почётным членом духовных академий, многих благотворительных и просветительных обществ. В. К. имеет все ордена до Александра Невского включительно. В юбилейный день на имя В. К. прислано в его квартиру много поздравительных телеграмм и писем. Многие высокопоставленные лица заезжали лично к юбиляру на квартиру и оставляли свои визитные карточки.
* * *
Донской миссионерский съезд
9 сентября в г. Новочеркасске архиепископом Афанасием торжественно был открыт епархиальный миссионерский съезд. Накануне городское духовенство и ревнители православия печатными объявлениями, расклеенными на папертях местных храмов, к 9 ч. были приглашены в собор на молебен, а в 11 ч. в залу семинарии на торжественное собрание съезда. В этом же объявлении были опубликованы вопросы, подлежащие обсуждению съезда. Молебен совершал сам архиепископ с сонмом священнослужителей, при участии значительного числа молящихся мирян разных сословий и положений.
Торжественное собрание в зале семинарии посетили наказной и окружной атаманы, генералитет, а равно и представители других ведомств. Тут же были командированный на съезд г. обер-прокурором св. синода чиновник особых поручений, редактор нашего журнала, В. Μ. Скворцов, старший секретарь канцелярии св. синода Π. В. Мудролюбов, ревизовавший местную консисторию, епархиальные миссионеры: Ставропольский – священник В. Никольский, Екатеринославский – И. Г. Айвазов, священник о. С. Шалкинский, прот. К. Молчанов. Нельзя не пожалеть, что миссионеры других епархий – Киевской, Харьковской, Одесской, по разным, независящим от их усердия, обстоятельствам, не могли воспользоваться благим призывом Донской миссии братски разделить труды съезда и попечаловаться об общих нуждах и скорбях.
После пения молитвы архипастырь объявил съезд открытым и, призвав благословение на труды его, поручил о. ректору семинарии, прот. Симашкевичу, прочитать речь Его Высокопреосвященства, посвящённую обозрению действующих церковно-миссионерских средств и мер борьбы с местным расколом и сектами. С содержанием речи маститого архипастыря мы надеемся познакомить читателей при описании деяний съезда. Вслед затем на кафедру вошёл В. Μ. Скворцов и обратился к собранию с речью, в которой охарактеризовал успехи, достигнутые внутренней миссией православной русской Церкви при посредстве миссионерских съездов за последнее 10-летие. После него сказал речь почтенный епархиальный миссионер прот. Н. Кутепов о тех необходимых в деле пастырской миссии условиях, при которых возможна успешная борьба е расколом: преподаватель семинарии по кафедре раскола и сект свящ. о. Е. Овсянников представил вниманию собрания очерк истории Донского раскола.
По предложению архипастыря, съезд избрал своим председателем о. ректора семинарии, а товарищем председателя – Ставропольского миссионера о. Никольского, а также двух делопроизводителей.
Заседания съезда происходили в той же семинарской зале ежедневно два раза, – утром с 10–2 ч., вечером с 6–10 ч. Кроме депутатов оо. благочинных и священников приходов, заражённых расколо-сектантством, в том числе было 23 единоверческих священника; заседания съезда посещали и миряне. Нелишне заметить, что местная печать, заявлявшая себя и ранее тенденциозным отношением к миссии и расколо-сектантским вопросам, обошла съезд, несмотря на его огромное церковно-общественное значение, полным молчанием.
Закончились совещания съезда 13 сентября совершением панихиды по усопшим деятелям миссии и молебным пением. Перед закрытием съезда архиепископ Афанасий обратился к духовенству с речью, в которой охарактеризовал значение церковной школы в деле миссии и истового церковного богослужения, при этом архипастырь выразил живую радость по поводу успеха любимого им школьного дела в епархии.
В. Μ. Скворцов, отвечая на обращённые к нему владыкой слова благодарности за понесённые труды, остановился на вопросе о важном значении миссии среди других пастырских обязанностей и выразил надежду, что съезд положит начало процветанию собственно пастырской миссии в донской епархии, которая под мудрым и твёрдым управлением архипастыря, столь попечительного о духовном просвещении паствы своей, также будет процветать, как процвело церковно-школьное дело.
* * *
Миссионерские съезды в гг. Перми и Одессе. С 20-го по 26-е августа в городе Перми происходил миссионерский съезд. На открытии съезда в здании пермской духовной семинарии присутствовал преосвященный Иоанн, епископ пермский, который, по совершении молитвы, пропетой всеми участниками съезда, сказал последним несколько приветственных слов и пожелал им успехов в предстоящих занятиях. Предметы занятий настоящего съезда, состояли по преимуществу в ознакомлении членов его – миссионеров с рациональными способами и приёмами ведения прений с раскольниками по разным вопросам, а также с известными местами из творений святых отцов и из современных произведений духовных и светских писателей, на которых современные апологеты раскола основывают защиту своего отпадения от господствующей православной Церкви и уклонения от общения с нею. Поэтому настоящий съезд носил характер по преимуществу миссионерских курсов. Были ведены на съезде и примерные прения между оо. миссионерами, изображавшими две стороны – православных и раскольнических апологетов. В этих прениях и беседах принимал участие и преосвященный владыка, пожелавший посещать съезд ежедневно и каждый раз присутствовавший на нём более или менее продолжительное время. Миссионер сотрудник при братстве святого Стефана А. А. Кычигин читал на съезде обширный реферат о современных религиозно-нравственных недугах нашего общества, об отношении к ним противо-раскольнической миссии и о мерах борьбы с современным неверием. На 23-е августа, день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы, все члены съезда, по приглашению владыки Иоанна, присутствовали накануне вечером за вечерним богослужением в Крестовой церкви, а на другой день (23-го), все участвовали с его преосвященством в служении божественной литургии в кафедральном соборе. Съезд закрыт был 26-го августа.
* * *
– Съезд миссионеров состоялся также и в Одессе с 23-го по 25-е сентября. На съезд должны прибыть все окружные и благочиннические миссионеры епархии. – Были вновь рассмотрены и подвергнуты живому обсуждению все, прежде выработанные, планы и методы ведения бесед с сектантами, причём проверка пригодности этих планов была произведена путём примерных бесед миссионеров по тому или иному вопросу веры, отвергаемому или искажаемому сектантами, а также и посредством бесед с сектантами гор. Одессы. Затем, съезд миссионеров занимался выработкой новых планов и методов бесед: с штундистами – о таинстве покаяния и с хлыстами – о таинстве брака. Далее был обсуждён вопрос об открытии и устройстве в епархии окружных противо-сектантских библиотек и, где возможно, миссионерских читален для интеллигентного и простого народа.
* * *
Нижегородский всероссийский, съезд старообрядцев главарей раскольничьей австрийской секты. В августе месяце 4 числа сего 1902 года в Нижнем Новгороде происходил всероссийский съезд старообрядческих попечителей австрийского толка.
Съезд этот происходил в доме Веры Михайловны Сироткиной, близ церкви Великомуч. Георгия. На съезде этом старообрядческие попечители постановили следующее:
1) чтобы неотменно каждый год в Нижнем был всероссийский съезд попечителей и непременно во время ярмарки, дабы тем отклонить всякого рода подозрения со стороны правительства великороссийского, которое может им в другое время воспрепятствовать. При этом заседатели съезда выразили желание, чтобы на этих съездах попечителей не присутствовали духовные лица старообрядческие, а потому и приехавшие в Нижний два их епископа Арсений Швецов и Антоний Пермский на собраниях не присутствовали.
2) Съезд постановил устроить в Петербурге „бюро” которое должно собирать разные газеты и вообще всю печатную литературу великороссийской Церкви. Заведывание этим делом поручено Феодору Ефимовичу Мельникову. Всё, что найдётся в газетах, или вообще в текущей литературе в пользу австрийских, скупать эти номера и рассылать всем представителям австрийской секты и её духовенству.
3) Когда попечители возвратятся со съезда домой, то они должны объявить в своих краях и поискать таких людей, кои бы могли написать полемическое и апологетическое сочинения против великороссийских и против беспоповцев; а кто составит какое-либо подобное сочинение, пусть посылает его в цензуру тому же Фёдору Ефимовичу Мельникову; за составление книг этих собор попечителей назначил хорошую плату.
4) Так как в моленные австрийцев много ходит из великороссийских и беспоповцев, то положено озаботиться об улучшении церковного пения, дабы этим более привлечь в лоно секты неофитов.
5) Нанять адвоката, который бы защищал в судах процессы австрийцев и ходатайствовал перед всероссийским правительством по всем их делам.
6) Рассуждали на съезде, как австрийцам себя именовать, чтобы отличить себя от великороссийских и от беспоповцев, ибо если называть себя православными, то их могут смешать с великороссийскими, а если называть старообрядцами, то это не отличает их от беспоповцев, а потому и решили именовать себя – православные старообрядцы.
7) Так как многие старообрядцы не могут приобрести для чтения Нового Завета, Апостола и Библии, по дороговизне этих книг, то решили просить правительство дозволить им самим издать эти книги; если же правительство не дозволит издать этих книг, то постановили во что бы то ни стало издать эти книги тайно или в России, или за границей, хотя бы и при посредстве какого-либо еврея, не жалея средств.
8) Избрать и подготовить людей, кои бы могли вести беседы с никонианами и беспоповцами и обеспечить их хорошим содержанием так, чтобы они могли ездить по всей России и распространять древлее благочестие.
9) Принять все меры к тому, чтобы исходатайствовать разрешение на открытие своего училища, в котором бы можно было обучать детей по старопечатным книгам, и своему Закону Божию, а также (негласно) и миссионерству, дабы приготовлялись в этой школе защитники старообрядчества. Поставить в такие школы таких учителей по миссионерству, как Фёдор Ефимович Мельников, или Иван Григорьевич Усов и подобные им апологеты.
Председателем съезда попечитетелей был Михаил Иванович Бриллиантов, московский фабрикант; секретарём Фёдор Ефимович Мельников, а делопроизводителем Димитрий Васильевич Сироткин, сын хозяйки дома.
Посетитель
* * *
Из жизни казанских миссионерских курсов. „Казанский Телеграф“ сообщает сколько отрадный, столько же и редкий в жизни современной православной миссии факт крупной жертвы на нужды миссионерского дела. Во исполнение духовного завещания умершей 25 апреля с. г. Марии Феодоровны Ушаковой, её душеприказчиком Л.В. Голубевым передана совету попечительства святит. Варсонофия квитанция каз. отд. госуд. банка на вечный вклад в 6650 руб., завещанный покойной на помощь беднейшим слушателям курсов. Благодаря этому крупному пожертвованию, попечительство теперь будет в состоянии удовлетворить хотя самые неотложные нужды учащихся на курсах. Что касается учившихся, получающих миссионерские назначения, иногда чрезвычайно скромно вознаграждающие их труд, то помощь им со стороны попечительства и теперь может быть чрезвычайно незначительна, – она по-прежнему может состоять лишь в высылке, когда и куда нужно, богослужебных и других книг, церковного облачения и т. п. Но во всяком случае, благодаря сочувствию общества к курсам, совет попечительства святит. Варсонофия в настоящее время располагает уже за два года существования капиталом в сумме свыше десяти тысяч. Разумеется, помимо филантропии, от этого может выиграть и чисто миссионерское дело, которому в лице слушателей курсов (настоящих и бывших) служит попечительство; число же желающих поступить на курсы из года в год быстро увеличивается, равно как увеличивается и число окончивших курс священников (до 80 проц. из поступающих на эти двухгодичные курсы становятся в первый же год по выходе с курсов священнослужителями). Впрочем, нужно заметить, что в настоящее время остаётся непреодолимым препятствием к расширению деятельности курсов отсутствие приспособленного для них помещения, потому что общежитие курсов в настоящее время не имеет возможности вместить более 25 человек, число же слушателей курсов доходит до шестидесяти, из которых большинство ютятся или в неудобных частных квартирах, или в не менее неудобных монастырских кельях, что крайне мешает занятиям (они помещаются в Спасском монастыре).
* * *
Нам пишут.
Из Вятки. (Заботы епархиального съезда о нуждах миссии). В г. Вятке в августе месяце сего года состоялся епархиальный съезд духовенства. Съезд этот по справедливости может быть назван миссионерским, как по составу депутатов, так и по характеру совещаний. Во-первых, в числе участников съезда было несколько уездных миссионеров и помощников их; во-вторых, обсуждались чисто миссионерские вопросы, именно: о лучшей и целесообразной постановке миссионерского дела в епархии и не только по отношению к раскольникам и сектантам, но и к инородцам, которых в Вятской епархии насчитывается до 600 тыс. человек.
Съезд ассигновал из средств епархии 8,400 р. ежегодно на жалованье уездным противо-раскольническим миссионерам, которых епархиальное начальство определила ныне поставить в лучшие условия. Оно освободило их от обязанностей приходского священника и сделало бесприходными, с назначением им жалованья в размере 1,200 р. в год каждому, дабы они всецело были заняты делами миссии. Всех бесприходных противо-раскольнических миссионеров с таковым жалованьем в Вятской епархии будет семь лиц, из них два в Сарапульском, викариатстве. Одно только беспокоит Вятских миссионеров: будет ли дано им право на получение пенсии.
Благодаря заботливости епархиального начальства, ныне материальное положение и епархиального противо-раскольнического миссионера улучшено. С 1903 г. он будет получать жалованье 1,800 р., вместо прежних 1,500 руб.
В целях лучшей постановки инородческой миссии, епархиальный съезд признал нужным иметь в епархии, кроме и. д. епархиального миссионера из вотяков, крестьянина Кузьмы Андреева, знающего вотский, черемиский и татарский языки, ещё епархиального инородческого миссионера с высшим образованием, или по крайней мере не ниже среднего образования, и на содержание его назначил из средств епархии, кроме прогонных 1,500 р. и на канцелярию его около 200 р.
Затем, чтобы в инородческих приходах иметь священников, знающих инородческие языки и знакомых с бытом инородцев, епархиальный съезд постановил учредить в г. Вятке постоянные инородческие миссионерские курсы для подготовления самих инородцев к священническому служению в инородческих приходах. Обратил епархиальный съезд своё внимание и на школы инородческие, содержимые вятским комитетом миссионерского общества. Духовенство постановило на этом съезде своими обязательными пожертвованиями помогать этому комитету в содержании миссионерских инородческих школ и в открытии новых таких школ.
В просветительных же целях епархиальный съезд постановил на собственные средства епархиального духовенства устроить в г. Вятке епархиальный дом, в котором будет помещаться епархиальная библиотека, читальня, будет устроен громадный зал для религиозно-нравственных чтений, собеседований с раскольниками и т. п. Устройство этого епархиального дома вызвано благодарными и верноподданническими чувствами вятского епархиального духовенства к своему Батюшке Царю за дарование им милости духовенству, выраженной в издании нового закона о пенсии.
Радетели миссионерского и вообще просветительного дела не могут не порадоваться таким явлениям в жизни вятского епархиального духовенства. Не могут они не порадоваться, что такие предприятия духовенства родились под влиянием мудрого нашего архипастыря, преосвященного Никона, верно понимающего нужды миссии и глубоко сочувствующего ей. Посему и я не мог не поделиться с вами, глубокоуважаемый Василий Михайлович, изложенными мной миссионерскими новостями.
* * *
Из Царицына. (Секта «еноховцев»). В конце августа в Царицыне, в магазин бр. Рыситых, вошло, по словам „Царицынского Вестника“, несколько вожаков новой, недавно народившейся секты еноховцев. Производя впечатление совершенно здравомыслящих людей, они уверяли, что наступает конец мира и главным признаком считают все научные изобретения нового времени, как-то: железные дороги, телеграф, телефон, а в каждом граммофоне сидит по нескольку бесенят, со старшим чортом во главе. Вообще, чертей теперь расплодилось на земле видимо-невидимо, и главный их признак – это перчатки, под которыми они скрывают свои когти. Конец мира так близок, что уже начинают падать звёзды с неба, в чём каждый и может убедиться лично, проведя ночь под открытым небом; в иную ночь их сваливается больше десятка. Пророк Илия, взятый живым на небо после пророка Еноха, уже давно появился на земле, и проживает на Балтийском море, на острове Котлине, в образе Иоанна Кронштадтского. По всему земному шару рассыпаны агенты антихриста, которые под разными предлогами прикладывают печать к людям и имуществу, и печати эти на людей они прикладывают не к телу, а к бумаге, которую заклеймённый должен иметь всегда при себе. Сатанинская бумага эта называется у нас паспортом. Пророк Енох тоже находится где-то на земле, но ещё не объявился: не пришло его время. А как только объявится, тут уже и миру конец, и нам всем крышка. До конца мира осталось, по их мнению, не более двух лет.
Дикая секта эта появилась назад тому лет 6–7 в сёлах: Погромном, Царевского уезда. Ягодной, Таловке, Царицынского уезда.
* * *
Из Васильков. у. Киев. губ. ст. Фастов. (Подвиги малеванцев). По возвращении из Сум в своё село Мало-Половецкое с судебного процесса по делу о Павловских сектантах, разгромивших церковь, куда я вызывался в качестве свидетеля, для успокоения большого возбуждения в православной и сектантской среде моего прихода, с нетерпением ожидал хотя газетных сообщений о результатах Павловского дела. Страшно это дело и само по себе, и ещё потому, что подобное могло повториться и у нас, в случае безнаказанности павловцев. Ведь Тодосиенко уже врывался в церковь с. Яхны ранее своих павловских похождений. Получивши, наконец, приговор Харьковской судебной палаты, я вставил его в имеющиеся у меня витрины для бесплатной передвижной читальни. И что же? Сектанты в обеление своих единоверцев придумали было такой изворот, что Тодосиенко начальством послан проповедовать слово спасения в разные другие страны, и что я поехал в Киев и там подкупил, кого следовало, и благодаря такому неблаговидному моему поступку появилось в газетах такое неправильное и не внушающее доверия сообщение. Но этому мало кто поверил, православные были удовлетворены, вздохнулось свободнее. Возбуждение в малеванской среде было сильное и трудно было ему сразу успокоиться, да и вообще малеванщина уже почти 3-й год кипит и волнуется; появилось даже в среде малеванцев разделение на более спокойных и ушедших в своём религиозном заблуждении далеко вперёд, причём у этих вторых религиозные верования отошли далеко куда-то и заменились разными коммунистическими бреднями. Вообще эта вторая часть малеванцев составляет крайне опасный элемент, готовый на всё и ничем не дорожащий. Доказательств этого есть много, но разительнее всего следующий факт. Два самых завзятых и более выдающихся своей и дерзостью и предприимчивостью сектанта – Даниил Ш-га и Михаил К-ко недели 2 тому назад, бросивши своих детей и не молодых уже своих жён, забравши паспорта, продавши посевы и захвативши 2 молоденьких и пригожих сектанток Ирину К-ову, бывшую 10 лет тому назад на увещании в Флоровском монастыре, и Ирину Р-ову вместо своих жён, улетучились неизвестно куда из села. До чего извратила ересь природу человеческую, тяжело и подумать; уничтожен тот даже сильный у животных, материнский инстинкт, по которому мать за здоровье и счастье деток своих готова на всевозможные бедствия и мучения; между тем эти женщины покинули дома одна 5, а другая 3 детей без всякого сожаления. Но, говорят, нет такого зла, от которого не произошло бы и чего-нибудь доброго. Сами сектанты содрогнулись от такого бесчеловечия. Но об этом до другого раза.
Священник Димитрий Топачевский
* * *
К вопросу о материальной помощи новообращённым в лоно св. Церкви. – Одним из весьма неблагоприятных обстоятельств к обращению из сектантства в православие лиц женского пола, по преимуществу девиц, является невозможность для них, по крайней мере, в первое время по обращении, найти надёжный приют и средства к пропитанию, а также защиту от бывших единоверцев-сектантов, относящихся к обращающимся в православие с величайшей ненавистью и употребляющих и тайные и явные меры к систематическому и жестокому их преследованию или посредством распространения ложной неодобрительной молвы относительно их поведения, или посредством лишения интригами мест и заработков, или всевозможного рода глумлений, оскорблений и т. п. В особенности тяжело бывает положение бедных и сирот, питающихся исключительно заработками в чужих людях: они буквально из-за одного этого на всю жизнь остаются сектантами. В виду этого преосвященный Благовещенской епархии пришёл к мысли о необходимости в г. Благовещенске, – центре ярого сектантства, основать с миссионерскою целью женскую общину с уставом иноческого общежития, в которой, помимо ищущих высшего духовного жития женщин, все, желающие присоединиться к Церкви, девицы и женщины находили бы надёжный и спокойный приют, необходимое научение в истинах веры и благочестия, благочестивые упражнения и приличный, доступный силам и уменью труд, обеспечивающий безбедное пропитание. В этой же общине мог бы быть основан и воспитательный приют для девочек, остающихся сиротами после смерти православных родителей, а равно и круглых сектантских сирот, не имеющих близких родственников, и не редко попадающих теперь на воспитание в семьи сектантов, которые этим способом стараются отторгать их от Церкви. („Благовещ. еп. Вед.“).
* * *
Миссионерское крестное шествие. По воле в Бозе почившего преосвященнейшего Петра, епископа Пермского и Соликамского, бывшим епархиальным миссионером протоиереем Ст. Луканиным в мае месяце позапрошлого года с разрешения свят. синода совершено крестное шествие на расстоянии 349 вёрст; потрудились: епархиальный миссионер с 5-ю уездными священниками миссионерами. Служились всюду молебствия, часто оо. миссионерами ведены были миссионерские беседы со старообрядцами при массе слушателей. Результаты всех бывших миссионерских бесед весьма плодотворны, для православных убедительны, а для старообрядцев строго обличительны.
* * *
Раскольничья «Замориловка». В июне текущего года в приходе села Великоречья, Вятской губернии, случайно найдена в землянке едва живой женщина-старушка Александра Савельева Клюева, мать местного вожака раскола, Ф. А. Клюева, куда отправилась она из желания получше попоститься. Землянка, по местному названию «замориловка», уже много лет служит удобным приютом для раскольников, ищущих уединения и получше попоститься, а для некоторых и холодной могилой голодной смерти. Местоположение «замориловки» находится в 1½ верстах от деревни Павловой, центра местного раскола, в овраге под корнями большой ели. Под одним из спустившихся сучков едва заметно искусно устроенное входное отверстие; изнутри видно отверстие вверх, весьма искусно прикрытое корнями дерева; помещение рассчитано не более как на троих. Проходя мимо, весьма трудно предположить здесь существование человеческого жилья. Между тем, случаи исчезновения из уклонившихся в раскол здесь явление не новое. У самого расколоучителя Ф. А. Клюева в 1892 г. исчезло 4 детей, от 8 до 20 лет, а в 1900 г. остававшиеся при нём дочь и жена.
N
* * *
Публичн. лекция о Ницше и христианстве в Казани.
Должен оговориться, что у о. Петрова я не видал ничего похожего на взгляды его толкователей.
См. Мисс. Обозр. 1902 г. июль–август, стр. 44–65.
Μф.23:3.
Das Wesen d. Christen tums; s. 69–70. Leipzig, 1900.
Стр. 125.
Духовн. основы жизни. 3 изд. СПб. 1897 г. стр. 163–164.
Там же и Еф.6:5–8; Кол.3:22–23; 1Тим2:1–2,6:1–2; Тит.2:9–10; 1Пет.2:13–17.
Деян.8:27–39,10:1–2,22,13:7,12; Рим.12:4–8; 1Кор.7:20–24; Еф.6:5–9; Деян.16:37,22:25,23:16–22,24:10–21,25:8–11,26:2,23–29.
Стр. 85–86.
Соч. древн. христианских апологетов. Русс. перев. Н. Преображенский, Москва, 1867, стр. 15–16; 68, 122; 179, 243, 296–297; 354.
В назв. соч. стр. 179.
Там же, стр. 68.
Das Wesen d. Christen tums, s. 67.
Эта теория в учении немецких богословов и политиков излагается подробно в кн. Μ. А. Рейснера: „Христианское государство“. Томск. 1899.
Проф. Μ. А. Рейснер, назв. соч. стр. 89.
Mф. XXIV.
«Киев. Епар. Вед.»
Доклад Калужскому миссионерскому съезду.
Тогда, 8½ лет тому назад, в моем приходе было только 3 школы, из них две земские, с 180 учащимися из раскольников. Надо было открывать новые школы и строить для них здания. Раскольники, услышав название „церковная школа“, не давали сначала не только денег, но даже и земли. Пришлось несколько раз убеждать их на сходах, просить содействия властей, пока, наконец, они подписали приговор на землю. Ещё больше было трудов по изысканию средств на постройку. Епархиальный Училищный Совет не обладает для этого достаточными средствами и может отпускать только пособия, братство св. ап. Иоанна Богослова тоже не из богатых и могло отпустить только 200 руб. Но с Божьей помощью были всё-таки выстроены три новых здания, и куплено четвёртое, так что в настоящее время в моём приходе 7 школ с 600 учащимися, из которых около 400 детей раскольников. Но из этих семи школ две школы земских и две школы грамоты, хотя в каждой из них более 40 человек учащихся. В двух церковно-приходских школах всё обучение ведётся одними учительницами, мало знакомыми с расколом и задачами православной миссии. Поэтому, ещё два года назад, мы возбуждали ходатайство об открытии при нашем приходе третьего священнического места с усиленным содержанием для того, чтобы на это место был приискан достойный кандидат для преподавания Закона Божия в школах с раскольниками. До сих пор это ходатайство остаётся без ответа.
Эта мысль нашла уже себе признание в учреждении Боровской второклассной женской школы. Тоже предстоит сделать и в моём приходе, втором после Боровска центре раскола. В настоящее время крестьяне деревни Дворца дали, наконец, надлежащий приговор об отводе земли под двухклассную женскую церковь-школу. О средствах на устройство этой школы заботится наш преосвященнейший Вениамин, так что есть надежда на скорое её осуществление. Выше уже говорилось о благотворном влиянии посещения школьниками богослужения. Теперь могу только прибавить, что трудно будет привлечь детей раскольников деревни Дворца ходить в Тихоновский храм; если же храм будет в самом Дворце, то не только дети, но и многие из родителей их охотно будут посещать его, а таким путём придут и к соединению с православной Церковью.
См. „Мисс. Обозр.”, 1902 г. май, стр. 871.
Как известно, до назначения на Босно-Сараевскую кафедру митр. Амвросий занимал именно эту должность при патриархе.
См. „Миссион. Обозр.“ 1902 г., сентябрь, стр. 303–306.
По кассационному разъяснению Сената, для возбуждения дел по означенной статье требуется указание наличных фактов изуверства или противо-нравственных гнусных деяний. (См. в Журн. Мин. Юстиции, 1896 г., янв., решение по делу Тарусских хлыстов).
Термин этот неправильный, ибо персты и их сложение к предметам веры не относятся, но он очень часто употребляется как-то бессознательно.
Последнее наглядно показывают и старообрядцы при единстве содержания обряда, расколовшиеся на многие толки.
В некоторых единоверческих церквах особенное гонение на женские шляпы, которые требуют непременно снимать, а голову покрывать платком.
Диакон Федор. Матер. для ист. раск. т. VI, стр. 159.
В настоящее время состоит на службе в Благовещенской епархии.
Отч. Сарап. Братства за 1894–1895 гг., стр. 57 и 70.
Вятск. епарх. Вед. № 7-й.
Ныне экзарх Грузии.
См. брошюру его «Сибирские скопцы», стр. 17.
Там же, стр. 17.
Там-же, стр. 48.
См. главу I о классических гипотезах древле-греческих мыслителей о сущности и происхождении религии, куда относятся политико-государственная гипотеза, гипотеза Эвгемера и гипотеза договора или соглашения, главу II, посвящённую натуралистической гипотезе, главу V, содержащую обстоятельный разбор анимистической гипотезы, гл. VI, где рассматривается гипотеза традиционализма, главу X, критикующую учение Якоби о религии. На ряду с этим здесь подвергаются критике гипотеза Каспари, эволюционалистического характера (глава IV), учение Спинозы о религии (гл. VII), суждения Лессинга и Канта о том же предмете (гл. VIII), учение У. Фихте (гл. IX) и взгляд Гёте на религию и её сущность (Гл. XI).
