Июль-Август
Хилков Д. А., кн. Письма князя Дмитрия Александровича Хилкова к Н. В. Ковалёву. (С портретом Д. А. Хилкова) / Сообщил М. А. Новосёлов // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 7/8. С. 379–416 (1-я пагин.). (Продолжение.)1130
—378—

Князь Дмитрий Александрович Хилков
—379—
XI.
23 июня 1912 г.
Дорогой Николай Васильевич, страшно мне досадно, что так долго не писал Вам. Бывают же такие полосы: не пишется, да и баста. И чем досаднее это, тем более не пишется!
Вот уже третья неделя, у нас дожди и холода. Для пчел скверно, а для сена еще хуже. А барометр как будто смеется: два градуса вверх, два градуса вниз! Так уже три недели. Вчера было „просто холодно“, т. к. дул сильный северный ветер. А мед у пчел убывает вместо того, чтобы прибавляться.
25 июня. Случился „перерыв“, и два дня времени не было дописать.
Погода у нас все то же – пасмурная, дождливая, холодная.
Насчет того, что́ Вы пишете о пьянстве, уходе из казарм и т. п., то, из моего опыта и моих наблюдений, корень всего дела военного, в смысле дисциплины и правильного отношения к делу, заключается в том, верно ли начальством задается тон. От этого зависит все.
Обыкновенно принято легко и легкомысленно относиться к делу. Трудности службы затушевываются: делается вид, что все и „очень легко и приятно“. Масса чувствует в
—380—
этом „фальшь“, и в блужданиях своих, в тоске и беспокойстве нарушает постановления. Это нарушение как бы „предохранительный клапан“. – Тогда человек чувствует „себя“, как он есть. Наказания в таком состоянии страшить не могут. Ибо, как это ни странно, но именно в этих нарушениях и есть залог, что масса, „с военной точки зрения, что-нибудь да стоит“.
Эта путаница и противоречие от того, что тон задан неверно.
Выходит, что, когда человек не придерживается этого неверного тона, он может нечаянно напасть на верный.
В чем же неверность тона?
Неверность в том, что вышестоящие говорят, что военная служба „приятна, легка и одно удовольствие“. Это неправда.
Она тяжела и трудна для массы. Это и надо говорить и прибавить: но, несмотря на ее трудность, мы одолеем эти трудности, перенесем эти лишения, пожертвуем, наконец, собой ради Веры, Царя и Отечества. И начальству следует возможно больше разделять с массой эти трудности.
Поверьте, что в такой войсковой части никакого пьянства и отлынивания не будет.
Потом не надо театральности. Животные и массы не ловятся на нее.
Я знал командиров полков, которые шли пешком на походе. К чему? У командира другое дело. Ему нужно быть сильным не в ногах, а в голове и духе. Выл французский полководец Тюрен. Перед большой битвой он, выйдя из палатки, „дрожал от страха“. Он не стал этого скрывать, а, садясь на лошадь, обратился к своему дрожащему телу и сказал: „Презренная падаль, если бы ты знала, куда я тебя сегодня поведу, ты бы еще и не так дрожала“.
Все дело в правде. Рисовкой или скрыванием на массы действовать нельзя.
Принесли Ваше письмо от 19-го числа.
Поздравляю Вас с успехами по стрельбе.
Это последнее время мне очень нездоровится. Вероятно, от погоды. „Морской Волк“ – Лондона читал. Это произведение мне нравится меньше других. Последнее его сочинение
—381—
„Ясное Солнышко“ мне больше нравится. Недавно читал Синклера – „Деньги“. Интересная книга.
До свидания. Пишите чаще. Мне всегда интересно получать и читать Ваши письма. Только не сердитесь, если я не всегда аккуратно отвечаю.
Жму Вашу руку.
Д. X.
XII.
5 июля 1912 года
Дорогой Николай Васильевич, получил Ваше письмо с описанием инцидента с унтер-офицером. Мне кажется, что Вы были неправы тем, что поступили опрометчиво. Я объясняю это себе тем, что Вы не воспитывались в военном учебном заведении, и потому многое проходит без остановки „задерживающие центры“.
Вследствие этого Вам, например, должно казаться, что военная служба и обстановка стесняет, лишает свободы и т. п. А между тем, я знаю, что нет большей свободы и простора для личности, как именно на военной службе.
И это по той простой причине, что на военной службе во 1) все ясно и просто, а во 2) все определенно. Правда, есть рамки (но где их в мире нет?), но в этих рамках Вы свободны.
Ни на какой другой службе этого нет. Везде произвол. Везде „залезают“ в Вашу рамку. Все дело, значит, в том, чтобы держаться в пределах своей рамки.
При этом теоретически „рамки“ раздвигаются до бесконечности. Ибо „у каждого солдата в ранце фельдмаршальский жезл“, – как говорил один знаменитый воин. И вот, делать замечание на слова унтер-офицера, несомненно, значит выйти из рамки.
Водить дружбу с унтер-офицером есть несомненный выход из рамки. А потому до добра довести не может. Насчет Вашего унтер-офицера скажу, что, с военной точки зрения, его проступок, конечно, больше Вашего, и что вообще он в унтер-офицеры совсем не годится. Но дело в том, что при нынешнем способе комплектования унтер-офицерского кадра очень трудно иметь унтер-офицерами „военные типы“. Больше попадают в унтер-офицеры
—382—
типы „приказчиков“, надсмотрщиков и т. п. „Штатские типы“.
Военный тип совсем другой. По-моему, он выше. Выше в смысле „жизненней“. Ближе к жизни. Конечно, предполагая или думая, как я это думаю, что жизнь есть борьба. И поскольку человек думает, что жизнь „борьба“, постольку же он должен „военное“ дело ставить выше других дел. И поскольку человек понимает всю суровость законов жизни, поскольку человек видит и ощущает те рамки, в которые существа поставлены жизнью, постольку же он не может отрицать – не отрицая жизни – и тех рамок, в которые поставлен „всякий и каждый чин“ на военной службе.
Я получил Ваше письмо, в котором Вы пишете о Вашей жене; исполню с удовольствием, но не знаю ее подробного адреса.
Посылаю Вам выдержку из соч. Л. Н. Толстого. Мне думается, что, когда он это писал, то был недалек от жизни и понимания жизни.
Вот уже 3 дня, как качаем мед. Меду довольно много. Если взяток продлится, то будет совсем хорошо.
Всего хорошего. Крепко жму Вашу руку.
Д. X.
XIII.
1 Августа 1912 года
Дорогой Николай Васильевич, получил Ваше письма от 27 июля, а перед тем – письмо от 12 июля. Довольно совестно, что не ответил на него, но все мешало то – то, то – се. Ваша жена заходила с сестрами Вашими. Я сказал ей о Вашей просьбе и передал ей 25 р., так что теперь пока, вероятно, обойдется. Погода у нас очень плохая. Последнее время дожди и холода. Жита хороши. Озимая пшеница в экон. полегла с весны и пропала. В Хотенской экономии весь овес вылег и пропал.
Где овес и пшеница были похуже – там хороши. Взяток был хуже, чем в прошлом году, но пчелы развел много и выкачал больше 100 п. меда. Теперь начнется обыкновенная канитель: некуда продать. В Киеве на выставке
—383—
не был. Не стоит. Они так поставлены, что учиться нечему.
Я совершенно согласен с выписанными Вами мыслями о „силе жизни“ и критерии жизненности отдельного человека и народа.
Из всех известных мне народов наиболее отвечает требованиям этого критерия народ – Японский. И, как это ни покажется странным, именно вследствие своей отсталости. Отсталости не в смысле техники, а в смысле идеалов жизни. Династия живет 2000 лет. На деле, по духу, по существу – полное и неограниченное самодержавие, ибо этого хочет, этого держится всякий японец. А держится он этого потому, что любит свою страну и свой народ больше себя.
Никакого равенства, полное неравенство. Как в природе. Но так же, как и в природе, с того, кому больше дано, больше и спрашивается. Народ бунтует. Правительство усмиряет народ, но те дворяне, которые довели своих крестьян до бунта, должны сделать харакири, распороть себе живот.
Также и в войске. Всегда часть вины признается за теми высшими, которым были вверены низшие, и часть эта всегда больше, чем часть низших. И это внедрено в сознание высших, и указан исход – харакири.
Как видите, у Японцев обратное тому, чтò у Европейцев. В Европе вся „сила“ признается за народом. Вся ответственность падает на него одного. За ошибки наказывают его одного. У Японцев вся сила у правителей, и потому и наказание их гораздо суровее.
Я лично думаю, что, действительно, одно самодержавие дает истинное благо всему народу. Я еще думаю, что благо и зло может идти только сверху, а потому центр тяжести государственной жизни вижу не в низах, а на верхах. И если в Америке верхи – испорчены, то я думаю, что Америка, как государство, не устоит.
Я читал объявление о переводе сочинения Лондона „Железная Пята“. Советую прочесть. Вы увидите, почему не бывает ничего снизу.
Поскольку военная служба, в сравнении с „другими службами“, дает наивысшую сумму „свободы“ здоровому
—384—
человеку, постольку же и самодержавие дает больше свободы, чем республика.
Конечно, я имею в виду известный тип человека, которого и называю „здоровым“.
При этом республика на деле, на практике вызывает в человеке наихудшие его инстинкты и качества. Проповедуя равенство, в природе не существующее, она извращает все понятия, и на деле, – как, напр., в Америке, – приводит к господству самых низменных и пошлых идеалов.
Сделайте маленький опыт: представьте себе, что Вам надо выдумать учение, которое оправдывало бы, освящало бы все еврейские навыки и тенденции, и вместе с тем давало бы евреям уверенность в их грядущем господстве над миром. Я думаю, что ничего лучшего, чем учение Карла Маркса, Вы не выдумали бы.
Марксизм. Научный материализм. Это – попытка гениального еврея не только прославить свой народ, но и дать ему уверенность в его грядущем господстве над миром.
Теперь сделайте то же самое для среднего, глупого и пошлого, но с большим самомнением, человека или группы таких людей. Устройте им такую организацию, такое общежитие, при котором их самые плохие и пошлые качества могли бы „развернуться“. Уверяю Вас, лучше республики и парламентского строя ничего не выдумаете. И вот почему, по-моему, для Америки один выход, одно спасение, это – самодержавие. Не конституционная монархия, а именно самодержавие. Только одно оно, если останется верным себе, своему принципу, идее и идеалу, может заставить „богачей“ служить не себе лично, а служить отечеству.
И, конечно, в Японии никакой конституционной монархии нет. Это для удобства – в мелочах. Парламент – земское собрание. В основе Японской силы лежит вера. И на примере Японии мы, действительно, видим, что только сильная вера и самодержавный монарх могут дать силу государству.
Мне кажется, что только потому, что в Европе, под натиском пошлости, падает идея самодержавия, народы Европы игнорируют и не изучают Японии.
—385—
И мне еще думается, что, исходя из того принципа, что нет здоровой и сильной государственной и общественной жизни без самодержавия, мы, русские, мы, славяне, должны бы больше тяготеть к странам „самодержавным“: Японии и Турции, чем к республикам.
А мы именно с Японией и Турцией и воюем.
И я думаю, что действительное освобождение славян (не передача их Австрии, а освобождение) скорее могло быть достигнуто в союзе с Турцией, чем в войне с ней.
Приверженность к самодержавию есть очень ясный и точный показатель внутреннего состояния. Это „состояние“ ставит „обязанности“ на первое место, „права“ на второе.
Это состояние заставляет человека почитать и уважать всякое „сословие“, пока это сословие служит целому. Девиз его „быть“, а не „казаться“ только. Прочитав „Деньги“ Синклера, Вы должны согласиться со мной, что республика воспитывает и внедряет другое состояние. Одна дама в Америке, на мой вопрос, знакома ли она с „такой-то“ ответила, что она не может быть с ней знакома, т. к. ее муж имеет лавку, а муж „такой-то“ – фермер!
Хотел Вам ответить на первое письмо о жизни, а вышло совсем иначе. Напишу на днях.
Всего хорошего. Жму руку.
Д. X.
XIV.
21 Октября 1912 г.
Дорогой Николай Васильевич, письма Ваши получил. Мне кажется, что те вопросы, которые Вы ставите, можно разрешить не по частям, а только в общем. Указать ту общую мерку, которая приложима ко всяким частным случаям. Когда мы хотим понять кого-нибудь, нам необходимо уяснить себе корень и основу мировоззрения нашего собеседника. Вы разбираете сказания и утверждения людей веры. Вот, и надо уяснить себе их главную отличительную особенность, и, только уяснив, поймем смысл их речей.
Для человека веры – верование есть духовное „состояние“, наступившее вследствие получения извне, через благодать, „дара Божия“, т. е. „веры“.
—386—
Для человека неверующего – вера есть продукт его собственных естественных свойств и качеств.
Человек веры, как поэт, смотрит и ощущает вдохновение, как нечто извне приходящее, и признает в этом „нечто“, извне пришедшем, своего Господина – дающего ему „жизнь“.
Человек – не поэт, прозаик, неверующий, смотрит на вдохновение, на веру, как на нечто образовавшееся естественным путем эволюции из своих собственных качеств.
Эти собственные качества называются „плоть и кровь“ или просто плоть. И говорится, что сама по себе она не имеет жизни вечной.
Также и разум сам по себе не может знать дел Божиих. Знать жизни. Выработать жизнь. Иметь жизнь.
Церковь называет этот дар Божий, Веру, Жизнь, Истину – Христом – Словом. И утверждает, что Иисус Христос – воплощенное Слово, Жизнь и Истина.
Значит, без Христа нет спасения, но Христос умер за всех людей, а потому и Китаец и Папуас могут спастись, лишь бы поверили во Христа. И вот, об этом и говорит Ап. Павел (Рим.2:14–15). Но только надо понимать, что „дело закона, написанное на сердцах язычников“, не есть писание их природы, а писание Божие, ибо, по Ап. Павлу, природа не может знать дел Божиих, ибо она падшая. И Ап. Павел в Рим.3:11–18 рисует естественное состояние человека и отвергает возможность для человека „спастись естественно“.
По этому воззрению между каждым человеком и Богом устанавливается связь (религия) через Христа. И каждый человек может спастись, если только не отвергнет Христа, когда тот будет стучаться к нему в дверь. Из этого выходит, что форма спасения для каждого своя. (Не суть, а только форма. Суть для всех одна: это – Христос, вера и т. д.). Каждому человеку дается возможность через Христа знать Бога (Евр.8:10–11), стать сыном. И все сыны Божии составляют св. Церковь Христову. В этой Церкви есть и православные, и католики, и папуасы. Но несомненно, что вне Церкви Христовой нет спасения, и не может быть. Ибо вне ее нет сынов Божиих, чтò ясно из предыдущего.
—387—
Я лично думаю, что Православие есть наилучшая форма Церкви, и это мое воззрение живить и питает меня до тех пор, пока я не отвергаю другую форму для других. Как только я это делаю, так и обрывается та паутина, которая тащит меня из Ада, и я становлюсь противником Христа и подпадаю Его осуждению, ибо начинаю утверждать, что Дух не дышит, как хочет и где хочет, а дышит только там-то и там-то, и так-то и так-то1131.
Главная ошибка Толстого, которая отдалила от него всех „верующих“ и приблизила к нему всех неверующих, была в том, что он построил свое учение на разуме, на естественном, на плоти и крови. Он смешал веру и убеждения, и смотрел на веру, как на продукт естественной эволюции и усилий, а это именно и суть „убеждения“, а не вера. Для Толстого был один разум, один ум. Для верующего – их два. Ум плотяной и „ум Христов“, т. е. ум, просвещенный верой (даром Божиим) через благодать. Для разума естественного: Божественность Христа, таинства, молитва, все это – „юродство есть“. Но не так для ума Христова. Но для того, чтобы иметь ум Христов,
—388—
надо получить благодать. И Павел говорит: „никто не может признать И. Христа Господом как только Духом Святым“. И если X. X. или У. У. или N. N. естественным разумом отвергают это, нет на них вины. Но если бы они стали отрекаться от этого после того, как им это открыто, они теряют жизнь (Ин.9:41 и Лк.12:47–48).
Истины св. Православной Церкви можно принять только по благодати. А потому те, которые заставляют людей от них принимать эти истины, становят себя на место благодати и тем хулят Бога. И именно этому учили св. Отцы Церкви.
По этой схеме выходит, что о частностях – каждый говорит и может говорить только за себя. Только в основе и корне все сыны Божии должны и могут говорить одно: Вера – дар Божий, а не продукт плоти. Нет самозарождения. Жизнь только от жизни. Вдохновение есть дар извне, а не продукт, не плод личных качеств.
И если Вы проследите этот вопрос на всех ступенях: вероучении, науке, искусстве и философии, – Вы увидите, что, действительно, люди делятся на два типа. И эти два типа Вы откроете и между философами, и между богословами, и между людьми науки, и между людьми искусства. И Бы еще увидите, что в Толстом, например, сидело два совершенно разных человека: художник и учитель веры. И эти два в нем человека вели постоянную между собой борьбу. Отсюда и все противоречия Толстого.
И, конечно, Бы правы, говоря, что молитвами святых держится мир. Их молитвы, это – самое реальное дело. И святой отшельник, например, Серафим Саровский, ничего, по-видимому, не делающий, по существу делает больше всех. Ибо всякое соприкосновение с тем миражем, который мы называем действительностью, требует „компромисса“.
И если все дело в „вере“ – даре Божием, если есть только Единое, а все „текущее“ (явления) не есть, то понятное дело, что отшельник, имея связь с Богом, имеет наипрочнейшую связь со всем тем Сущим, которое лежит в основе всех и всяких явлений.
Поэтому-то Амвросий Оптинский имел больше связи с
—399—
душами приходящих к нему, чем их соседи, или родные, или близкие знакомые:
И, конечно, Вы правы „все дело в жертве“, т. е. в совлечении с себя всего не-сущего для выявления Сущего (вот, что есть, воистину, жертва). Но опять-таки, с этой точки зрения, жертва должна быть без своеволия. Там, где нет призвания, не может быть и жертвы. Нельзя говорить: „Побегу и пожертвую“. Это нелепо. Все сводится к следующему: на службу не напрашивайся, от службы не отказывайся. Ибо сам по себе человек ничего не может творить, если не дано ему свыше. Укажу Вам на Илиодора, как на единственного из среди церковников, который именно стоит на точке зрения „веры“. Про него одного я могу сказать: вот, действительно, человек, который любит, и почитает, и чтит Православную Церковь1132.
Всего хорошего. Жму руку.
Д. X.
XV.
18 Декабря 1912 г.
Дорогой Николай Васильевич, письмо Ваше от 11 Дек. получил. Поздравляю с хорошим смотром. Я рад, что и рота и ротный командир получили благодарность. Мне, как психологу, был интересен эпизод с солдатом, упавшим в обморок, и с ротой, стоявшей „смирно“. Интересно потому, что, действительно, смирность роты доказывает хорошее воспитание. Она доказывает способность сосредоточиться на одном деле – до забвения всего остального. В этой способности не только суть всего военного дела, но и всякого дела. Начальники и учителя слишком часто забывают тот факт, что у них нет никакой физической возможности „держать“ подчиненных „физически“ (рук не хватает – их только две), а есть и должна быть возможность держать людей „психически“. А это сводится к собиранию всех психик в одну точку. Слово „смирно“ значит, собственно, сбор мыслей и внимания. Слово
—390—
„вольно“ – роспуск в пространство и того, и другого. И вот, я думаю, что наличность мыслей об упавшем есть уже дефект. Великий полководец именно и велик тем, что он связывает и устремляет в одну точку „внимание“ подчиненных. Это же можно сказать и об учителе, о педагоге.
И нужно для этого одно, и главное: самому быть способным управлять своими мыслями и своим вниманием. Отсюда и появилась поговорка о том, что, кто не умеет подчиняться, никогда не научится командовать. С этой точки зрения анархисты самые никчемные люди. Ни к чему. Это тип, страдающий „разбродом мыслей и внимания“. Их можно уподобить тем обезьянам, о которых рассказывает Киплинг в Джунглях. Я ничего против обезьян не имею. Но ими не восторгаюсь, и мне, опять-таки как психологу, очень даже понятно отрицательное к ним отношение прочих обитателей Джунглей.
Вопрос воспитания молодых солдат и обращения с ними опять-таки сводится к вышеупомянутой психологической задаче. Надо понимать, что „физика“ – ничто. Все дело в психике.
Почему молодой солдат не умеет ходить?
Потому что он думает, что не умеет. В данном случае вернее сказать, что он ничего не думает. Перемена обстановки совершенно порвала связь между внешним и внутренним. Из этого следует: 1) что надо ее восстановить; – это называется: дать ему „очухаться“, стать способным вообще думать (как он думал прежде), „прийти в себя“, – а 2) уверить его, что он отлично может ходить – и ходит.
Обыкновенно случается, что „бездарные“ педагоги поступают наоборот. Они все бранятся и толкуют ученикам, что они ничего не знают. Всякий знает, что если, дойдя до канавы, подумает, что не перепрыгнет, то, действительно шлепнется на ее дно.
Завершением же всякого воспитания является нахождение высшей ценности и утверждение на ней.
Не все это понимают, а потому гоняются за невозможным. Например, воспитывают „храбрость“.
Воины должны быть готовыми отдать жизнь.
Но мы все знаем, что на этом пути два непреодолимых
—391—
препятствия: чувство страха (инстинкт самосохранения) и второе – тот факт, что для человека самой ценной из всех физических вещей есть его собственная голова.
Как же тут быть? А очень просто. Не гоняться за недостижимым. Не стремиться уничтожить в человеке то, чтò не может быть уничтожено, а выставить нечто более ценное.
Для японца очень ценна его жизнь – но у него есть нечто более ценное и драгоценное: спокойствие и довольство императора. А потому для японца просто выгодно отдать одно за другое.
С этим неразрывно связано чувство уверенности в достижении намеченного.
Поэтому второе педагогическое правило сводится к внушению воспитываемым, что намеченная цель непременно будет достигнута. Тогда является чувство, что моя капля меда (мои усилия, моя жизнь) никоим случаем не может пропасть даром – бесплодно. Внушите эту уверенность армии, и вы победите мир. И заметьте: это – мысли самые простые, обыденные, всем понятные.
Завязалась, скажем, война с Австрией. И если вы всем внушите уверенность, что никоим случаем не замирите до входа в Вену, поверьте – через месяц будете там. И что мне тогда за дело, если меня убьют? Ведь мы (т. е., значит, и я) будем в Вене.
Шведы 20 лет „били“ Петра, но я уверен, что его сподвижникам „грезилась“ Полтава. Зная его, они знали, что будет и Полтава.
Правда, люди теперь сбиты с толку разными безнравственными учениями о высшей и безусловной ценности личной жизни. Но мне думается, что этот налет не трудно было бы смыть чистой водой высшего духовного идеала.
Илиодора мне жалко. Жалко, что человека довели до излишеств. Излишеств в поступках, словах и писаниях. Я боюсь за него. Боюсь, что он окунется в омут „либерализма“, что, конечно, впоследствии причинит ему немало душевных страданий. Видно, уж так ему на роду написано: познакомиться и с этой средой.
Всего хорошего.
Д. Х.
—392—
XVI.
29 Декабря 1912 г.
Дорогой Николай Васильевич, вчера отослал Вам длинное письмо, а сегодня получил Ваше от 25 декабря. Хочу написать Вам о „личной жизни“, т. к. хотя Вы совершенно правы в том, что пишете, но я боюсь, что Вы не совсем меня понимаете и, может быть, думаете, что я Вам противоречу. Буду очень краток и только намечу ход рассуждения.
1) Я верю в бессмертную душу. В душу индивидуальную. У каждого своя душа. И души отличны друг от друга.
2) Это думают, в это верят, многие. Разногласие наступает, когда подымается вопрос о том: откуда эта душа?
3) Есть три ответа на этот вопрос:
а) Душа ребенка образуется из душ его родителей, и этим, мол, объясняется переход „Адамова греха“ на детей.
б) При каждом рождении Бог творит „новую душу“.
Эти два ответа неудобны, ибо первый Творцом душ признает людей, их похоть, второй – заставляет Бога быть в подчинении той же похоти.
в) Третий ответ гласит, что души уже существовали – и только „воплотились“.
Теперь – св. Писание учит, что падение духов – душ произошло до сотворения мира. Значит, до сотворения мира были „духи“, и они пали. Это состояние „падения“ называется злом. Из этого следует, что Бог ограничен тем, чтò не Он. И мы это выражаем словом „личность“. Мы говорим о Личном Боге.
И вот, значит, мы получаем такое положение вещей: Бог и много душ. Душ бессмертных, падших, злых. Теперь представим себе, что Бог не может, или не хочет, их уничтожить, а хочет их исправить. Дать им возможность выйти из состояния падения – зла. Для этого Он творит мир. Мир является средством, как для обуздания, так и средством исправления. Душа падшая „ввергается“ в материю и материей связывается и обуздывается. В процессе эволюции материя все больше и больше „дифференцируется“. Душа все больше и больше получает способность „выявить себя“. Это большее „выявление себя“ называется „индивидуальностью“.
—393—
Она индивидуализируется. С этой точки зрения „индивидуализация“ есть идеал, к которому стремится душа1133.
Но Вы понимаете, как это трудно. Она связана условиями жизни. Например: при этом учении мы обязаны смотреть на индивидуальность, на личность, как на самоцель. Мы не можем и не должны смотреть на личность, как на средство – для чего-то. А между тем всякая личность является средством – ну, хотя для продолжения рода!
Теперь дальше. Слово „личность“ (от слова „личина“ – „маска“) указывает, что есть нечто под маской. Нечто реальное, действительное – неискаженное. Значит, личность, это – нечто искаженное.
Я именно в этом смысле и употребляю это слово. Бессмертная индивидуальная душа воплотилась и этим „исказилась“. Она как бы скрылась, погреблась во плоти. В какой? В подходящей для нее. Эту плоть дали родители. Стремление души воплотиться в определенную, ей нужную плоть – выражается в родителях тем, чтò мы называем: „половой любовью“. Половая любовь служит нуждам „души ребенка“ и часто „разбивает“ жизнь родителей.
Дети любви, это – те души, которые получили ту плоть, попали в те условия, которые для них подходящи. Вот почему замечено, что они счастливы.
Личность, это – „временное“ условие жизни – бессмертной, индивидуальной души.
И вот, поскольку оно временно, поскольку формально, поскольку плоть и условия жизни мешают индивидуальности полно выявиться в „личности“, постольку личность не имеет цены.
Личная жизнь человека есть кусок жизни – бессмертной, индивидуальной души. Она имеет и может иметь смысл только в связи с общей жизнью этой души, т. е. с прошедшим и будущим.
Без знания того: откуда мы и куда идем, – жизнь личности бессмысленная.
—394—
Когда я отвергаю ценность личной жизни, я именно это и хочу сказать. Я хочу сказать, что сама по себе, взятая без связи с прошедшим и будущим, личная жизнь бесценна.
Учение, учащее противному, т. е. что личная жизнь сама по себе – без связи с прошедшим и будущим – ценна, мне представляется бессмысленным и кроме того, по своим последствиям, безнравственным. Религия, философия, метафизика, идеи, принципы, идеалы – все это связывает личную жизнь с индивидуальностью истинной и дает смысл личной жизни. Все это показывает, что взятая сама по себе личная жизнь бессмысленна.
Это – абажур на лампе. Абажуры разных цветов и разной прозрачности. Мы не знаем „жизни“ не личной, но мы должны понимать, что светит не абажур, а пламя лампы, и что абажур дело временное, а потому само по себе неценное.
Понимая это, мы не будем зря колотить по абажурам, зная, сколько труда потрачено душой на свой „абажур“, но в то же время будем правильно относиться и к своему, и не будем им чрезмерно дорожить, и радостно отдадим, когда это будет нужно не ради чужих абажуров, а того идеального света, той жизни истинной, которая скрыта за абажурами, за личинами, за личностями. Мы должны „превозмогать“ личность и искать того, что за ней скрыто: свое истинное „я“. Или, если хотите, свою истинную индивидуальность, которая якобы погребена, скрыта и стеснена личностью. И именно к этому „я“ (а не к личности) относятся слова: „познай самого себя“.
Насилие одной воли над другой всегда хорошо и законно, когда это – „высшая“ воля, и когда подчинение ей не только добровольно, но и воспринимается как польза, как благо.
Чувство „восторженности“, „благоговения“ перед высшим – чувство живительное. И человек, и на этой земле, ищет не только „правды“, но и ее носителей. Ищет „высших“. И, найдя их, радуется. На их „высоте“ он убеждается, 1) что „высшее“ есть и 2), раз есть и возможно, то и для него возможно; 3) значит, он не замухрышка, а человек.
Поэтому пример Скобелева облагораживает человека, и понятно, что и подчинение ему есть радость и утверждение своего благородства (также и пример генерала Ноги).
—395—
Для мальчика, полковник – высшее существо: он рад ему послужить. Трудности тут не для мальчика, а для полковника, который должен остаться на высоте. Должен оправдать мнение о нем мальчика, как о высшем существе. Если серьезно разберете этот пример, то увидите, что обязательства, принимаемые на себя полковником вследствие того, что мальчик бежит радостно за папиросками, – куда труднее всякой беготни.
Полковник „заставляет“ мальчика бежать – трудиться над собой физически, а мальчик заставляет полковника остаться на высоте – идти выше, т. е. трудиться над собой „духовно“. Французы говорят „Noblesse oblige“, т. е. дворянство обязывает. Также „обязывает“ и всякого в „высшем“ положении. И думать, что тут одностороннее насилие, слишком поверхностно, наивно и по сути дела неверно. Кому больше дано, с того (жизнь, схема жизни, закон жизни) больше и спрашивается.
Жму руку.
Д. X.
XVII.
17 Января 1913 г.
Дорогой Николай Васильевич, письмо Ваше от 7 числа получил. Мне хочется написать несколько слов, чтобы по возможности устранить недоразумения.
Первое, как мне кажется, положение, которое надо иметь в виду в вопросах философии и метафизики, это то, что у каждого своя философия, во-вторых – что эта его философия зависит от его характера. Из этого следует, что самая крупная ошибка человека состояла бы в том, если бы он принял несвойственную его характеру философию. Философия же, это – та сводка знаний и вывод из них, который осмысливает для человека его жизнь.
Поэтому философия добывается не только из книг – где обнаружены типы учений, соответствующие разным типам характеров, – а также и из всего жизненного опыта.
Это положение отрицает возможность, в смысле „жизненности“, учительства.
Вы совершенно верно указываете на недолговечность половой любви. Это мы и видим спокон века. Но это не значит отчуждение, а значит как раз обратное. Если
—396—
двое сошлись для делания важного дела (важность всякого дела измеряется степенью самоотреченности), то все данные к тому, чтобы после окончания дела установились хорошие, прочные отношения. И это всегда так и бывает, если не замешиваются сюда эгоистические, самолюбивые требования личности, основанные на благе не общего дела, а личном благе.
Если у нас есть реальное бытие, и отношения наши с другими основаны на принципах и сущности реального бытия, то по самому определению мы не можем порвать с ними отношения.
Из этого следует, что известные группы людей, отношения которых реальны, всегда живут вместе и всегда будут встречаться. Случайных встреч не бывает. Мы фактически не можем отделаться от своих знакомств. Но мы расширяем их в каждой1134 жизни, т. е., другими словами, все больше и больше соприкасаемся со всем тем, что в мире. Любовь и благоволение тем и важны, что они устанавливают более широкую и всеобъемлющую связь.
У нас наступили морозы, и выпало много снега. Я здорово простудился, и никак не могу поправиться. Ваш брат просил меня выслать ему Ледбитера и Безант, что я и исполнил.
Будьте здоровы. Крепко жму Вашу руку.
Д. X.
ХVIII.
30 Января 1913 г.
Дорогой Николай Васильевич, письмо Ваше от 24 числа получил.
Мне стало лучше, но я все же не выхожу из комнаты, т. к. снова простудился. Дело, собственно, просто: отовсюду дует, а я сижу без моциона и простуживаюсь. Я очень тронут Вашим беспокойством, но, кажется, еще увидимся.
Послал Вашему брату книги, но от него не имею сведений: получил ли он их. Если будете ему писать, спросите, пожалуйста. Я теперь читаю очень интересные книги английских философов, о новом направлении, так
—397—
называемом „прагматизме“ и „гуманизме“. Это – реакция против рационализма и интеллектуализма.
Слово „прагматизм“ имеет общий корень со словом практика.
А гуманистическая философия и гуманистический метод, это – соединение натуралистического научного метода с методом отвлеченным – рационалистическим. Все Сущее рассматривается в связи с человеком, и человеком цельным – его волей, чувствованием и разумением, – а не с одним однобоким только „разумом“.
Это возврат к древней философии Протагора, которого „заклевали“ Платон и Аристотель.
Протагор говорил: „Человек есть мерило всех вещей“. В его духе работал „прагматик“ Джемс и „открыл“ религию.
В этом же направлении теперь работают многие английские философы и француз Бергсон. (Творческая эволюция). На них с ожесточением нападают рационалисты и интеллектуалисты, до сих пор „владевшие“ философией.
Бергсон отводит разуму и логике обширную область мертвого. Живое же, по его мнению, не может познаваться интеллектом и логикой; ибо свойство логики таково, что она оперирует „понятиями“, а понятие есть мертвый отрезок от потока жизни.
Чтобы познать живое, надо „войти“ в поток жизни и интуитивно схватить и познать живое.
Бергсона теперь много читают. На днях прочитал 2 главы и думаю, что, действительно, это – „новое слово“.
Всего хорошего.
Д. X.
XIX.
8 Февраля 1913 г.
Дорогой Николай Васильевич, получил Ваше письмо от 4 февраля.
Пишу несколько слов, чтобы сказать, что книгу Бергсона покупать не стоит. Уж если покупать, то лучше купить: „Прагматизм“ Джемса. Это более общая книга.
Как будто „запахло“ весной, и надо уже готовиться к посеву. Выписывать семена, черенки и т. п. В этом году хочу перепривить штук 20 старых деревьев в крону.
—398—
Началась случка кроликов. Завод довольно большой – 31 самка и 17 самцов.
Очень бы хотелось часть их держать на воле, но не знаю, удастся ли.
На селе начали рождаться телята от моего черного быка „Негро“.
Пока до свидания. Сейчас едут на станцию.
Всего хорошего.
Д. X.
XX.
19 Февраля 1913 г.
Дорогой Николай Васильевич, получил Ваше письмо от 14 числа. У нас опять холодно. Морозы до 16° и холодный ветер. Я в хроническом состоянии „простуды“ и, вероятно, так и останусь до весны.
Мне очень понравилась выписка из Эртеля. Мне кажется – так оно и есть. Работа земледельца позволяет соприкасаться с Истиной или Законом – непосредственно. Чувство и воля получают удовлетворение. При другой деятельности посредником является разум. Это ведет к недоразумениям, превратным толкованиям, сомнениям и т. п. Кроме того, мне, лично, разум всегда представлялся – „в своем первичном проявлении“ – врагом жизни. Я даже и формулу такую придумал. Задача, мол, человека в том: „Как, при разуме и не отрекаясь от него, не утратить веры в жизнь?“ Для людей всегда был страшным камнем преткновения вопрос о происхождении зла. Персы говорили: есть два бога: бог добра и бог зла. Пантеисты говорят: зла нет! Все добро: все бог.
Но факт зла – все же факт. При всемогущем Боге любви – присутствие зла трудно объяснимо.
Теперь – в Библии очень интересный намек на этот вопрос. Только, чтобы понять этот намек или увидеть его, надо придерживаться текста и не вносить „отсебятины“1135. Библия говорит о происхождении мира. Она говорит: был
—399—
Бог и был хаос (не ничто, а хаос). Этот хаос определяется так: „безвидная и пустая земля. Бездна и тьма, и вода.
И Дух Божий носился над этим.
Творение представляется как введение некоего порядка в это состояние.
Излагается, как вводился порядок. Появляется человек. У этого человека нет знания. Он не отличает добра от зла. У него закрыты глаза.
В Раю два древа: древо познания и древо жизни.
Людям временно запрещено вкушать от древа познания. Является „змий“ – символ разума, и заставляет людей преждевременно вкусить. Это и есть грехопадение.
Теперь представьте себе двух тигров „злющих и кровожадных“. Представьте себе,, что кто-нибудь наделил бы одного из них разумом. Что бы получилось? Получился бы ни более, ни менее, как дьявол.
Если бы люди стали сравнивать этих двух тигров и докапываться до того, что делает одного из них особенно страшным, то они увидели бы, что причина в разуме. Эта именно разумность тигра превратила его в такое страшное и опасное существо.
Дело, конечно, не в самом разуме, а в том, что злое существо похитило это орудие и заставило его служить своим целям.
Что же было делать Богу? Библия отвечает: одно было средство: лишить „древа жизни“. Но подумайте: что это значит? Подумайте просто и без предубеждения. Вы увидите, что дело обстояло так: было существо „сверхъестественное“, злое и разумное. Существо непокорное. Существо, не могущее составить „общество“ – целое, гармоническое. Одинокое, злое и разумное.
Библия говорит, что единственный способ обуздания такого существа состоял в „принижении“ его способностей для зла. Отнятии сверхъестественности. Заточении в темницу плоти (материи). Лишении жизни сверхъестественной. И вот, сначала плоть – грубая, не податливая. Существо совершенно не может проявиться через нее. Но постепенно материя становится тоньше.
Заметно параллельное развитие материи и духа.
—400—
Это и будет эволюция мировая.
Такая точка зрения ничем не противоречив науке. И объясняет то, что наука констатирует.
С этой точки зрения, „мозг“ есть то орудие, то средство, которое лишает нас памяти о прошлом нашем. Я говорю об этом и привожу этот библейский взгляд, как интересную гипотезу. Я лично думаю, что она хорошо объясняет действительность и дает возможность рационального объяснения многих необъяснимых фактов.
Вы правы в том, что говорите о статье о С.
Конечно, она написана довольно односторонне, ибо в ней я отвечал на то, что тогда говорилось о книге.
Насилие над собой я понимаю так; у каждого человека „свой путь“ и „свои задачи“. Насилием над собой я разумею отказ от своего пути. Переход на чужой.
Стоя же на своем пути, человек должен всеми своими высшими силами бороться против своих низших стремлений. Но такая борьба не будет и не может называться насилием над собой. Напротив, это есть утверждение себя.
Все недоразумение тут сводится к тому, что написано в главе III. Отвергается, что у каждого свой путь. И выставляется обман о том, что на известных „других“ путях одна распущенность. Это ложь и неправда. На всяком пути – какой бы человек ни избрал – есть борьба и преодоление зла и препятствий. И в этом все дело. Возьмите монаха, военного и земледельца. У каждого свои затруднения. Своя борьба. Свои преодоления. Насилием над собой я называю искусственное оставление своего пути. Только на своем пути человек может поступать так, как велит ему его самость, то наивысшее, что он знает в себе. Если он оставит свой путь, то жизнь предъявит ему такие задачи, которых он сам не будет в состоянии решить. Отсюда „разочарование“, „безверие“, отказ от жизни. Когда эти люди умирают, у них чувство, что они „загубили свою жизнь“. И это воистину так. Ибо, оставив свой путь, они этим отказались от решения „своих“ задач, а пробовали решать чужие. Поэтому они не могут перейти в следующий класс. Отсюда и чувство загубленной жизни, т. е. потери времени по-пустому.
—401—
На это – самое серьезное возражение то, что большинство людей так незначительны, что у них своего пути нет. А потому им не на чем стоять и некуда идти. Поэтому укажите им путь и убедите идти „хорошим путем“. Я отвечаю: такой взгляд есть продукт самомнения. И основан он на презрении к людям. Он в корне ложен. Ибо хотя люди, во времени и пространстве, не равны, но все же у каждого свой путь, ибо у каждого своя живая душа. Поэтому остерегайтесь презирать „одного из малых сих“. Восьмиклассник не равен третьекласснику. Но это не значит, что у третьеклассника нет своей задачи, своего пути.
Когда люди будут идти своими путями, то может возникнуть и будет между ними „борьба“, но эта борьба будет к добру, ибо 1) каждый руководится тем наивысшим, что в нем. А это наивысшее по существу Единое у всех людей; поэтому борьба эта по существу будет лишь борьбой за лучшее выражение этого Единого. 2) Победа „А“ над „Б“ не будет обидна для „Б“, ибо „Б“ будет знать, что „А“ победил именно потому, что лучше выразил тот принцип, которому ведь „Б“ служит и во имя которого „воевал“. Конечно, ничего против больниц не имею. Я хочу сказать, что если „Б“ слаб и отброшен, то это „отбрасывание“ должно быть приятно „Б“, если он служит не себе, а принципу. Если я имею в виду пользу не свою, а пользу службы, то я должен радоваться, если „мою роту“ дадут более способному.
Я буду рад, если мою статью прочтут. Мне интересно, какое она впечатление произведет.
Недавно читал с большим интересом книгу князя В. В. Барятинского: „Царь мистик“. Для меня нет никаких сомнений в том, что старец Федор Кузьмич был, действительно, Император Александр I.
И мне жалко, что это не объявлено. Ибо для народа – он, несомненно, был бы святой, и это на много подняло бы престиж царской власти.
Всего хорошего.
Д. Х.
—402—
XXI.
1 Марта 1913 года
Дорогой Николай Васильевич, получил оба Ваши письма, от 23 и 25 числа.
Книга Джемса, действительно, трудна для чтения. Но мне кажется, что тут дело не в „пропасти“, а в навыках мысли. Просты мы – обыватели – не привыкли к такому „ходу мысли“. Не к самим мыслям, а к пути мышления.
Такую книгу надо прочесть несколько раз подряд, чтобы с ней освоиться. Книга Бергсона – еще более специальна.
Весна у нас „наступает“. Морозов уже нет. Светит солнышко. Я уже выписал и получил семена. Куры усиленно несутся, и вчера „на селе“ достали двух квочек и будем „садовить“. Продал в Полтаву 8 кроликов, и еще есть требование туда же на 18.
Меня на днях очень огорчило сообщение из Полтавской губернии. Местная учительница пишет: „Два парня были отправлены в приходскую церковь (за 2 версты) за хоругвями. Когда несли их обратно, то пели непристойные песни, а потом начали хоругвями драться. Изорвали их. Фонарь разбили. Полотенца на хоругвях изорвали, а деньги, которые должны были отдать в церковь, пропили“.
Учительница называет это „хулиганством“. Надо Вам сказать, что в этой деревне 20 л. существует школа – т. н. „образцовая“.
Случай, конечно, „ужасный“, и тем более ужасный, что он может служить иллюстрацией к общему состоянию того „разврата“, в который быстро опускается деревня.
Для меня случай „ужасен“ еще и потому, что 22 года тому назад я „предсказывал“ такое состояние. А ныне предсказываю „худшее“, если не одумаются и не примут меры.
То хулиганство, которое мы видим теперь, подготавливалось 25 лет.
Учительница предлагает: „разумные развлечения“, „народные дома“ и т. п.
Все это, конечно, хорошо, но совсем не относится к „предмету“.
К предмету относится: „твердая точка споры, на которой
—403—
было бы основано и построено воспитание подрастающего поколения“.
Развлечения же или одно отрицательное (запрещение пьянства и т. п.), или никакого прямого отношения к „хулиганству“ – как внутреннему настроению – не имеют.
Для воспитания нужен пример старших и твердая точка, на которую были бы поставлены младшие. Кроме военной среды нигде этого нет.
В гимназиях ч... знает, что делается.
Директора своим примером систематически развращают учеников.
И опять-таки в одних только военных корпусах дело обстоит иначе. Я несказанно доволен, что мой младший сын именно в корпусе, да еще у самого строгого и взыскательного (и к себе и другим) ротного командира.
Я думаю, что для Вас, как для будущего учителя, большое счастье, что Вы попали на военную службу.
Мне несказанно обидно это систематическое развращение масс. Жалко этих „погибающих хулиганов“. Ибо хулиганы эти не негры, и не с луны упали, а те же русские люди. И я не думаю, чтобы им от Бога было предопределено быть „хулиганами“.
Всего хорошего. Крепко жму Вашу руку.
Д. X.
XXII.
16 Марта 1913 г.
Дорогой Николай Васильевич, получил Ваше письмо от 8 числа. На днях заходила Ваша жена и Ваш товарищ, приехавший из Варшавы после „странствования“. К несчастью оставались только несколько минут, т. к. я был занят с пчелами, а они торопились засветло домой.
Я тоже наблюдал связь хулиганства с „шахтерством“. Есть, конечно, и элемент „молодечества“. И это-то и печально. Печально в том смысле, как печальны проделки Долохова („Война и мир“) с квартальным: привязывание квартального к медведю. Думается, что „энергия“ Долохова может быть израсходована на нечто более целесообразное. Вот это-то нахождение для молодежи „более целесообразного“ и лежит на обязанности государства. А в школе – на учителе и воспитателе.
—404—
Все должны быть „введены“ в государственные оглобли и тянуть.
И тягота эта не должна быть „противной“. Когда она становится „противной“, то это указывает на дефект организации. Ибо человек есть „животное общественное“.
Мне писала одна учительница, что нужны „разумные развлечения“. Мне кажется, что тут развлечения не причем.
Тут дело похоже на дело раздачи „хороших“ книжек. В Полтавской губ. еще норовят раздавать малороссийские книжки. Я попросил учительницу узнать, сколько на селе книг, купленных самими крестьянами. Оказалось, две штуки.
Это очень знаменательный факт.
Кроме того, надо еще принять во внимание и содержание книжек. Крестьяне, в массе, если и желают иметь книжку, то книжку „серьезную“. А это значит – книжку „религиозную.“ Старикам интересно, чтобы мальчик-школьник почитал „божественное“. В былое время масса крестьян интересовалась грамотой, как „светом“. Теперь смотрят на грамоту, как на нечто способное дать лучший заработок. Вывести в паны.
Воспитательное значение учения – совсем заброшено. Мне часто приходится получать письма от бывших „учеников“, и я удивляюсь тем „каракулям“, которые они выводят.
30 лет тому назад крестьяне очень даже интересовались школой. И отлично знали, какой именно школы они хотят.
Они хотели школы – по типу церковно-приходской. Но настоящей, а, конечно, не такой, какая ныне существует и ничем от земской или министерской не отличается. Крестьян не только не спросили, а заставили молчать и не вмешиваться не в „свое“ дело.
Теперь мы пожинаем плоды этого.
Отношение крестьян к учителям и учительницам в общем – отвратительное. И как это ни печально, но вполне естественно. Ибо об обучении ихних детей их не спрашивают, и учат тому, чему они не сочувствуют и пользы чего не видят.
—405—
Продумайте все это, и Вы увидите, что „хулиганство“ есть плод всего этого.
Теперь обратите внимание на тот „обман“, который практикуется по этому вопросу.
Т. н. „правые“, распинаясь за церковно-приходскую школу, ни единым словом не обмолвятся о том, что такой школы нет, что существующая церковно-приходская школа – та же земская, и по духу и по методу, но гораздо хуже.
Т. н. „левые“ по инерции и по обязанности ругают церковно-приходскую школу, но тоже молчат о том, что настоящей – истинной по духу и методу – церковно-приходской школы не существует.
Получается сумбур. При этом и правые, и левые ни единым словом не обмолвятся о том, что крестьяне в массе совсем устранены от вопроса воспитания и обучения их детей, а потому, естественно, совсем не интересуются этим вопросом, и не только не помогают учителям и настоятелям приходов, но мешают им!
Масса нашего крестьянства православная и религиозная.
Без единения с родителями нельзя ни воспитывать, ни обучать. Из этого следует, что школа должна быть или религиозно-православная, или вовсе не существовать.
Под руководством местного настоятеля, при участии учителей надо бы собирать крестьян-родителей и беседовать с ними. Спрашивать их и внимательно относиться к их желаниям и указаниям.
Вот в чем я вижу единственную серьезную меру борьбы с нарождающимся в деревне хулиганством.
Для кончивших курс – воскресная школа с чтениями и пением. Кружки – опять-таки под руководством местного настоятеля.
В этих кружках патриотические чтения. История родины. Сведения о замечательных людях. Сведения о текущих событиях. И мне думается, что такие кружки молодежи обоего пола имели бы большое влияние на нравственность всего селения.
В этом я вижу основу и первый шаг к оздоровлению деревни.
И еще я думаю, что без этого – никакие меры „строгости“ не помогут.
—406—
И еще я думаю, что так как предлагаемый мною путь, действительно, ведет к оздоровлению массы и к возможности того, чтобы она осознала себя русской, то никогда меры, мною предлагаемые, не будут приняты. Ибо против них будут все господа: и правые, и левые. Ибо какое этим господам дело до православного русского народа?
Меня заинтересовало то, что Вы пишете о службе. Напомнило мне мою и совпадает с моим опытом. Дисциплина не может и не должна уменьшать самостоятельности. Для этого должен быть строго очерчен „круг деятельности“, и надо поддерживать и развивать самостоятельность подчиненных в их „круге“. Об этом все говорят. Но редко кто исполняет.
Нравственный авторитет начальника Всецело покоится на его собственном отношении к службе.
Строгость „полезная“ вполне точно прямо-пропорциональна тому баллу, той аттестации, которую дали бы подчиненные о своем „строгом“ начальнике. Начальник, которого подчиненные аттестуют, как „служаку“, в 2 балла, не может быть строгим на 5 баллов. Никакой нет от этого пользы – одна „досада“ и, строго говоря, „подрыв дисциплины“.
Команда „смирно“ – очень важная команда. Надо, чтобы к ней относились с „интересом“. Смотрели, как на „дело“ (а не отсутствие всякого дела). Интерес же поддерживать долго нельзя. Поэтому нельзя долго держать людей на смирно. Это ошибка обучающего.
Лучше со вниманием учиться ¼ часа, чем без внимания целый час. Кроме того, надо чаще высказываться об успехах учения, т. е. не только порицать, но и хвалить за то, что достойно похвалы. Это придаст интерес самому „скучному“ учению.
Письмо вышло длинным. А то написал бы еще на эту тему. Всего хорошего.
Д. X.
XXIII.
26 Апреля 1913 г.
Дорогой Николай Васильевич, оба Ваши письма получил. Что-то помешало мне сейчас же ответить, и так
—407—
и осталось. Это последнее время сеяли и очень беспокоились о всходах, т. к. не было дождя. Земля высохла и потрескалась, и все чахло. На прошлой неделе пошел дождь, и наступили холода. И теперь еще холодно при жестоком северном ветре.
Сады цветут, а пчелам приходится сидеть в ульях. Вообще, весна не благоприятна. Яблок будет очень мало. Груши и вишни хотя и цвели сильно, но еще неизвестно, будут ли плоды.
На днях прочел две интересные книги. Хотел их послать Вам, но у меня их взяли для прочтения. Одна, это – „Наука побеждать“ Генералиссимуса Суворова. Другая – „Исповедь“ Наживина. Если Вам разрешат их купить, то купите. (Посылаю переводом деньги на их покупку).
„Исповедь“ состоит из 3-х частей: 1) Исповедь, 2) Обреченный (Император Александр I) и 3) Воспоминания о Толстом.
Эти воспоминания интересны. Я думаю, что „Обреченный“ написан по материалам, собранным Толстым. Да и „дух“ этого писания совершенно толстовский. Наживин не верит, чтобы старец Федор Кузьмич был Имп. Александр I. Я же, прочитав книгу В. В. Барятинского „Царь мистик“, убежден в том, что старец Федор Кузьмич был Император Александр I.
Наименее интересна „Исповедь“, но все же она наводит на мысли. Изложена искренно и правдиво, и потому часто опровергает те толстовские положения, которые хочет защитить.
Недавно мне также прислали книгу (пер. с английск.) Энджеля „Великое заблуждение“. – Это против войны. Чем больше живу на свете, тем больше прихожу к заключению, что все такие проповеди достигают как раз обратного результата.
Здесь та же история, что и с наказаниями за отказ от воинской повинности или за отпадение от вероучения и т. п.
Если я смотрю на военную службу, как на „болото“, но, конечно, сам сидя в болоте, буду наказывать всех тех, которые не идут в болото.
Если же я смотрю на военную службу, как на честь и
—408—
благо, то совершенно противоестественно для меня наказывать тех, которые по своей глупости (по-моему) отказываются от этой чести и блага. Если я предлагаю человеку 1000 рублей, а он не берет, неужели же я буду его за это бить?
При заразе людей разными „гуманитарными идеями“ вместо „честного воина“ на сцену является „дипломат“ и „шпион“.
Является обман и подсиживание. Простота и ясность теряются, В военной области вместо „честного боя“ – являются „марши и контр-марши“. Угрозы и „запугивания“:
Если купите и прочтете книгу Суворова, то увидите, насколько самое отношение Суворова ко всему военному в корне отличается от нынешнего отношения.
Или прочтите приказы Скобелева.
Скобелев терял людей в бою. А нынешние „стратеги“ теряют их от „тифа“, от голода, холода и рваных шинелей и сапог. У Скобелева лошадей убивали, а у нынешних стратегов они дохнут от бескормицы, ибо сено и овес обменяли на % бумаги и эти бумаги „спрятали в банк“.
Шпионство и дипломатия, т. е. всякого рода обманы, это – „поправка на малодушие“. Измалодушествовавшись, люди вносят „поправки“. Вот австрийцы „искусные дипломаты“. И это понятно, ибо их не били только те, которые с ними не воевали. Но я не вижу никакой причины для других народов тянуться за австрийцами в „дипломатическом искусстве“.
Хаос в жизни, о котором Вы говорите, происходит единственно вследствие извращения коренных законов жизни.
Люди почему-то вообразили, что жизнь должна быть безопасной, легкой, приятной и т. п. Это абсурд и противоречие в терминах.
Жизнь, это – „служение“ и „обязанность“. Это – непрестанная борьба в том смысле, что требуется преодоление того, что мешает служению. Причем наша временная оболочка, наша личность, есть вещь совершенно малоценная. При таком отношении к себе и жизни – все станет на место. Все получит смысл и значение, и человек непременно найдет в жизни благо.
—409—
При обратном отношении к себе и к жизни, при представлении, что я, моя личность есть глава угла, что она ценна сама по себе (а не как орудие служения), и что жизнь – „пикник“ и „удовольствие“, непременно – для „думающих“ – все представится в виде „хаоса“ бессмысленного. А как иллюстрацию своей мысли укажу Вам на положение на Шипке, в то время, когда Радецкий доносил: „На Шипке все спокойно“. Это и есть „жизнь истинная“ и отсутствие какого-либо хаоса.
Всего хорошего.
Д. X.
XXIV.
26 Сентября 1913 г.
Дорогой Николай Васильевич, недавно писал Вам. Сегодня получил Ваше письмо от 23 сентября. Очень одобряю Ваше намерение поступить на место и соглашаться на работу – хотя бы и тяжелую, не „интеллигентскую“.
Везде можно служить и работать честно и добросовестно.
Только мне думается, что Вам все же следует съездить домой и повидать семью. На сей-то предмет и посылаю Вам немного больше денег, чем Вы упомянули в письме. Мне думается, что свидание с семьей придаст Вам силы и бодрости.
Если на посылаемые деньги нельзя съездить домой, то напишите мне. Я вышлю еще. Мне очень хочется, чтобы Вы повидали семью. А насчет работы, службы, места, я думаю, что ротный командир мог бы Вам помочь. Я бы Вам советовал обратиться к нему и попросить содействия.
Всего хорошего. После Покрова собираюсь в Селещину (южных жел. дорог). Пишите туда на мое имя. Всего хорошего.
Д. X.
XXV.
9 Января 1914 г.
Дорогой Николай Васильевич, письмо Ваше получил. Книгу Даля получил и прочел с большим интересом. Что меня больше всего поразило в этой книге, это – тот факт, что ритуальные убийства несомненно „покрывались“
—410—
начальством, что родители и родственники убитых нигде не могли найти защиты и правосудия. Меня еще поразила однородность приема, употребленного в деле Бэйлиса, с тем приемом, который, как оказывается, всегда употреблялся. А именно: прием хватания „жалующихся“, „потерпевших“, прием обвинения тех, кто жалуется.
Уж одна эта однородность заставляет задуматься. И как в Велиже замешаны „негодные бабы“, близко стоящие к евреям, так и тут имеется негодная баба „Чебырячка“, близко стоящая к Бэйлису.
И еще интересно: подобно тому, как в Велиже „розыск“ находится в руках евреев, так и в Киеве оказывается, что весь сыск находится в руках евреев, и не знаешь, где кончается сыскное отделение, и где начинается редакция „Киевской Мысли“. Принимая все это во внимание, принимая во внимание и то, что, как оказывается, в России были десятками убиваемы дети, и „дела“ всегда „прикрывались“, нельзя но радоваться тому, что в Киеве дело дошло до гласного разбора. Нельзя не видеть, каких трудов это должно было стоить, и как много препятствий должно было быть преодолено.
За учительским съездом я не следил. Читал о странных выступлениях „украинцев“. Я считаю это правительственной затеей. Это дело искусственное и „противонародное“, и без поддержки правительства не могло бы существовать. Правительство оказывает этому движению не прямую поддержку, а косвенную. Косвенную поддержку оно “оказывает троякую: 1) оно препятствует массе народа сказать свое мнение насчет нелепости этого движения; 2) оно искусственно поддерживает Австрийско-жаргонную газету „Раду“, тем, что оберегает ее от всякой конкуренции; 3) оно своим раболепием перед Австрией дает повод многим недоумкам, оторванным от своего народа, лелеять идиотские мечтания.
У правительства большая сила, и само собою разумеется, что, при его содействии, может быть наделена мнимой жизненностью всякая нелепица и мертвечина. У наших администраторов нет чутья Великой России, и потому они предполагают, что „украинцы“, т. е. народ окраинный, также не имеет этого чутья. Они думают, что особенность,
—411—
скажем, Павловского полка, его „боевое“ отличие должно состоять в том, чтобы все солдаты были курносыми. О „духе полка“ они ничего не знают. Так же они ничего не знают о том народном духе, который создал Великую Единую Россию. Совершенно в том же положении и увлекающиеся „хлопцы“ учительского съезда. Но что „мило“ и „позволительно“ – хлопцу, то никак не позволительно управителю.
Но мне смешно, когда я подумаю, что и администраторы, и хлопец – не отдавая себе в этом отчета – стоят совершенно на одинаковой точке зрения.
Их „нутро“ одинаково. Одинаковость заключается в том, что нелепица кажется им возможной. Разница только в том, что одни утверждают эту нелепицу – призывают и желают – это хлопцы. А другие отрицают ее.
И нет того, чтобы сообразить – „почуять“, что это нелепица, что это противоестественно.
Вот, и получается неразбериха и искусственная поддержка нелепицы. И хлопцы все же умней, ибо рассуждают естественно и верно. „Если, – говорят они, – „мудрые“ старцы боятся этой нелепицы, значит – это не пустое место, не бредни а нечто реальное, „возможное“.
А „мудрые“ старцы очень неумны. Им жизнь народа столь же мало известна, как жизнь жителей луны. Они не понимают, как и каким образом преломляются в сознании масс разные факты и события. Во-первых, они думают, что народ „быдло“. И гораздо глупей и бессознательней скотины. Они не понимают, что если на базарах, действительно, не говорят о „дипломатических нотах“, то суть и корень всякого дела прекрасно чувствуется.
Есть такой безошибочный „градусник“, который показывает состояние массы и ее отношение к текущей действительности. Но надо уметь „читать то, что обозначает этот градусник“. А для этого средство одно, и только одно: „быть русским“. А наши „мудрые старички“ не русские. Вот, и вся беда. И беда единственная. И вот я, сидя у себя на хуторе и смотря сбоку и без волнения, говорю старичкам; чего вы сердитесь на хлопцев окрайны? Вы упрекаете их в сепаратизме? Ну, а сами-то вы разве русские? Разве вы
—412—
сами не отделились от единого и нераздельного народа? Так в чем же дело? Чего вы шипите?
Только заметьте, милые старички, следующее: Когда дело дойдет до дела, когда, действительно, придется жизнью отстаивать единство России и престол..., то, ведь, эти хлопцы пойдут с народом и отдадут жизнь за Отечество – единую Россию и Престол, а вы, милые старички, убежите в Берлин.
Наши хлопцы – „блудные“ сыны. Но все же сыны, которые вернутся к отцу и матери, а вы нам – чужие. А что вы говорите „жалкие“ слова и бьете себя в грудь, то какое нам до этого дело? Многое еще будет впереди, и дело покажет, где кто стоит: под Австрийской державой или Русским Царем?
Повторяю: когда все силы „старичков“ направлены на то, чтобы заглушить голос русского народа, то, само собой понятно, происходит неразбериха.
Всего хорошего.
Д. X.
XXVI.
5 Мая 1914 г.
Дорогой Николай Васильевич, только что получил Ваше письмо. Пишу несколько слов, т. к. болит глаз. Я думаю, что перемена жизни так и должна была нарушить равновесие на некоторое время. Я об этом думал до получения Вашего письма.
Теперь в Петербурге миссионером тот Павловский священник, с которым Вы познакомились у меня – Николай Викторович Чепурин.
Я ему писал о Вас и спрашивал, можете ли Вы к нему зайти. Он написал, что будет очень рад. Только надо его предупредить заранее – хоть по телефону, – и он скажет, когда будет дома. Адрес его: Васильевский Остров, 17 линия, дом № 70, кв. № 27. Телефон: 121–73.
Непременно зайдите к нему. У него славные дети. А вид детей – лучшее лекарство в Вашем „рассеянном“ состоянии.
У отца Николая бывают беседы с сектантами – пойдите на беседы!
—413—
Как поживает Ваша семья? На днях буду посылать в Глушково за присохами и скажу, чтобы проведали Вашу семью.
У нас уже все посеяно, но только погода не радует.
Да, вот еще: я написал опыт толкования притчи – Лк.16.
Это писание у отца Николая. Если Вас интересует, прочтите и напишите мне свое мнение.
Всего хорошего. А главное, не унывайте. И пойдите непременно к Ник. Викт. Чепурину.
Крепко жму Вашу руку.
Д. X.
Передайте, пожалуйста, мой привет отцу Николаю и всему его семейству. У него удивительная детвора.
Когда мне тоскливо и тяжело, то часто мысли об этой детворе восстанавливают равновесие.
P. S. Напишите мне про свое место.
XXVII.
5 июля 1914 г.
Дорогой Николай Васильевич, оба письма Ваши получил. Не отвечал так долго потому, что сперва времени не было из-за массы чепухи и мелких забот, а потом утерял Ваш адрес.
Это очень хорошо, что Вы побывали у Н. В. Ч.
Вы совершенно правы в том, что пишете о „жестокосердии“ священника. Это – иудейская закваска. Со своей – иудейской – точки зрения они совершенно правы, и людям здесь делать нечего. Перерождение сердца, это – тайна. Тайна между тварью и Творцом. Меня, да и многих, постоянно смущает и соблазняет масса „неподходящего“. Например инквизиция, Соловки, стяжание монахов, „пышность“ епископов и т. п.
Никакие доводы не способны примирить с этим. Но поверьте, что настанет время, когда все это утеряет всякое значение. Настанет время, когда человек почувствует и осознает, что все это нисколько до него не касается и никакого отношения к его отношению к христианской Церкви не имеет.
Через это хулится Имя Божие в народе.
—414—
И вот, мы „заступаемся“ за Имя Божие. Именно, этого и не надо делать. Ибо, ведь, и инквизиторы делали именно это.
Вместо того, чтобы самим смотреть за собой, они смотрели за другими.
Но возможно ли это на известной плоскости, известном уровне? Могу ли я, например, установить Ваше отношение к Богу? Не есть ли это исключительно Ваше личное дело?
У меня к Вам просьба. Пожалуйста, купите для меня №№ 4 и 5 за 1914 г. журнала „Голос минувшего“.
Там исповедь бывшего священника Н. А. Толстого.
Пришлите, пожалуйста, в Белополье, наложенным платежем.
Мед уже качали. Выкачали около 110 пудов. Может быть, еще будет мед. Дождя у нас все нет, хотя ночи прохладные, а потому не зажаривает. Яблок очень много.
Пока до свидания. Крепко жму руку.
Д. X.
XXVIII.
8 Августа 1914 г.
Дорогой Николай Васильевич, письмо Ваше из Жлобина получил. Надеюсь, Вы уже на месте и вошли в колею.
Я не видел проводов запасных, но могу вообразить. Все это совершенно естественно и понятно.
Если бы этого не было, если бы все были „стоиками“, то людям нечему было бы учиться, а следовательно не нужны были бы те условия, которые создаются войной. В последнем подсчете страдание и испытание личности направлены к тому, чтобы уяснить ей, что нет для нее жизни вне коллектива. „Хаотическая“, неспособная к единению индивидуальность приводится условиями жизни к необходимости единения. Индивидуальность приводится к сознанию, что ее страдания – личные – имеют смысл и значение только с точки зрения блага коллектива. Наиразумнейшее объяснение этого дает Церковь, ибо одна только Церковь, при такой точке зрения, не умаляет значения личности.
Страдания военного времени велики. Но я утверждаю, что, в общем, страдания народа, взятого в целом, не увеличиваются.
—415—
Совершенно как во время холеры. Общее количество смертей в данном народе не увеличивается. Разница только в том, что вместо того, чтобы умирать от „разных“ причин – большинство умирает от холеры.
Кроме того, во время войны страдание и горе распространяются на плечи тех, которые в „мирное“ время более или менее „застрахованы“. Во время войны эти „счастливчики“ несут свою долю страданий народа.
Но дело в том, что во времена мирные легко закрыть глаза и не видеть страданий – хронических – коллектива. В военное время такое закрытие глаз невозможно.
Упала Силоамская башня и задавила людей. Неужели вы думаете, что эти люди были грешнее других? Нет. И, если не покаетесь, все погибнете.
Разразилась война, и погибли сотни тысяч. Неужели вы думаете, что эти погибшие были грешнее других? Нет! И, если не покаетесь, все погибнете.
Если Промысл Божий допускает падение Силоамской башни и войны, то само собою понятно, что это должно служить причиной покаяния. Причиной исправления ошибок.
И я знаю, и вижу, что те народы, которые встречают войну и относятся к ней в религиозном настроении, всегда извлекают пользу из таких, посылаемых им Промыслом Божиим, испытаний.
Теперь о личной опасности. Во-первых, хорошо усвойте себе, что вызов Петра Христом из лодки – факт. Также факт и то, что Петр шел по воде, пока не усомнился.
Положив этот факт в основу, я утверждаю следующее: во время сражения Вы можете обезопасить себя и окружающих Вас молитвенным настроением.
Основа и фундамент этого настроения в следующем: „Да будет воля Твоя“, и второе: вера в то, что ни один волос не упадет с головы Вашей без воли Отца.
Примените это на деле, и Вы, из личного опыта, убедитесь в том, что я прав. Вы убедитесь в том, что молитвенное настроение, действительно, является защитой и покровом против физической опасности.
Пусть каждое Ваше дело и поступок будет такого рода, который Вы сможете „защитить и оправдать“ перед престолом Божиим.
—416—
Ведь, тем и дорога война и „смертельная“ опасность, что тварь становится как бы перед лицом Творца.
Конечно, это – всегдашнее положение твари, но дело в том, что в обыкновенное время это чрезвычайно легко упускается из виду по чувству, хотя об этом и говорится. И хотя для верующего смертельная опасность на войне вовсе не больше, чем в Глушкове, но дело в том, что почувствовать это всем существом, проникнуться этим – весьма трудно в мирное время. На войне же это возможно. Другими словами, „война и сражение“, это – такое время и такие условия, при которых для каждого человека слегка проясняется то „тусклое стекло“, через которое мы ныне видим тайны бытия.
Очень надеюсь, что это письмо дойдет до Вас. Пишите почаще и дайте свой адрес. До свидания. Всего хорошего.
Крепко жму Вашу руку.
Д. X.
Сообщил М. Новоселов.
Дурылин C. Н. Начальник тишины // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 7/8. С. 417–445 (1-я пагин.).
Ты бо Богоневестная начальника тишины
Христа родила еси, Едина пречистая.
Из Богородичного канона.
I.
В нашем восприятии родина всегда двоится – до противоположности, до несоединимости, – на Россию и Русь. Как хорошо знаем мы первую и как мало вторую! – так мало, что даже спрашиваем себя часто: да есть ли вторая? есть ли Русь? Что, если, в действительности-то, и есть только одна Россия, Русь же, особенно с прибавкой: святая – лишь мечта, славянофильский призрак, православный самообман, националистическая ложь? Достаточно одного примера, чтобы показать, как близки мы к такому заключению. Святая Русь – это Россия в храме, на молитве, перед образом, Россия с восковой свечкой в руке, с радостью и упованием о Христе в сердце, с ведением Его – в разуме, с устремлением своей воли к Его воле: «да будет воля Твоя». Где ж эта Русь – в нашей новейшей истории, в государственном действовании, в нашем общественном сознании, в философском построении, в литературе, в искусстве? Где ж эта Русь, которую «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя»? – (Назову ее Тютчевской Русью, по имени поэта, так живо и глубоко ее восчувствовавшего, – в отличие от той Гоголевской России, которую изъездил в бричке Чичиков и которая так всем известна: сказаниями о ней заполняются ежедневно столбцы газет, которая так легко приметна и так явна). – Признается обычно, что русская литература – выразительница нашей русской подлинности, нашего русского лица.
—418—
Так ли это?
До чего было мало храма в русской литературе! He от того ли большинству писателей и читателей наших Россия всегда представлялась только Гоголевской Россией, населенной городничими, помещиками, мужиками Глеба Успенского, чиновниками Щедрина, интеллигентами Чехова, а Тютчевская Русь – Русь преподобного Серафима и прибегавшей к нему миллионной верующей России – казалась праздным славянофильским вымыслом, религиозно-романтической мечтой, мессианистическим вздором! У Гоголя, у верующего и православного Гоголя, все его художественное слово прошло мимо храма, молитвы, веры, мимо Руси: если Чичиков, бедный Акакий Акакиевич, городничий – на первом плане, загораживая собою всю Россию, если добродетельные помещики 2-го тома – на втором, то храм и церковь – просто – ни на каком, как будто ни его, ни того, что около него и от него, никогда и не было в России. После Гоголя так у всех, кроме Достоевского и Лескова: у Гончарова храм и Россию около храма стали загораживать Обломовы, у Тургенева – лишние люди (только Лиза да «Живые мощи – исключение), у Островского – самодуры «темного царства», у Чехова – бесконечные интеллигенты, о Щедрине – и говорить нечего. Выходило так, что ни у мужиков – а они ли не прилежны ко храму, не прибегатели к Заступнице Усердной!, – ни у купцов – а они ли не радетели хотя бы обряда и быта, создавшихся около церкви!, – ни у дворян – ездили же и из них многие к старцу Серафиму в пустыньку, вышли же из них славянофилы с Иваном Киреевским!, – ни у кого не было никакой связи с храмом, никакого касания к нему; выходило так, что в русской жизни не было ничего из того, что накапливалось веками вокруг храма и Церкви и что вольно или невольно сочилось из нее в жизнь, в семью, в личность, в историю: ни чувств, ни мыслей, ни душевных движений, ни действий, связанных с нею или от нее как-то зависящих. Перечтите повести Тургенева, романы Гончарова, драмы Островского, рассказы Чехова – что узнаете вы из них о верующем русском народе, о народе, не только страдающем, нуждающемся в социальных и политических переустройствах, но и живущем в Церкви и церковно,
—419—
укрепляющем себя молитвой, просветляющем себя верой в Христа. Пьют, едят, пашут, страдают, бунтуют, скорбят, рассуждают, умирают – когда же и как молятся, веруют, живут в Церкви? или, может быть, вовсе не живут в ней и она – какой-то добрый мираж: уж не славянофилы ли и ее выдумали заодно со «святой Русью»? В интеллигентском сознании и представлении эти едящие, пашущие, страдающие, бунтующие, рассуждающие мужики, помещики, чиновники и интеллигенты застили, заслонили собой, вытеснили тех помещиков, интеллигентов и мужиков, существование которых засвидетельствовано историей и которые наверху дали Хомякова, Тютчева, Достоевского, Киреевских, Самариных, Аксаковых, людей веры и мысли, а внизу – тех бессчетных праведников народной веры и воли, которые, как святой обряд, проводили свою тяжкую жизнь, как праведники, умирали и, как грешники, своей народной душой взыскивали правды Христовой в Сарове, в Оптиной пустыни, всюду и везде. Высочайшая точка новой русской истории, средоточие всей ее духовной силы и красоты, благодатный алмаз Руси, преподобный Серафим Саровский – дитя этой Руси, вышедший из того «темного царства», которое так шумливо высмеивалось умниками 60-ых годов, – и если б мы не знали ничего и ни о ком ином, один факт существования преп. Серафима открыл бы пред нами существование в Гоголевской России – святой Руси.
Неполноценность, неполнота, явная недостаточность той России, которую открывали Гоголь и шедшие за ними, сопровождались губительной неполнотой нашего восприятия и представления России. Мы сузили, обескрылили, обездушили Россию, сведя ее всю на Российскую империю, нуждающуюся в реформах, конституции и интеллигентах. Именно эту Россию, – на самом деле лишь часть подлинной России, – мы знаем по преимуществу, если не исключительно, именно от нее страдаем, мучаемся ее судьбами, огорчаемся ее неудачами, и когда нам кажется, что эта Россия гибнет, когда ей угрожает смертельная опасность, нам представляется, что гибнет вся Россия. Нам представляется, что Россия исчерпаема ее историческими добродетелями и грехами, социальным и общественным ее телом, ее эмпирикой, и когда здесь
—420—
нам видится некое дно, некое темное и безвыходное дно, – будет ли это историческая неудача или социально-политический тупик, – вам уже начинает казаться тогда, что исчерпана вся Россия, что мы, действительно, дочерпались до ее подлинного, последнего, окончательного дна, которое плоско, мутно, вязко, – и тут нас охватывает безудержное отчаяние. Нет надобности напоминать о нем: переживалось оно после 1905-го года, переживает его значительная часть нашего общества и ныне, в дни войны, влекущие грозные силы надежд и отчаяния. Мы забываем, что за этим дном, за этой мутной толщей русской эмпирики политической, государственной, социальной, общественной, начинается подлинная русская глубина – начинается Церковь, начинается русский народ, живущий в Церкви и церковно, как часть Церкви Христовой, т. е. часть Тела Христова. Из-за России мы часто не видим Руси, но оттого мы не видим по-настоящему и России. И часто вспоминаешь слова Тютчева о «гордом взоре», который здесь оказывается взором ее иноплеменным, а своим же русским, и который все-таки, как и тот
He поймет и не заметит,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Эта нагота всяческая: и государственная, и социально-политическая, и бытовая, и психическая, и просто физическая нагота, удручающая в России, глубокой тоской она ранит нас всех и застит нам то, «что сквозит и тайно светит» за нею. В эту наготу упирался наш взор непрерывно – и упирается доселе. Но прикрываема ли и исцелима ли эта нагота с ее ранами и язвами без веры в светящее за ней? В наши тяжкие и грозные дни позволителен и другой вопрос: переносим ли, стерпим ли для глаза самый вид этой наготы, – если же разглядеть сквозь нее хотя бы самый слабый и тусклый лучик этого тайно светящего света? Думаю, что нет; думаю» что если за безудержным плачем России же расслышат хотя бы полуслова молитвы Руси, если за мятущейся смутой и кипением России не познать хотя бы на мгновение благодатного Христова покоя и тишины той Руси, – думаю, тогда не выдержать, не перенести ни этого плача, ни этого мятежа и смуты.
—421—
Bсe последующее – лишь попытка показать, описательно и неполно, два слабых и мгновенных касания к этому «тайно светящему» Руси, которые однако, при явной неполноте, слабости и краткости, сделали для меня переносимым вид наготы русской, – наготы матери моей, родины, – в наши странные дни.
Мне кажется, что на совсем простых и самых обыкновенных рядовых людях русских я увидел, тоже совсем просто и явно, малый и скудный, но подлинный отблеск того, «что сквозит и тайно светит в наготе» современной России.
Вот и все, о чем я хочу рассказать.
II.
Лето 1915-го года на севере и в средней России было ржаное лето.
Хлеба стояли высокие и густые. В круглых котловинках, – а их много в полях нижегородского Заволжья, – рожь зыблилась и играла, как ребенок в зыбке. Тихо плескались перепела в самой гущине ржи. Рожь, как молодая русая богомолка, низко била поклоны до земли и быстро поднималась с нее, стройная и высокая. Васильков было мало – и тем крупней и синей казались их живые самоцветы в сияющем ржаном золоте. По вечерам пахло медвяно и густо зреющей рожью и теплом, мягким, земляным, хлебным. Урожай – вот что значило все это: урожай даже там, где почти не бывает урожая – в глинистом скудном нижегородском Заволжье.
В Москве, среди интеллигентов, среди всяких народолюбцев, об этом говорилось мимоходом:
– Да, урожай. Но как-то мы его реализуем? Вагонов не будет. Хлеб будет гнить. Конечно, урожай. Но ведь мы и с урожаем не справимся.
Иные добавляли:
– Знаете, однако урожай – это новый союзник против немцев.
И завязывался обычный разговор на политико-экономическую тему.
—422—
В Заволжье же, на десятки и сотни верст вокруг озера Светлояра, урожай – это была всенародная радость, тихая, сосредоточенная, глубокая.
– «Будем с хлебом», – говорили все, прибавляя неизменно; если Бог даст убрать...
Но за этим, за радостью о насущном хлебе, была и совсем другая, еще более утаённая и благоговейная радость:
– Уродил Бог. Значит, не до конца прогневали.
Это было знамение Божией милости: ржаное поле, полное
полновесным хлебным золотом, стало радугой, знаменующей, что гнев Божий пройдет, а милость останется: – вот, не отнял же хлеба насущного, – значит, жить еще будем, значит, хочет, чтоб Россия жила.
Мужики, сурово-тихие и спокойные, заходили на межу и равнялись ростом с колосьями: выходило, что рожь выше роста человеческого. На вопрос: – «Ну, как рожь? хороша?» – отвечали, как про живого ребенка, который растет не по дням, a по часам:
– Вот как: медведь медведем стоит.
И опять те же, все те же слова:
– Уродил Господь. Обрадовал; не в конец гнев Его.
– He до конца. He вовсе отвратил лицо. Обрадовал.
И крестились все, разом, и вздыхали, и опять крестились.
Было ясно для меня; этот созревавший хлеб ржаной они принимали, как хлеб небесный.
Двоилась родина: Россия учитывала, сколько уродится пудов, сколько потребуется вагонов, какие будут непорядки на железных дорогах, какие спекуляции создадутся на почве урожая, как будет действовать или бездействовать правительство, – Русь же радовалась, что Бог не до конца забыл ее, не до конца, не до смерти казнит ее, а вот шлет ей земную радугу – золото урожая, но она – только предвестие иной радости: золота небесного, пребывания в милости и любви Господней.
Рожь плавными, широкими, уходящими за окоем реками вливается в тихо плещущее, светлое, круглое озеро. С другого берега к нему подходит вплотную и наклоняется над ним лес. Кажется, что ржаные волны бесшумно и плавно вольются сейчас в рябящуюся на ветру воду. И волну-
—423—
ются волны земные и волны водные, а над ними, в синем небе, волнами проходят облака.
Сюда, к этому озеру, затерянному во ржи и в лесах, сходятся на Владимирскую, на ночь с 22 на 23 июня, в самый разгар сельских работ, взыскующие града невидимого Китежа, тоскующие по церкви Христовой, ищущие ее, Соборную, Вселенскую, Вечную, – или враждующие с Ней, сторонящиеся Ее, и все-таки влекущиеся сюда же, где так ясна Ее правда, где так видны Ее невидимые стены, где ближе и необходимей глубокая жизненная нужда не просто в вере, не просто в Боге, а в церковной, соборной вере – в Церкви, соединяющей Бога и человека неразрывно и нерушимо. Так было долгие десятилетия: каждый год сходились сюда и молились все сообща, разными молитвами, но об одном: чтоб быть всем в Боге в одно тело и в одну душу, и в дух один – молились о Церкви1136. Так было, но ехал я и думал: А теперь сойдутся ли?
He подавила ли Россия своими бедами и испытаниями и этих, которые больше от Руси, чем от России? Взыскивать Невидимого Града, когда один за другим разоряются видимые город, свои же, кровные; молиться на незримые стены Китежа, когда падают с потрясающей быстротой крепчайшие стены крепостей. Где же силы на это? И какие же должны быть эти силы? И все-таки верилось, что придут, сойдутся, помолятся. И пришли, и помолились.
Притихла Россия – та Россия, что и там есть, на Светлояре. Нет песен, нет шума. Ярмарка, раскинувшаяся вблизи озера, словно бы и не ярмарка: так тихо и мирно: истово едят за столами, в палатках, утыканных березками; подают гроши нищим, пьют сбитень, поят лошадей; старушки у озера ищут целительную травку. А на лесистых холмах у озера уже собираются пришедшие издалека на китежской день и китежскую ночь. День облачный. Будет, должно быть, гроза. Смотришь на эти круги народа, тихо и чинно собирающегося в лесу, где-нибудь на хвой-
—424—
ной полянке, и думаешь; «Война, да ведь война же? A разве они о ней? И если даже о ней, то так ли говорят о ней, как мы, там, в городах?»
He тο говорят, не о том говорят и не так говорят.
Никогда не слыхал ни одного спора в круге, в который собрались люди разноверные, разномысленные, внешне-чужие, внутренне-близкие этой русской неутолимой жаждой – «взыскивать града незримого». Круг начинается с двух-трех человек. Затевают не спор, не дискуссию, как мы, а «пытают» друг у друга: «Бога как ведаешь? Кому молишься?» Отвечают. Слушают ответ. Подходят новые, другие, третьи – слушают. Если бы им предложить председателя – и сесть ему не на чем: разве на пеньке, и не нужен: улыбнулись бы на это. Слушают тихо, спокойно: куда спешить? Дело Божье, и нужно гнать от него суету. He любят суеты. Слушают, пока не кончит говорящий; тогда отвечает ему кто-нибудь один, или спрашивают, сначала один, потом другой. И если спрашивание растет, а ответы слабеют, и явно станет, что не скажется что-то до конца, что правда искомая не восполнится, что уже все сказал, что мог, говоривший, и этого мало, этим не напитаешь религиозной жажды слушающих – тот, кто говорил, сам знает, что ему делать; он молча выходит из круга. Слушают так, как мы не умеем слушать. Слово для них – не слово, а какая-то крышка с бездонного колодца: нужно ее снять или приподнять, а там глубина и вода. Какая вода? Пресная? Соленая? Вкусная? Горькая? Какая жизнь – в Боге, или без Бога? И если с Богом, то как живешь, как мыслишь, как поступаешь, как работу работаешь? Как входишь в Бога и как Бог в тебя? Слушают иначе – иначе и говорят. Наши слова – ассигнации, которые еще надо оплатить золотом, их слова – золото, неумелой, грубой, своей чеканки, но подлинное золото. Оттого оно тяжело на вес оттого его немного; а наши ассигнации и легки, и многочисленны.
Тихо, тихо в лесу. А толпа тысячная. Вот большой и широкий круг. Тесно. Стоят плечо к плечу. У сосны стоит худой с изжелта-белым лицом мужик, молчаливый и нищий. Мало у него слов, а их у него просят: нужна и его жизнь, и его мука о Боге, нужна вот этим
—425—
молчаливым и ждущим, и он знает это, и говорит через силу. Мука у него безысходная:
– Хоть бы одно слово о Боге было Божье! Все слова о Боге человеческие, а человек солжет, обманется сам и другого обманет.
Он не сектант: с такой мукой неверия в слово – не примут ни в одну секту.
– А Христа принимаешь? – спрашивают его.
– Христа знаю, а ничего не знаю, что Его, что людское.
– Почему не знаешь? А Евангелие читал?
– О Нем писали, не Он писал. Бог, знаешь, книг не писал, – и ничего мы не знаем. Божье с человеческим смешалось – и разбору нет.
– Как же тебе жить-то? – жалеют его.
– Живу.
И вдруг с глубокой и ясной тоской он тихо-тихо договаривает:
– Эх, если бы от Hero Самого про Heгo узнать.
– От кого это?
– От Христа.
Мужик не один: у него дружок – старик маленький сидит у сосны на корточках. Ничего не говорит. Лицо детское, как печеное яблочко, с розовым запеканным румянцем. И улыбка не сходит с лица, но грустно и жалко на сердце от этой улыбки.
– И дед так же, – спрашивают мужика, – как ты? Как же вы без Христа-то?
– Милые, как же без Христа-то?
– Что Его, что людское – не знаем. Его знаем, а про Hero ничего не знаем.
Кто-то срыву, совне, грубо выбрасывает слово:
– Антихрист он, дед-то.
Но какой он антихрист? Он виновато жмется, как калека, под сосной и молчит. Он ни о чем не знает: об антихристе так же, как о Христе. Людское застит ему Божье – и застит сплошь, а смешанного взять; Божьего с людским и там отыскивать чистое Божье – страшно: ну как людское поставишь вместо Божья? И тогда воистину будешь от антихриста. И дед жмется к стволу сосны, приминая мох. Страшно – не знать!
—426—
И ты с ними? – спрашивают парня в суконной куртке, в чищенных сапогах, с зонтиком в руке.
– Нет, я по себе, – отвечает он.
У него лицо в рябинах, белое, матовое и маленькие серые глаза; они стоячие какие-то; остановятся на человеке и смотрят, не двигаясь, остро, сверлисто, одиноко, – но больше всего одиноко.
– Я по себе, повторяет он.
– Объяви, к кому прилежишь, – просит молоденький миссионер из семинаристов. – Как зовут?
– Как ни зови, все будет верно.
И отрывисто, не спешно, парень заговорил: было видно, как он внутри себя что-то пропускал, что-то обходил, но главное было – и было сказано просто, ясно и крепко. И нестерпимым одиночеством веяло от этого: как будто растрескались губы, запекшиеся от религиозной жажды, и готовы пить всякую воду, гниющую, тинистую, лишь бы пить. Тело и дух – двое в человеке, как этаж на этаже; они только внешне сцеплены: внутри ничего нет общего, все свое у каждого, и каждый ведет свою жизнь за одного себя. Греха нет: его не может быть.
– А блуд?
– Нет его. Плоть блудила, не я.
– А если убил, а ограбил?
– He я убил, не я ограбил: плоть.
Плоть блудит, плоть грабит, плоть убивает. Дух ни при чем. He духово дело. Плоти дело. В ее деле дух не участвует. И захотел бы – не может.
– А если умрешь?
– Плоть умрет. Сгниет, как пес.
– А дух?
– Дух уйдет.
– А душа?
– Нет ее.
Опасливо и осторожно расспрашивают: как же так? страшно тебе в твоей пустыне-то? Как же ты можешь это вместить в себе? Как же можешь жить с этим? вот о чем хотят знать. Говорят со строгостью и глядят с суровым вниманием.
– Как же ты? а если согрешишь, сблудишь, солжешь?
—427—
Пусть ее отблудится, отолжется. На то она и плоть. A я и захочу сблудить – не могу. Дух безблуден. Он ни причем. He его дело.
– Господи! – вздыхает кто-то в круге. И страшно, и тихо звучит на этот раз Имя Божие.
– Тело, значит, плоть блудит? – спрашивают парня.
– Плоть.
– А дух нет?
– Нет.
– А мертвый человек блудить может? Убить может?
– He может.
– Как же? мертвый ведь тоже тело, – тело, выходит, осталось, духа нет, а убить не может. Как же ты?
Рассудочно доказано, логикой убежден парень. Он и уходит из круга, но он тот же, он с своей страшной и упорной силой, со своей пустыней. Этой логике он сказал: да, правильно; возражение он признал; да, пью гнилую воду. Но что же? II вопреки логике будет жить, как жил, только белое лицо еще бледней. Нет у него иной воды, живей и чище, за нею и пришел сюда, к Незримому Граду. Пока же и своей мутной воды боится лишиться. Он уходит один куда-то в лес, Я не мог его найти потом.
Второй круг еще больше, еще сложней. He передашь, не расскажешь, как общая боль, общая надежда о Церкви написана здесь на каждом лице вкраплены в каждую душу, запечатлены в каждом слове. Тут самое важное, определяющее все другое: Христос и Церковь. Ясно одно: если принять Его всего, всецело, до конца, с Нагорной Проповедью, с Страшным Судом, с Голгофой, с Воскресением, с Апокалипсисом, если принять Его, о Котором ангелы пели, как о принесшем «на землю мир» и Его же, принесшего «не мир, но меч», – то примешь и Церковь Его. Если же выберешь по своему произволу нечто из Христа – или Нагорную проповедь, или Апокалипсис, то не примешь Церкви, уйдешь из Нее, возненавидишь – и будешь вновь искать Ее, ибо нет жизни вне и без Нее. Вот речь идет о том, есть ли в Церкви теперь, в наши дни, учители, священники и пророки.
—428—
– Нет, говорят одни, – молчат пророки, нет учителей. Попов сколько хочешь.
– Есть, – отвечают им. – Есть и будут. «Воздвигну Церковь Мою и врата адова не одолеют Ее».
Стоит мужик в кругу – высокий, седой, с высоким лбом на умном открытом лице. Сколько воли и силы в этом лице и как оно могуче-прекрасно! Все зовут его по имени и отчеству. Многие уже встречались с ним раньше. Он ни с кем не согласен, но и нет у него несогласия:
– Что спорить! Все правы, никто не прав.
Для него покончено со всем:
– Христа слушал – до Откровения все явно Он вел, все нитки к одному, все в одно место, а там все Христос спутал, все перепутал и в узел связал накрепко. He развяжем. Ничего не видно. Конца нет. Ходил я. Будет с меня. Пятнадцать губерний обошел – концы искал: где спрятаны, в какой вере обозначатся. He видать. Не нашел. Живу – и нет ничего.
– Ничего нет?
– Будто ничего, – отвечает. – Живешь – ничего будто нет, а только если заплутаешься в чем, заминка выйдет, – будто тут что-то и обозначится и окажется, как будто и есть.
– Бог это, – сказали в толпе. – Это Он.
– He знаю. Будто нет, а будто и Он.
– Он, – отвечают в толпе. – Никто, как Он.
– А ты что про Христа скажешь? – спрашивают молодого русого мужика. У него улыбка чуть не шире лица. У него такая радость в улыбке и в глазах голубых и детски ясных. Прапрапраправнук он Микулы Селяниновича.
– Про Христа ничего не могу. Где мне о Нем, о Христе-Батюшке!
И обращается к миссионерам, ходившим с крестным ходом вокруг озера с иконой Владимирской Богоматери:
– Зачем вы Владычицу-то против солнышка несли? Ох, Господи! Владычицу самое против солнышка!
И так обидно ему за Нее, Матерь Света, что несли Ее против солнышка – против милого, ясного, тихого сол-
—429—
нышка, что все улыбаются на него и радуются, и утешают его миссионеры:
– Приходи завтра: по солнышку понесем.
* * *
Ночь пришла. Зажглись костры в лесу. Зажглись звезды в небе, зажглись восковые свечечки в лесу у деревьев, на кустиках, у озера на обрубочках. Вокруг озера, молясь Невидимому Граду – Церкви, пошли со свечками. Тихо, тихо. Лес шумит. Тени бродят у костров. И люди – как тени, неслышные и тихие. Разговор о войне, о Вильгельме, о зле, хлынувшем с запада на Русь. И говорит старушка в круге:
– А спасемся ли, родимый, – неизвестно. Божий совет неведом. Время грозное. Зверь вышел из бездны, и цари земные ратоборствуют зверю. Иоанново Богословово время, им предреченное. «Кто подобен зверю сему?» Зверь грызет, и пагубу деет, и брани поднимает. Грехи наши из бездны зверя вызвали, грехом его, проклятого, питаем.
Она знает Апокалипсис наизусть, она думала над ним всю свою жизнь, для нее все, что есть и что будет в мире, заключено и открыто там, в Апокалипсисе; она тиха, и строга, и молитвенна. Какое милое старое лицо! как у старой няни, доброй, знакомой, – и няня говорит о последних тайнах. Что же это?
Но просто то, что она говорит. Для нас всемирная история – некая бесконечность, неопределяемая пределом длительность, для нее, как и для народа, всемирная история есть уповод, срок, само в себе ограниченное время, Богом данное человечеству. Богом дана власть и возможность человечеству: в этом времени – определить себя к Богу или к диаволу, свободно избрать, свободно творить жизнь. Но вот – край времени. И если же успел сделать своей всемирной истории к тому моменту, как подошел
к краю времени, – все равно, ничего не сделаешь: «времени больше не будет». Мы и стоим ныне на краю времени: и Россия, и все. Сколько еще осталось этого края – неизвестно. Но край виден: «времени больше не будет». Истории конец.
– А, может быть, помилует Бог? Бабушка, милости у
—430—
Heгo – неизмеримо. – Может быть, сохранит Рассею? – спрашивают у старушки.
– Если сроку прибавит, Батюшка, то и не лишимся все живота, и Россея будет.
Сроку прибавит – значит, отсрочит день, первый страшный день, когда «времени больше не будет».
Молиться о продлении срока всемирной истории – вот к чему зовет старуха. И молятся, и просят, чтоб не упразднил Господь время и продлил срок всемирного делания человечества. Так молясь, молятся и за Россию, и за всю вселенную.
* * *
Глухая ночь. Поздно: два часа. В глубине леса, у красных костров, поют. Сквозь сосны, как серебро, светится озеро, как серебряное подножие белых стен невидимого града Китежа.
– «Ангельский собор удивися, зрев тебе в мертвых вменишася», – поют у костра, в круге. Тихо, тихо. He будет времени, но сердце знает: упразднится смерть: «смертную же, Спасе, крепость разоривша». И бесконечная надежда радует всех китежскою незримою радостью. – «И от ада вея свобождша». И уже не скорбь, как теперь, a радость будет тогда от того, что «времени не будет». Вдруг кто-то не выдерживает радости этой ночи, этих звезд, этого света и этого пения о Победившем смертью смерть, и само собой срывается у него, как вздох, всем слышный и благодарный: «Господи, как хорошо!»
И, кажется, это не он, а невидимая Русь сказала от всего сердца своему Христу, сказала за себя, за свою природу, за свою историю, за свой труд, за испытание свое огнем войны: «Господи, как хорошо». Ибо все – не без Его воли и не вне Его силы и власти.
* * *
Совсем, совсем поздно. Холодно. Светает. Последний круг. Тут все в сборе – православные, старообрядцы, рационалисты, немоляки, и те, кому нет прозвища, пришедшие к Китежу в надежде и жажде. Молодой начетчик кричит на всю поляну, – так, чтоб все слышали: – Царь наш Николай дал вере нашей свободу, а царь
—431—
их Вильгельм отнимет веру, всю веру порешит и покончит! Стойте крепко за царя! Тот все порушит, всякую и всяческую веру упразднит, гонение поднимет. Все веры запретит и старую, и церковную, и сектантскую. Бога запретит всякого, совсем и навсегда. Никому верить не позволит! Стойте до последнего!
– Антихрист, безверный, – шепчут в толпе. – Вперед послан. Первые пути прокладать... Путь его обозначился. – Стойте все веры за Русь! Тот все веры упразднит.
Это, кажется, общее убеждение на Светлояр: победа Германии – конец вере, всякой вере. Они все знают, – точно сказали им из невидимого Китежа праведники и святые, – что победа Германии, в духовном плане, принесла бы нам ядовитые газы безверия, антихристианства, вражды ко Христу и грубого, откровенного материализма – житейского, государственного, научного – торжество атеизма. И вот все – православные, староверы, сектанты, все, на правых и неправых путях, но не мимо Бога ходящие, все – кричат: «Стойте крепко!» А там, на позициях, слышат этот крик из Китежа, и стоит крепко, до кровей, до крепости смертной.
Какие ядовитые газы нам страшны, если в народе такая благоухающая жажда веры, такие алавастры мира самого целительного и святого! Вот он, источник нашей исторической бодрости, народной бодрости. Война – испытание веры, она послушание, налагаемое Богом на верного послушника своего. Ни слова уныния не слыхал я на Светлояре ни от кого из разноверов. Все бодры, тихи и крепки: такие-то и страшны врагу; около них за то не страшно за Россию. Что же страшного? от чего унывать? Душа жива, дух жив – a жизнь его оттуда, где не прекращается жизнь, из Невидимого Китежа. Он – твердыня, камень невидимый. Церковь незримая неотлучна от нас. Плачем о Ней, порой забываем ее, отходим от Нее, но вот и отдых свой несем к Ее же стенам, и забвение свое приносим к Ней же и все тяготеем к Ней, вольно и невольно, любовно или скорбно. Она не только «столп и утверждение истины» – Она утверждение жизни, Она источник бодрости народной. У тебя сомнение? – неси его к Ней. У тебя радость? – неси к Ней же. У тебя скорбь? – к Ней же. И несут, и топят
—432—
свое личное – в ее сверхличном, свое робкое и слабое – в ее вечно-бодром и живом.
Церковь незримая – вот сердцевина Руси, ее крепкое место, ее неприступный врагу белостенный Град Китеж. Тот, кто прибег к его стенам, не знает страха – а если и узнает, так изгонится страх звоном китежским, который поистине слышен в эту ночь веры, сущей или искомой. Церковь незримая – крепкий град Руси – есть вместе и истинная крепость России, которая не сдается никакому врагу.
III.
Грустит Россия. Россия грустна. Никогда не верится окончательно в русскую радость, в русский восторг, в русское отчаяние, но в русскую грусть верится – и как в нее не верить. Ведь знал же это Пушкин, восклицая: «Боже, как грустна наша Россия! Ведь знал же это Ключевский, утверждая, что русская грусть есть основное в истории жизне- и душе-настроение русского народа. Он же хорошо наметил объяснение ее первоисточника; он религиозный, христианский, православный; он – в молитвенном прошении; «Да будет воля Твоя!» В войне этой как будто Россия не грустила: негодовала, надеялась, восторгалась, иногда близилась к отчаянию – но нигде не видно грусти. От газетного листа не провеет грустью; газета никогда не грустит: зовет к негодованию, к осуждению, к надеждам, но грусти нет. Ни военное донесение, ни воззвание благотворительного комитета, ни быстро обегающий всех военный слух – не зовут к грусти и как будто не вызывают ее. Но грустит Россия по-прежнему и больше прежнего, грустит по сереньким проселкам, грустит в пыльном третьем классе переполненного поезда, грустит в случайном тихом ночном разговоре: затеется он случайно, и вдруг встревожит и поднимет со дна грусть – неслучайную, вековую, постоянную, ту самую, в глубине которой тихое и покорное прошение: Да будет воля Твоя!
Нигде я не видел такой грусти, сияющей светом тишины, благотворной, неизбежной, от лица земли к Богу идущей, как в Оптиной пустыни, во дни войны. Тут
—433—
ясно – что в этой грусти, как в жизне- и самочувствии, подлинная Россия, потому что подлинная Русь тут же.
He могу и не смею говорить, что такое Оптина пустынь. Ha это нет сил , нет уменья, нет права: для каждого она может быть совсем иной, новой и своей, иначе религиозно действующей и по-иному спасающей, – верно только, что непременно спасающей. Вспомним только, что спасались ею такие разные, как Гоголь и Константин Леонтьев, Иван Киреевский и простой мужик. Буду говорить лишь о том, что они для всех нас теперь, в дни войны.
Народная волна широко плещется в Оптину. Осень. Монастырский бор стоит весь золотой, многошумный, сияющий в солнечном золоте. Доцветают последние цветы в скиту. Тишина на монастырском кладбище. Приходишь не в первый раз – и по-новому прислушиваешься к тишине, к тихому полуночному звону. Неугасимо и благодатно теплятся лампады на могилах великих старцев – Леонида, Макария и Амвросия. Молишься за них и вспоминаешь их, праведно отшедших.
Опять подходишь к чугунному кресту на могиле Ивана Киреевского, что лежит в ногах старца Леонида, и вспоминаешь опять слова митрополита Филарета: «Ах! где Бог удостоил его лечь!» и опять перечитываешь мудрое надгробное напутствие знаменитому философу и смиреннейшему послушнику Оптинскому: «Премудрость возлюбих и поисках от юности моея. Познав же, яко не инако одержу, аще не Господь дает, приидох ко Господу. Узрят кончину премудрого и не уразумеют, что усоветова о нем Господь!» (Прем. Солом.8:2 и 21). He удержишься от думы: христианская мысль, смиренно проникшая к христианскому ведению и подвигу – не в этом ли смысл и безмолвный зов этой могилы, одной из драгоценнейших русских могил? He в этом ли причина, что сюда влекло Гоголя, Леонтьева, Алексея Толстого, Достоевского, Влад. Соловьева, Льва Толстого? Как хорошо сказал об этом Гоголь в письме к Оптинскому старцу: «Ради самого Христа молитесь: мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптиной пустыни». Да, быть в Оптиной, – быть в ней всегда, когда пишешь, учишься, работаешь,
—434—
страдаешь, умираешь далеко от нее – и быть все же в Оптиной – «на всяком месте странствия в Оптиной» – за долгими и животворными ночными службами, за тихой лаской Оптинской тишины, за правдой оптинских могил, за мудрой властью и хранительной любовью оптинского старца. Гоголь сказал то, что сказали бы все, оживотворенные оптинской любовью и властью, все от Киреевского до плачущей бабы.
Как будто нет войны, нет тревоги, нет смуты. Строго и мудро свершается круг церковных служб. He суетно проводится время. Безмолвно и радостно в скиту. Шумит золотой бор. А народное горе льется, льется сюда – но оно иное здесь, чем в деревне и городе; оставлено за стенами все суетливое, внешне-плакучее – народная нагота здесь воистину смиренна и целомудренна. Здесь скорбная, плачущая, нищая, тихая Россия. Раненые солдаты бродяг тихонько по лесу или крестятся часто и истово в темном углу собора, опираясь на костыли. Вереницы баб тянутся отовсюду, тянутся, как к себе домой, на побывку из чужой стороны, тянутся с детьми, с древними старухами, с еще более древними стариками... Беженки-монашки из западной России ютятся где-то около монастыря, и в церкви тесней, чем всегда, и, кажется, еще тише от них. Но не эти только. Больной офицер ее палкой; сельские батюшки в порыжевших помятых рясах: их не отличишь издали, если смотреть только на лицо, от тех же мужиков; парни в сапогах и полушубках, будущие призывные; и еще, и еще, и еще. Тянется Россия к здешней Руси, а здешняя Русь – это милая радующая улыбка старца Анатолия, «простого», как зовет его народ, вкладывая всю ласку и нежность в это слово: это – долгие, долгие службы в полутемной церкви, в древней неторопливости, покое и свете, это – ласка православия1137. Все тянутся на эту ласку, за которой сила и жизнь.
Да оно – ласково. В этом все. Церковь ласкова. Какая ласка человеку от науки, от государства, от общества, от социологии? Никакой и никогда, «Права и обязанности
—435—
гражданина». «Прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками». «Закон убывающего плодородия почвы состоит в том, что...» «Всякий, входящий в состав политической партии, обязан...», – вот что слышит человек вне Церкви, но что это душе, но что это человеку с его неоплаканной скорбью и духом неутолимым?
Государство всегда строго: только тогда оно и государство – ласковых государств нет. Наука – пред человеческой душой, как немка бонна с вымытым чистым холодным лицом без улыбки: не узнаешь, сердится ли или довольна: скучное лицо, – не пожалеет, не поддержит, не порадуется над человеком. Социализм – завидуч, с глазами завидучими: мысль социалистическая всегда вещна – некогда улыбнуться и охоты нет, нет влечения к человеку – надо производить и распределять вещи? He до человека. Конечно, в искусстве есть улыбка и ласка, но она идет не ко мне, Петру, Ивану, Василию, а вообще к людям: всем – и никому, т.е. в конце концов, тоже никому.
И только в Церкви ласка каждому, только ей каждый нужен, о каждом забота, до каждого дело: она – ответчица и на боль, и на радость, и на смерть, и на рожденье – и не на боль, радость, смерть вообще, а на отдельную, мою, мне больную боль, меня берущую смерть, меня охватывающую радость. Земля – большое, больное место, и всем больно, всем – совсем не от социальных несовершенств больно, не от политических неустройств, не от того даже, что болеем и стареется, а метафизически больно, внутренно, где-то в глубине всего существа человеческого больно, изначально больно, какой-то корень человеческого существования болен и ноет постоянно: это – то безликое, всеобщее, метафизическое «плачется», которое таится за всяким личным «плачу». Этого не утешит искусство, не исцелит наука, не устранит государство – они лишь отвечают сквозь зубы на боль всечеловеческую: «Закон такой-то состоит в том, что...» «Проблема распределения при социалистическом строе ставится...»
Я говорю не о богословской системе, не о книге, а о месте Церкви, о совсем определенном, реальном месте, на которое можно стать и плакать, или радоваться, о месте, на
—436—
котором стоишь и знаешь, как тебя, в твоей всечеловеческой, древней метафизической боли жалеют, ласкают, привечают, преодолевают твою древнюю боль отовсюду: древние огоньки свечей – огни еще катакомбных времен, – древняя, с древними слезами и надеждой, песнь «Свете тихий», древние страницы из «Притчей Соломоновых», древний и вечно новый рассказ евангельский, как Христос пожалел наинскую вдову и воскресил ей сына. Пожалел Бог человека, что больно человеку, и пожалел человечески-просто; душевно, тихо, но так, как не может пожалеть человек: до конца, до полного устранения метафизического корня этого общечеловеческого больно: воскресил.
Религии иудейская и греческая ласкали тело: одна говорила ему: «плодитесь и множьтесь» – это ласка телу: ты хорошее, доброе, нужное; Афродита, чтимая изваянная, – это тоже ласка телу: ты прекрасное, ты блаженное, ты вечное... Но душу об не ласкали, до глубокого метафизического корня человеческого «больно» обе не доходили. «Множьтесь» – a если не хочу множиться, потому что больно и душа изнывает от этого «больно»? Страдающему Иову не скажешь: «множьтесь»». Ответить Иову нельзя было Богу и не нужно, но душу его охватить нужно было лаской Церкви церковно – обрадовать надо было, а это мог бы только Христос: он первый обласкал человека, ибо первый, и единый был Богочеловек. И греки древние оттого и печалились, и грустили – мы мало обращаем внимания на эту древнюю греческую скорбь – оттого, что ее знали метафизической этой ласки Бога к человеку. И Сократа хорошо бы приласкать церковной лаской; Сократ умирал грустно, честно и одиноко, умирал, как воин, окруженный врагом: пробиться нельзя, остается достойно и безнадежно умереть, и как хочется, чтобы его, грустного и безнадежного, пожалел Христос – вот так, как обласкал наинскую вдову, блудницу с ароматами и разбойника на кресте. Где же эта ласка у евреев и у греков? Ее нет нигде, кроме Церкви: это Ей одной дал Христос охоту и силу вырывать корень метафизического, вечного, глубочайшего и всяческого «больно» из человеческого существования. Иоанн Златоуст сказал; «Бог и намерение целу-
—437—
ет», – ну, а вот Церковь душу целует реально, действительно, ощутимо. He катехизисом, конечно, не богословской статьей, не патриаршеством или синодом, а вот этим единственным в мире поцелуем, тихим, древним и непрерывным поцелуем Церкви целует в полутемном храме с красненькими огоньками на кануне за умерших, пред Спасом и Богородицей, в долгом и тихом протяжении вечерней службы, за которой и из Соломона прочтут, и помянут ласку Христову людям, и поплачут вечными слезами о том, что дни человеческие, как трава, и о том, что «от юности моея мнози борят мя страсти» – и обрадуют вестью о воскресении, – и сколько во всем этом древних и новых слез смешалось, и сколько накопилось за века тишины и покоя, сменивших прежнее – иудейское, греческое, языческое – «больно». Церковь целует каждого и каждую лично, отдельно, порознь каждого и всех вместе, всегда и ежечасно, в каждую нужную минуту.
* * *
Я нигде и никогда так ясно и незабываемо не чувствовал этого поцелуя Церкви, укрепляющего и исцеляющего душу, восстанавливающего жизнь, на себе и на других, как в Оптиной пустыни.
С утра перед кельей старца, в церковной трапезной и в сенях ждет народ. Раненый офицер, монашка-беженка; бабы – всякие: старые, молодые, шумливые, беспокойные, тихие, зажиточные, нищие; дети: кто на руках у матери, кто бегает и смеется; монахи; мужики; курсистка из Москвы; сельский батюшка; я сам. Какие мы разные! Как все, решительно все, у нас разно, пестро, путанно. Но всем больно. На разные лады больно, но больно. За этими болями мысленными, физическими, духовными, одиноко личными, общими – русскими, за этими многоликими болями сильнее и больней всех болей та вечная, метафизическая боль, которую легче всего определить апостольскими словами: «единем человеком грех в мир вниде и грехом смерть и тако смерть во вся человеки вниде».
Там, у тихого озера Светлояра, эта боль многоголоса, иногда шумлива, иногда косноязычна, иногда глубоко недоуменна.
—438—
Она тянется к врачу; боль врача ищет, – мучится тем, что дойти до врача трудно, слабеет на пути и все-таки верит, верит, что Врач есть, что Врач излечит всех, вместе, соборне. Здесь, вышедшие оттуда, уже пришли – и вот лечатся, и вот припадают к Врачу в Его вечном доме – в Церкви.
В два часа выходит старец к этим разным, пестрым и впервые собранным вместе. У него и слов-то почти нет; то, что он говорит, просто и очевидно до крайности, знал и раньше, читал, слышал, помнил – и вот слышишь от него в первый раз. Решение, которое он предлагает, сотни раз приходило на ум – и нет: оно ново, оно в первый раз. Разные при нем не разные, и общий корень страдания, общая боль обнажается до конца. Он всех объединяет лаской и поцелуем Церкви. «Бог и намерение целует» – вот и он, научившись у Бога, у Христа, целует всех, не разбирая – одних за горе, других за радость, одних за слезу, других за улыбку, тихих за тишину, у тех, кому больно, боль их целует, у тех, кому светло, свет их целует. Пред ним, в тишине и простоте, впервые начинаешь сам видеть себя – свою душу и начинаешь видеть свое: вот то свое, в чем вязнет жизнь и глохнет душа, изнывает сердце, и чему простое и страшное имя: грех.
Отворилась дверь. Вышел он бодро, быстро, благословляет так, как никто кроме него не благословляет: как будто дарит что-то, подарок передает из руки в руку, оделяет чем-то милым и сладким, и все ждут, и просят, и рады этому его подарку. Бабы плачут около него, бабы из осиротелых деревень: почти у всех есть убитые, раненые, пропавшие на войне. Вот, кажется, захлестнет его, слабого и старого, волна народного горя. Гребень волны воет и плачет.
– Родимый ты наш! Один ты у нас остался! Больше никого нет – всех взяли. Ты один остался! Один ты наш! – Льнут к нему, плачут долго накопленными слезами тихо и безукорно.
Бледное и остановившееся, что-то все время хранящее в себе, лицо у одной бабы. Еще молодая, но где ее молодость? В сером платье, с котомкой за плечами – вся недоуме-
—439—
ние и скорбь, она без слез тихо склоняется пред ним, и едва слышно, что она говорит ему:
– Год не пишет. Год без вестей. Молиться не знаю, как. Нет знанья: жив или помер, панихиду или молебен служить? Истомились я. Научи ты меня.
– Что ты, что ты! Молебен служи, – поднимает он ее, благословляя.
– Кому, батюшка?
– Нечаянной Радости молись.
И светлеет ее лицо, и прямее идет она, словно росту он ей прибавил. Она верит: Нечаянная Радость обрадует ее. И она права: радость неисчерпаема, и она вся нечаянна, ибо вся – дар Божий. А он не сказал, не взял на себя сказать, какая это будет радость. Он только знал, что Бог не минует человека радостью. Немудрый ответ, немудрая ласка. Но вот этого-то немудрого, простого, оживляющего и восстановляющего изнемогающую душу, восстановляющего образ Божий в человеке и нет нигде в мире, кроме Церкви и никому другому не дано давать этого ответа.
Я вернулся в сенцы старца через много часов, около девяти вечера. Отошли все службы в монастыре. Старец сидел на скамеечке у растворенных дверей своей кельи и благословлял на сон грядущий монахов, подходивших к нему один за другим: ласкал за день, целовал на ночь, ласкал за серый, может быть, тягостный, мирный или немирный день, целовал на ночь, может быть, тяжелую и мучительную одним, тихую и простую другим. Но всех ласкал, каждого целовал. А они подходили всякие: совсем мальчики с юными мужиковатыми лицами, старики, тихие и улыбающиеся в бороду по-детски, и старики сухие, высокие, суровые, и всякие, всякие. А ласка всем. Старец устал за день. А конца не видно. Монахи пройдут – ждут исповедники, опять бабы, опять всякие. И так каждый день,
Глупое слово срывается поневоле: Церковь организует ласку людям, метафизическую ласку, целящую душу, врачующую тело, идущую прямо от Христа, но совершенно реальную, ощутимую, живую. Что реальней, чем этот сухой старичок, быстрый, веселый, всех
—440—
радующий: реально поводит рукой по голове, реально улыбается, реально ко всем торопится, всех встречает на полпути ко Христу, на первом шаге к Нему... Он добр не собственной добротой, – хотя, конечно, он до очевидности и лично добр, каждым своим суставом и кровинкой, – добра Церковь, ласкова Церковь, целует Церковь человека – оттого добр, ласков, целует и он; этого старичка и нет, не может быть вне Церкви, а она добра, ласкова, она целует потому, что целует Христос человека. Он стал на грубое и жестокое место мира: на древнюю скорбь и отчаяние, на древнее «больно» – и на нем основал Свою Церковь. В ней же, на этом месте стоит старичок, к которому льнут и бабы, и Киреевские.
* * *
Осень. Сколько опавших листьев в оптинском бору – золотых, красных, желтых, багровых! А в церкви старое золото, листик за листиком благодатно отпадая от неистощимого церковного древа, падает на каждого и на каждую.
А народная туга и скорбь плещутся, плещутся, не слабея. Рассказывает монахиня-беженка; а сама слышала от мужичка: приехал с хворостом и рассказал.
– Где же это было?
– Не знаю, где. А только в деревне у войны. Стояла избушка бобылкина у околицы, нежилая. И видит народ: ночью, о полночь, старец белый приходит и свет возжигает в избушке и всю ночь со старицей беседует, а старица лицом благообразна, а одеяние темное. Вызвался парень: Погляжу, говорит, кто такие. Что дадите? – Рубль дадим. – Пошел глядеть, в вечеру в избу пришел, залег на печи, притулился, словно мертвый лежит. Перед полуночью дверь скрип, и входит старец, крестом осеняется. Старец согбенный, одеяние белое, суровое, мешок за плечами, посошок, лицо ясное. Помолился на образ, свет зажег. О полночь встал и земной поклон кладет – и дверь растворяется. И входит старица: лик светлейший и благой, но только в скорбях истомлен, одеяние старицы, как у монахини. В схиме она. Села старица за стол, a старец земно ей кланяется и молвит ей: – Три года, Госпожа, не выдержит Русь: кровью изойдет и живота ли-
—441—
шится. Моли, Госпожа. – Молила, отвечает, и на год укорочено время. – Моли, Госпожа, дабы еще укоротить и сего Русь не выдержит: слабеет. Крови много ушло. – Молила, говорит, – не принята моя молитва: по грехам ее не укоротится срок сей. Два года молитвы мои не воспримутся о ней. – Моли, Госпожа. – Стал старец на колени. Встала старица, лицо светлое, а скорбит скорбно. – Молю – и не доходит молитва: два года Руси испытание назначено и не отнимется от нее. – И тут стали они промеж себя говорить, тихо и горестно, и все о войне. И долго говорили они. А потом подошел старец белый к печи, где парень лежал и молвит: Ну, вставай, иди к нам, Видеть нас хотел. Смотри. – А у того глаза свет застит, язык немеет. – На рубль-то, что сулили тебе, – старец говорит и протягивает ему в руку. И кажется тому, будто рубль в руке. Поглядел: никого нет. Светает. А рука к руке присохла, кисть к кисти. Так все и узнали.
– Два года! – восклицает кто-то горестно. – Выдержим ли?
– Никто, как Бог.
И все крестятся молча, в раз и жмутся друг к другу, а все вместе к старцу, к его дверям.
Можно ли скорбнее переживать ныне переживаемое? Два года Сам Христос молитв Матери Своей за Русь не будет слушать. Кто же и как после этого дерзнет молить? Нагрешила Россия и прогневала Бога беспримерно. Но нет в них отчаяния. Они не одиноки, как мы. Ведь их последнее и самое прочное – это прошение: «Да будет воля Твоя». Оптина – для них место, где это прошение особенно легко, полновесно и свободно можно вознести Богу, а старчество оптинское все, до основания, на этом и построено: «Да будет воля Твоя!» Старчество для современного рационалистического своеволия, для этого беспримерного одиночества человеческого ума, покинутого на самого себя, – есть особая удесятеренная нелепость. Свобода подчиниться и свобода не принять подчинения – в старчестве так же велика, как и вообще в христианстве. Старчество, как и христианство, все основано на благодати, а не на законе, и однако эта свобода ведет к величайшей покорности. «Хочу жениться, батюшка». – «Нет, тебе это не полезно». И не же-
—442—
нится. – «Хочу в монастырь». – «Нет, иди в мир». И идет. «Не хочу мира, хочу монастыря». – Нет, пиши роман». И пишет. (Случай с К. Леонтьевым и великим старцем Амвросием). Вот, что такое старчество. Но безысходное эмпирическое и метафизическое одиночество человеческой личности падает, как прах, при этом. Про современного человека Тютчев точно выразился:
На самого себя покинут он, –
на свою собственную ограниченность, легкую внешнюю и внутреннюю, эмпирическую и метафизическую, исчерпаемость, на свою короткую предельность, на свое слабосилие и малодушие. Современный человек все ставит и возлагает на себя, на свою мысль, волю, силу: он сам себя обдумает, он сам защитит себя, он сам волит о себе. И вот гибнет его воля, беззащитен он со своей защитой, не обдумала всего и всецело его мысль. Он сам как бы покидает себя. В чем тогда искать опоры? Природа равнодушна и холодна. Наука – это лишь разъятая на части, препарированная природа, она еще равнодушнее, ибо даже не жива. Искусство – но оно беспомощно, как сам человек, его высший объект и субъект. Философия возвращает меня ко мне же, ибо, учит она, все, как мое представление, оказывается исшедшим из меня же. Бог не стоит за человеком. И безграничное отчаяние овладевает им, – ибо воистину на самого себя покинут он. –
Упразднен ум, и мысль осиротела,
В душе своей, как в бездне, погружен.
И нет извне опоры, ни предела.
В Церкви же нет одиночества и потому нет отчаяния, ибо нет этой невыносимой для человека покинутости на самого себя. Не удалось мое дело – мое, безразлично, чье: меня, отдельного человека, меня, целого народа – я знаю: есть Некто, кто поможет мне совершить это дело, если ему должно совершиться. He исполнилась моя надежда, – все равно какая: личная, национальная, всенародная – я знаю: не от меня зависело всецело исполнение ее, я не один; за мною есть сильнейший меня, истинный Делатель в мире и в человечестве. Я никогда, ни на один миг не покинут на
—443—
самого себя, на свою одну волю, на свою одну мысль. Тысячи нитей связывают меня с целым. Я не слагаемое в сумме, где я исчезаю, как особь. Я ячейка живого существа, я клеточка могущественного и вечно живого организма – Церкви Христовой. Недавно послал Бог России мыслителя, кн. Д.А. Хилкова, убитого на этой войне1138. Он пишет: «Члены Церкви Христовой по Его концепции суть как бы живые клеточки Его тела и все вместе в совокупности и с Главою своею – Христом, составляют один Богочеловеческий организм». Возможно ли одиночество и отчаяние живой клетки в живом организме? Это очевидная нелепость и невозможность. Клеточка жива и связана всецело с жизнью всего организма. За существованием отдельной клеточки, отдельного человека, стоит существование огромного и вечно живого организма – Тела Христова, Церкви. Задача же клетки – в полноте выполнения ее доли участия в жизни организма. И эта жизнь человеческих клеточек в Церкви безгранично разнообразна, глубоко индивидуальна и полна. Вот человек-клеточка участвует в жизни организма Церкви – исполнением заповеди милосердия. Вот клеточка-человек, живущий даром молитвы, присущим ему. Вот клеточка-человек, связующий свое существование с существованием целого организма, мыслительным служением Христу – Божественному Логосу. Вот две клеточки, сливающиеся в одну: это исполнившие заповедь любви к другу, это те, кто в агапической любви всего организма-Церкви участвуют своей любовью, – дружбой – φιλία, это двое в душу и дух един; их дружба, их утверждение себя в другом и обоих – во Христе есть церковный прорыв одиночества: в любви-дружбе (φιλία) уже не покинут человека на самого себя. Нет возможности указать на все многообразие жизни отдельной клетки в организме Церкви, и каждая такая жизнь есть разрушение эмпирического и метафизического одиночества – всяческого одиночества.
—444—
Этого одиночества не знает народ, пока он в Церкви; он переживает свою историю не как свое только дело. В этом все. Если не ладится это свое дело, то руки отваливаются от работы и уныние овладевает, ибо не веришь уж в свои силы. Народ переживает каждый страдный час истории, как великое испытание, за которым есть Испытывающий: Бог, Который не дает человеку быть одиноким. Народ может слабеть и грустить, но есть Крепкий, Святый крепкий, который не ослабнет. Вот этой вере в Святого крепкого и учит Оптина, и учит старчество, и учит народная грусть. Народ в Церкви живущий все в мире сводит к одному знаменателю, знаменующему силу, и правду, и жизнь, – к Богу. Оттого, когда Россия в отчаянии льнет к газетному листу, к военной телеграмме верховного главнокомандующего, к слуху, сообщающему, сколько изготовлено шрапнели, Русь льнет к молитве, к незримому Китежу, к зримой Оптиной пустыни, – к Богу. И он находит, что ей нужно: находит великую святую тишину в себе. Без этой тишины в себе невозможно никакое ни личное, ни историческое народное благое делание. Служение верховным задачам блага – личного или сверхличного, как и служение муз, «не терпит суеты»: оно «должно быть величаво».
Есть только одно место на свете, навсегда лишенное суеты, изъятое из мира человеческой случайности, из мира природной необходимости и беззащитности: не государство – оно есть олицетворенная и узаконенная необходимость, не общество – оно есть живая случайность и переменность, это – Церковь, Тело Христово, живой организм, исполненный истинной жизни, состоящий из живых клеточек, живущих и в целом, и в себе, не выходя из целого. Только живя в благом устроении и тишине этого организма, не знающего суеты, случайности и слепой необходимости, только живя и соучаствуя в нем, мы обретаем тишину в себе, дающую силу для действительного величавого действования личного, общественного и народного, потому что глава и начальник этого тела и организма Христос есть вместе и начальник тишины. Да, так именует Его Церковь, когда благодарно поет Его Матери: «Ты бо Богоневестная начальника тишины Христа родила ecu,
—445—
Едина Пречистая». «Начальник жизни» Христос вместе есть воистину и начальник тишины, ибо суетливо и шумливо лишь слепое бывание, мнимый образ жизни, а не истинное бытие и жизнь, которые обретаются в вечном покое и полноте.
К этому начальнику тишины обращены и тайная китежская молитва у стен тихого града Невидимого, и тихая, хотя и явная, молитва тихих ночных служб оптинских, – тихая молитва неприметной и молчаливой святой Руси. Пусть же она, в тихости и смирении своей молитвы, в тишине своей покорности: «Да будет воля Твоя» – до конца припадет к единому Владыке – Начальнику Тишины, и Он, Начальник Жизни, даст ей венец жизни.
Сергей Дурылин
Глаголев С.С. Опыты математического решения философских вопросов. // Богословский вестник 1916. Т.2. №7/8. С. 446–467 (1-я пагин.) (Окончание)1139.
—446—
Процесс мировой жизни имеет за собой бесконечное прошлое, и потому в нем должны были осуществиться все возможности. Сущность телеологического доказательства бытия Божия нередко формулировали в словах Цицерона, который говорил, что случай точно так же не мог образовать благоустроенного мира, как из на удачу брошенных букв он не мог образовать летописей Энния. Против этого рассуждения выдвигают принципы вероятности и эволюции. Если бросить на удачу буквы, из которых состоят летописи Энния, то совершенно безрассудно ожидать, что они сложатся в стройные ряды, в которые их некогда уложила мысль Энния. Это верно, но если ежечасно бросать эти буквы в течение нескольких миллионов лет то, ведь, тогда в ряду тех комбинаций, в которые будут вступать эти буквы, должна непременно оказаться и Эннеева и при том даже без тех описок, которые допустил автор, и без тех корректурных ошибок, которые допускаются обыкновенно типографиями. Эмпедокл сказал: в природе сохраняется только целесообразное. В природе возникают всевозможные комбинации, но естественный отбор, – говорят теперь, – сохраняет формы и существа приспособленные к среде. Разум, раз явившись, цепко хватается за жизнь и стремится и сохраниться и умножиться. Но конечно не на земле и не в лице человека впервые засветился этот разум во вселенной. Триллионы и квадриллионы веков назад он должен был существовать. Этот разум, конечно, должен был делать то,
—447—
к чему теперь стремится разум человеческий – препобеждать природу и подчинять ее себе. И он имел у себя совершенно достаточно времени для того, чтобы достигнуть каких угодно целей в этом направлении. Зачем нам мечтать о Uebermensch’e? Миллионы веков тому назад он уже существовал во вселенной. Уоллэс почти такой же творец дарвинизма, как и сам Дарвин, развивая дарвинистическую теорию до ее последних логических выводов, приходит к заключению, что существует невидимый духовный мир и что этот невидимый духовный мир был тем Провидением, которое путем постепенного развития произвело человека от животных типов и теперь ведет его по пути развития и усовершенствования. Теоретические соображения и факты привели Уоллэса к такому воззрению. Если за биллионы веков до возникновения земли процесс эволюции совершался во вселенной, то ясно, что за биллионы веков до существования человека должны были быть существа обладающие разумом в неизмеримо высшей степени, чем культурнейший человек XX века. Конечно, эти существа давно должны были найти средства для свободного перемещения в междупланетных пространствах. Мир этих существ Уоллэс представляет невидимым. И как этот мир, так и этот признак у этого мира должны признать эволюционисты, если пожелают быть логичными. Те знания, которыми мы располагаем, ясно раскрывают нам, что при больших знаниях, и мы могли бы становиться невидимыми, когда бы захотели. Таким образом, существа высшего типа, находя ненужным и неполезным для нас открывать себя нам, могут неуловимо и незримо вмешиваться в нашу жизнь и содействовать нашему благу. По мнению Уоллэса, факты и доказывают, что человек не мог произойти от животных исключительно путем естественного подбора, и поэтому должно признать, что высшие существа сознательно, разумно и постепенно преобразовывали физическую и духовную организацию животных для того, чтобы произвести человека. Русские переводчики книги Уоллэса энергично отрицают участие разума в деле происхождения человека. Не будем с ними спорить об этом, но думаем, что с их точки зрения должно быть признано бесспорным следующее. Представим себе возможно совершенный разум, возможно
—448—
совершенное знание наилучших целей и средств, возможно совершенное знание мира. С эволюционной точки зрения такой разум необходимо существует. На самом деле, ведь разум, как и материя, эволюционирует от вечности, и следовательно, как бы далеко мы мысленно ни отодвигались в прошлое – на биллионы и триллионы веков, – мы неизбежно должны мыслить, что совершенный разум уже существовал в то отдаленное время. А между этим разумом и человеком эволюционный процесс должен был создать бесчисленное количество существ по своему разуму выше человека и ниже высшего разума. Продуктом эволюции должен явиться высший разумный мир, но так как эволюционный процесс существовал от вечности, то, следовательно, высший духовный мир существовал всегда.
Всегда существовал и Высший Разум, как предельный из всех возможных разумов.
Приложение математического анализа к принятым принципам и установленным фактам дало возможность многим физикам утверждать как научно доказанную истину, что Высший Разум есть не только устроитель и организатор, но и творец мира.
Существует в естествознании закон сохранения энергии. Эмпирически закон этот очень понятен. Им утверждается, что количество веса, количество теплоты, света во всей вселенной остается неизменным, что если известное количество теплоты превратится в движение, то потом движение опять перейдет или по крайней мере может перейти в тоже количество теплоты. За единицу теплоты принимается то ее количество, которое повышает температуру одного килограмма дистиллированной воды с 0° до 1° по С. (большая калория). Это количество теплоты, если оно будет преобразовано в работу, может поднять 424 килограмма какого-либо вещества на высоту 1-го метра. Величина 424 килограмма и называется механическим эквивалентом теплоты, так как показывает, в какое количество механической работы превращается единица теплоты (с непогрешимой точностью величина механического эквивалента не установлена). Наоборот, количество теплоты, развивающееся вследствие падения 1 килограмма с высоты 1-го метра (равное 1/424 количества теплоты нужного для повышения температуры 1-го
—449—
килограмма воды с 0° на 1° по С.), называется термическим эквивалентом работы. Эта неизменяемость отношений между силами, этот факт, что превращения энергии не изменяют ее количества, что при этих превращениях ничто не тратится и не пропадает, что, придя в свое первоначальное состояние, энергия окажется существующей в том же количестве, в каком и была изначала, этот факт и носит имя сохранения энергии. Он очень понятен и раньше, чем он был формулирован, он в действительности уже предполагался в положительных науках; из его молчаливого предположения выходили физики и механики в своих работах, он был и будет всегда необходимым постулатом естествознания. Но с философской точки зрения он заключает в себе много неясного и неопределенного. Пока им утверждается, что количество движения, присущее телам, остается неизменным, он ясен; но когда им утверждается, что и количество веса в природе тоже неизменно, он странен. Тело, перенесенное с полюса на экватор, весит в последнем месте менее. Нам скажут, что это не изменяет дела, и что вес земли остается неизменным. Но если землю удалить от солнца или приблизить к нему, то и ее вес изменится. Нам скажут, что вес солнечной системы останется неизменным. Но мы можем представить себе и солнечную систему поставленную в иные условия и вследствие этого ставшей или легче или тяжелее. Мы имеем основания таким образом утверждать, что мы можем перестроить всю вселенную так, что вес ее изменится. Есть одно объяснение закона тяготения, по которому сначала в природе не было вовсе веса и он явился впоследствии. Но если понятие веса оказывается неустойчивым, то тогда и все дальнейшее учение о сохранении энергии теряет свою определенность. За всем тем учение о сохранении энергии в научном миропонимании оказывается совершенно необходимым. К нему присоединяется еще учение об энтропии. Каждому телу присуще некоторое количество энергии, но не все это количество может быть измерено и не все может быть обращено в работу. Энергия, находящаяся в теле, может быть извлечена из него лишь в том случае, если тело будет введено в сферу, в которой тела
—450—
обладают меньшей энергией, чем оно. Вода, имеющая 15° температуры и находящаяся в комнате, в которой все имеет эту температуру, не отдает своей энергии окружающим предметам, но будучи перенесена на воздух, где температура приближается к 5° холода, сейчас же начнет остывать, затем обращается в лед и в конце концов принимает температуру окружающей среды. Без сомнения, не только эта среда понизила температуру воды, но и сама повысила свою собственную, только на бесконечно малую величину, ускользающую от измерения. Этот закон передачи энергии требует некоторого разъяснения: тело, передающее свою энергию другим, обладает не большим количеством энергии, чем другие, но, так сказать, большей напряженностью энергии. Если энергию рассматривать, как количество движения частиц, то это можно разъяснить так: в маленьком железном шаре, имеющем температуру в 100° тепла и погруженном в большое количество воды, имеющей температуру в 50°, очень немного частиц, но эти частицы имеют очень быстрое движение, в окружающей его воде число частиц очень значительно, но он имеет сравнительно медленное движение. Если мы сложим все движения частиц воды, то окажется, что вторая сумма больше первой; однако не вода будет отдавать избыток своей энергии железу, а железо воде. Закон передачи энергии, следовательно, состоит в том, что скорость движения молекулярных частиц в телах стремится уравновеситься. Существование разности в этих скоростях и обусловливает все явления в мире. Для того, чтобы в мире происходили какие бы то ни было явления, нужно, чтобы в мире существовали тела со свободной энергией, т.е. такие, скорость частиц в которых больше, чем в окружающих. Процесс передачи этими телами избытка своей энергии другим телам и есть процесс мировой жизни. Но тела могут отдавать только избыток энергии, за этим избытком находится еще некоторое количество энергии, которое никак нельзя извлечь из тела. Это – энергия несвободная. Ее называют энтропией (такое значение этому термину дал Клазиус, в Англии по предложению Тэта, энтропией, напротив, называют свободную энергию). Клазиус сказал, что энергия вселенной постоянна, но энтропия ее
—451—
непрестанно стремится увеличиваться. На самом деле, энергия вселенной стремится распределиться равномерно, стремится, значит, распределиться так, чтобы в одних телах не было избытка энергии сравнительно с другими, чтобы, следовательно, исчезала свободная энергия. Так, тела, взаимно тяготеющие, стремятся сблизиться между собой и упасть одно на другое; силы, сопротивляющиеся движению, превращая энергию переносного движения в теплоту, уменьшают центробежную силу их около центральных движений и дают тем перевес силам тяготения; неравные упругости стремятся уравняться; неравно нагретые тела, сообщающиеся между собой посредством проводимости или посредством лучей, стремятся привести свои температуры в равновесие. Вся совокупность этих действий направлена к тому, чтобы 1) сблизить между собой взаимно тяготеющие тела, 2) уравновесить во всей вселенной упругости и 3) уравнять в ней температуры. Когда это состояние наступит, то энергия вселенной сохранит при этом свою начальную величину, но только равномерно рассеется в системе или, говоря иначе, вся перейдет в энтропию. Это будет концом вселенной, в ней прекратятся все изменения, вызывавшиеся ранее превращениями энергии (стремление к этому концу, к установлению абсолютных равновесий можно назвать стремлением к покою. Поэтому мы признаем, что формула древних: все тела стремятся к покою, в сущности справедлива). Если бы вселенная мыслилась бесконечной, то тогда можно было бы сказать, что такое рассеяние энергии (dissipation of energy) произойдет через бесконечное число лет или – что тоже – никогда не произойдет, но как показали мы выше – вселенная должна быть мыслима конечной, значит, рано или поздно равномерное распределение энергии в ней произойдет, и ее жизнь кончится.
Но если вселенную ожидает конец, то значить, она имела начало. Разум, устроивший ее, должен предварить ее в бытии и не быть связанным с ней цепью необходимости, иначе и он оказался бы вовлеченным в конечный процесс, и для него и для мира нужно бы было искать новую причину. Этот вывод настолько бес-
—452—
спорен и ясен, что многие физики ввели его в свои курсы. Пытаются ослабить значение этого вывода рассуждением о бесконечности вселенной и, следовательно, бесконечности мирового процесса. Это рассуждение не может помочь намечаемой им задаче. Нет нужды в данном случае ставить вопрос о бесконечности или конечности мира. Вопрос можно поставить просто и бесспорно. Наука не может мыслить мира под формой неопределенного уравнения. Комплекс явлений настоящего момента она мыслит как определенную функцию того, что ему предшествовало. Во вселенной имеются пункты максимума энергии и минимума энергии. Энергия должна направиться от пункта maximum’a к пункту minimum’a. Отсюда вытекает, что в каждый последующий момент максимальный предел энергии во вселенной понижается. Интенсивность жизни ослабевает в мире с каждым моментом. Процесс мировой жизни есть процесс умирания. Если мы обозначим различные напряжения энергии во вселенной через р, q, r, s, t..., а количество этих энергий через А, В, С, D, Е, то получим, что энергия во вселенной стремится распространиться везде с напряжением равным Ар + Bq + Сr + Ds + Et +…, разделенным на число членов. Это число равно бесконечности. Делимое также равно бесконечности. Но что делать. Алгебра наставляет нас, что в данном случае от деления бесконечности на бесконечность должно получиться конечное число. Если maximum энергии в данный момент = р, a minimum = s, и искомое число мы обозначим через х то будем иметь р > х > s. Мир стремится к определенному предельному состоянию, которое мы обозначили через х. Это предельное состояние есть смерть. Приближение к нему есть умирание. Жизнь мира есть умирание. Такой признак устраняет возможность мысли о вечности, а следовательно, безначальности и самобытности мира.
В этом рассуждении о происхождении мира через творение, как в рассуждениях предыдущих, математика привлекается для анализа фактов, но и сами данные математики можно делать предметом анализа и посредством их исследования получать философские выводы.
Учение Канта об априорных формах чувственности и категориях рассудка имеет в своей основе преувеличен-
—453—
ное доверие к аксиомам математики, роковым образом влекущее за собой неверие в наши познавательные способности. Его математические антиномии, хотя он и хочет представить их кажущимися противоречиями, на самом деле у него оказываются противоречиями действительными. Вот его рассуждение.
«Первое столкновение трансцендентальных идей.
Тезис.
Мир имеет начало во времени и по пространству заключен в границах.
Доказательство.
Пусть допустят, что мир не имеет начала по времени, тогда должно принять, что каждому данному моменту предшествовала вечность и вместе с тем предшествовал бесконечный ряд следовавших одно за другим состояний вещей в мире. Но бесконечность ряда состоять в том, что он никогда не может быть осуществлен через последовательный синтез. Таким образом, бесконечно протекший ряд мировых явлений невозможен; следовательно, начало мира есть (во времени) необходимое условие его существования, что прежде всего и требовалось доказать.
По отношению ко второму пусть допустят опять противоположное; получится, что мир есть бесконечное целое совместно существующих вещей. Но величину какого-либо количества (Quanti), неданного в известных границах каждого созерцания1140, мы можем мыслить только через синтез его частей и целость такого количества мы можем мыслить только через законченный синтез или через повторение присоединения единицы к себе самой1141. Поэтому,
—454—
чтобы мыслить мир, наполняющий все пространства как целое, нужно рассматривать последовательный синтез частей некоего бесконечного мира как законченный, т. е. нужно рассматривать, что прошло некоторое бесконечное время при перечислении всех сосуществующих вещей; что невозможно. Поэтому бесконечный агрегат действительных вещей не может быть рассматриваем как данное целое и как данное совместно. Следовательно мир не бесконечен по пространству, а заключен в границы, что требовалось доказать во вторых.
Антитезис.
Мир не имеет никакого начала и никаких границ в пространстве, но он бесконечен как по пространству, так и по времени.
Доказательство.
Пусть предположат, что он имеет начало. Так как начало есть существование, которому предшествует некоторое время несуществования вещи, то должно было протечь некоторое время, когда мира не было, т. е. пустое время. Но в пустом времени невозможно происхождение никакой вещи, так как никакая часть такого времени не имеет в себе сравнительно с другой частью отличительного условия бытия от времени небытия (представят ли, что оно возникает само собой или от другой причины). Таким образом, хотя в мире может иметь начало какой-либо ряд вещей, сам мир не может иметь никакого начала и таким образом, в прошедшем он бесконечен.
Относительно второго пусть также наперед допустят противоположное, именно, что мир конечен и ограничен по пространству, таким образом он находится в некотором пустом пространстве, которое не ограничено. Однако такое допущение было бы не предположением о взаимоотношении в пространстве, а предположением об отношении вещей к пространству. Но так как мир есть абсолютное целое, вне которого не может быть никакого предмета созерцания и никакого коррелата миpa, с каковым коррелатом он стоял бы в отношении, то это отношение мира
—455—
к пустому пространству было бы отношением его к никакому предмету. Но такое отношение, т.е. ограничение мира пустым пространством есть ничто. Следовательно, мир не ограничен, т. е. бесконечен по протяжению»1142.
Такова первая математическая антиномия Канта. Вторая подобна ей.
«Второе столкновение трансцендентальных идей.
Тезис.
Всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей и повсюду существует лишь простое или составленное из простого.
Доказательство.
При допущении, что сложные субстанции состоят не из простых вещей, получалось бы, если уничтожить всякую сложность в мысли, что нет никакой сложной части и нет и простой (так как никаких простых частей нет), следовательно не остается ничего и не оказывается данной никакой субстанции. Отсюда или нельзя уничтожить в мысли всякую сложность или по уничтожении ее должно остаться нечто без всякой сложности, т. е. простое. В первом случае сложность состояла бы не из субстанции (так как сложность при этом есть только случайное отношение субстанций, без какового отношения они могли бы существовать
—456—
как устойчивые сущности). Так как этот случай противоречить предположению, то остается только второй именно, что субстанционально сложное в мире состоит из простого.
Отсюда непосредственно следует, что все мировые вещи суть простые сущности, что сложность есть только их внешнее состояние и что если мы и не можем никогда вполне извлечь или изолировать элементарные субстанции из этого состояния связи, однако разум должен мыслить их как первые основания всякой сложности, а до соединения как простые существа.
Антитезис.
Никакая сложная вещь в мире не состоит из простых частей и вообще в нем не существует ничего простого.
Доказательство.
Пусть будет допущено, что сложная вещь (как субстанция) состоит из простых частей. Так как всякое внешнее отношение, отсюда и отношение сложности из субстанций возможно только в пространстве, то должно быть, что из скольких частей состоит сложность, из стольких же должно состоять заключающее его в себе пространство. Но пространство состоит не из простых частей, а из пространств. Тогда должна каждая часть сложной вещи занимать некоторое пространство. Первоэлементы всякой сложной вещи, безусловно просты. Таким образом, получается, что нечто простое занимает пространство. Теперь все действительное, занимающее какое-либо пространство, заключает в себе находящееся одно вне другого многообразие, следовательно составлено и именно как действительно сложное не из акциденций (поскольку они без субстанции не могут быть одна вне другой), а из субстанций; получается: простое есть субстанционально сложное, а это заключает в себе внутреннее противоречие.
Второе положение антитезиса, что в мире не существует ничего простого должно здесь значить, что бытие простого не может быть дано никаким внешним или внутренним опытом или восприятием, и простое оказывается только идеей недоступной никакому возможному опыту и потому в истолковании явлений остающейся без приложения и
—457—
предмета. Так как если бы мы пожелали принять, что для этой трансцендентальной идеи можно найти предмет в опыте, то действительное восприятие такового предмета должно бы быть познано, как не содержащее в себе никакого многообразия, связанного в единство из находящихся один вне другого элементов. А так как из несознания такого разнообразия нельзя делать вывода о совершенной невозможности его в созерцании какого-либо объекта, а это последнее необходимо для его абсолютной простоты, то следует, что это не может быть выведено ни из какого восприятия. Так как ничто как совершенно простой объект не дано ни в каком возможном опыте, – а чувственный мир должен быть рассматриваем, как понятие (Inbegriff), включающее в себя мысль о всяком возможном опыте, то следовательно, вообще в нем не дано ничего простого.
Это второе положение антитезиса идет много далее, чем первое, которым простое устраняется только из созерцания сложного, между тем как вторым оно изгоняется из всей природы, по причине чего оно может быть выводимо не из понятия предмета внешнего восприятия, а из отношения его вообще к возможному опыту1143.
Нельзя сказать, чтобы Кант своими примечаниями, разъяснениями, толкованиями, даже своей теорией априорности пространства и времени нашел выход из своих антиномий. Пусть мир для нас не есть данное, а есть задание, есть, так сказать, уравнение. Его можно выразить в такой форме:
Axn + Bxn–1 + Схn–2+ ...+Px2 + Qx + R = 0.
Такое уравнение с нашей точки зрения имеет n корней и не может иметь их более. Но по Канту оказывается, что если подойти к этому уравнению с одной стороны, то оно имеет n решений вещественных, а если подойти с другой стороны, то имеет n решений мнимых. Такое задание не есть загадка сфинкса, а нечто подобное четырехстороннему треугольнику, т. е. нечто такое, чего нельзя
—458—
уразуметь ни в какой степени и к чему, следовательно, нельзя приспособиться.
Но если у Канта априорность математических начал приводит к роковым гносеологическим выводам, то, наоборот, у Кантора эта априорность расширяет границы бытия и открывает двери в область высших сфер. Кантор дал учение о трансфинитных числах, т.е. о числах, находящихся за границами конечного. Простое рассуждение может дать понятие об этих числах. Основание естественных логарифмов е, о котором уже была речь, выражается через своего показателя таким образом:
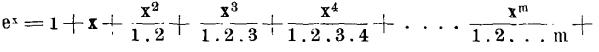
до беcконечности.
Из этого ряда следует, что
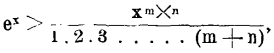
отсюда
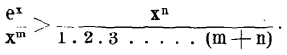
При увеличении х отношение еххm

будет возрастать; при х = ∞, оно также станет равно бесконечности. Но нетрудно показать, что существует множество функций, который возрастают быстрее, чем ех. Таковы ex2, eex, eex2; варьируя типы показателей, можно получить какие угодно высокие степени возрастания. Функции так образованные могут быть предметом изучения и исследования. Их свойства, взаимоотношения поддаются анализу и определению. Пусть порой окажется, что существуют трансфинитные порядковые числа, которые и не равны между и из которых ни одно ни больше, ни меньше другого. Что делать? Это аналогично в обычной алгебре взаимоотношению вещественных и комплексных величин. Но канторовская теория трансфинитных чисел для метафизика и теолога может быть дорога тем, что она как бы дает представление о многих обителях небесного Отца, о которых говорил Христос в прощальной беседе с учениками (Ин.14:2). И все эти трансфинитные числа направляют мысль к абсолютно бесконечному числу, которое соответствует единой абсолютной реальности.
Но вот – новое время выдвинуло новые вопросы по отно-
—459—
шению к математике. Я формулировал бы общее содержание этих вопросов так: имеют ли всеобщую значимость математические формулы и теоремы? Если математические принципы прирождены нашему духу и все содержание математики есть развитие этих принципов по законам нам прирожденной логики, тогда в сети наших формул мы должны уловлять всю вселенную, и бытие несогласное с этими формулами для нас недопустимо. Но вот – новые теории говорят нам: основоположения математики выведены из ограниченного опыта и не только ко всему универсу их нельзя прилагать, но рискованно распространять их и вообще на величины значительно превосходящие, те, которые были получены в опыте.
Лаппаран о происхождении геометрических аксиом рассуждает так.
„Прежде всего, у нас существует, в силу собственно нашей организации, очень ясное чувство направления, следуя которому мы осуществим наименьшее усилие движения при пробеге. Для этого нужно, чтобы наш взгляд не покидал ни на одну минуту определенную часть достигаемого предмета, на столько малую, что ее поверхность кажется не заслуживающей внимания и сводится на практике к тому, что мы называем точкой. Она будет, как говорят по военной теории, точкой направления; верный инстинкт нам подсказывает, что, если это условие постоянного прицела (devisée cinstapté) выполнено, и наши глаза не совершали никакого иного движения ни справа налево, ни сверху вниз, то мечта о минимальном усилии будет осуществлена.
Природа дает нам, за исключением твердости, представление об этом идеальном пути в спокойной поверхности воды, где верно направленный челнок позволяет следовать по желанной траектории, с другой стороны, нет особенно ощутительной разницы между этой совершенной водяной плоскостью и поверхностью больших равнин с постоянным уровнем, которые так часто расстилаются на берегах морей или озер. Таким образом, следуя этим путем в указанных условиях, мы приходим к мысли о плоскости, поверхности, лишенной неровностей и кривизны, где работа, нужная для ходьбы, сводится единственно к усилию перемещения, требуемого расстоянием, без всякого вмешатель-
—460—
ства тяжести, так как здесь не существуете ни подъема, ни спуска.
Если в двух точках подобной гладкой равнины укрепить два столба и за нижние концы привязать веревку, сильно натянутую, то мы увидим, что на всем своем протяжении эта веревка будет прислонена к земле, несмотря на то, какое положение занимает второй столб по отношению к первому. Наконец, мы без труда убедимся, что для того, чтобы пройти кратчайшим путем от одной точки равнины до другой, нужно твердо следовать натянутой веревке, потому что, т. обр., придется сделать наименьшее количество шагов, и потребуется наименьшее количество веревки, чтобы установить связь между крайними точками.
Теперь идеализируем эти различные понятия. Сделаем так, что оба столба – отправления и прибытия касаются поверхности в столь малом пункте, что было бы невозможным определить его размеры глазом; в пределе это неразличимое пространство (cette aire) обратится в геометрическую точку. Уменьшим также толщину веревки до того, что ее уже нельзя будет измерить, и предположим, что благодаря своей нематериальности, веревка, сокращенная до такой степени, не будет считаться с кривизной, зависящей от силы тяжести каждой натянутой нити. В пределе мы получим абстракцию, называемую прямой линией. Мы ясно увидим, что от одной точки до другой мы можем представить только одно воплощение этого идеала; оно несомненно указывает кратчайшее расстояние между двумя точками; таким образом и будут положены при посредстве этих абстрактных, но всегда выведенных из опыта, понятий, основные аксиомы планиметрии.
Далее, когда веревка, протянутая по всему протяжению равнины, предположенной совершенно плоской, прилегает к ней во всех точках, то мы узнаем способ образования этой поверхности, реализирующей максимум простоты посредством прямой, непрерывно опирающейся на две другие совпадающие. Таким же образом мы видим, что прямая деревянная палка, брошенная на спокойную поверхность воды, будет прикасаться к ней всей своей длиной, куда бы мы ее ни направляли.
—461—
Впрочем, есть и другие виды наблюдений, на основании которых можно составить очень ясные представления о прямой линии. Одни из них сами бросаются в глаза, как например, луч света, проникающий через узкое отверстие ставни в пыльную атмосферу темного места и начертывающий блестящим образом кратчайший путь между своими двумя концами, или же камень, бросаемый с верха башни, или же веревка, поддерживающая груз.
Другие представления требуют несколько больших усилий, чтобы их ясно понять, но зато они дадут нам более точное геометрическое понятие. Так, когда мы сообщим твердому телу круговращательное движение, укрепив две его точки между пальцами, причем тело будет достаточно упруго и не будет изменять свою форму при движении, то мы скоро увидим, что линия, проходящая от одного пальца к другому, не участвует в движении. Если же между этими двумя точками можно было бы ввести прямую упругую иглу, то тело будет продолжать вращаться около этой оси, которая, напротив, остается неподвижной. Идеализируя это понятие, мы определим прямую линию, как место неподвижных точек в неизменяющемся твердом теле, подвергнутом вращению. Наконец, когда у нас будет инструмент, с помощью которого мы будем в состоянии провести черту наиболее близкую к идеальной прямой, инструмент, называемый линейкой, то совершенство этой черты будет доказано, если при передвижении линейки вокруг ее ребра, мы будем получать все ту же черту. Здесь концепция оси вращения является для нас тождественной с концепцией о кратчайшем расстоянии между двумя точками.
Таким образом, опыт всегда является нашим путеводителем в определении отвлеченных понятий пространства. Впрочем, роль наблюдения не ограничивается тем, что представляет субстрат, из которого исходят геометрические понятия при посредстве простой идеализации. Мы встретимся еще с наблюдением, как с основой большого числа теорем, которые устанавливают взаимные отношения полученных таким образом абстракций.
Например, что значат те доказательства, при которых, чтобы увериться в равенстве двух плоских фигур,
—462—
имеющих некоторые тождественные элементы, эти фигуры налагают одну на другую, предполагая, что равные элементы совпадут? Не покажется ли это доказательство бессмысленным, если его прилагать исключительно к абстракциям? Нельзя переносить вещь, не имеющую реального существования. Очевидно, примененное умозрение пользуется санкцией опыта, которая будет состоять в представлении двух материальных фигур, удовлетворяющих указанным условиям, и в удостоверение того, что они точно накладываются друг на друга.
Правда, абсолютное удостоверение невыполнимо. Перенесенная фигура рискует изменить форму и вещество, ее составляющее, не неизменно. Тяжесть, теплота, влажность могут изменить его размеры, а также подействовать в различной мере на саму сравниваемую фигуру. Какую бы точность ни стремились дать конструкции, равенство элементов, признанных за тождественные, может существовать в действительности только в пределах дозволенных несовершенством инструментов. Наконец, для материальных предметов наложение соответствующих элементов всегда будет давать место некоторой неточности, тем более заметной, чем тоньше будут средства, употребляемые для его подтверждения.
Но понятно, что с подходящим веществом и при хорошо устроенных приборах можно получать все более и более полное совпадение, и мы имеем полное право думать, что в пределе, т. е. в условиях, при которых неприменим реальный опыт, и при которых фигура становится абстракцией, это совпадение не оставляет больше ни малейшей неправильности.
Однако ж, мы повторяем, что доказательство кажется лишенным смысла, если оно не опирается на возможность материальной проверки, и тот же факт может быть доказать другими умозрениями, употребляемыми в геометрии. Всюду найдем мы эту опору опыта, который нами руководит при наших абстракциях и выводит из них, при посредстве чувства порядка и понятия об идеале, заключения, которые внушают уважение всем разумным людям.
Это не все. К указанным основным понятиям присоединяется по самому устройству нашего ума понятие о бес-
—463—
конечности. Опыт научил нас, что при помощи вех, следующих в строгом порядке одна за другой, мы можем продолжить прямую линию, проведенную между двумя точками, так далеко, как мы того желаем. Вследствие внутреннего стремления, столь же естественного как и то, что внушено нам идеей порядка, мы допускаем, что эта способность продолжаться беспредельна. Прямая линия, а вместе с ней и плоскость, произведенная ее движением кажутся нам, таким образом, способными продолжаться до бесконечности.1144
Но предложенная теория происхождения представления прямой линии дает ли право настаивать на реальности ее свойства простираться в бесконечность?
Во-1), нужно доказать, что при вращении тела около двух точек остается неподвижной линия, соединяющая эти точки. Возможно предположение, что остается неподвижной некоторая часть тела или наоборот, что кроме двух точек все тело приходит в движение. У вращающегося тела различные точки двигаются с различными скоростями. Легко найти точки, обладающие maximum'ом вращения, но есть ли линия, вращательная скорость которой равна нулю? Может быть этот признак принадлежит элементу тела или совсем не принадлежит линии. Не доказана возможность существования неподвижной линии в теле двигающемся около точек, как не доказано еще более, что если она существует, то только одна, а не целое тело. Во-2), не доказано, что такая линия, если она существует и только одна, есть кратчайшая. Таким образом, против приведенного геометрического определения могут возразить: может быть такая линия есть contradictio in adjectо и может быть, если она и существует, она не кратчайшая. В курсах геометрии, которые стремятся к строгости доказательств (из русских элементарных курсов таким нам представляется геометрия Давидова, совершенно противоположна ей геометрия Малинина), можно заметить тенденцию отодвигать, как можно дальше рассуждение о параллельных линиях, и стараться как можно больше геометрических пoлoжeний утвердить независимо от теории параллелей. Тенденция эта понятна.
—464—
Авторам хочется доказать как можно больше положений независимо от теории, одно из основоположений которой по общему сознанию не очевидно и не доказано. Но анализ вскрывает нам, что и возможность прямой линии с теми свойствами, которые ей обычно приписывают геометры, не очевидна и не доказана. Прямая линия наших геометрий есть абстракция от опыта. То, что идея ее не прирождена нашему духу, доказывается, что, не впадая в противоречие с логикой и опытом, можно отрицать обычно приписываемые ей свойства и наделять ее другими. По Эвклиду прямая линия вполне определяется двумя точками. Но из изложенного видно, что вполне можно оспаривать это положение.
Но пунктом, где непосредственно очевидна неочевидность и нестрогая обоснованность теории, является XI поступать Эвклида.
Если мы имеем две прямые, находящиеся в одной плоскости, из каковых прямых одна перпендикулярна третьей, а другая не перпендикулярна, то он при продолжении пересекутся. Опыт всегда подтверждал, как это положение, так и все следующие из него выводы. Но дело в том, что опыт всегда бы подтверждал все это, если бы этот постулат и был ошибочным по отношению к некоторым случаям. Наш постулат проверен опытно по отношению ко всем углам, под которыми прямая пересекает другую, начиная с нуля и доходя до 89° с минутами и сотыми долями секунды. Но все-таки между тем предельным углом, для которого он был проверен, и углом 90°, остается еще бесконечное число углов. Мы можем допустить, что если одна прямая пересекает другую под углом в 90°, а другая под углом в 89°, 99999999....8, то эти прямые никогда не пересекутся. Раз мы это допустим, все здание геометрии изменится. Тогда окажется, что геометрия Эвклида имеет лишь приблизительную точность, тогда окажется, что подобных фигур не существует в природе и что построение точной модели нашей вселенной невозможно. На самом деле вся теория подобных фигур и тел утверждается на той теореме, что сумма углов в каждом многоугольнике определяется числом его сторон (∑ = 2d. n – 4d), сумма углов тре-
—465—
угольника равна двум прямым, сумма углов четырехугольника четырем прямым и т.д., и что в подобных телах соответственные углы равны. Но раз отвергнут постулат Эвклида, то тогда следует, что в каждой фигуре сумма углов есть величина изменяющаяся, определяемая не только числом сторон, но и их свойствами. Это может показаться парадоксальным, но возможную справедливость этой теории легко доказать опытом. Начертим на земле треугольник. Он представится прямолинейным, начерченным на плоскости, но на самом деле он сферический, он начерчен на поверхности земного шара, его стороны суть дуги большого круга, его сумма углов – как учит нас сферическая тригонометрия – непременно больше двух прямых, Сумма углов треугольника на поверхности вогнутой непременно меньше двух прямых. Но если эта вогнутость невелика, то наши измерения всегда дадут для треугольника 2d. Подойдем к спокойной поверхности реки или озера, она представится плоской, но на самом деле она сферическая. По-видимому, можно продолжать эту поверхность в бесконечность и она будет тянуться и тянуться, но на самом деле эта поверхность при продолжении замкнется сама в себе и даст сферу, она не может быть бесконечной. Дело вот в чем. Незначительная часть какой-либо очень большой линии и поверхности очень часто нам кажется имеющей не те свойства, какие имеет на самом деле. Незначительная часть большой окружности кажется прямой линией. Угол незначительно отличающийся от прямого принимается за прямой. Некоторые говорят, что опыт здесь не причем, что важно как мы мысленно представляем природу прямой линии, плоскости, сферы, псевдосферы. Но дело в том, что наше мысленное представление есть абстракция в сущности от очень незначительного опыта и может быть заключает в себе внутреннее противоречие. Какая, по-видимому, простая задача: найти число, которое, будучи помножено само на себя, равнялось бы двум. Число это больше 1⅓ и меньше 1½. Беря промежуточные дроби, мы все более и более подходим к числу 2, и можем естественно предполагать, что при продолжении работы число будет найдено. Но строгое доказательство говорите нам, что та-
—466—
кого числа не существует, и мысль о нем заключает внутреннее противоречие.
Не заключает ли в себе внутреннего противоречия и созданная нами идея устремляющейся в бесконечность прямой? Нетрудно видеть, что отрицание классической теории прямой линии ставит крест над первой антиномией Канта и подсказывает мысль, что не природа вообще и не природа нашего разума, а свободное употребление нашего разума завело нас в дебри противоречий по вопросу о конечности или бесконечности мира.
Мир, построенный по Эвклиду, несмотря на свои бесконечные прямые и плоскости, оказывается слишком тесен. Но путем преодоления Эвклида иногда удобно можно объяснять явления и в Эвклидовом мире. Давно уже показано, что материю можно рассматривать как функцию притягивающей и отталкивающей силы. Представим себе, что к какой-либо математической точке приложены две силы: отталкивающая А и притягивающая В. Допустим далее, что сила отталкивания действует обратно пропорционально кубу расстояния; сила притяжения – обратно пропорциональна квадрату расстояния. Тогда взаимодействие сил выразится формулой:

пусть А > В. Ясно, что в точке приложения будет преобладать отталкивание, но оно по мере удаления от этой точки или от этого центра будет сильнее убывать, чем сила протягивающая. На некотором расстоянии будет

Все, что будет дальше этого расстояния, будет притягиваться нашим центром; все, что будет пытаться проникнуть в сферу радиуса R, будет отталкиваться, и комбинация данных двух сил даст ощущение материальной сферы радиуса R. Это верно. Понятно, почему сила притяжения действует обратно пропорционально квадрату расстояния, потому что поверхности, на которые распространяется ее действие, растут как квадраты радиусов. На двойном рас-
—467—
стоянии от центра поверхность, по которой распространится притягивающая сила, будет вчетверо больше, отсюда количество силы прилагаемой к каждому элементу должно стать вчетверо меньше. Но вот вопрос: почему можно допустить, что отталкивающая сила действует обратно пропорционально кубу расстояния? Не защищая изложенной теории материи, я однако думаю, что она может найти себе опору в теории четырехмерного пространства. Если к трем измерениям Эвклида прикинуть четвертое, то сила отталкивания должна будет действовать в четырехмерном пространстве и, следовательно, постоянно будет делиться на кубы, как сила притяжения – на квадраты. Так теория, предполагающая эмпирическое происхождение геометрии, оказывается, может содействовать истолкованию физического мира.
Всем вышеизложенным имелось ввиду разъяснить, как математика могла вторгаться в области философии и даже религии. Теперь должно перейти к рассмотрению того, как это было и есть. Древность, мы видели, стремилась обожествлять содержание математики; новое время склонялось к тому, чтобы в ее содержании видеть лишь пустую форму. Забвение взглядов древних есть потеря, неимение взглядов новых есть застой. Не нужно допускать потерь и не должно пребывать в застое.
С. Глаголев
(Продолжение следует)
Введенский Д.И. Древний Восток: (К вопросу об изучении его истории) // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 7/8. С. 468–481 (1-я пагин.)
—468—
Нам припоминается сравнение Палестины с коралловым рифом, выступающим из недр волнующегося океана.
Палестина нередко выступает в волнах истории, как коралловый риф в волнах океана, и привлекает к себе всеобщее внимание, чтобы затем снова, – и часто на долгое время, – погрузиться в пучину забвения. Это сравнение, в целом объёме своём, приложимо и к древнему Востоку. «Древний Восток», поскольку это название является «культурно-историческим термином» для обозначения, можно сказать теперь уже подземных стран древних цивилизаций, в их далёком прошлом, также напоминает подводный коралловый риф.
Время, как всё заливающая могучая волна, нередко заполняло сознание человечества новыми интересами, поглощавшими пробуждавшийся иногда интерес к древнему Востоку. Все, по крайней мере, знают такие исторические моменты, когда культурные и политические интересы почти всех народов сосредоточивались на Западе.
Но всё же Запад не похоронил древнего Востока. Культурная сила умерших заявила о себе. И теперь настойчивее, чем когда-либо, стали снова говорить о «древнем Востоке». В его культуре стали искать корней эллинистической, римской и всей европейской культуры. Религиозные верования новых народов также стали ставить в соотношение с религиозными верованиями народов древнего Востока. Развалины Вавилона, Сирии, Палестины, Египта стали разрешать загадки культурно-бытовых особенностей
—469—
не только умерших, но и живых. В частности и в нашем отечестве, оказавшемся благодаря духовному братству с Византией в духовном родстве с древним Востоком, стали понимать, что и наша культура не чужда культуре «древнего востока». На этот счёт существуют определённые исторические разъяснения. «Если до сих пор Европа многим пользуется из того, что выработано на Востоке несколько тысячелетий тому назад, то наше отечество находится с ним в ещё более близких связях. Восточная империя переварила в себе богатое культурное наследство, полученное из разных источников и от разных народов, вошедших в его состав, и уже в таком виде передавала его дальше подчинившимся её культуре народам. Вот почему одни и те же литературные памятники так часто оказываются и в славянском, и в коптском, эфиопском, армянском, сирийском облике; вот почему церковную живопись коптов можно принять по ошибке за старые русские иконы, а произведения Песнопевцев греческой и русской церкви по манере, стилю и тону напоминают не Гомера и Пиндара, а древневавилонские и египетские гимны.
Наконец, область древнего Востока и территориально соприкасается с нашим отечеством. Средняя Азия составляла часть древнеперсидского царства, а Закавказье входило в состав Ванского царства, могущественного соперника Ассирийской державы. До сих пор в Эриванской губернии находят клинообразные надписи – памятники этого царства, культура которого находилась в зависимости от ассиро-вавилонской. Самые центры ассиро-вавилонской культуры – Ниневия и даже Вавилон – находятся в ничтожном расстоянии от нашей границы, и тем самым напоминают нам, что интерес к изучению древнего Востока должен быть у нас более жив, чем в Западной Европе»1145.
Политические события наших дней открыли нам путь в Ванскую область и к Месопотамии. За русскими войсками
—470—
двинулись сюда и учёные исследователи пока, кажется, с ограниченными средствами. Однако почин уже сделан.
Но ни одно предприятие не обещает успеха, если в нём не заинтересовано само общество. Настоящая заметка и имеет своей целью показать, что русское общество начинает живо интересоваться древним Востоком. Ещё двадцать лет назад у нас очень немногие интересовались историей древнего Востока, и русские исследователи отдельных моментов её хорошо понимали это1146. Казалось, что западные учёные Англии, Франции и Германии навсегда останутся бессменными тружениками в области изучения истории древнего Востока. Скромность русских учёных долгое время должна была признавать, что ориенталисты запада, как, например, Мариэтт, Лепсиус, Бругш, Эрман, Шрадер, Масперо, Штейндорф, Дюмихен, Шаба, Видеманн, Навиль, Флиндерс Петри, Ведж, Ланцоне, Макс Мюллер, Раулинсон, Лэйярд и др.1147 имели и имеют своих учеников и даже школы и что в России не только нет в наличности школы ориенталистов, но и надежды на её возникновение. Однако и среди русских исследователей древностей Востока и учёных нашлись ориенталисты, которые в настоящее время дают возможность говорить о возникновении русской школы и по преимуществу египтологов. Московское Археологическое Общество ещё в 1893–1896 годах отправило экспедицию на русскую территорию, сопредельную с Малой Азией1148. В 1911–12 г. Императорская Академия Наук командировала в Азиатскую Турцию, именно в Ванскую область, И.А. Орбели.
Очень недавно в «Известиях Императорской Академии наук» (№ 10; VI серия; 1916 г., стр. 817–822; приложение к протоколу VΙΙΙ заседания Отдела Исторических наук и филологии Импер. Акад. Наук) дан список фотографических и между прочим халдских древностей Ванского
—471—
округа. Это – отчасти результат зимней (1915–1916 г.) экспедиции старшего хранителя Археологического отдела Кавказского музея С.В. Тер-Аветисьяна, командированного Императорской Академией Наук в Ванский округ для принятия мер охраны и производства регистрационных археологических работ.
Одновременно с попытками к обследованию отдельных пунктов «древнего Востока» началось у нас и изучение памятников, относящихся к его истории. И не только у нас, но и за границей стали известны имена русских египтологов Б.С. Голенищева, уступившего прекрасную коллекцию египетских древностей московскому музею Императора Александра III и давшего несколько ценных работ, относящихся к изучению памятников Египта; проф., Б.А. Тураева, издавшего и издающего интересные тексты египетских памятников, давшего нисколько ценных исследований по вопросу о религиозных верованиях египтян и древнеегипетской культуре и, наконец, свой курс: «Истории древнего Востока» в двух частях1149. У нас известны имена коптоведов (О.Э. Лемм), знатоков христианского Египта (В.В. Болотов) и древнего искусства (например, В.К. Мальмберг, Ф.В. Баллод и др.). Проф. Б.А. Тураев имеет уже и школу молодых учёных1150.
С чувством глубокого удовлетворения мы должны отметить, что интерес школы проф. Б.А. Тураева выходит и за её пределы. Под редакцией его издана при сотрудничестве, главным образом, его учеников серия «культурно-исторических памятников древнего Востока». Редактор этой серии и его почтенные сотрудники хорошо понимают, что не всякий изучающий историю «древнего Востока» может читать и клинопись и иероглифы. Даже большинство учёных исследователей вынуждены бывают опираться на авторитет специалистов. А таковыми специалистами, дававшими законченные переводы целых текстов, были по преимуществу иностранные учёные, к которым и должны были обращаться все, изучающие «древний Восток».
—472—
При таком положении дела каждый памятник как бы переживал двойные «страдания». Он усвоялся и переводился первым специалистом – переводчиком; далее усвоялся и переводился перевод переводчика. Отсюда – неизбежные ошибки в переводах. Но в серии «культурно-исторических памятников древнего Востока» даются опыты самостоятельного русского перевода с оригиналов. Эта серия начата изданием «Законов Вавилонского царя Хаммураби», с 8-ю рисунками и картой (перевод И.М. Волкова. Москва 1914 г.). Отмечаемый труд состоит из введения, где даются сведения о Хаммураби и его времени, в связи с общей справкой, относящейся к истории открытия памятника и его изучения, и комментария к нему. Первый переводчик этого памятника, французский ассириолог Шейль1151, так оценил значение его: «с самого начала восточных раскопок ни в Египте, ни в Ассирии, ни в Вавилонии, не говоря уже о других, менее богатых древностями, странах, до сих пор ещё не открыто памятника, более важного по значению и более полного по содержанию, чем кодекс Хаммураби. Для научного знакомства с известным народом ещё далеко недостаточно знать только его имя, происхождение, царские династии, военные походы, вообще, так сказать, поверхность его жизни. От нас ускользает важнейшее из его жизни, пока мы не ознакомимся с его внутренним строем и законами, руководившими его семейным бытом, гражданскими отношениями и вообще – всею народной жизнью. С этой точки зрения можно, не преувеличивая, сказать, что кодекс Хаммураби является одним из важнейших памятников не только специально восточной, но и всемирной истории»1152. Для библеиста этот памятник особенно интересен ввиду отождествления Хаммураби с библейским Амрафелом и сопоставления этого памятника с законодательством Моисея при безапелляционном утверждении некоторых тенденциозных историков, что законодательство Моисея имеет свой прототип в законодательстве Хаммураби.
—473—
При сопоставлении отмечаемого перевода указанного памятника с переводом небольшого отрывка из него, данного в сборнике памятников письменности, точнее, отрывков из них под заглавием: «Древний мир в памятниках письменности» (составили Д.А. Жаринов, Н.М. Никольский, С.И. Радциг, В.Н. Стерлигов. Москва 1915 г.), открываются особые достоинства его. Издатели «Древнего мира» в памятниках письменности в предисловии от составителей замечают, что «отрывки из кодекса Хаммураби переведены по Kokler – Peiser’y (Hammurabis Gesetz), при чём приняты во внимание два перевода Winckler’a (в серии Der Alte Orient и отдельно) и перевод Ungnad’a (в книге Gressmann’a. Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Test.); русский перевод Волкова не принят во внимание, так как в его основе лежит указанный перевод Ungnad’a». Преклоняясь пред «иностранными» авторитетами, издатели «Древнего мира», очевидно, хотели в маленьких отрывках дать наиболее точные переводы. Но, к сожалению, этого не видно. Так, например, приводя «уголовные постановления» из кодекса Хаммураби, они под цифрой 1) дают такой перевод: «если кто-нибудь обвинит другого и заявит об этом (пред судом), но не докажет, то обвинитель предаётся смерти». Недоумеваешь: ведь, это, по-видимому, одно из неумных законоположений умного Хаммураби. Выходит, что за каждое недоказанное обвинение обвинитель приговаривался к смерти. Оригинал не оставляет, однако, места никаким недоразумениям: здесь имеются в виду обвинение в таком преступлении, которое влечёт за собой смертную казнь обвиняемого – и именно обвинение в убийстве. Перевод И.М. Волкова и сохраняет эту подробность, которая имеется и в переводе Ungnad’a (в изд. Gressmann’a, Altorient. Texte... S. 143). Под 2-ю цифрой уголовных постановлений издатели «Древнего мира» приводят статью законодательства по вопросу обвинения в чародействе. Здесь, между прочим, читаем: «тот, кто обвиняется в чародействе, должен пойти к реке и броситься в реку. Если река возьмёт (?) его то тот, кто его обвинял, получает его дом, а если река объявить этого человека невинным, и он останется невредим, то тот, кто обвинял его в чародействе, предаётся смерти, а опускавшийся в
—474—
реку получает дом своего обвинителя». Очевидно, что «бросаться» и «опускаться» в реку – понятия неоднородные. И в переводе Волкова правильнее и согласнее с Ungnad’ом в обоих случаях употреблено однородное выражение «опуститься» (Ungnad в изд. Gresamann’а: eintauchen; eingetaucht). Такие же несогласованности в переводах законодательства Хаммураби И.М. Волкова и издателей «Древнего мира» замечены нами и в некоторых других пунктах, причём перевод Волкова, в большинстве случаев, мало расходится с переводом Ungnad’a. Конечно, изучающие памятники древнего Востока могут указать и на некоторые неточности перевода г. Волкова и, вероятно, при новом издании законодательства Хаммураби сам переводчик сделает исправления1153. Но нужно принять во внимание то обстоятельство, что и учёные ассириологи и египтологи запада также нередко допускают неточности в переводах и поправляют не только один другого, но и сами себя. Такие исправления «неточностей» мы встречаем у очень авторитетных египтологов, как например, у Maspero (имеем в виду его: «Les Contes populaires de l’Egypte Ancienne» в нескольких изданиях). И самое законодательство Хаммураби уже не однажды переводилось на западе (Scheil, Winckler, Müller, Harper, Kohler и Peiser).
Делает честь переводчику и то, что он, становясь в положение комментатора переводимого им памятника, не давит на сознание читателя изъявлением своих симпатий к гипотетичным сближениям Хаммураби с Амрафелом, законодательства первого с законодательством Моисея, что охотно делают переводчики последнего времени, услужливо располагающие своих читателей в предисловиях или в пользу Велльгаузена или в пользу Ренана.
Иллюстрации – снимки с древних памятников – придают работе И.М. Волкова особый интерес. Здесь име-
—475—
ются:
1) изображение Хаммураби на стеле Британского музея;
2) письмо Хаммураби в Синидинна, хранящееся в императорском Эрмитаже;
3) часть текста законов Хаммураби;
4) контракт о разделе имущества из эпохи Хаммураби;
5) другая часть текста законов Хаммураби;
6) цилиндр из эпохи Хаммураби;
7) надпись Хаммураби, повествующая о построении храма богине Нинне в г. Халлабе близ Сиппара (Британский музей);
8) столб с законами Хаммураби;
9) эскиз карты древней Вавилонии.
Столб с законами Хаммураби и эскиз карты помещены на отдельных страницах. Для лиц, не имеющих возможности лично видеть памятники эпохи Хаммураби, такие снимки существенно необходимы.
С такой же аккуратностью и вниманием выполнена и другая работа И.М. Волкова: «Арамейские документы иудейской колонии на Элефантине V в. до Р.Х.» с 10-ю рисунками (2-й выпуск серии «культурно-исторических памятников древнего Востока» Москва. 1915 г.). Эта работа, как и предыдущая, имеет введение, в котором переводчик излагает истории нахождения и издания папирусов, относящихся главным образом к персидской эпохе и хронологически заполняющих собой почти всё пятое столетие до Р.X.
Огромное культурно-историческое значение новооткрытых арамейских документов понято как на западе, так и у нас в России. Этими документами интересуются историки вообще1154 и библеисты – в частности1155.
В заключительной части работы переводчик Арамейских папирусов говорит о главнейших чертах быта и судеб иудейской колонии в Элефантине по Арамейским папирусам. Характерная черта работ автора – воздержание от безусловных утверждений имеется и здесь. Так, например, относя время возникновения колонии к последним годам царствования Манасии или к первым годам царствования Иосии, когда на египетской службе могли
—476—
состоять иудеи, автор говорит только о вероятности такого предположения1156, каковая вероятность оспаривается, впрочем, русским библеистом В.Ф. Иваницким1157.
К рассматриваемому труду даны хорошо исполненные иллюстрации:
1) папирус с ответом Багоя, персидского наместника, на одно из ходатайств иудейской колонии;
2) вид развалин древнего города на острове Элефантине;
3) вид дороги, идущей вдоль одной из стен храмового двора на Элефантине;
4) монеты из персидской эпохи;
5) часть арамейского папируса относительно празднования опресноков;
6) рельеф на одной из стен Хнумова храма на Элефантине с изображением на части его императора Августа, приносящего жертву Хнуму;
7) вид острова Элефантины с изображением развалин зданий, в которых были найдены арамейские папирусы;
8) один из сосудов, в которых хранились некоторые из новооткрытых арамейских документов;
9) вид города Ассуана.
Третий выпуск серии «культурно-исторических памятников древнего Востока» содержит «Рассказ египтянина Синухета и образцы египетских документальных автобиографий» (с рисунками. Москва. 1915 г.).
Основная часть этой работы, принадлежащей уже получившему почтенную и заслуженную известность профессору Б.А. Тураеву, посвящена классическому рассказу Синухета из эпохи среднего царства. Рассказ Синухета, появляющийся в первый раз в полном русском переводе, это популярный реалистический роман, в котором, как полагают, приключения исторического Синухета описаны в беллетристической форме. «Литературные достоинства памятника, – замечает проф. Тураев, – обусловили его распространённость и популярность. Его читали и переписывали в школах, как образец классического стиля, его держали в домашних библиотеках и даже брали с собой в гробницы для загробного употребления»1158. В настоящее время имеются многочисленные списки этого памятника египетской литературы и на папирусе и на острака.
—477—
Героем этого памятника является придворный египтянин Синухет, бежавший от царского гнева в Сирию. После долгих скитаний он поселился у сирийского князя, который выдал за него свою дочь и сделал его вторым лицом после себя. Синухет оказывает князю важную услугу, одолев в единоборстве первого борца всей области. Но тоска по родине потянула его в Египет – ко двору. Он не мог примириться с ужасом быть погребённым на чужбине, без соблюдения египетского погребального ритуала, необходимого для вечной жизни. Египетские послы, направлявшиеся к азиатским великим державам и пользовавшиеся при проездах через Сирию услугами Синухета, доложили о последнем фараону, который и приглашает беглеца вернуться. Синухет возвращается и снова «до врат гробницы» пользуется благоволением фараона.
Рассказ Синухета, увлекательный по своему содержанию и интересный по сведениям, относящимся к политическому и социальному строю, к домашнему укладу жизни, к религиозным верованиям, интересен, в частности, и для библеиста. Он может служить прекрасной иллюстрацией к истории бегства Моисея из Египта в землю Мадиамскую, каковой факт нередко оспаривался только потому, что, будто бы, Моисей никогда не решился бы бежать в неизвестную страну. Но оказывается, беглецы-египтяне были уже и ко времени Моисея.
Как предисловие работы проф. Б.А. Тураева, определяющее значение «рассказа Синухета» и дающее краткую историю перевода его, так и пояснительные примечания к нему и к посмертным надписям в автобиографической форме – всё это отличается обстоятельностью, с какой вообще выполняются работы проф. Тураева.
С внешней стороны издание «рассказа Синухета» также производит самое выгодное впечатление. Нужно заметить, что вся серия «Культурно-исторических памятников» издаётся на прекрасной бумаге. Но к рассказу Синухета приложены две цветные таблицы:
1) первый фрагмент папируса № 4657 Московского музея Изящных Искусств имени Императора Александра III, содержащий начало рассказа Синухета и
2) вилла архитектора Инени, изображённая на
—478—
стене его гробницы в Курна (Фивы). Кроме того здесь имеются следующие снимки:
1) развалины пирамиды Аменемхета I в Лиште;
2) заупокойный жертвенник из Лишта с надписью, на которой упоминается имя пирамиды Сенусерта I;
3) образец берлинского папируса № 3022;
4) изображение Абиша, князя бедуинов, на знаменитой картине в бенихассанской гробнице;
5) голова статуи Аменемхета I из красного гранита, найденная в Танисе;
6) пленные ливийцы;
7) Сахмет (богиня), дающая грудь царю;
8) верхняя часть статуи Сенусерта I, найденная в Лиште;
9) верхняя часть статуи неизвестной царицы эпохи среднего царства;
10) письмо на папирусе эпохи XII династии, найденное в Кахуне;
11, 12) изображение погребальных церемоний в гробнице Схотепибра;
13) часть погребальной процессии Пахери;
14) богиня Хатхор, простирающая ожерелье и держащая систр;
15) изображение постели и других вещей домашнего обихода на саркофаге жреца Хершефхотепа;
16) погребальная статуя вельможи, найденная в Лиште;
17) часть деревянного гроба эпохи Среднего царства с перечнем жертвенных даров;
18) ибис на зарослях папируса;
19) богиня Тауэрт;
20) письмо царя Пиопи II к Хирхуфу;
21) изображение Хирхуфа и надпись на стене его гробницы.
Вне указанной серии, но при участии, главным образом, школы проф. Б.А. Тураева издан ещё интересный по своему составу «Изборник источников по культурной истории Востока» (под редакцией проф. Б.А. Тураева и И.Н. Бороздина, ч. 1. Восток. Москва. 1915 г.).
Изборник имеет семь отделов или глав. Две первые главы содержат, главным образом, переводы текстов (разных эпох), относящихся к религиозной, государственной и общественной жизни египтян; следующие две главы посвящены Вавилону и Ассирии – их религиозной, государственной и общественной жизни в разные эпохи; три последние главы содержат частью тексты, частью отрывки из классических писателей, поскольку в них характеризуется религиозное, политическое или общественное состояние финикиян, сирийцев, персов и карфагенян. Этот изборник может служить хорошим пособием при прохождении курсов древней истории в средней школе.
—479—
Такое назначение этому сборнику указывают и издатели его.
Правда, здесь нет уже пояснительных примечаний, каковые мы встречаем в серии «культурно-исторических памятников»; некоторые переводы, несмотря на достаточно известные имена переводчиков, представляются нам требующими новой поверки, как, например, надпись Меши (№ 39), переведённая Соловейчиком впервые ещё в 1900 г., после чего она не однажды исправлялась учёными западными переводчиками. Но в «Изборнике источников по культурной истории Востока» имеются и новые переводы памятников, представляющих интерес и не для одной только средней школы. Таков, например, перевод «славословия Осирису», сделанный опытным переводчиком А.Л. Коцеиовским и др.
В «Изборнике» имеется более сорока хорошо исполненных снимков, из них два в красках, а именно:
1) часть изображений погребальных процессий, помещавшихся над первыми главами «Книги мёртвых» (из папируса Ани);
2) Фараон Тутмос I-й и царица Сенсенеб – супруга Тутмоса I.
Едва ли нам нужно говорить о значении «Изборника» для средней школы. Предисловие его достаточно говорит об этом. При наличности в старших классах светских учебных заведений курса «Истории античной культуры» и при изучении древней истории он необходим, поскольку воскрешает подлинную жизнь минувшего. Некоторые отрывки из этого «Изборника» могут быть интересны и для средней духовной школы, где также изучается курс древней истории и где на уроках Священного Писания учащиеся слышат о Вавилоне, о Навуходоносоре, о Моавитянах, о Кире и Дарии Гистаспе.
Мы отметили работы, которые могут быть полезны всякому интересующемуся делами давно минувших дней, отмеченными на памятниках, найденных в древних культурных странах Востока.
Более специальным характером отличаются Памятники Музея Изящных Искусств имени Императора Александра III в Москве (Издание начато с 1912 года. Пока имеются четыре выпуска текста к прекрасно изданным снимкам с наиболее интересных памятников), переводы
—480—
малоизвестных широкому кругу текстов египетских памятников (см. например, учёные египтологические заметки проф. Б.А. Тураева, печатающаяся в Известиях Императорской Академии Наук, небольшие учёные работы, относящиеся к истории искусства (например, работа проф. В.К. Мальмберга. Старый предрассудок. К вопросу об изображении человеческой фигуры в египетском рельефе. 1915). Но и эти работы представляют значительный интерес для изучающего условия быта древних народов, с чем особенно приходится знакомиться библеистам и археологам.
Библеисты давно уже поняли значение истории «древнего Востока» для их науки. Палестина, в её прошлом, находилась в постоянных сношениях с древними великими колыбелями человеческой культуры. Израильтяне дважды приходили в Палестину: первый раз – в виде небольшого племени – из области Тигра и Евфрата и второй – в виде большой племенной группы – с берегов Нила. Добровольно, а иногда и невольно они расходились то по Вавилону, то по Египту. Таким образом, историческое взаимоотношение Израиля с народами древнего мира естественно устанавливает тесную связь «Истории Израиля» с историей «древнего Востока», в каковой связи первая и изучается теперь в высшей богословской школе.
Археология также питается источниками, которые расширяют содержание и древней истории Востока. Так, например, загадка происхождения христианского нимба, как думают, находит отчасти своё разъяснение в египетской мифологии1159. Для археолога – это серьёзная справка, хотя,
—481—
быть может, и нуждающаяся в разъяснениях и восполнениях.
Все отмеченные нами труды являются показателем того, что наши отечественные ориенталисты, о работах которых мы главным образом и говорили1160, идут навстречу интересам широких читающих кругов.
Можно только пожелать, чтобы интересующиеся «древним Востоком» оценили бескорыстное стремление серьёзных работников и своим вниманием к их трудам поддержали их доброе начинание.
Димитрий Введенский
Лебедев Д. А., свящ. К вопросу об Антиохийском соборе 324 г. и о «великом и священном Соборе в Анкире» // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 7/8. С. 482–512 (1-я пагин.). (Начало.)
II.
Разбор статьи А. Harnack'а. Die angebliche Synode von Antiochien im Jahre 324/5, Zweiter Artikel, в Sitzungsberichte der koniglich preussischen Akademie der Wissenschaften. 1909. XIV. Gesainmtsitzung il Mârz. SS. 401–4251161.
Вторая статья A. Гарнака «Мнимый Антиохийский собор в 324/5 году» вызвана появлением в Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse 1908, Heft 3. SS. 305–377–VII-гo Mittheilung. Э. Швартца «К истории Афанасия», представляющего обстоятельный и прямо уничтожающий разбор первой его статейки под тем же заглавием. Тон этой второй статьи берлинского богослова уже далеко не такой самоуверенный, как в первой статье: здесь он не столько нападает, сколько обороняется. Но эта вторая статья представляет собой в сущности последнее слово науки со стороны противников подлинности открытого Швартцем документа, и Лоофс и все другие ученые, которые находили, что Гарнак вышел победителем в этой полемике, – по крайней мере до средины 1914 года, когда все совершающееся в немецком научном мире стало для нас книгой за семью печатями – не привнесли от себя ни одного самостоятельного аргу-
—483—
мента против Швартца и просто только соглашаются с Гарнаком. Поэтому, хотя сам Швартц, следуя спартанскому правилу: «бегущего не преследовать», φεύγοντα μὴ διώκειν1162, и не нашел нужным отвечать на эту статью Гарнака, разбор ее будет далеко не излишен, тем более что Гарнак тут выдвигает и другой интересный вопрос о подлинности актов Кельнского (Агриппинского) собора 346 года.
У меня разбор этой статьи написан был осенью 1910 г. Я пользовался им и в своей первой краткой статье об Антиохийском соборе 324 года, появившейся в 1911 году в Христианском Чтении, и в разборе первой статьи Гарнака на страницах Трудов Киевской Духовной Академии за 1914–1915 гг. Воспроизвожу его поэтому здесь с необходимыми сокращениями, опуская те отделы, которые уже появились в печати и заменяя их ссылками на печатные статьи, но также и с необходимыми дополнениями. Дополнения в особенности необходимы в важнейшем отделе этой статьи, посвященном Кельнскому собору 346 года, так как уже по окончании ее мне стали доступны относящиеся к этому собору статьи Дюшена1163 и особенно – Ambrosius’a Söder’a1164, у которого изданы вновь по рукописям и самые акты собора.
I.
После небольшого (в 10 строк) введения, в котором Гарнак некоторую медленность своего ответа Швартцу объясняет ожиданием, что возьмет слово кто-нибудь из других богословов (Facligenossen), и заявляет, что, раз этого не случилось, то он уже не находит более возможным молчать, чтобы не получилось фальшивое впечатление (damit kein ialscher Schein enlstehe) – берлинский профессор весьма искусно – начинает свою критику изложением хода
—484—
событий 324–5 гг., какой Швартц (SS. 370 ff. cf. 366 ff.) выводит из новых документов, – излагает его (SS. 401–403), пользуясь почти исключительно словами самого Швартца, и пытается – довольно успешно – показать несостоятельность такого изложения (SS. 403–409).
При этом знаменитый богослов, как будто, совсем забывает поставить вопрос: да насколько правильны те выводы, какие Швартц делает из открытого им документа, и не возможно ли совсем иное его понимание, при котором исчезнуть решительно все те несообразности, какие, подчас справедливо, Гарнак указывает у Швартца.
Из дальнейшего, надеюсь, будет ясно, что Гарнак оказывается правым только в тех случаях, когда сам Швартц делает из открытого им документа выводы, на которые не уполномочивает сам документ; а когда выводы Швартца не расходятся с документами, то противоречия и несообразности существуют лишь в воображении самого Гарнака. Да и взгляды самого Швартца излагаются Гарнак не всегда точно.
I.
SS. 366–372 своей статьи Швартц излагает ход и смысл событий 324–5 гг. сначала (SS. 366–370) в том виде, в каком он представляется по старым источникам, и затем уже (SS. 370–372) пытается выяснить, что новые документы не только не стоят ни в каком противоречии с этим изложением, но и разъясняют некоторые темные вопросы, например, ту роль, какую играл на Никейском соборе Евсевий кесарийский, далее строгость императора в отношении к Арию, стоящую в видимом противоречии с его посланием к Александру и Арию, и, наконец, почему унижение Евсевия Никомидийского было усилено еще тем, что совершилось в его собственной провинции.
Швартца, как светского ученого, интересует, конечно, главным образом, политика Константина Великого, да и в самом арианском споре он видит прежде всего борьбу сначала александрийского епископа с его пресвитерами, отстаивавшими свою относительную независимость от епи-
—485—
скопа, а затем борьбу за власть между влиятельными епископами.
По старым источникам, Константин Великий бесспорно был на стороне Ария. Это доказывает послание Константина к Александру и Арию. «По наружности» – говорит Швартц (S. 369) – «император ставил себя» в нем «выше партий, на деле он поддерживал Ария». Это доказывает ясно тот факт, что в этом письме император ставит Александра на одну ногу с его пресвитером и не говорит ни слова о его правах над ним, как епископа над пресвитером. А тот факт, что собор созван был в Никею, в город, находившийся в церковной провинции Евсевия Никомидийского (в Вифинии), и он именно приветствовал императора на соборе речью, доказывал, по-видимому, что на стороне Ария Константин оставался и при самом открытии этого собора. «Но исход» собора «означал нечто совсем иное, чем победу» Евсевия и Ария. Арианские формулы были осуждены; но не было принято и Credo Александра Александрийского, а введено было нечто совсем новое для востока – «западное единство существа Отца и Сына». Ясно, что советником Константина был Осий Кордубский.
По новым документам оказывается, что Константин Великий сначала думал собрать не вселенский собор, а по-видимому, только собор епископов азиатских провинций (в спорном указе Константин ведь говорит, что на собор идут и епископы Италии и прочих частей Европы, (Shwartz. VII, 340), и созвал его в Анкиру, епископскую кафедру Маркелла. Какой план он имел при этом в виду, «нельзя угадать»1165. «Но приверженцы Александра из избрания Анкиры, как места собора, заключили, что император решит» спор «в их пользу», и по инициативе некоторых «горячих голов» в Сирии и соседних с ней провинциях состоялся собор в Антиохии, который шел прямо вразрез с намерением Константина1166.
Император не замедлил высказать свое неодобрение этому
—486—
шагу восточных епископов1167: он перенес собор в Никею, показывая этим, что Евсевий Никомидийский еще жив, и император умеет отстранить возможность всякого предсказания о своей милости или немилости. Вместе с этим собор превращается во вселенский, и император хочет присутствовать на нем лично.
На соборе император вмешивается с самого начала и сам лично реабилитирует Евсевия cum sociis. Но император был далек от того, чтобы покровительствовать и Арию: он имел слишком мало силы позади себя, как показал это антиохийский собор, и, кроме того, Осий мог разъяснить императору, как опасно подействовало бы решение в пользу формул Ария на западе. Поэтому он пожертвовал пресвитером. Но император не желал также содействовать и блестящему триумфу александрийского патриарха, потому что тогда он одобрил бы, в сущности, антиохийский собор, перечеркнувший его планы. Ничего не оставалось ему делать, как провести на соборе западные формулы. «Расчетливый деспот» конечно хорошо понимал, что эти формулы будут крайне неприятны восточным епископам; но он знал также, что церковь, которой он дал возможность участвовать в славе его победы, не может отказать ему в исполнении его желания и не принять в свое Credo слово, которое можно будет потом перетолковывать как угодно. И ему удалось потом вернуть в церковь не только Евсевия Никомидийского, но и самого Ария. И когда Афанасий решительно отказался принять в общение ненавистного пресвитера, император повел борьбу уже прямо с александрийским епископом.
Гарнак не делает никакого различия между тем изложением хода событий 324/5 г., какое Швартц дает на основании одних старых источников, и тем, какое он дает, привлекая к делу новые документы, и, выхватывая отдельные пункты из того и другого изложения, старается показать, что они находятся во взаимном противоречии.
Все изложение хода событий начала арианского спора у Швартца Гарнак разбивает на 8 пунктов: а–h; а) отношение императора к Александру и Арию по письму его
—487—
к ним; b) назначение собора в Анкиру; с) вывод отсюда приверженцев Александра; d) собор в Антиохии; е) перенесение великого собора в Никею; f) положение на соборе Евсевия кесарийского; g) отношение императора на соборе к Арию и h) к александрийскому епископу: внесение западного термина. Пункты b–g заимствованы из второго изложения хода событий у Швартца (по новым документам), пункт а) – из первого изложения, пункт h) – общий тому и другому изложению. Гарнак дает, таким образом, изложение взглядов Швартца хотя и верное в существенном, но не вполне точное.
Гарнак находит противоречие прежде всего между пунктами а и b. «Если император хотел поддерживать Ария, то как он мог созвать проектируемый собор в Анкиру, кафедру лютейшего противника Ария?». «Что он имел в виду, невозможно угадать», возражает Швартц. Но этого недостаточно, по мнению Гарнака, «так как тут лежит противоречие».
Но мне кажется, что это противоречие не особенно трудно решить и с точки зрения Швартца. Швартц считает Константина Великого политиком настолько тонким и искусным, что он намеренно никому не давал возможности угадать, куда именно клонятся его симпатии и антипатии. Поэтому, высказавшись в письма к Александру и Арию довольно ясно в пользу последнего, Константин мог даже намеренно назначить собор в Анкиру, чтобы и Арий не счел его окончательно своим сторонником, и Александр мог бы не терять надежды, что и император будет на его стороне, и его дело восторжествует на соборе1168.
Если же отрешиться от оригинального взгляда Швартца на политику Константина, то назначение собора в Анкиру уже решительно не стоит ни в каком противоречии с письмом Константина к Александру и Арию. Письмо это Константин писал, вероятно, под влиянием одного из Евсевиев, и может быть, даже и сам Осий Кордубский в то время не представлял ясно, в чем состоял предмет спора между Александром и Арием и допускал возможность ошибки или увлечения и со стороны самого Алексан-
—488—
дрийского епископа. Но в Александрии Осий убедился в безусловной правоте Св. Александра и в опасности заблуждения Ария и, возвратившись в Никомидию, повлиял в этом смысле и на Константина. Как решительный противник Ария Маркелл был, конечно, хорошо известен Осию, и вероятно под его влиянием император назначил сначала местом собора Анкиру1169.
А если так, то и с не стоит ни в каком противоречии, ни с а, ни с b: из факта назначения собора в Анкиру приверженцы Св. Александра Александрийского, т. е. огромное большинство восточных епископов – правых оригенистов – сделали тот совершенно правильный вывод, что император на их стороне.
d по Гарнаку стоит в противоречии с с. В созыве собора в Антиохии накануне назначенного великого собора в Анкире он видит шаг не только «смелый, чтобы не сказать бесстыдный», как выражался Швартц, но даже «совершенно безумный и в высшей степени опасный». «Император только что прибыл на восток, он дает милости церкви, он сам созывает собор, и выбор места собора показывает, что он враждебно настроен против ариан, и вот не ариане в их крайней нужде, in der letzten Not, а их противники, которые могут предполагать благосклонность к себе императора», оказываются «настолько бесстыдными, что прежде собирают импровизированный собор, чтобы отнять у императора ветер от парусов и самим делать церковную политику. Пусть понимает это, кто может! И к этой невероятности еще та неясность, что антиохийский собор созван был даже и не для уложения великого спора, а по дисциплинарным вопросам, но с самого начала меняет» свою «программу».
Признаюсь, я в поступке восточных епископов, собравшихся уже по назначении великого анкирского собора на поместный, хотя и довольно многочисленный, собор в Антиохию, решительно не способен видеть ничего не только опасного, безумного или бесстыдного, но и просто только смелого. И думаю, и самим заседавшим в Антиохии епи-
—489—
скопам и на мысль не приходило, что, собравшись на этот собор, они идут в разрезе с желанием императора Константина Великого – Ликиний запретил восточным епископам собираться на соборы. Но в атом запрещении выразилась его ненависть к христианам: он был их гонителем. С падением Ликиния и с воцарением первого христианского императора Константина Великий само по себе потеряло всякую силу и это запрещение, и епископы получили полную возможность собираться на соборы, когда и где им угодно. И, разумеется, в первое время после падения Ликиния они должны были собираться на соборы чаще, чем до гонения Ликиния, и чем впоследствии, так как за время гонения вопросов церковных накопилось не мало; и сами отцы Антиохийского собора на запрещение Ликиния собираться на соборы и указывают прямо, как на один из поводов к созыву этого собора.
И понятно само собой, что собор, состоявшийся вскоре по прекращении гонения Ликиния, необходимо должен был заняться вопросами церковной дисциплины. Но, с другой стороны, было бы странно, если бы собор епископов востока, созванный хотя бы и по дисциплинарным вопросам, не отозвался так или иначе на волновавший тогда всю церковь вопрос об учении Ария. И это после того, как сторонники Ария собирались на соборы и в Вифинии, и в Палестине, и последнему собору удалось даже добиться возвращения ариан в Александрию, без согласия на это Александра Александрийского!
Но, по моему мнению, даже и тот беспорядок, ἀταξία, и то презрение церковного закона и канонов людьми «мирскими», или же – вероятно правильнее – некоторыми новаторами, ὑπ’ ἐνίων νεωτεριστῶν1170, о которых говорит собор в начале послания, не стоят вне всякой связи с арианским спором. Предшественником Св. Евстафия антиохийского, имя которого занимает 2-е место в наличном тексте (переводе) послания, а в его оригинале может быть занимало даже 1-е место, и который был, вероятно, инициатором и истинным вождем этого собора, на антиохийской кафедре был Павлин, бывший епископ Тирский, друг
—490—
обоих Евсевиев и один из виднейших покровителей Ария1171. По всей вероятности, он в свое недолгое правление в Антиохии принял известные меры в пользу Ария и его друзей, принял их, вероятно, в церковное общение, может быть допустил к участию в богослужении в Антиохии, а может быть даже лишил должностей некоторых из тех клириков, которые были решительными противниками арианского учения1172. В виду этого Антиохийский собор 324 года, приступая прямо к вопросу об Арии и его последователях, вовсе не менял своей программы, а решал прежде всего тот именно вопрос, какой и нужно было решить тогда в Антиохии, чтобы уничтожить следы правления Павлина1173.
Ничего нет удивительного и в том, что собор в Антиохии состоялся накануне великого собора в Анкире. Одной благосклонности императора, выразившейся в назначении собора именно в Анкиру, было далеко недостаточно, чтобы поселить в епископах, сторонниках Св. Александра Александрийского, уверенность, что истина восторжествует на соборе, и учение Ария будет отвергнуто. Св.
—491—
Евстафию и его единомышленникам было, конечно, хорошо известно, что Арий имеет очень влиятельных покровителей (оба Евсевия, Феогний, Минофант), и они могли повести на соборе дело таким образом, что большинство епископов выскажется в пользу Ария, или же дело закончится принятием какого-либо неопределенного изложения веры, под которым подпишутся и Арий со своими сподвижниками, и их покровители.
Сделать это было бы тем легче, что большинство епископов были, конечно, богословами довольно плохими, и легко могло случиться, что, когда на великом соборе дело дойдет до голосования по поводу вероизложения, представленного одним из друзей Ария и составленного в неопределенных выражениях, то собор, т. е. большинство членов его, найдет это вероизложение вполне православным. И, разумеется, оба Евсевия на соборах Вифинском и Палестинском сделали все, что могли, для Ария, постарались привлечь на его сторону возможно большее число епископов. К этой сплоченной группе лукианистов и левых оригенистов на соборе очень легко могли примкнуть и многие из числа нерешительных или мало образованных епископов Сирии и других тяготевших к Антиохии провинций, тем более что и самую кафедру столицы востока недавно занимал левый оригенист Павлин. На верийской кафедре Евстафий не имел возможности создать достаточного противовеса влиянию Павлина. Но было бы непонятно, если бы он, заняв – вероятно осенью 324 года – кафедру великой Антиохии, накануне великого собора в Анкире, долженствовавшего решить поднятый в Александрии догматический вопрос, стал бы спокойно выжидать, какой оборот примет вопрос об Арии на этом соборе, и не принял бы со своей стороны никаких мер к тому, чтобы по возможности уменьшить количество сторонников Ария и увеличить число его противников. И исход созванного им в Антиохии собора доказывает, что его старания в этом отношении оказались далеко не безуспешными. По меньшей мере двое (Григорий Виритский и Аетий Лиддский), или и пятеро (еще, может быть, Македоний Мопсуестийский, Таркондимант Эгейский и Алфий Апамийский) из числа сторонников Ария перешли на этом соборе в число его противников.
—492—
Нельзя было обойтись на соборе и без изложения веры. Явиться на великий собор в Анкиру без такого изложения для восточных сторонников Св. Александра Александрийского, предвидимых Св. Евстафием, значило бы тоже, что для вождей современных политических партий выступить в парламенте, не имея определенной политической программы. Отцы Антиохийского собора должны были выяснить сами себе, что именно они должны защищать на великом соборе, и что для них неприемлемо в учении Ария.
Замечания Гарнака по поводу е (S. 404) в существенном можно признать справедливыми. По Швартцу «император, как дипломат будто, бы рассматривает смелый собор антиохийский, как воюющую силу (wie eine krieglührende Маcht, – Harnack. 404): он предпринимает противный ход (ein Gegenzug). Он переносит задуманный собор в Никею и идет таким образом на встречу Евсевию Никомидийскому, виднейшему покровителю Ария. Очевидно, он имеет в виду доставить победу Арию. Вместе с этим ему приходит в голову мысль о Вселенском соборе, который один только мог дать надлежащий авторитет против Антиохийского». «Возможно» – говорит Гарнак – «что Константин так поступал, но, насколько мы его знаем, невероятно. И какое странное – положение! (Und wie eine selftsame, kontorte Lage!). Великий собор, самовольно собравшийся в то время, как император уже созвал собор, смело предпринимает то самое, что, как известно было собору, и император должен был сделать на созываемом соборе. Императору это могло быть приятно – тогда собор в Анкире в существе дела оказывался уже излишним – или же он мог дать почувствовать свой гнев. Вместо того он переменяет свое мнение, берет назад назначение собора в Анкиру, переходит, назначая его в Никею, на сторону Евсевия Никомидийского и в своей слабости ищет себе теперь помощи с запада, – возможно все это, но невероятно».
На все это Швартц – со своей точки зрения – конечно не затруднился бы дать ответ. По его взгляду Константин Великий, как искусный политик, не хотел дать полного торжества ни одной из спорящих сторон. Поэтому, как только он узнает об Антиохийском соборе, знаменовавшем тор-
—493—
жество Св. Александра на востоке, он переносит собор в Никею. Но и Евсевию с Феогнием он не хочет дать полного торжества и призывает поэтому на собор западных епископов. – Вопрос только в том, был ли Константин Великий действительно таким искусным, коварным политиком в религиозных вопросах?
По моему мнению, ни старые, ни новые документы из истории начала арианского спора не оправдывают этого оригинального взгляда Швартца на политику Константина, и ход событий после Антиохийского собора 324 года представляется мне совсем в ином свете, чем Швартцу. Приглашая на великий собор западных епископов, Константин Великий шел не вразрез, а навстречу желаниям отцов Антиохийского собора и самого Александра Александрийского. Ведь сами же отцы Антиохийского собора, по примеру. Александра Александрийского, обратились с особыми посланиями и к Сильвестру, епископу Римскому, и к Александру Фессалоникийскому. Как отозвались на эти послания эти епископы апостольских кафедр запада, мы не имеем сведений. Но на Никейском соборе мы встречаем в числе сторонников Св. Александра Александрийского и представителей Римского епископа пресвитеров Витона и Викентия, и самого Александра Фессалоникийского. И нет ничего невозможного в том предположении, что в ответ на послания Св. Александра и Антиохийского собора сами эти выдающиеся епископы запада выразили каким-нибудь образом желание принять участие в соборно-вселенском решении спорного догматического вопроса. Мысль пригласить на собор западных епископов мог подать Константину и Осий Кордубский, может быть, сам присутствовавший на Антиохийском соборе. Но западных епископов неудобно было приглашать в далекую от границы востока и запада Анкиру, и потому с превращением восточного великого собора во вселенский перемена места его стала необходимостью. О выбор Никеи, как места Вселенского собора, ср. Виз. Bp. т. XX, Отд. I, стр. 167 (Павлин и Зинон, стр. 107), прим. 157, и Труды Имп. Киевск. Дух. Акад. 1915 г., январь, стр. 115–117 (К вопр. об Ант. соб. I, 124–126). К сказанному там можно прибавить:
1) Насколько сильно распространено было в западной
—494—
приморской части Малой Азии арианство, можно судить по тому, что под томосом Св. Александра Александрийского подписались правда отдельные епископы из Асии, Карии, Лидии, но ни одного епископа из Вифинии, где находилась тогда резиденция императора. Кафедру главного города – Ефеса и в Асии занимал лукианист Минофант. Лукианисты занимали все кафедры, прославленные потом вселенскими соборами, исключая Византии-Константинополя. Но Византия была тогда небольшим городом, и об ней едва ли могла идти речь при избрании места собора. Мы не знаем, какие именно епископы Асии, Карии и Лидии подписали τόμος Александра, но во всяком случае это были епископы кафедр или незначительных, или удаленных от Никомидии. Но при выборе места собора необходимо было считаться с желанием Константина, решившего присутствовать на соборе лично. С этой точки зрения, конечно, самым удобным местом собора была бы самая Никомидия. В виду этого можно даже поставить вопрос: Никея не была ли избрана даже прямо вопреки желанию Евсевия Никомидийского? Его друг Феогний Никейский мог представляться менее опасным противником Осию Кордубскому и другим влиятельным сторонникам Св. Александра Александрийского, чем такой «великий» интриган, как Евсевий, и вынужденные искать место для собора в Вифинии, они намеренно обошли Никомидию.
2) При выборе места соборов епископы нередко не считались с догматическим направлением местных епископов. Иногда соборы, судившие епископов за их догматические заблуждения, собирались прямо в тех городах, где эти еретики были епископами. Соборы, судившие Павла Самосатского, епископа Антиохийского, собирались в самой Антиохии. В Антиохии состоялись и собор около 330 года, низложившей Св. Евстафия, и собор 344 года, низложивший Стефана Антиохийского. В 346 году собор, осудивший Евфрату Колонийского, состоялся в самой Colonia Agrippina (Кельне). И Фотин, епископ Сирмийский, низложен был Сирмийским собором 351 года. Было бы поэтому нисколько неудивительно, если бы и в 324–5 г. епископы-антиариане, чувствуя за собою силу, собор для суда над Арием и его покровителями назначили бы даже в самой Никомидии.
—495—
Словом, в выборе Никеи, как места собора, я не вижу доказательства, что Константин Великий был очень недоволен поступком восточных епископов, собравшихся на собор в Антиохии, и постарался парализовать значение этого собора.
Нельзя, конечно, оспаривать, что, когда собрался Никейский собор, то не все решения Антиохийского собора были сдобрены Константином: Евсевий Кесарийский бесспорно допущен был на собор, как полноправный член, равно как, вероятно, и Феодот Лаодикийский и Наркисс Нерониадский. Но позволительно спросить: об отлучении, наложенном на этих трех епископов Антиохийским собором, император не услыхал ли впервые только на самом Никейском соборе? Конечно, ему мог сообщить об этом и раньше Евсевий Никомидийский (если не сам Осий). Но и в таком случае Константин в. не мог увидеть в решениях Антиохийского собора шага, направленного к тому, чтобы свести к нулю задуманный им Анкирский собор. Ведь сами отцы этого Антиохийского собора окончательное решение вопроса о трех отлученных епископах предоставили именно великому собору в Анкире и потому, вероятно, и в Никее не особенно протестовали против того, чтобы отлученные ими епископы заняли места в качестве полноправных членов собора. – Отлучение, наложенное Антиохийским собором, не прошло, однако, совсем бесследно по крайней мере для Евсевия Кесарийского. Его заставили оправдываться на соборе, и приводимое Евсевием в письме к кесарийцам вероизложение прочитано было им на соборе не в качестве проекта символа, а в свое оправдание, и только вмешательство императора придало делу неожиданный оборот1174.
Из сказанного, надеюсь, ясно, что и в данном случае новые документы не стоят ни в каком противоречии со старыми, и те странности, какие Гарнак отчасти, верно, указывает в изложении Швартца, нужно отнести на счет самого Швартца, а не изданных им документов.
Пункту f Гарнак придает чрезвычайно важное значение, видит в нем самое главное, die Hauptsaсhe. «Самый
—496—
важный документ» – пишет он – «касающийся хода Никейского собора есть» известное «письмо Евсевия Кесарийского» к своей пастве. «Согласуется ли это письмо с тем, что можно почерпнуть из мнимо подлинного послания Антиохийского собора? По нему Евсевий прибыл на [Никейский] собор, как отлученный, и, следовательно, был им реабилитирован. Но письмо [Евсевия] совершенно молчит об отлучении и реабилитации. Швартц видит здесь «тонкую иронию» Евсевий рассматривает непризнанное его паствой решение [Антиохийского собора], как несуществующее. «Нельзя сказать – говорит Гарнак – «чтобы это объяснение было удовлетворительно. Почему Евсевий, который вообще не жалеет слов, не возвещает ясно о триумфе своем и своего императора», о том, «что несправедливое и смелое осуждение [его] в Антиохии было отменено решением императорского собора. Вместо того он молчит. Это не только удивительно; это совершенно необъяснимо».
Мне кажется, что Евсевий не имел ни особого повода, ни особого желания вести речь об этом отлучении, наложенном на него Антиохийским собором, в письме к своей пастве. Кесарийцам, конечно, и без того хорошо известен был факт отлучения, наложенного на Евсевия Антиохийским собором, а что на соборе в Никее он присутствовал в качестве полноправного члена, они могли понять из того, что он подписал символ собора с терминами ἐκ τῆς οὐσίας и ὁμοούσιον и анафематизмом на арианские положения. Но самый тон письма Евсевия к кесарийцам доказывает, что в 324 году кесарийская паства была вполне на его стороне, но не одобряла подписи им Никейского символа. Поэтому возвышать с особым триумфом о том, что Никейский собор, по желанию императора, игнорировал отлучение, наложенное на него в Антиохии, для Евсевия было даже не совсем удобно. Подпись Евсевия под символом с подозрительными для него, как левого оригениста, терминами была и для самого Евсевия и для его паствы фактом, в сущности, более печальным, чем отлучение, наложенное на него в 324 году, когда он стойко поддерживал опального Александрийского пресвитера-лупианиста. Не торжествовать приходилось ему теперь, а оправдываться перед своей паствой.
—497—
О положении Евсевия Кесарийского на Никейском соборе у меня сказано достаточно иного в разборе 1-й статьи Гарнак1175, и я с истинным удовольствием прочитал у Швартца, в его ответе Гарнаку страницы, 360–361. Швартц здесь, по моему мнению, совершенно справедливо замечает, что временное отлучение, наложенное на Евсевия Антихийским собором «объясняет тот иначе загадочный факт, что именно Евсевий Кесарийский, который не был вождем ни той, ни другой партий» [ни православной, ни арианской; в данном случае Швартц по моему, не совсем прав: Евсевий несомненно был одним из вождей арианской партии, и это обстоятельство и было причиной его отлучения на Антиохийском соборе] «должен был представить на собор Кесарийский крещальный символ со своим собственным заключением: это сделал он потому, что должен был доказывать свое православие. Новооткрытый документ, следовательно, никоим образом не противоречит тому – очень немногому – что известно было раньше о ходе Никейского собора, но разъясняет важнейшее и документальное сообщение о нем таким удивительным и живым образом, как это никогда невозможно было бы сделать при подлоге».
Но Гарнак не хочет согласиться с этим. По его мнению, из того факта, что Евсевий выступил на соборе с изложением веры, не следует, что он явился на собор, как отлученный. «Конечно, его личное заявление в конце символа о том, что он всегда так веровал, доказывает, что на соборе он должен был защищаться против резких нападок или подозрений; но это должны были делать там первые борцы (Protagonisten) всех партий. О друзьях Ария мы знаем, что и они также составили формулу веры и пришли с ней – конечно без успеха – на помощь своему учителю (Meister). Наоборот, Маркелл Анкирский защищал свою точку зрения против Евсевия и нападал на своих врагов. Много заявлений, подобных тем, какие делает Евсевий, было высказано на соборе; случайно мы знаем заявление Евсевия Кесарийского. Евсевий не на соборе стоял, как осужденный, но он стоял как обвиненный
—498—
перед своей паствой и именно с полным правом (mit Redit). – Что же касается хода собора, то предложение исповедания веры Евсевием не было с его стороны актом самооправдания (Reinigungsakt), а искусной попыткой объединить собор на этой формуле. И попытка эта удалась в существенном». – Символ, предложенный Евсевием, действительно, как показал Хорт, лежит в основе Никейского символа. Следовательно, если мы должны верить антиохийскому посланию, то Евсевий пришел в Никею, как отлученный, и его вынужденное очистительное исповедание (Reinignngsbekenntniss) положено было собором в основу его решающего вероопределения! «Возможно такое mutatio rerum, но оно невероятно! (Möglich ist eine solche mutatio rerum, wahrscheinlich ist es nicht!). Равно как возможно, что Евсевий забыл возвестить об атом исключительном триумфе своей пастве, но невероятно!».
То, конечно, верно, что до 1905 года никому и на мысль не приходило, что Евсевий Кесарийский представлял на Никейском соборе свое вероизложение, как отлученный. Нельзя, однако, оспаривать, что и предисловие, и заключение евсевиева символа не вполне гармонируют с тем обычным предположением, что этот символ был только проектом соборного вероопределения. Только антиохийское послание дает этим предисловию и заключению полный смысл и значение.
Не вижу никакого повода не соглашаться с Хортом-Гарнаком и в том, что именно кесарийский1176 символ, предложенный на соборе Евсевием лежит в основе ни-
—499—
кейского символа.
Об этом говорит сам Евсевий, и нет ни малейших оснований не доверять ему в этом, и редакция никейского символа такова, что он прямо выдает себя, как переделку кесарийского символа.
Но на вопрос: как же случилось такое mutatio rerum, что исповедание веры, представленное Евсевием кесарийским для своего оправдания, положено было в основу соборного вероопределения, ответ дает сам же Евсевий. Ταύτης ὑφ’ ἡμῶν – говорит он – ἐκτεθείσης πίστεως, οὐδεὶς παρῆν ἀντιλογίας τόπος· ἀλλ’ αὐτός τε πρῶτος ὁ θεοφιλέστατος ἡμῶν βασιλεὺς ὀρθότατα περιέχειν αὐτὴν ἐμαρτήρηδεν οὕτω τε ἑαυτὸν φρονεῖν συνωμολόγηται, καὶ ταύτῃ τοὺς πάντας συγκατατίθεσθαι, ὑπογράφειν τε τοῖς δόγμασι, καὶ συμφρονεῖν τούτοις αὐτοῖς παρακελεύετο· ἑνὸς μόνου προσεγγραφέντος ὁήματος τοῦ ὁμοουσίου. Евсевий, следовательно, говорит так ясно, как только это возможно, что в качестве основы соборного вероопределения его символ предложен был самим императором Константином Великим. Он, вероятно, уже в это время обратил свое внимание на ученого епископа кесарийского и на соборе оказывал ему явное покровительство. Конечно, по его настоянию Евсевий, отлученный Антиохийским собором, принят был Никейским собором в качестве члена; и когда его попросили все-таки прочитать на соборе свое вероисповедание, и по прочтении Евсевием его символа никто пока ничего не возразил против него (символ был ведь не арианский, хотя и бесцветный), то Константин и предложил собору подписать это вероисповедание, прибавив к нему слово ὁμοούσιον, как того желали Осий Кордубский и другие западные епископы.
Однако отцы собора далеко не ограничились вставкой в символ одного этого слова (подозрительного и для Евсевия и для всех восточных), но подвергли его такой существенной переделке, что получился на деле совершенно новый символ, и сам Евсевий мог подписать его только подчиняясь необходимости (иначе ему грозила ссылка). И об этой переделке своего символа ясно говорит сам Евсевий: Οἱ δὲ [они же, т. е. партия, противоположная Евсевию, сторонники Св. Александра Александрийского] προφάσει τῆς τοῦ ὁμουσίου προσθήκης, τήν δε τὴν γραφὴν πεποιήκασιν. – Следовательно, Евсевий не только не одержал никакого
—500—
исключительного триумфа на Никейском соборе, но в существе дела вынужден был сдаться на капитуляцию своим догматическим противникам. – Ценой такой сделки с совестью, какую Евсевий допустил летом 325 года, он и с Антиохийского собора в 324 году вернулся бы не как отлученный, а как один из православных членов этого собора. Разница только в том, что 324 году Евсевий, подписав антиохийское вероизложение, только перешел бы из лагеря левых оригенистов в лагерь оригенистов правых (признал бы только вечное рождение Сына), а в 325 году ему пришлось подписать западные богословские термины, отвергнутые самим Оригеном и подозрительные и для правых оригенистов. Значить переход на сторону противников Ария для Евсевия в 324 году был бы легче, чем в 325 году. Но видимо в 324 г. Евсевий еще надеялся, что на великом соборе в Анкире покровители Ария могут взять верх над его противниками; на Никейском соборе он увидел, что дело Ария совершенно безнадежно, и остается думать о самом себе.
Может быть, не излишне привести здесь и один argumentum ad hominem. Та странность, что символ веры, прочитанный на Никейском соборе Евсевием кесарийским для своего оправдания, положен был в основу соборного вероизложения, не более той, какую сам Гарнак предполагает о константинопольском символе 381 года. Этот так называемый теперь никео-цареградский символ, по гипотезе Гарнака, прочитан был на 2-м вселенском соборе Св. Кириллом Иерусалимским для доказательства своего православия и внесен был в акты собора, а впоследствии принять был за символ самого собора и вытеснил в церковном употреблении самый никейский символ. Если эта, предполагаемая Гарнаком, подмена случилась и не на самом Константинопольском соборе 381 года, то за то здесь символ Св. Кирилла приписан был, будто бы, этому собору целиком, без всяких изменений или дополнений; Никейский же собор взял из символа Евсевия только такие выражения, которые с точки зрения спорного догматического вопроса были безразличны, и редактировал его так, что вместо символа нейтрального получился символ строго антиарианский.
—501—
Но если эта ссылка на предполагаемую Гарнаком историю с символом Кирилла Иерусалимского может иметь значение только аргумента ad hominem, в полемике с самим Гарнаком, если в действительности Св. Кирилл не читал в 381 году в Константинополе никакого символа в свое оправдание (в это время его едва ли в чем и обвиняли), и никео-цареградский символ составлен, или редактирован самим II-м Вселенским собором, то мы имеем в истории церкви IV века и еще один случай, аналогичный с тем, какой, как теперь оказывается, вышел в 325 году с символом, прочитанным на Никейском соборе Евсевием Кесарийским.
3-я из 4-х антиохийских формул 341 года прочитана была на Антиохийском соборе ἐν τοῖς ἐγκαινίοις Феофронием епископом Тианским, но подписана всеми отцами собора1177.
Спрашивается: почему понадобилось Антиохийскому собору 341 году это 3-е вероизложение после раньше составленных двух (в том числе авторитетного для восточного «символа Лукиана»), и почему с ним выступил Феофроний, епископ Тианский?
Если припомним, что присутствовавший на Антиохийском соборе 324 года и на Никейском Вселенском соборе 325 года Евпсихий, епископ Тианский, упоминается у Афанасия Великого, ad episcopos Aegypti et Libyae, n. 8 в числе выдающихся поборников православия, «мужей апостольских», то представляется совсем невероятным, чтобы и его преемник Феофроний по доброй воле очутился в рядах евсевиан и был решительным антиникейцем. А предисловие и заключение символа Феофрония прямо говорят за то, что этот символ прочитан был им на соборе в свое оправдание, что его обвиняли в единомыслии с Маркеллом Анкирским, Савеллием и Павлом Самосатским. Οἶδεν ὁ Θεός, – так начинает свое вероизложение Феофроний, – ὃν μάρτυρα καλῶ ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι οὕτως πιστεύω, а в конце его говорит: Εἰ δέ τις παρὰ ταύτην τὴν πίστιν διδάσκει, ἢ ἔχει ἐν ἑαυτῷ, ἀνάθεμα ἔστω· καὶ Μαρκέλλου τοῦ Ἀγκύρας, ἢ Σαβελλίου, ἢ
—502—
ΙΙαύλον τοῦ Σαμοσατέως, ἀνάθεμα ἔστω καὶ αὐτὸς καὶ πάντες οἱ κοινωνοῦντες αὐτῷ. Въ самом символе Феофрония против Маркелла и Савеллия направлены выражения (о Сыне Божием): τὸν γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρός πρὸ τῶν αἰώνων, Θεὸν τέλειον ἐκ Θεοῦ τελείου, καὶ ὅντα πρὸς τὸν Θεὸν ἐν ὑποστάσει и – специально против Маркелла – καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης καὶ δυνάμεως κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ μένοντα εἰς τοὺς αἰώνας.
Гарнак говорит, как о факте совершенно бесспорном, что и «друзья Ария» [а разве Евсевий кесарийский был его недругом?] представили на Никейском соборе свое вероизложение, которое, однако, не имело успеха. Справка с DGН 229, 3[=DGН3 224, 1 =Н2 226] показывает, что Гарнак имеет в виду следующие слова Евстафия Антиохийского у Theodoret, h. е. I, 8, 1–2: ὡς δὲ ἐζητεῖτο τῆς πίστεως ὁ τρόπος, ἐναργὴς μὲν ἔλεγχος τὸ γράμμα τῆς Εὐσεβίου προυβάλλετο βλασφημίας· ἐπὶ πάντων δὲ ἀναγνωσθέν, αὐτίκα συμφορὰν μὲν ἀστάθμητον τῆς ἐκτροπῆς ἔνεκα τοῖς αὐτηκόοις προὐξένοι, αἰσχύνην δ’ ἀνήκεστον τῷ γράψαντι παρεῖχεν. «Невозможно» – замечает Гарнак, – «чтобы тут разумелся символ Евсевия кесарийского, потому что «Евсевий «после сообщения своего символа замечает ясно, что он в существенном был принят»1178.
Поэтому Гарнак разделяет обычное мнение, что τὸ γράμμα βλασφημίας представлено было Евсевием Никомидийским.
Вопрос об этом γράμμα решается, однако, не так просто, как кажется Гарнаку. Швартц видит в словах Евстафия только «грубо искаженное изображение сцены, в которой Евсевий Кесарийский предложил свое Credo»1179. И Зеекк1180 находил, что Евстафий скорее имел здесь в виду Евсевия Кесарийского, чем Никомидийского. И это предположение не так-то легко опровергнуть.
В пользу обычного мнения говорят, конечно, дальнейшие
—503—
слова Св. Евстафия (не приводимые Гарнаком в цитованном месте его DG): ἐπειδὴ δὲ τὸ ἐργαστήριον τῶν ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον σαφῶς ἐάλω, τοῦ παρανόμου γράμματος διαρραγέντος ὑπ’ ὄψει πάντων ὁμοῦ, τινές ἐκ συσκευῆς τούνομα προβαλλόμενοι τῆς εἰρήνης, καιεοίγησαν μὲν ἅπαντας τοὺς ἄριστα λέγειν εἰωθότας. Выражение οἱ περὶ или ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον у современников и позднейших историков обыкновенно означает сторонников Евсевия Никомидийского, а не Кесарийского. И, по-видимому, трудно допустить, чтобы символ Евсевия Кесарийского, положенный в основу соборного вероопределения, был разорван, как «беззаконное писание».
Но, с другой стороны, известно, что после Никейского собора Св. Евстафий вел полемику с Евсевием Кесарийским1181, и именно Евсевий кесарийский был главным деятелем собора, низложившего Евстафия. Именно Евсевий кесарийский был, таким образом, личным врагом Св. Евстафия. Можно ли поэтому допустить, чтобы Евстафий, говоря о Никейском соборе, упомянул о παράνομον γράμμα Евсевия Никомидийского и позабыл или не хотел упомянуть о символе, прочитанном на соборе Евсевием Кесарийским? И так ли невероятно, что изображение одной и той же сцены, разыгравшейся на соборе по поводу вероисповедания, прочитанного Евсевием, вышло столь до противоположности различным под пером самого Евсевия и столь открыто нерасположенного к нему, как арианину, Св. Евстафия? Сообщение Св. Евстафия, допуская, что и у него идет речь о γράμμα Евсевия Кесарийского, не стоит в совершенно непримиримом противоречии с рассказом самого Евсевия. Возможно, что символ Евсевия сначала не вызвал резких возражений, многие даже одобрили его, но потом, когда дело дошло до редактирования нового символа на основании символа Евсевия, поднялись прения, и решительные противники ариан, в роде самого Евстафия, нашли, что в целом этот символ есть «богохульство», βλασφημία. «Богохульство» можно было усмотреть, например, в словах (о Боге Отце) τόν τε ἀπάντων (=решительно всего, следовательно, и Сына и Св. Духа) ὀρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν, в отсутствии найме-
—504—
нования Сына Божия истинным Богом, даже в выражении πρωτότοκον πάσης κτίσεως, хотя и взятом из Св. Писания (Кол.1:15), но неправильно прилагаемом к Сыну Божию, как Богу. И в конце концов, когда никейский символ был уже составлен, символ Евсевия мог быть даже и разорван решительными антиарианами. Что Евсевий молчит об этом неприятном для него факте, вполне естественно. И выражение ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον могло быть употреблено Св. Евстафием и о сторонниках Евсевия Кесарийского: ведь говорит же Созомен II 19 об οἱ ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον καὶ Παυλῖνον, τὸν Τύρου ἐπίσκοπον, καὶ Πατρόφιλον τὸν Σκυθοπόλεως, где Евсевий несомненно Кесарийский, а не Никомидийский. Тем не менее вместе с Зеебергом1182 и я более склонен думать, что правильно обычное понимание слов Св. Евстафия: упоминаемое им παράνομον γράμμα принадлежит Евсевию Никомидийскому, а не Кесарийскому. А намек на неособенное приятную для Св. Евстафия историю с символом, прочитанном Евсевием Кесарийским, содержится в словах Евстафия: «некоторые по заговору, выдвинув имя мира, заставили замолчать всех умевших сказать лучшее». Св. Евстафий не говорит прямо о символе Евсевия Кесарийского и ограничивается намеком на него именно потому, что для него неприятно было и то, что Евсевию удалось оправдаться, и получилось, что как будто Антиохийский собор 324 года несправедливо подверг его отлучению, 2) то, что прочитанный Евсевием символ лег в основу соборного вероизложения, как будто между умевшими говорить наилучшим образом, между истинно православными епископами, не было никого, кто мог бы составить символ и совершенно независимо от символа, прочитанного бывшим покровителем Ария.
Но кто также были те некоторые, τινές, которые заставили замолчать умевших сказать лучшее? В.В. Болотов, не доживший до открытия антиохийского послания и потому видавший вслед за другими в символе Евсевия Кесарийского только проект соборного вероопределения, предполагал в этих τινές никого иного, как Евсевия Кесарийского1183.
—505—
Напротив, Э. Зееберг видит в этих τινές не Евсевия, а православных, по всей вероятности стоявших близко к императору, епископов. Συσκευή, по его мнению, заключена была между этими православными вождями и императором. Вот как он аргументирует1184 свое мнение: «Спрашивается – кто разумеется под τινές. Естественно, думают прежде всего об Евсевии Кесарийском и стоящих за ним лицах (und etwa seine Hintermӓnner). Но против этого стоят известные трудности. Ведь эти τινές действовали ἐκ συσκευῆς. А это – вместе с κατεσίγησαν – предполагает, что условие (Verabredung) заключено было также и с православными. Только они имели возможность успокоить своих единомышленников (ihre Parteigenossen zur Ruhe zu verweisen). Евсевий Кесарийский не мог этого сделать (hätte das gar nicht gekonnt). Что могло воспрепятствовать православным (die Orthodoxie) выступить против его исповедания? Именно только συσκευή, по которой они сами наложили на себя молчание. К тому же вмешательство этих τινές характеризуется как последовавшее ради мира. Поэтому здесь нельзя видеть указания на принудительное давление, которое произведено было на противниковъ православныхъ (Deshalb kann hier nicht auf den zwingenden Druck, der auf die Gegner der Orthodoxen ausgeiibt worden ist, abgezielt werden). Если спрашивают, почему православные молчали, то – верно, если указывают на исповедание епископа Кесарийского. Но не он сам, а православные причинили это молчание. Объект этого замечания Евстафия есть исповедание Евсевия Кесарийского; его субъекты те православные, которые побудили замолчать выдающихся ораторов». «Но συσκευή предполагает две стороны (zwei Теіle). Одна состоит, как мы видели, из православных вождей; относительно другой нужно думать об императоре. Ведь, он играл решающую
—506—
роль при исповедании Евсевия Кесарийского. Сам епископ Кесарийский не может здесь разуметься. Все его поведение доказывает, что он был удивлен словом ὁμοούσιος (durch das ὁμοούσιος überrascht), тогда как православные приняли это равнодушно, как и его исповедание».
«Под τινές, которые κατεσίγησάν besorgten, нужно во всяком случае разуметь людей из православного лагеря; вероятно, нужно думать об епископах, стоявших близко к императору. Следовательно, некоторые члены православной партии по уговору, который Евстафий порицая называет συσκευή, побудили своих единомышленников под Предлогом мира, во время известного происшествия молчать, и именно таким образом, что они вообще не имели случая выступить со своим мнением. Под этим можно разуметь только исповедание Евсевия Кесарийского, и специально то обстоятельство, что оно было возведено в [соборное] вероопределение [und zwar speciell der Umstand, dass es zum Glanbensdekret erhoben worden ist]».
«Этот результат подтверждается хронологическим расчленением заметки Евстафия. Ибо за «противозаконным писанием» Евсевия Никомидийского следует в ней молчание православной партии, которое может относиться только к неназванному ясно, но в действительности лежащему между тем и другим» [zwischen diesen beiden, т. е. между писанием Евсевия и молчанием православных] «исповеданию Евсевия Кесарийского. Только после этого Евстафий упоминает о характеристичном согласии ариан на [подпись] никейского [символа, die charaktervolle Zustimmung der Arianer zuin Nicanum]1185, который сам вообще не назван прямо, но именно поэтому должен был быть предметом молчания православных. Но так как далее в исповедании Евсевия не содержалось ереси, то умолчание (das Versturainen) не может означать, что православные «проглядели» в нем ереси (kann das Versturonien nicht ein Ubersehen von Häresien bedeuten); но – к чему тон и смысл заметки Евстафия
—507—
сами по себе приводят – православные не делали вообще никаких предложений и допустили (duldeten), что по своему содержанию не подозрительное, но подверженное возражениям (anfechtbare) из-за личности автора оправдательное исповедание Евсевия было возведено в основу соборного вероопределения».
Как ни обстоятельна, по-видимому, аргументация Зееберга, едва ли можно согласиться с ним, что Св. Евстафий под τινές, заставившими, по заговору, замолчать умевших говорить лучшее, разуметь вождей православия, стоявших близко к императору. Зееберг не называет по имени ни одного из этих близких к императору православных епископов. Но очень хорошо известно, что самым близким к Константину епископом в то время был Осий Кордубский. И если кто из православных, то прежде всего он должен был принять участие в заговоре, одной стороной которого был Константин Великий. Некоторую близость к Константину можно предполагать относительно Александра Фессалоникийского и, может быть, некоторых других западных епископов. Из православных епископов востока едва ли кто был особенно близок к императору. Но можно ли допустить, чтобы Св. Евстафий стал обвинять в συσκευή Осия Кордубского и других православных епископов запада? Не сам ли Евстафий, по примеру Св. Александра Александрийского от лица созванного им Антиохийского собора обратился с посланиями к Св. Сильвестру Римскому и Александру Фессалоникийскому, имея очевидно в виду привлечь и этих митрополитов запада к борьбе с арианством? И не Осию ли Кордубскому православные обязаны были тем, что император решительно стал на их сторону, и дело на Никейском соборе приняло столь неблагоприятный для ариан оборот? Осий был, может быть, даже участником и созванного Евстафием Антиохийского собора 324 года и после Никейского собора до самого своего падения в 357 г. действовал как решительный поборник православия, твердый защитник гонимых евсевианами восточных никейцев и свою верность Никейскому символу запечатлел исповедничеством. Нужно считать, конечно, высоко вероятным, что Константин Великий предложил внести в Никейский символ термин ὁμοούσιος по внушению Осия. Но можно
—508—
ли допустить, чтобы Осий еще заранее, до прочтения Евсевием Кесарийским своего символа, сговорился с императором внести это слово именно в символ Евсевия и не дал возможности говорить другим поборникам православия? Или Св. Евстафий, как епископ восточный, недоволен был даже самым Никейским символом, его терминами ἐκ τῆς οὐσίας и ὁμοούσιον, и желал бы, чтобы соборное вероизложение составлено было в более приемлемых для восточных богословов выражениях? Антиохийское вероизложение, действительно, не содержит никейских терминов. Но о св. Евстафий, мы знаем, что после 325 года он вел полемику с Евсевием Кесарийским именно из-за Никейского символа, обвинял Евсевия в том, что он извращает никейскую веру, и около 330–332 г. был низложен евсевианами, по обвинению, между прочим, и в савеллианстве, т. е. как поборник никейской веры.
По моему крайнему разумению, уже сам тон, в каком говорит Св. Евстафий об этих τινές, препятствует видеть в них вождей православия. Что это и не явные «ариоманиты», доказывает контекст. Но это не мешает видеть в них ариан скрытых, или же – вероятнее – тех нерешительных епископов, которые не придавали особенно важного значения спорному догматическому вопросу, поднятому в Александрии и волновавшему весь восток, и ни к чему так не стремились, как только к тому, чтобы прекратились богословские споры, и водворился мир в церкви. Среди этих нерешительных епископов могли быть и друзья, и почитатели ученого епископа Кесарии палестинской. На соборе они не составляли, как принято было думать раньше, особой сплоченной «средней партии», потому что не имели ни признанного вождя, ни определенных догматических убеждений. Но в решительную минуту они, по-видимому, сыграли довольно важную роль на никейском соборе. Евсевия кесарийского заставили прочитать исповедание веры для своего оправдания. Прочитанный им символ получил неожиданно одобрение со стороны императора; предложившего внести одно только слово ὁμοούσιος. Для вождей православия был повод возражать против этого одобрения, высказанного символу, прочитанному подозреваемым в неправославии, отлученным епископом, и выступить со своими
—509—
проектами вероопределения. Но их заставили замолчать. И, по-видимому, заставил не император, а те нерешительные, которым, как и Константину, символ Евсевия показался достаточно хорошим, вполне способным водворить мир в церкви. Эти нерешительные поспешили заявить, что и они веруют согласно с кесарийским символом, и вожди православия, увидев, что император не одинок в своем отношении к этому символу, постарались только редактировать его так, чтобы он действительно был символом противоарианским и не оставил арианам никакой лазейки.
Можно допустить также, что лица, участвовавшие в συσκευή, уже заранее знали, что Евсевия кесарийского заставят прочитать исповедание веры, и они заранее решили высказать этому исповеданию свое одобрение и, может быть, даже повлияли в этом смысле каким-нибудь путем и на самого императора.
«Другой стороной в этой συσκευὴ мог быть и не император, а, например, сам Евсевий Кесарийский; или же и никакой «другой стороны» не было, а заговор заключен был между известной группой епископов.
Из дальнейших слов Св. Евстафия видно, что главной причиной его недовольства ходом дел на Никейском соборе были дальнейшие события: «ариоманиты», увидев, что им угрожает лишение кафедр, поспешили подписать отвергаемый ими догмат, удержали свои, видные кафедры и после собора начали свои интриги против поборников православия1186. В какой связи эти дальнейшие события стоят с самой историей составления Никейского символа, не вполне ясно. Но едва ли Евстафий недоволен был, как думает Зееберг, только тем, что в основу символа положен был символ, прочитанный отлученным Евсевием. Скорее можно допустить, что Евстафий не вполне удовлетворен был
—510—
самим символом. Как ни неприятны были арианам такие выражения, как γεννηθέντος – ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός и ὁμοούσιον τῷ Πατρί, они все-таки, как доказывает письмо Евсевия Кесарийского к своей пастве, ухитрялись перетолковывать их в приемлемом для них смысле. Может быть Св. Евстафий желал такого вероизложения, которое не допускало бы никаких перетолкований, и подпись под которым для покровителей Ария была бы невозможна без открытого отречения от ранее высказываемых ими взглядов. Но вероятнее, что Св. Евстафий недоволен был не самим символом, а тем обстоятельством, что покровителям Ария дана была возможность так легко отделаться, что собор не вошел в обсуждение их прежней деятельности в пользу Ария, и, неискренно подписавшись под символом, они остались на своих кафедрах. Хорошо понимавший цену этим подписям, Св. Евстафий, вероятно, желал бы, чтобы оба Евсевия cum sociis уличены были на соборе в арианстве и лишены своих кафедр, или, если и оставлены на них, то после открытого признания в своих раннейших заблуждениях.
Но если упоминаемое Св. Евстафием παράνομον γράμμα принадлежало, и по моему мнению, Евсевию Никомидийскому, а не Кесарийскому, то еще вопрос: представляло ли это γράμμα проект вероопределения, предложенный самим Евсевием Никомидийским? Не было ли это просто одно из раннейших сочинений Евсевия, представленное на соборе кем-либо из его противников в доказательство его неправославия? – Да если это был и символ, то и его Евсевий Никомидийский мог прочитать, как и Евсевий Кесарийский, в свое оправдание. Ведь, хотя Евсевий Никомидийский и не был отлучен ни одним собором, но он был хорошо известен сторонникам Св. Александра Александрийского, как виднейший покровитель Ария, и, когда выяснилось, что большинство собора решительно против Ария, от Евсевия и могли потребовать исповедания веры.
Что касается ссылки Гарнака на образ действий на Ни-
—511—
кейском соборе Маркелла Анкирского, то в словах Маркелла (в послании к Юлию Римскому у Epiph. haer. 72, 2), которые он, кажется, имеет в виду, другие ученые1187 видят указание на раннейшее осуждение Евсевия Кесарийского, и, следовательно, аргумент за подлинность спорного послания Антиохийского собора 324 года. А, с другой стороны: в приведенных словах Маркелла (равно как и в передаче их у Гарнака) нет никакого указания на то, что и Маркелл представлял на соборе свое исповедание веры. Поэтому цель ссылки на них у Гарнакка для меня совершенно непонятна.
Далее Гарнак выдвигает argumentum а silentio. О том, что Евсевий Кесарийский явился на собор, как отлученный, молчит не только сам Евсевий, но и его решительный противник Афанасий, который не забывает даже в своей апологии против ариан (п. 8) привести слух, что Евсевий приносил жертву во время гонения. – Швартц говорит: «он (Афанасий Великий) имел на то свои основания», но можно ли успокоиться на этом выходе из затруднения?1188 Шварц сам видит, что это объяснение не подходит (dass das nicht wohl angeht), и думает объяснить молчание Афанасия желанием не затрагивать памяти Константина Великого. Но и это объяснение несостоятельно1189; ибо отлучение Евсевия более, чем 50-ю епископами имело значение само по себе (war eine Tatsache fur sich), и реабилитация его императором ничего не изменила в этом факте, ибо Евсевий, по суждению Афанасия и всякого понимающего дело, в Никее скрыл свое истинное мнение. Следовательно, император был достаточно оправдан (entlastet). Насколько Афанасий заботился, чтобы показать Евсевия в самом дурном свете, видно особенно ясно (geht schlagend) из того факта, что он не стыдится повторить слух, что Евсевий принес жертву во время гонения. Почему же он не рассказывал тогда, что он был отлучен? Почему он пишет, например, (Ароl. с. аr. 6), что группа Евсевия Никомидийского через отлучение Ария (Александром александрийским) сама оказалась отлученной, selbst als excommunizierte vоrkаm [в подлиннике в действительности стоит ἑαυτοὺς ἐκβεβλῆσθαι νομίζοντες – считая себя отлученными вместе с Арием] «но не прибавляет,
—512—
что вскоре после того трое из них – в числе их знаменитый кесарийский епископ – действительно были отлучены? Почему изображает он (De decret. Nicaen. syn. 3) Евсевия на Никейском соборе, сообщает о его колебании в отношении к православным боевым словам (Stichworte), рассказывает о его письме, но молчит о факте, что он стоял на соборе как обвиненный? Нельзя иначе думать: Афанасий не знал об отлучении Евсевия в Антиохии; следовательно, его и не было». В этой аргументации довольно комично то, что знаменитый ученый как будто не замечает, что его цитаты из «апологии против ариан» Афанасия Великого относятся собственно к приводимому в ней посланию Александрийского собора 339 года: «Ἠδυνάμεθα μὲν ἀγαπητοὶ ἀδελφοί» (nn. 3–19) и, следовательно, едва ли принадлежат самому Афанасию Великому. А из египетских епископов никто на Антиохийском соборе 324 года не присутствовал, а на соборе Никейском дело могло быть по желанию императора поставлено так, что епископы, не участвовавшие на антиохийском соборе и не получившие от него послания, просто даже и не услышали об отлучении, наложенном этим собором на трех епископов.
Свящ. Д. Лебедев
Докукин И. И. Несколько неточностей в «Истории канонизации святых» Е. Голубинского: Заметка (Издание 2-е, 1903 года) // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 7/8. С. 513–515 (1-я пагин.).
—513—
При чтении вышеупомянутого сочинения мне пришлось неожиданно натолкнуться на следующие неточности, о которых я и считаю не бесполезным сообщить для сведения лиц, пользующихся этим сочинением.
1.
На стр. 99 у Голуб. говорится: «Собор 1547 г. происходил 26-го числа февраля месяца, которое в этом году было в первое воскресенье великого поста, или в неделю православия, по древнему и старому – в сборное воскресение, в сбор». – Это неверно. Пасха 1547 г. была 10 апр.: первое воскресенье Великого Поста следовательно было 27 февраля, а 26-е число приходится на субботу. (В нынешнем 1916 г. Пасха тоже была 10 апреля; но в виду того, что 1916-й год високосный, 1-е воскресенье Великого Поста было 28 февраля). Подобные исторические даты легко проверить по составленному мною «Вечному календарю»1190. Но и помимо этого, сам Голубинский, тут же, на этой же странице в подстрочном замечании, опровергает себя, когда сообщает,
—514—
что Иоанн Грозный вступил в брак с Анастасией Романовной 13-го февраля 1547 г. Если считать по Голубинскому, что 26-е февраля было в 1-е воскресенье Великого Поста, то 13-е февраля придется в понедельник на масленице, когда, как известно, венчание совершать не разрешается Церковью, а Грозный царь был еще в это время не только послушным сыном Церкви, но и примерным. Брак Иоанна IV совершен был в воскресенье пред масленицей, т. е. в Неделю страшного суда. Таким образом, собор 1547 г. был в субботу, пред Неделей православия: в этот день отцы собора рассуждали о том, кого причислить к лику святых, чтобы в самый день Православия их торжественно прославить.
2.
На стр. 164-й говорится, что «в начале 1677 г., для расследования о мощах св. княгини Анны Кашинской, патриарх Иоаким посылал в Кашин комиссию, состоявшую из митроп. Рязанского Иосифа, архиеп. Тверского Варсонофия, одного архимандрита и одного протопопа». У Соловьева в т. III стр. 854 Тверской архиепископ, участвовавший в этой комиссии, назван Симоном. В виду такого разногласия пришлось обратиться к специальному сочинению о св. княгине, а именно прот. С.А. Архангелова «Святая благоверная княгиня-инокиня Анна Кашинская», изд. Сойкина, дополненное. Здесь, на стр. 73, в примечании поименованы все лица этой комиссии, а именно: Иосиф, митр. Рязанский и Муромский, Симеон, архиеп. Тверск. и Каш., Варсонофий, архимандрит Доброго м-ря из г. Лихвина, Иоанн Лазарев, протопоп ц. Николая чудотворца Гостунского. Таким образом, по этому известию архиеп. Тверского звали не Варсонофий и не Симон, а Симеон. Это последнее известие, я думаю, и более соответствует истине, так как оно отчасти объясняет ошибки первых двух.
3.
На стр. 547 Голубинский не доверяет свидетельству Никитенко о том, что гроб, который ему показывали в
—515—
Свирском монастыре в 1834 г. и имевший вид корыта, выдолбленного в толстом деревянном отрубке, с особенным местом для головы, есть тот самый, в который переложены были мощи преп. Александра после того, как они были найдены в 1641 г. Голубинский предполагает, что это был гроб, в котором был похоронен преподобный в 1533 г. В житии Святого, указываемом Голубинским, на стр. 84 прямо говорится: «Когда обрели св. мощи, и повеле Игумен принести новый гроб, (понеже старый его гроб иструпл бе весь, точию исподняя дска гроба того цела бяше, на ней же лежало многотрудное тело препод. Александра). Таким образом, свидетельство Никитенко не подлежит никакому сомнению. Оно подтверждает, что и в XVII еще столетии употреблялись гробы вроде корыта, что, вероятно, и подало повод к сомнению Голубинского.
И. Докукин
Флоренский П., свящ. (Рец.), Андреев Ф. К. (Таблица) [Рец. на:] Завитневич В. В. Алексей Степанович Хомяков: Т. 1: Кн. 1: Молодые годы, общественная и научно-историческая деятельность Хомякова. Киев, 1902. Кн. 2: Труды Хомякова в области богословия. Киев, 1902. Т. 2. Система философско-богословского мировоззрения Хомякова. Киев, 1913. (С приложением таблицы родственных связей ранних славянофилов) // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 7/8. С. 516–581 (1-я пагин.).
Критика
В. В. Завитневич. Алексей Степанович Хомяков.
Том первый. Книга I. Молодые годы, общественная и научно-историческая деятельность Хомякова. Киев, 1902.
Том первый. Книга II. Труды Хомякова в области богословия. Киев. 1902.
Том второй. Система философско-богословского мировоззрения Хомякова. Киев, 1913.
По собственным словам профессора В. В. Завитневича, он берет на себя «задачу представить первый опыт научного разыскания и приведения в известность всей суммы понятий, высказанных Хомяковым»1191. Поставленную себе задачу он и выполнил. Но этот опыт не только первый, но и единственный. Исключительно же большой для монографии объем этого исследования, около двух тысяч страниц1192, заставляет думать, что не скоро еще новый работник науки решится соперничать с проф. Завитневичем. С другой стороны, соперничество с ним весьма затруднено и большой продолжительностью его работы. Исследование о Хомякове начато, по собственному указанию Автора, «лет десять тому назад»1193 (писано в 1902 году), т. е. в 1892 году, а на втором томе стоит уже помета – «1913 год». Итак, двадцать один год жил Автор в атмосфере Хомяковских идей и за это время сроднился с ними и усвоил их себе до такой степени, что, по оброненному им где-то признанию, ему уже трудно различить, где границы мысли Хомякова и где – его собственной.
—517—
Исследование проф. Завитневича есть работа почтительного сердца и согласного ума. Автор благоговеет пред личностью Хомякова и живет его мыслью. Вследствие такого отношения к своему предмету Автор становится вплотную к изображаемому им лицу и его воззрениям и даже теряет способность взглянуть на него со стороны, может быть, более холодным, но за то и более острым глазом. Тут – источник и основных достоинств и важнейших недостатков разбираемого сочинения, причем и те и другие могут быть названы одним словом – апология. Но Хомяков, и как личность, и как мыслитель, величина настолько большая, – мое желание – сказать даже исключительно большая, – что апологетический топ в отношении к нему и к его воззрениям представляется как будто излишним и едва ли не закрывающим более глубокое проникновение в суть дела.
Хомякову, тому, какого мы знаем, было бы радостнее воспринять слово критики, хотя бы и резкое, но освобождающее мысль от оков, наложенных на нее западной философией, чем слышать поддакивания на некоторые собственные тезисы, по меньшей мере двусмысленные. Так говорим мы, веря в благородство его личности и безупречную честность его мысли.
Проф. Завитневич посвящает нас в ход своей работы, ибо самый способ изложения у него совпадает с порядком изложения. Такой прием изложения объясняется тем, что, с одной стороны, проф. Завитневич видит у самого Хомякова неотделимость формы изложения от содержания, и потому лишить своего читателя материала по возможности в первоначальном его виде – исследователю кажется уже искажающим самый материал. А с другой стороны, исследование требует «сухой» формулировки добытых тезисов1194. Таким образом, изложение движется не прямолинейно, а постепенно сужается концентрическими кругами. «Все мысли Хомякова, – свидетельствует Автор, – прежде всего мы стараемся излагать его же собственными словами, приводя их в систему и вырывая их из тех случайных контекстов, в которых они
—518—
находятся в его сочинениях, не отличающихся обыкновенно строгой выработанностью плана. Но вслед за этим мы даем сжатое резюме изложенного и, подвергнув анализу основные положения, отделяем в них существенное от второстепенного»1195. Но мало того. При изложении предметов сродных, у проф. Завитневича обыкновенно опять дается краткий конспект предыдущего, и наконец, все существенные темы снова выступают во втором томе, при систематическом изложении философско-богословского мировоззрения Хомякова. Понятное дело, что от такого способа изложения работа проф. Завитневича крайне распухает, – и для читателя, уже читавшего Хомякова в подлиннике, чтение ее делается утомительным. Автор и сам сознается в этом, впрочем неустранимом для него, затруднении: «Если бы недосужного читателя смутил объем нашей работы, – говорит он, – то он может составить довольно ясное представление о ней на основании одних только этих кратких резюме»1196.
Самое сочинение слагается из двух томов очень неравного объема. Обширный том первый должен, по замыслу Автора, иметь значение подготовительное; это – биография Хомякова, главным образом излагающая раскрытие его миросозерцания. Во втором же томе, значительно меньшого объема, проф. Завитневич делает попытку изложить воззрения Хомякова, как связную и последовательную систему философско-богословской мысли. В первом томе пред Автором стояло препятствие при выборе способа изложения. Естественно было бы, конечно, эту историческую часть сочинения представить просто в порядке биографии, как это обычно делается в подобного рода монографиях. Биографические данные о Хомякове, особенно касательно развития его жизнепонимания, чрезвычайно скудны и сухи. Целомудренный в выражении своей внутренней жизни, и даже до скрытности, весь цельный и гордый своей цельностью, не допускавший в себе рефлексии над собою, Хомяков оставил чрезвычайно мало данных для суждения о внутреннем росте, о приливах и отливах своей души.
—519—
«Хомяков, – по словам Н. А. Бердяева, – человек с сильным характером, с огромным самообладанием. Он не любит обнаруживать своих страданий, не интимен в своих стихах и письмах. По стихам Хомякова нельзя так разгадать интимную сторону его существа, как по стихам Вл. Соловьева. В стихах своих он воинствен, точно из пушек стреляет, он горд и скрытен»1197. С другой стороны, и современники Хомякова и поклонники его оставили нам целый ворох хвалебных слов о Хомякове и до непонятности мало фактических сообщений: славянофилы того времени рассуждали и волновались, кипели жаром и радостью вновь открытой Руси, чувствовали в себе делателей истории, и им было некогда думать о себе, как об истории, делаться собственными историографами. И вот, о величайшем идейном борце за святую Русь мы знаем столь мало, что изучать его словесное творчество на почве этих скудных и обрывочных сведений, к сожалению, почти невозможно. Исследователю предстоит, скорее, обратная задача: душу Хомякова понять из его произведений. Но тут опять встречаются трудности. Расположить произведения Хомякова в голом хронологическом порядке – это значит, при многообразии их содержания и случайности их возникновения по поводам внешним, затемнить их внутреннее единство, ибо основная интуиция Хомякова для исследователей – не данное, а искомое. «Сочинение, посвященное изучению жизни и трудов Хомякова, построенное по одному хронологическому методу, представляло бы из себя нечто в роде механического набора фактов, в хаосе которых вообще трудно было бы разобраться, а идейная сторона которых совершенно ускользнула бы от внимания самого внимательного читателя: а между тем идейная сторона деятельности Хомякова и есть то именно ценное, что заслуживает особого внимания серьезного и вдумчивого историка»1198. Но, с другой стороны, и привести эти сочинения в систему нельзя сразу, ибо вопросы, возбуждаемые в них, чрезмерно пестры, а определять
—520—
заранее, что важно и что неважно, мы не имеем права, за недостатком соответственных критериев, предваряющих исследование. Из этих трудностей проф. Завитневич выходит весьма удачно, располагая Хомяковские идеи, так сказать, по гнездам. При этом оказывается, что логический порядок этих гнезд приблизительно соответствует их порядку хронологическому, и следовательно, в биографии Хомякова Завитневичем дается синтез порядков – и логического, и хронологического. Отдельные периоды жизни Хомякова заполняются и особыми отделами идейной работы.
У Хомякова не было или почти и было изменения взглядов; основные углы его зрения были присущи ему едва ли не от рождения, образуя самое строение его духовного организма, и рост Хомякова заключался не в изменении их, а лишь в осознании и более точном логическом выражении. Каждая полоса в жизни Хомякова у Завитневича и представлена как выкристаллизовывание почвы, на которой родился Хомяков, в отчетливо поставленные тезисы философско-богословской системы. Но во всех стадиях этой кристаллизации Хомяковская мысль равна себе, говорит все время об одном, хотя это одно и переходит из состояния аморфного в кристалл. Что ж такое это одно, о чем всю жизнь говорил Хомяков, и о чем вслед за ним говорит проф. Завитневич? К сожалению, этот последний не ведет линии этого раскрытия рукой достаточно сознательною: видно, что и сам проф. Завитневич скорее лишь чувствует это единство, эту первичную интуицию Хомякова, чем осознает ее. Но, по мере исследования, она выступает из тумана всего того материала, который служит ее воплощению, и наконец, во введении «от автора», написанном по окончании первого тома, т. е. чрез 10 лет после начала работы, проф. Завитневич находит искомое слово, определяя Хомякова как «великого альтруиста», «Хотя Хомяков и поражал своих современников пестротой, разнообразием, словом энциклопедичностью своих сведений, но эта энциклопедичность не исключала в нем единства всепроникающего одного общего начала; а таким началом было начало религиозное. Он, например, много работал над изучением истории со всеми соприкосновенными
—521—
с ней науками; но исторические исследования были для него лишь путем к уразумению законов социологии; а социальную жизнь человечества в ее высшем идеале он строил на том же начале, на котором построена и Православная Церковь, т. е. на начале любви, которую в свою очередь он клал в основу не только христианской этики, но и христианской метафизики. К этому же, в сущности, сводится и его поэтическая деятельность, ибо недаром некоторые ценители называют его поэтом любви, конечно, христианской. Словом, если бы от нас потребовали немногими словами охарактеризовать Хомякова, мы назвали бы его великим альтруистом»1199. Против этого последнего слова можно возражать, можно сомневаться, окончательно ли точно оно высказывает Хомякова. Но несомненно, что оно находится в каком-то отношении к истинному слову Хомякова. Пока сохраним его и посмотрим, как оно находит у Хомякова все более чистое выражение. Сначала Завитневич излагает биографию Хомякова «до половины 80-х годов». Эта полоса отделяется от последующей смертью отца и женитьбой Хомякова. Основная интуиция выражается здесь пока по преимуществу субъективно, в образах творческого воображения. Вот почему, в этом отделе биографии проф. Завитневич рассматривает поэтические произведения Хомякова. Можно было бы охарактеризовать этот период как мечту об обществе, основанном на любви. Следующий период, с половины 30-х годов, представляет как бы антитезис предыдущему. Хомяков посвящает себя теперь крестьянам и сельскому хозяйству; в душе крестьянина и в строении крестьянской общины он прозревает воплощенным отблеск своей мечты. С этого момента он осознает твердую точку опоры для своей интуиции и тогда обращается к уяснению ее корней. Вот почему, третий период «с конца 30-х и начала 40-хь годов», Хомяков начинает усиленным занятием историческими науками. Он открывает для себя двойственность всемирной истории. То высшее начало, о котором пел он, как поэт, и в котором усматривал залог крепости крестьянского общества,
—522—
как хозяин, оно оказывается теперь высшим началом, истории. Но против этого начала, в истории, как ранее – в образах поэзии и затем – в крестьянском быте, борется другая сила. Началу «Иранскому», как назвал Хомяков высшее духовное начало истории, противостоит разъедающее его материалистическое начало «Кушитское». После такого открытия Хомяков пытается отыскать и живые центры этих начал, в их чистейшем виде. Этими центрами оказываются исторически Церковь и романизм, т. е. та коренная сила, которая сделала из Римской церкви общество еретиков и, в своем дальнейшем развитии, породила протестантизм. Такова задача богословского периода занятий Хомякова. Наконец, высшей и последней в жизни Хомякова деятельностью, прерванной припадком холеры, было уяснение метафизических и гносеологических основ церковности – попытка высказать ту систему теоретических посылок и последних оснований, которые предполагаются вашей верой в Церковь, т. е. уже заложены в нашем утверждении о возможности и факте существования Церкви. Так Завитневич возводит нас, вместе с движением биографии Хомякова, к изложению основоначал Хомякова, все более и более далекому от случайных искажающих наслоений, т. е. к интуиции любви. Возвращающиеся извивы спирали определяют своей совокупностью этот центр ее. На наших глазах, личное настроение и личные свойства Хомякова как бы отделяются от него, делаются объективными и, постепенно возвышаясь, уходят в мир метафизический, как сущности, определяющие собой всю действительность. Тогда-то, исходя обратно из высшей достигнутой Хомяковым точки, проф. Завитневич пытается воспостроить совокупность его мыслей именно как систему. Исходя из найденного центра этого вихревого движения мысли, исследователь уразумевает это движение, как одно целое и движется по спирали теперь уже от центра. В качестве вступления к этой системе мысли Хомякова, у проф. Завитневича предпослана «Критика начал немецкой философской школы Канта», т. е. кантианства, немецкого идеализма и Фейербаха. Предвосхищая мысль позднейшей философии культуры, особенно Марбургской школы, и в согласии с ней справедливо видя в рационалистической
—523—
немецкой философии XIX века самосознание западно-европейской цивилизации, Хомяков своей критикой этой философии врезывается в самое сердце западной жизни и западного жизнепонимания и тем, отрицательно, прочищает себе путь к построению или, правильнее, к осознанию гносеологии восточной, русской – той гносеологии, которая признает познавательную функцию присущей не отвлеченному рассудку, а разуму, как полноте сил духа, руководимых верою. Затем построяются основные категории разума. Таким образом, открывается возможность дать онтологию, которая по содержанию своему совпадает с содержанием христианского вероучения. Учение о Церкви и ее жизни, по своему объему долженствующее быть выделенным в особую главу, равно как и последующая за ней глава с критикой западных исповеданий, у Хомякова теперь оказываются лишь развитиями и приложениями основных учений гносеологии и онтологии. Так, от отвлеченнейших вопросов и до возражения на частные пункты западных исповеданий, построяется в книге проф. Завитневича одна цельная система мысли, причем точкой опоры служат для нее не вожделения и понятия отъединенного сознания, как на Западе, но святость и правда любви кафолического церковного общества, – любви, в которой Хомяков видит синтез свободы и необходимости, общего и частного.
Таков, в наиболее общих чертах, ход исследования проф. Завитневича. Любовью изысканный, этот план исследования любви представляет собой едва ли не наиболее привлекательную сторону труда Завитневича. Если добавить сюда еще, что всему исследованию предпослан у него обзор и разбор источников и литературы предмета, то от этого плана осталось бы пожелать лишь того, чего, как уяснится дальше, проф. Завитневич по многим свойствам своего отношения к Хомякову, дать уже не мог, я разумею заострение Хомяковских проблем в некоторые основные вопросы и критику их, как имманентную, так и церковную. Без этого же заострения, все здание проф. Завитневича представляет храм с недостроенной крышей и, главное, – без водруженного на нем креста, а мы, кончая сочинение, обрывающееся критикой западных исповеданий, так и не знаем, благословит ли Церковь освятить эту постройку в храм,
—524—
поставить в ней св. престол, помазать стены ее св. миром и водрузить на ней св. крест, или же ей, этой стройке, так и суждено оставаться благородным, но не священным, зданием. Проф. Завитневич почему-то не только не сомневается в «да» Церкви, но и самый вопрос, ставимый сейчас нами, не предносится его соображению: небольшое количество страниц в начале первого тома1200, посвященных довольно голословной полемике с упрекавшими Хомякова в протестантизме, едва ли могут идти в счет. Предпосылкой всего изложения проф. Завитневичем безмолвно принято, что Хомяковское здание лишь по форме отличается от обычного православного храма. Но рецензенту это простое тождество содержаний церковного и Хомяковского учений не представляется аксиоматическим, и он считал бы безусловно необходимым появление еще третьего тома книги Завитневича, где бы подводились окончательные итоги и давалась бы принципиальная критика учения Хомякова, проведенная с той же основательностью, которая характеризует и первые два тома. Из сказанного доселе явствует, что г. Завитневич удачно выполнил поставленную себе задачу. Но вопрос о ценности книги этим еще не решается, а лишь задается: мало ли какие задачи можно ставить себе и удачно их выполнять, причем, однако, ценность выполнения стоит в прямой связи с ценностью самой задачи.
Всякая книга возбуждает у читателя прежде всего вопросы: Нужна ли она? каков смысл ее существования? стоило ли писать и издавать ее? и конечно, эти вопросы в особенности относятся к книге столь большого объема, как исследование проф. Завитневича, – книге, потребовавшей для себя множество времени и труда, и не только от самого автора, но и от всех, так или иначе обслуживавших умножение ее экземпляров на печатном станке, и требующего порядочной затраты времени и усилий даже от читателя. Оправдывается ли труд и потеря времени всех их: автора, наборщиков, корректора и т. д., включительно до читателя? В значительности самой темы сомнение едва ли может быть. И друзьями своими и врагами Хомяков, при жизни
—525—
еще, признал главой того направления русской мысли, которая получила мало подходящую и уродливую кличку «славянофильства». И правительство и интеллигенция в Хомякове именно видели источник или, по крайней мере, очаг новой идеи. На Хомякова именно направлялись и хвалы и порицания кругов богословских, – не на кого-либо из славянофилов, а почти исключительно на него. Всякий вопрос о славянофилах и славянофильстве на три четверти, кажется, обращается в вопрос о Хомякове, и самая славянофильская группа мыслится как «Хомяков и другие». Справедливо ли это? Полагаем, что да, даже и не предрешая, сравнительного с прочими славянофилами, превосходства Хомякова по талантливости, уму, образованности и убежденности. Хомяков был и остается идейным центром и руководителем славянофильской мысли не только или, точнее, не столько сам по себе, сколько по занятому им месту. Он, ведь, преимущественный исследователь того священного центра, из которого исходили и к которому возвращались думы славянофилов – православия, или, точнее, Церкви. Он наиболее пристально и последовательно вглядывался в себя, он настойчивее кого бы то ни было твердил о решающем повороте, который грозит мировоззрению народа, в зависимости от неправого отношения к Церкви и о последующем отселе историческом провале. Славянофильство есть мировоззрение, по замыслу своему непосредственно примыкающее к Церкви, и Хомяков – центр славянофильской группы, властитель славянофильских дум вследствие того, что по общему смыслу и по прямому признанию славянофилов, особенно старших. Церковь, которой он, в сущности, занимался внутренне всю жизнь, есть центр бытия тварного.
Хомяков весь есть мысль о Церкви, и потому понятно, что отношение к Церкви со стороны судящих о Хомякове, оказывалось, так или иначе, решающим и в оценке самого Хомякова. Говорю «так или иначе», ибо в суждениях о Хомякове можно услышать прямо противоположное. С одной стороны, для любящих Церковь, но не видящих ее у Хомякова, или, скорее, усматривающих у него подмен Истины церковной чем-то другим, самодельным, равно как и для вовсе не любящих Церкви и не чувствующих
—526—
реальности Ее, – учение Хомякова есть неопределенное и туманное учение о чем-то мечтательном и призрачном, какая-то система о пустом месте и, следовательно софистика, виртуозное пустословие, блестящее оригинальничание. В этих нападках на Хомякова сходятся порой представители церковности с ярыми западниками; с другой стороны, для людей, в каком-либо смысле считавшихся с реальностью той Церкви, о которой говорил Хомяков, и признававших, что он говорит о настоящей Церкви, а вовсе не о бессильной пустоте, сочиненной по образцу отвлеченных абсолютов немецкого идеализма, и именно потому боявшихся излишней, по их мнению, реальности этой Церкви, косо посматривавших на самую возможность для Церкви стать там, где Она, по смыслу своему, по праву своему, и должна стоять, для видевших в Церкви помеху на пути к полу-церковному и вне-церковному строю общества, будь то идея государственности или социализма, сила Хомякова казалась вредной. Крайние государственники, равно как и революционные и социалистические деятели, – и те и другие не любили учения Хомякова, чутьем воспринимая в нем, если не будущую победу, то по меньшей мере действительного противника: и тем и другим Хомяков представлялся человеком опасным. Так, государственники и революционеры протягивали друг другу руку. Кроме этих всех, отрицавших Хомякова, по той или другой причине, остается наконец круг людей, смотревших на Хомякова безусловно положительно. В учении Хомякова они видели залог лучшего будущего России, первый росток народного самосознания, начатки нового, наконец-то воистину православного, богословия и т. д., одним словом – зарю новой культуры, которой воссияет человечеству Славянство.
В настоящее время доказывать значительность Хомякова – мыслителя и благородство его личности было бы бесполезной тратой слов. Никто не сомневается ни в его талантах и уме, ни в чистоте его личности и бескорыстии его намерений. Несомненно и то, что все возраставшая доселе слава Хомякова – в последнее время готова вспыхнуть ярким пламенем, в связи с возникшим отвращением от западной культуры и поднявшим голову славянофильством. Но
—527—
воздать должное субъективной высоте его личности и упругой свежести его мысли – это значит лишь весьма недалеко пройти в объективной оценке его внутренней жизни и системы его мысли. Скажу более: объективная оценка его миросозерцания и его личной настроенности должна дать и более прочные основы для пересмотра и, может быть, переоценки его субъективной жизни. Кто знает, при беспристрастном свете объективной церковной оценки, на белоснежной одежде его религиозно-философских убеждений не выступят ли сомнительные пятна или, напротив, не окажется ли система Хомякова даже более безукоризненной, чем это обычно думают? Но, во всяком случае, мы должны быть готовы и к тому, что пленяющее нас в Хомякове может оказаться и не столь пленительным и не столь правым во всех смыслах этого слова, как это без обсуждения принимается почти всеми.
«По плодам их познаете их». Но доселе учение Хомякова было лишь побегами. В настоящее же время оно вызревает и, кажется, готово принести плоды. Добрые ли это плоды? В том-то и дело – что двойственные. Мы видим, что русская богословская мысль, в лице наиболее талантливых своих представителей, приняла, так или иначе, учение Хомякова, что все свежее в богословии, так или иначе, преломляет Хомяковские идеи. Одни только имена Митрополита Петроградского Антония и Архиепископов Антония и Сергия, имена, ставшие лозунгами обширных течений русской богословской мысли, были бы достаточны для подтверждения высказанного. Это – так. Но приняла, с другой стороны, эти идеи и положила их в основу свою и та мысль, о церковности которой свидетельствовать пока нет оснований, например Н. Н. Неплюева, основателя Крестовоздвиженского братства, и мало того, даже явно неправославное учение Л. Н. Толстого по-своему может притязать на Хомяковское наследие. Хомяковские же идеи оказались удобными для полемики с католицизмом; упомянем на удачу хотя бы того же Архиепископа Сергия, М. А. Новоселова и заставившего о себе говорить в недавние годы К. А. Колемина1201. Но при этом выступает и опасность
—528—
такой полемики: выпалывая плевелы католицизма, не рискует ли такая полемика вырвать из почвы и пшеницу православия, хотя бы, например, своим отрицанием авторитета в Церкви, яко бы не имеющегося в православии, а вместе с ним, следовательно, и начала страха, начала власти и обязательности канонического строя. В настоящее время, столь вообще склонное ко всяческому отрицанию норм и даже к борьбе со всякими нормами, это растворение канонов в пучине альтруизма не представляет ли сугубой опасности? К опасным сторонам хомяковства должно отнести и Хомяковскую критику католического учения о таинствах и протестантского – о Богодухновенности Библии. Имея в себе какую-то правду, эта критика, однако, неминуемо ведет к явно нецерковному прагматизму или модернизму, уничтожающему самое существо учения о таинствах и оставляющему лишь внешнюю, саму по себе не ценную, оболочку его. Даже главная мысль Хомякова, в его противокатолической полемике, а именно упрек в нарушении единства провозглашением новых догматов, т. е. в узурпации права вселенской Церкви, и эта мысль опять-таки подменяет внутреннюю суть церковного единства внешними его формами и погрешает тем самым юридизмом, которым по Хомякову болен западный мир. Одним словом, Хомяков и хомяковство, бывшие проблемой для своих современников, не только не перестали быть проблемой для нас, но скорее обнаружили новый ряд проблем, требующих своего исследования. Главный вопрос, главный не только с нашей точки зрения, но и с точки зрения самого Хомякова и его мировоззрения, – неизбежно возникающий на почве самого учения Хомякова, – это – вопрос о церковности самого Хомякова. Но в настоящее время, с открытым появлением прагматизма, модернизма и их побегов, этот вопрос не только не уяснился, но и напротив запутался до чрезвычайности. Что такое Хомяков? – «Учитель Церкви», по ставшему ходовым выражению Ю. Ф. Самарина, или родоначальник утонченного русского социализма, как его определяли его современники. Основал ли он новую школу богословия, наконец воистину православного, а не католического и не протестантского, или же это учение его – утонченный рационализм, «гегельство»,
—529—
как несколько наивно выражались его противники, система чрезвычайно гибких и потому наиболее ядовитых формул, разъедающих основы церковности? И далее, в области государственной был ли он верным слугой самодержавия, этой основы русского государства, желал ли он укрепить и возвеличить царский престол, или, наоборот, в нем должно видеть творца наиболее народной, и потому наиболее опасной, формы эгалитарности? Повторяем, чем был сам Хомяков? – Охранителем ли и углубителем корней святой Руси, или, напротив, искоренителем исконных ее основ, во имя мечтательного образа проектируемой России будущего? Смиренно ли воспринимал он святыню русского народа, желая очистить ее от случайной грязи, налегшей на нее извне, или же с гордостью реформатора пытался предписать Руси нечто, им самим, или ими самими, – Московским кружком славянофилов, – придуманное. Ведь от себя, указывать Церкви, какой ей быть, хотя бы и по чистейшим своим побуждениям, это значит не признавать Церкви, а признавать себя; предписывать Царю свои требования, хотя бы они сводились к требованию самодержавия царского, – это значит отрицать самодержавие. Итак, чем был Хомяков? Этот вопрос – не формальный вопрос: Хомяков сам подает повод к двойственному толкованию себя, и, при том или при другом желании, его можно толковать на-двое. Если же мы примем во внимание двойственные притязания на Хомякова со стороны общества и двойственный поток богословской и общественной мысли, связывающейся с его именем; если мы учтем, что не только Катков и позднейшие славянофилы – государственники, более чем сомнительной церковности, но и народники-революционеры и революция справа, вроде Илиодоровской, какими-то нитями связываются с Хомяковым: если мы обратим внимание на удивительную эластичность Хомяковских формул, в его блестящей диалектике и в его сочном и убежденном уме обладающих мощной убедительностью, но почти пустых и потому удобопревратимых, когда ими пользуется человек партии; если, говорю, все это будет принято во внимание, то поставленные вопросы об истолковании Хомякова, многосмысленного в том изложении, которое даст Завитневич, окажутся вопросами
—530—
реальными. Отнюдь не имею права и основания утверждать, что эти вопросы должны разрешиться в сторону неблагоприятную для Хомякова; но что они должны быть поставлены, и в настоящее время – в особенности: что в них содержится принципиальный вопрос не о Хомякове только, но и о многих течениях русской жизни; что насущные потребности нашего времени, как церковные, так и государственные и общественные, связываются с вопросом о Хомякове, это, полагаю, можно утверждать с полной решительностью. Не тот или другой критик ставит вопрос о Хомякове, а сама жизнь. В этом смысле исследование о Хомякове есть одно из важнейших, и уже самый факт многолетнего труда над подготовкой подобного исследования заслуживает уважения. Но, приветствуя самый факт этого исследования и усердие в его выполнении, рецензент должен указать на одно свойство сочинения проф. Завитневича. Это свойство, будучи по-своему даже достоинством сочинения, не дает, вместе с тем, труду Завитневича права считаться тем трудом о Хомякове, которого требует наше время, а скорее еще более подчеркивает необходимость труда этого последнего типа1202. Сочинение Завитневича не есть исследование о Хомякове со стороны. Оно – не приговор церковного суда над воззрениями Хомякова, хотя бы и предварительный, и даже не имманентная критика со стороны историка мысли, а передача и систематизация мыслей Хомякова устами верного и благоговейного ученика, так что даже язык автора уподобляется языку излагаемого мыслителя. Коли не считать нескольких частных замечаний, не имеющих принципиального значения, да и то делаемых проф. Завитневичем нехотя, то мы не находим здесь ни критики Хомякова, ни защиты его на почве данных, существенно новых сравнительно с Хомяковскими. Труд Завитневича есть сплошной поток Хомяковских идей, оброненные в который мелкие замечания, кажется, имеют смысл лишь подтвердить Хомяковскую
—531—
мысль вообще, подобно тому, как мелкие водовороты в реке не отрицают, а лишь подтверждают общее течение.
Сочинение проф. Завитневича представляется в буквальном смысле монографией. Тут – Хомяков и только Хомяков. Автор исследования о Хомякове почти не считает нужным говорить ни об исторической почве учения Хомякова, ни о произросших из него побегах позднейшей мысли, ни даже об окружающем обществе. Говорю «не считает нужным», а не просто – «не говорит», ибо не сомневаюсь, что это делается не по неведению, а преднамеренно, вследствие той же преданности ученика учителю, которая побуждает ученика поставить своего учителя на пьедестал и сделать его, таким образом, вне сравнений, вне сопоставлений, вне критики, и вот поэтому-то, если правильно наше суждение, что Хомяков и учение его есть проблема, то ничуть не меньшую проблему содержит в себе и сочинение проф. Завитневича: загадочная по своему сюжету картина – в уменьшенной копии, хотя бы и превосходной, вовсе не делается понятнее, и копия столь же нуждается в истолковании, как и самый подлинник: а сочинение проф. Завитневича и есть такая уменьшенная копия, точно передающая рисунок Хомякова, но оставляющая читателя, который недоумевает пред сочинениями Хомякова, как раз в том же недоумении, – чтобы не сказать, что в более сухом, чем у Хомякова, воспроизведении его рисунка проф. Завитневичем двойственный смысл Хомяковской системы выступает с еще большей выпуклостью. Повторяю, для проф. Завитневича не существует самой проблемы о Хомякове. Может быть, при критическом отношении к Хомякову, его идеи получили бы даже большую убедительность, имея новое подтверждение, приобретя новые подходы к своим вершинным пунктам. Но проф. Завитневич, убежденный в полной правде системы Хомякова, думал лишь о передаче того, что есть, думал удовлетвориться описанием мыслей Хомякова, воспроизводя их шаг за шагом. Разумеется, это описание имеет свои хорошие стороны; мы можем быть уверены, что в таком копировании ничего не прибавлено и, вероятно, не упущено ничего существенного. Но тут же содержится и важный недостаток: проф. Завитневич, держась описательного метода, не
—532—
имеет возможности оттенить важное сравнительно с неважным, выявить сердцевинное, подчеркнуть с достаточной самостоятельностью и силой основные интуиции Хомякова, хотя, до известной степени, он пытается сделать это задним числом, во введении к первой книге первого тома.
Для самого Хомякова далеко не все в его писаниях было равноценно, далеко не все было, по его чувству, равного удельного веса. Многое из обсуждаемого им обсуждается, так сказать, без внутреннего жара, по соображениям беспристрастия; и, с другой стороны, иные мотивы, внутренне дорогие, развиваются по разным причинам, внешнего и внутреннего свойства, лишь, между прочим. Существенное, по своему месту в душе писателя, далеко не всегда высказывается в предложениях главных, а второстепенное, опять-таки в духовном организме писателя, – в придаточных. Весьма нередко бывает наоборот, ибо, вынужденный дать ответ на некоторый извне поставленный ему вопрос и, следовательно, отвечая на тему не самую ему дорогую, писатель, между прочим, не будучи в силах сдержать своих мыслей, почти проговариваясь, высказывается о вещах ему дорогих, существенных в его собственном жизнеощущении, но не поставленных формально на обсуждение. Вообще, формальное очертание системы, особенно системы, раскрывающей душевные убеждения по вопросам философским и богословским, весьма не совпадает с внутренней жизнью творца системы. Но в особенности не передаются в системе психологические ударения на иных частностях, обнаруживающие, что эти частности и места второстепенные – на самом деле суть центр и точки опоры в живом миросозерцании мыслителя, и даже, более того, – истинные мотивы творчества и внутреннее устремление внимания – в системе обыкновенно стыдливо прикрываются общими положениями, чтобы не сказать – общими местами: в том-то и состоит психологическая функция системы, чтобы прикрыть и защитить слишком нежные и слишком стыдливые, – по причинам целомудренности автора или наоборот, его испорченности, – но во всяком случае наиболее подлинные движения души. К Хомякову, при его целомудренной скрытности, это замечание относится в особенности. Следовательно, чтобы не просто описать систему, но
—533—
понять ее внутренний смысл и взаимные связи отдельных ее тканей и органов, необходимо уяснить себе существеннейшее в ней и в отношении к нему уже располагать остальной материал. Но не могут ли при этом быть допущены ошибки? – бесспорно могут. Однако, вообще всякому пониманию чего бы-то ни было грозит та же опасность ошибки, и лишь механический слепок системы, механическое воспроизведение ее стоит вне этой опасности ошибиться. Но тогда естественно спросить, что нового внесло бы такое, хотя бы и безошибочное, воспроизведение, и для чего печатать подобную книгу о Хомякове, когда имеется собрание его сочинений?
Рисунок проф. Завитневича, формально правильный и точный, походит на калькированную сводку ровными линиями без нажимов: все контуры – одинаковой толщины, рисунок без тени, без красок; он передает Хомякова бережно, черточка за черточкой, в роде того, как в иконописных лицевых подлинниках передаются очертания иконы во всех ее деталях, складочка за складочкой: этот рисунок не неверен; но он дает не уразумение Хомякова, а лишь конспект его; это – как бы пересказ Хомякова, но почти без интонаций. Зная уже Хомякова, мы почти ничего не приобретем из обширного исследования проф. Завитневича. Занимающиеся Хомяковым, вероятно, будут заглядывать и в обсуждаемую нами книгу, чтобы легче отыскать параллельные места Хомяковских сочинений, но едва ли кто скажет: «я согласен с Завитневичем», или: «Я не согласен с Завитневичем». Все сочинение напоминает подготовительные материалы к исследованию о Хомякове; но это еще не есть самое исследование. Все «так», но не потому, что соглашаешься с исследователем, а просто потому, что исследователь, скрывшись за плечами Хомякова, говорит в унисон с любимым автором, и возражать приходится Хомякову, а не его ученику, тем более что из нескольких сотен страниц сочинения проф. Завитневича, наверное, не менее трех четвертей – дословные цитаты из Хомякова. Ничто не задевает заживо в этих обширных томах, и по ним тащишься без оживления, радости и гнева, как по длинной-предлинной однообразной аллее. Этому впечатлению монотонности
—534—
способствует еще и упомянутая выше манера Автора: по нескольку раз возвращаться к одному и тому же предмету в системе Хомякова, иногда даже цитируя несколько-кратно одно и то же место. Судя по многим признакам, Автор любит Хомякова и увлечен им, следовательно у него должны быть и свои оценки и свои подходы к Хомякову. Но он почему-то не хочет поделиться с читателем самым соком своей работы и все ответственное перекладывает с себя – на читателя. Не кому же брать на себя решение важнейшего, если и специалист по Хомякову не желает или не решается быть лицом ответственным? Чувствуя, что ему не хотят помочь, читатель начинает скучать, сочинение проф. Завитневича читается с трудом и усилием. Между тем, Хомяков ли, – водопад идей и тем, – не возбуждает острых и тревожных вопросов?
Основной из них есть, конечно, уже издавнее подозрение Хомякова в протестантстве. Для Хомякова сущность протестантства только в протесте против романизма, при сохранении, однако, основных предпосылок и характерных приемов мысли этого последнего. Но дозволительно сомневаться, так ли это: развитие протестантства и его производных уже после Хомякова обнаружило с несомненностью, что в основе протестантства, как главного выразителя культуры нового времени, лежит гуманизм, человекоутверждение, человекобожие, – или, по терминологии, заимствованной из философии, – имманентизм, т. е. замысел человечества из себя, вне и помимо Бога, воссоздать из ничего всякую реальность и в особенности реальность святыни, – воссоздать во всех смыслах, начиная от построения понятий и кончая духовной реальностью. Между тем, существо православия есть онтологизм – приятие реальности от Бога, как данной, а не человеком творимой, – смирение и благодарение. Что же мы видим у Хомякова? Самое противоположение им начал «Иранского» и «Кушитского» должно наводить на раздумье. В «Легенде о Великом инквизиторе» у Достоевского, раздвоение образа Христова на два, из которых ни один, ни Инквизитор, ни «Христос» не есть чистое выражение духа Христова, приводит религиозное сознание к бесконечным трудностям, заставляя
—535—
выбирать между «да» и «нет» там, где tertium dandum est. Инквизитор – не от Христова духа имеет помазание. Но неужели, с другой стороны, оставаясь членом Церкви, дозволительно отрицать «авторитет, чудо и тайну» или хотя бы что-нибудь одно из трех? Так же и у Хомякова: Инквизитору Достоевского соответствует «Кушитство», «Христу» Достоевского – «Иранство»; но тогда духу Христову, Церкви, не находится истинного места в системе. «Иранство», которое, для Хомякова, почти синонимично христианству и Церкви, на самом деле, по характерным чертам своим, весьма напоминает протестантское самоутверждение человеческого «Я» и, во всяком случае, не ближе к православию, чем «Кушитство», в котором Хомяков карикатурно представил многие черты онтологизма. Обо всем этом не принято говорить в печати, хотя дружески подобные суждения неоднократно высказывались. Но пора поставить вопрос о «Кушитстве» ребром. Дух «Кушитства», хотя и в искаженном изложении, которое довел до конца Л. Толстой, в своих кощунственных выходках против таинств, имеет несомненные черты подлинной церковности. Если бы уж нужно было выбирать между двумя, в разных смыслах неправильными, изображениями церковности у Хомякова, то скорее пришлось бы остановиться на кривом зеркале «Кушитства», чем на Приукрашенном «Иранстве». Что в живой Православной Церкви имеется и то и другое начало, Хомяков это отлично видел и признавал, но он чересчур просто отделывался от этого себе возражения ссылкой на зараженность православного мира началом Кушитским. Вглядываясь же более внимательно в собственные теории Хомякова, мы, к скорбному удивлению своему, открываем в них тот же дух имманентизма, который составляет существо протестантства, хотя и в неизмеримо усовершенствованном виде, – главным образом внесением идеи соборности, – хотя должно отметить, что мысль о соборности сознания не совсем чужда и западной философии, напр., Канту, не говоря уже о Шеллинге, последнего периода, и далее – Фейербаху, Копту и др.
Разумеется, православное воспитание и осведомленность в источниках вероучения и церковной истории побуждали Хомякова быть осторожным в тех местах, где естественно было выразиться расхождению Хомяковской мысли с разумом
—536—
церковным; а редкая по силе диалектика, – всем известная «Хомяковская» диалектика, – придавала положениям Хомякова такую гибкость и такую убедительность, при которых самое сомнительное и самое опасное кажется притупившим острые режущие углы. Но, при всей осторожности Хомякова и при его чистосердечном желании не сталкиваться с учением церковным, самые основы его воззрений, для человека православного, при внимательном их разглядывании, не кажутся ли подозрительными? В то время как, для человека церковного, Церковь высказывает Истину, ибо «так изволися Духу Святому» и ей – открыть ей, независимую от нее, в Боге сущую Истину, – Хомяковская теория Церкви оставляет впечатление, что постановления всей Церкви истины потому, что они постановления всей Церкви. Важно, как будто, слово «всей», как если бы постановления Церкви были не открытием Истины, а сочинением ее, – как если бы Истина была имманентна человеческому разуму, хотя бы и соборне взятому, а не трансцендентна ему и из своей трансцендентности открывающейся ему. Тут было сказано «впечатление». Да, впечатление, ибо не могла же подобная цель отчетливо предстать сознанию Хомякова, и тем более быть высказанной им. Хомяковская мысль уклончиво бежит от онтологической определенности, переливаясь перламутровой игрой. Но эта игра поверхностных тонов, блестящих, но не субстанциальных, и потому меняющихся и изменяющих свои очертания при малейшем повороте головы, не дает устойчивого содержания мысли, и оставляет в сердце тревогу и вопрос. Имманентном – таков привкус теорий Хомякова, вопреки жалобам И. А. Бердяева.
Конечно, тут у Хомякова мы имеем дело лишь с оттенками мысли; но далеко ли от этих оттенков до католической «фабрикации догматов»? Между тем, в связи с этими именно оттенками стоит Хомяковская полемика против романизма. Не ложное постановление западных соборов, само по себе, как таковое, возмущает Хомякова, а нарушение единства, и вина католиков, как будто, выходит не в том, что они исповедают ложный догмат, а в том, что они – не вместе с Востоком. Тут преувеличивается значение человеческого согласия или несогласия и
—537—
умаляется достоинство и ценность Истины. Правда, Хомяков говорит о Божией благодати, и даже, в неточном обороте, почти отождествляет Ее с Церковью, но из общего смысла системы ни откуда не видно, чтобы благодать Божия имела у Хомякова значение существенное, жизненное, а не декоративное, ибо для Хомяковской Церкви достаточен consensus omnium in amore, и этот consensus сам собой дает познание Истины. Да, к тому же, разве и романизм не ссылается на благодать Божию, равно как и протестантизм?
Итак, вина Рима – в похищении права, ему не принадлежащего, но принадлежащего всей Церкви в целом. Тут, сам Хомяков, под видом временной уступки терминологии своих противников, обнаруживает имманентно-земной характер своего богословствования, ибо сам опирается на правовые понятия. Но и помимо этого самопротиворечия, замена чисто юридических понятий понятиями социологическими, на которых зиждется все построение Хомякова, вовсе не доказывает еще церковности его учения, а доказывает только, что право и принуждение, – стихию романских народов, – он хочет вытеснить общественностью и родственностью, – стихией народов славянских. Это, может быть, и хорошо, но замена одной земной силы другой не решает вопроса богословского: община, как таковая, вовсе не есть, сама по себе, приближение к Церкви, сравнительно с правовым государством, и, в наиболее благоприятном для Хомякова случае, может быть понимаема как необходимое условие бытия Церкви, а не как условие достаточное. Но, как в учении о Церкви Хомяков противополагает понятия общественные понятиям государственным вместо того, чтобы прямо встать на понятиях церковных, так и в учении о государстве у него заметно стремление объяснить все из момента социального. «Общество, а не государство» – вот смысл Хомяковских утверждений, выраженных прямо. Эти сложные построения, думается нам, – ничто иное, как осторожный подход к теории народного (или, при разговорах о Церкви, – всечеловеческого) суверенитета. Иерархия римская, по смыслу Хомяковского учения, виновата тем, что усвоила себе суверенитет всего человечества, т. е. всей Церкви, – делает поспешное уравнивание
—538—
понятий Хомяков, я сказал «поспешное», ибо, если бы иерархия римская или даже сам папа провозглашали догматы истинные, а все человечество Риму в этом противилось, то Рим, и был бы всей Церковью, хотя суверенитет человечества был бы узурпирован.
А что теории суверенитета Хомяков держится вообще – это несомненно: он открыто высказывает ее в своих исторических соображениях о происхождении династии Романовых, хотя и не называет этой теории ее настоящим именем. Русские цари самодержавны потому, полагает он, что таковой властью одарил их русский народ после Смутного Времени. Следовательно, не народ-дети от Царя-отца, но отец-Царь – от детей-народа. Следовательно, Самодержец есть самодержец не «Божией милостью», а народной волей. Следовательно, не потому народ призвал Романовых на престол царский, что в час просветления, очищенным страданиями сердцем, узрел свершившееся определение воли Божией, почуял, что Михаил Феодорович уже получил от Бога венец царский, а потому избрал, что так заблагорассудил наиудобнейшим для себя – даровать Михаилу Феодоровичу власть над Русью, – одним словом, не сыскал своего Царя, а сделал себе Царя, и первый Романов не потому воссел на престол, что Бог посадил его туда, а потому, – что вступил в «договор с народом». Следовательно, приходится заключить далее, что «сущие власти» не «от Бога учинены суть», но от contrat social; – не Божие изволение, а suffrage universelle держит Престол, по смыслу Хомяковского учения.
Может быть, на это скажут, что такое возражение Хомякову есть смешение области правовой и государственной с областью богословской и духовной. В порядке юридическом, скажут, суверенитет народа все-таки должен быть признан, и его не обойти. Не входя в обсуждение этих возражений, мы должны отметить только, что сам Хомяков отрицает чисто-юридическую постановку общественных и государственных вопросов и требует возглавления всего верою. Конечно, во вне-религиозной, чисто-светской мысли, там, где Бог не признается Источником общественного строя, – без народного суверенитета обойтись
—539—
нельзя, ибо, если нет в научном сознании Бога, то кому же, как не народу, быть последним судией своих дел, и тогда право самодержавия без суверенитета народа обосновано быть не может. Но будет ли такое «самодержавие» самодержавием? – В том-то и дело, что в сознании русского народа самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт, – милость Божия, а не человеческая условность, так что самодержавие Царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не выводится из вне-религиозных посылок, имеющих в виду общественную или государственную пользу.
Мы заговорили о царской власти в толковании Хомякова не потому, что этот вопрос сам по себе особенно здесь занимает нас, а потому что на нем, с особой яркостью, сказывается основная точка зрения Хомякова, которая с меньшей яркостью, но все же отчетливо, определяет собой и его учение о Церкви. Свободное самоутверждение человека, – бытие имманентное человеку, – проявляющееся в организации любви, для него дороже всего. Действительно, он – «великий альтруист», как определяет его проф. Завитневич. Но и великий альтруизм, сам по себе, ничуть не похож на Церковь, ибо Церковь полагает основу свою в том, что вне человечности, а для альтруизма, как и для всякого гуманизма, самой крепкой точкой опоры представляются внутренние, имманентные силы человека. Высказанное здесь положение о Хомякове может показаться неожиданным, но, будучи принятым, оно бросает и неожиданный же свет на борьбу Хомякова с онтологическим моментом в религии. Отношение к трансцендентному в религии, на его взгляд, кажется проявлением начала «Кушитского». Но тогда понятно, почему он отрицает авторитет, каковой есть авторитет лишь постольку, поскольку он вне того, кто авторитету подчиняется; тогда понятна и борьба его с термином и даже с понятием пресуществления, вопреки прямому свидетельствованию Иерусалимского собора. Ввиду важности понятия пресуществления, задержимся на нем несколько долее. Часто забывается, что Св. Евхаристия – не один из моментов церковной жизни, но средоточие ее и, в известном смысле, – сама церковная
—540—
жизнь, критерий всех прочих сторон и вернейшая точка опоры. «Наше учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает это учение – ἡμῶν δὲ σύμφωνος ἡ γνώμη τῇ εὐχαριστίο, καὶ ἡ εὐχαριστία βεβαιοῖ τὴν γνώμην»1203 – свидетельствует св. Ириней Лионский о правоте своих теоретических воззрений, и вот, применяя этот критерий к учению Хомякова, мы замечаем, как стройное здание его богословской системы покачивается, – не скажу рушится, но дает трещины и явно требует подведения под себя более прочных онтологических фундаментов и пристройки ноуменальных контрфорсов.
В трактате «Опыт катехизического изложения учения о Церкви»1204, написанном уже в сороковых годах или ранее, Хомяков осторожно замечает о Св. Церкви, что «не отвергает она и слова пресуществление, но не приписывает ему того вещественного смысла, который приписан ему учителями падших церквей». Последующее уклончивое изложение евхаристического догмата есть попытка обойти термин пресуществление, но как ни осторожно изложение Хомякова, невозможно пройти мимо одного оттенка, а именно, что у Хомякова эмоциональное ударение падает на слово вера в таинство, а не на самое таинство, как предмет веры. Хомяков хочет поставить вопрос догматический на почву прагматическую, если выразиться по-современному, т. е. так, чтобы было исключено Понятие о Св. Евхаристии самой о себе, и осталось лишь понятие Восприятия ее, поклонения ей, благоговейного размышления о ней. Протестантский запах этих рассуждений несомненен, хотя неопределенность высказываний и позволяет избегнуть протестантских формул1205. Но в другом трактате, относящемся уже к 1855 году, а именно в трактате «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях»1206, Хомяков уже более определенен или более откровенен: «Тот, кто видит в Евхаристии одно лишь воспоминание, равно как и тот, кто настаивает на слове
—541—
пресуществление или заменяет его словом сосуществление (consubstantiation); другими словами, – и тот, кто, так сказать, выпаривает таинство, и тот, кто обращает его в чудо чисто-вещественное, одинаково бесчестит святую вечерю, приступая к ней с вопросами атомистической химии»1207. Итак, Церковь «не отвергает» слова «пресуществление», но «настаивать» на нем – это значит «бесчестить тайную вечерю», «обращать ее в чудо чисто-вещественное», «приступать к ней с вопросами атомистической химии». Странная логика! Если настаивать на термине «пресуществление» есть не меньшее заблуждение, чем понимать Св. Евхаристию как сосуществление (т. е. по формуле cum pane, in pane, sub pane) или даже как простое воспоминание, т. е. впадать в явное нечестие, то каким образом Церковь может «не отвергать» слова «пресуществление»? Вообще, как может Церковь «не отвергать» того, настаивать на нем предосудительно? Явное дело, Она или совсем отвергает обсуждаемый здесь термин, или, допустив его, тем самым позволяет держаться его, т. е. настаивать на нем, коль скоро окажется нужда в нем и без него нельзя будет заградить уста еретику. Но Хомякову хочется избегнуть определенности и просто замолчать термин, который в евхаристическом споре с протестанствующими столь же решителен и потому – неустраним, как термин «единосущный» – в тринитарном споре с арианствующими, иди термин «Богородица» – в споре с несторианствующими. «В литургии нет этого слова», замечает, протестантствуя, Хомяков1208. Но Хомякову ли не известно, что такая уловка недостойна его, ибо подобное же говорили, «не отвергая» термина «единосущный», и полуарианствующие, ссылаясь на несуществование его в Священном Писании. И, в довершение аналогии, терминами: «единосущный» и «Богородица», равно как и термином «пресуществление», действительно пользовались еретики, в своих целях, употребляя их огрубленно, чувственно. Но, тем не менее, Церковь их не только «не отвергла», но и положительно утвердила, ибо без них нельзя было сопротивляться размывающему
—542—
церковный догмат потоку еретического лжеучения. В XVII-м члене Исповедания патриарха Иерусалимского Досифея, евхаристический догмат выражается с полной определенностью1209. Но Исповедание это имеет каноническое значение, ибо утверждено на Иерусалимском (против кальвинистов) соборе 1672 года, на каковом принимали участие представители всех поместных церквей, в том числе и русской, и затем сугубо утверждено восточными патриархами в 1723 году, включившими Исповедание Досифея в послание к «сущим в Великобритании» архиепископам и епископам и всему их клиру1210; достойно примечания, что кроме этого Исповедания восточные патриархи не нашли нужным отвечать еще что-либо. Тут мы читаем1211: «Веруем, что в сем священнодействии (Св. Евхаристии) присутствует Господь наш Иисус Христос не символически, не образно (τυπικῶς, εἰκονικῶς), не преизбытком благодати, как в прочих таинствах, не одним наитием, как это некоторые отцы говорили о крещении, и не чрез проницание хлеба (κατ’ ἐναρτισμόν, per impanationem = Хомяковское «сосуществление»), так, чтобы Божество Слова входило в предложенный для Евхаристии хлеб существенно (ὑποστατικῶς), как последователи Лютера довольно неискусно и недостойно изъясняют; но истинно и действительно, так, что по освящении хлеба и вина, хлеб прелагается, пресуществляется, претворяется, преобразуется (μεταβάλλεσθαι, μετουσιοῦσθαι, μεταποιεῖσθαι, μεταῤῥυθμίζεσθαι – transmutetur, transsubstantietur convertatnr, transformetur) в самое истинное тело Господа, которое родилось в Вифлееме от Приснодевы, крестилось в Иордане, пострадало, погребено, воскресло, вознеслось, сидит одесную Бога Отца, имеет явиться на облаках небесных, а вино претворяется, пресуществляется (μεταποεῖσθαι καὶ μετουσιοῦσθαι – converti ас transsubstantiari) в самую
—543—
истинную кровь Господа. Еще веруем, что по освящении хлеба и вина остается уже не самый хлеб и вино, но самое тело и кровь Господа, под видом и образом хлеба и вина [в Исповедании патриарха Досифея: ἐν τῷ τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου εἴδει καὶ τύπω, ταὐτὸν εἰπεῖν, ὑπὸ τοῖς τοῦ ἄρτου συμβεβηκόσιν – sub panis et vini specie et figura, id est, sub panis accidentibus; опущено, следовательно, речение: «т. е. под акциденциями хлеба»] – Господь присутствует по существу своему (κατ’οὐσίαν, secundum substantiam). Хотя в одно и то же время бывает много священнодействий по вселенной, но не много тел Христовых, а один и тот же Христос присутствует истинно и действительно. Одно тело Его и одна кровь во всех отдельных церквах верных. И это не потому, что тело Господа, находящееся на небесах, нисходит на жертвенники, но потому, что хлеб предложения, приготовляемый порознь во всех церквах, и по освящении, претворяемый и пресуществляемый (μεταποιούμενος καὶ μετουσιούμενος – conversus ас transsubsantiatus), делается одно и то же с телом, сущим на небесах. – Неужели можно сказать, что, в приведенных словах, Церковь только «не отвергает» термина пресуществление, самого по себе опасного и нечестивого, а не пользуется им в борьбе с протестантствующими со всей возможной энергией для выражения и защиты самого главного? Неужели понятия претворения и пресуществления не служат в приведенных местах наиболее решительными для разграничения церковного достояния от покушений протестантствующих, не суть последние слова, завершающие самоопределение Церкви? Но если они употреблены и удержались, то надо верить и понимать, что эти термины поставлены не напрасно, а были действительно необходимы. Хомяков же хочет притупить остроту евхаристической формулы и тем открывает дверь протестантскому отрицанию; его же последователи неприкровенно уже изъясняют его намерения и открыто отрицают и даже хулят слово «пресуществление». Но они сами убедятся опытом истории, что отвергнуть слово пресуществление, при современной напряженности протестантства, модернизма, прагматизма и тому подобных имманентистских ересей – это значить разрезать веревку туго затянутого тюка, и не предвидят тех отрицаний, которые за сим имеют
—544—
последовать, ибо таковые давно уж ждут себе свободы. Тогда и виновникам догматической разрухи, идущим тут по пути, проложенному Хомяковым, придется либо снова вводить отвергнутый термин, либо открыто отвергнуть Св. Тайны. Как бы ни был далек Хомяков от наименования обсуждаемого термина «кощунственным», все же он как-то ответственен и за последнее. Сюда дорога от Хомякова идет под гору, к церковному же учению – в гору.
Но кроме этой, догматическо-канонической стороны спора, нельзя не отметить, что и философски Хомяковское толкование термина пресуществление, как якобы содержащего в себе понятие о «чуде атомистической химии», не есть учение католическое, хотя, быть может, какие-либо богословы и впадали в подобное нечестие. Но это нечестивое воззрение именно и есть отрицание пресуществления, ибо в «атомистической химии», хотя бы и чудесной, существо материи, субстанция материальная, остается неизменной, не пресуществляется, а изменяются одни только акциденции, одни виды; в пресуществлении же меняется существо, а акциденции, виды пребывают. Хомяков не мог не понимать этого извращения понятий, но вместо того, чтобы обличить ложное словоупотребление и восстановить правое, он, предпочел легчайший путь – простого отказа от церковного достояния, подобно тому, как полуарианствующие избегали термина «единосущный», между прочим, на том фальшивом основании, что такой термин ложно употребляли гностики. Впрочем, утверждение о действительности указанного выше злоупотребления термином «пресуществление» пусть остается на совести его высказывающих: хоть и латинян, но нельзя же по наущению протестантов, явных врагов Церкви, обвинять в любой нелепости. Во всяком случае, воинствующим на пресуществление следовало бы оговорить, что, по вере церковной, «словом пресуществление (τῇ μετουσίωσις λέξει, verbo transsubstantionis) не объясняется образ, которым хлеб и вино претворяются (μεταποιοῦνται, convertuntur) в тело и кровь Господню; ибо сего нельзя постичь никому, кроме самого Бога, и усилия желающих постичь сие могут быть следствием только безумия и нечестия, но показывается только то, что хлеб и вино, по освящении, прелагаются в тело и кровь Господню не образно, не символически, не
—545—
преизбытком благодати, не сообщением или наитием единой Божественности Единородного и не случайная какая-либо принадлежность (акциденция) хлеба и вина прелагается в случайную принадлежность (в акциденцию) тела и крови Христовой, каким-либо изменением или смешением, но, как выше сказано, истинно, действительно и существенно хлеб бывает самым истинным телом Господним, а вино самой кровью Господнею1212: – ὁ ἄρτος καὶ ὁ οΐνος μετὰ τὸν ἁγιασμὸν οὀ τνπικῶς οὐδ’ εἰκονικῶς οὐδε χάριτι ὑπερβαλλούση, τῇ κοινωνία ἢ τῇ παρουσίᾳ τῆς θεότητος μόνης τοῦ μονογενοῦς μεταβάλλεται εἰς τὸ σῶμα καὶ οἶμα τοῦ κυρίου, ουδὲ συμβεβηκός τι τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου εἰς συμβεβηκός τι τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ κατά τινα τροπὴν ἤ ἀλλοίωσιν μεταποεῖται, ἀλλ’ ἀληθῶς καὶ πραγματικῶς καὶ οὐσιωδῶς γίνεται ὁ μὲν ἄρτος αὐτὸ τὸ ἀληθὲς τοῦ κυρίου σῶμα, ὁ δ’ οἶνος αὐτὸ, τοῦ κυρίου αἶμα, ὡς εἴρηται ἀνωτέρω»1213.
Таким образом, все те опасности, на которые указывают противники термина «пресуществление», Церковью были предусмотрены, оговорены и классифицированы; и все же, несмотря на это, слово «пресуществление» неоднократно употреблено в местах существеннейших по своему значению. В частности, должно отметить, что этот термин кажется Хомякову и его последователям в этом вопросе – вносящим «схоластические определения». Как будто философский язык не есть вообще вид языка и как будто сам Хомяков не пользуется всякими философскими определениями, своими и чужими, схоластическими и гегельянскими! Ссылаться на схоластичность определений, как таковую, не указывая, чем именно данные определения плохи, это значит в основе протестовать против какого бы то ни было богословия, в том числе и Хомяковского. И если бы святые отцы стояли на точке зрения этого бессловесия, то не могло бы быть и Символа Веры. Но Хомяков защищает алогизм, коль скоро идет речь о таинствах, с которыми он вообще не совсем ладит, ибо тут ему мерещится призрак «Кушитства», и сам же рассуждает о догматах веры, включительно до тайны Пресвятой Троицы, когда
—546—
горнее рассматривается вне его отношения к дольнему, т. е. рассматривается как понятие, а не как жизнь. Следовательно, не алогизм, как таковой, привлекает Хомякова, а отталкивает конкретность и непосредственность духовного мира, открывающегося в богослужении. Эти-то бесплотность и бескровность, – вероятно, Гегелевская зараза – были в известной мере болезнью раннего славянофильства.
Если мы постараемся взглянуть на мысль Хомякова с достигнутой нами точки, то многое тут делается понятным, объясняясь именно из имманентизма, из боязни вторжения трансцендентного в имманентное. Понятно тогда и отрицание, на этот раз уже прямое, «периодических чудес», вроде нетления богоявленской воды, однако имеющее за собой веский авторитет Минеи и Златоуста. В январской Минее, именно, после чинопоследования Богоявленского водоосвящения, делается примечание о святой богоявленской воде, со следующей ссылкой: «О сей воде небесная она словесная ластовица, златословесный вселенский учитель Иоанн Константинограда патриарх в слове своем, о еже сходитися Христианом во святую Божию церковь и о крещении, егоже начало: вси вы в благодушии есте днесь, аз же в печали один болезную: свидетельствует глаголя: но убо чесо ради не день воньже родися, но день воньже крестися явление глаголется; сий бо есть день, воньже крестися и вод освяти естество. Сего ради и в полунощи на праздник сей, вси почерпше в домы воду относят и соблюдают и чрез лето всецелое хранят. Понеже день освященных вод, и знамение бывает явственное, не растлевающуся вод оных естеству долготою времени: но на лето всецелое и два и три многащи лета, днесь почерпненной воде целой и новой пребывающей и по толицем времени ныне от источников емлемым водам сравняющейся»1214. Так свидетельствует Минея. Но Хомяков пренебрегает этим тысячелетним свидетельством, доныне принимаемым Церковью, – пренебрегает во имя невоплощаемости духовного начала. Повторяю, если подметить у Хомякова этот легкий уклон к дуализму, то многое в Хомякове объясняется.
—547—
Понятны, например, крайности его борьбы с католичеством. Хомякову как будто недостаточно еретичества Запада, ему хочется самые ереси Запада представить как бесповоротную бессмыслицу, – что приводит его к приведенным выше нехорошим словам об Евхаристии, в западном понимании, как «атомистическом чуде», и папе, как об «оракуле», – словам, которые едва ли можно расценивать иначе, чем шаг на пути к Толстовским кощунствам, когда другой «великий альтруист» и даже «величайший альтруист», опять таки, по внушению человеческого самоупора, объявлял Святые Таинства «колдовством». К этим же крайностям относятся и чрезмерные обвинения романизма, в лишении мирян Святой Чаши. Если бы Хомяков применил в отношении к католицизму тот самый метод познания, в забвении которого он обвиняет Запад, – познание любовью, – то, может быть, он нашел бы аналогии и в Церкви тем латинским особенностям, которые, будучи там, на Западе, погрешностями, не суть, однако, бесповоротные бессмыслицы, как их склонен толковать Хомяков. Так, например: папа, конечно, не непогрешим, но это не потому, что если бы признать противное, то этим непременно пришлось бы приравнять папу к «оракулу». Почему же, в принципе, отвлеченно говоря, нелеп, недопустим благодатный дар непогрешимости в делах веры, – непогрешимости независимой от степени нравственного совершенства, – если может быть независимым от нравственного совершенства дар совершать Святейшие Таинства. Хомяков говорит, что притязания папы на непогрешимость в делах веры можно было бы уподобить притязанию какого-нибудь епископа на совершенство любви. Опять-таки повторяем, что, отрицая фактическое существование дара непогрешимости, какового Церковь фактически же не признает, мы не видим, почему последнее сравнение Хомякова приводит этот несуществующий дар к нелепости в принципе. И почему в принципе недопустим благодатный дар любви Христовой, ниспосылаемый при рукоположении епископу или священнику? Да, кроме того, в православном богословии и на самом деле высказывался взгляд, согласно которому особенность дара священства есть именно сострадательная любовь.
—548—
«Пастырю, – говорить Архиепископ Антоний, – дается благодатная сострадательная любовь к пастве, обусловливающая собой способность переживать в себе скорбь борьбы и радость о нравственном совершенствовании своих пасомых, способность чревоболеть о них, как ап. Павел или Иоанн. Такое свойство пастырского духа и выражает самую сущность пастырского служения»1215. Подобным же образом, отвлеченно говоря, мог бы конструироваться и дар особой чуткости, а отсюда – и непогрешимости, в вопросах догматических. «Но ведь, – сказал бы Хомяков, – латиняне признают этот дар не за епископами вообще, а за одним лишь папою». Да; но надо добавить, и то, что иерархическую степень папы они рассматривают не как третью, а как четвертую, совсем отличную от степени епископа, так что папа признается единственным представителем своей степени. Следовательно, дело не в нелепости притязавшего дара непогрешимости, а в несуществовании четвертой степени священства. Но и этот пункт противокатолической полемики стал ненадежным после того, как в новейшее время стали в нашем богословии раздаваться голоса в пользу признания патриаршества особой степенью священства, – четвертою. Если же эти голоса найдут себе сочувствие, то придется определять и своеобразную особенность этой степени. А так как особенностью степени епископской признается содержание учения церковного в чистоте и неповрежденности, то, как бы ни пришлось, на этом пути, особенностью степени патриаршей признать именно непогрешимость в высказывании новых суждений о делах веры, т. е. согласиться с латинством. История Запада связана роковой и несокрушимой логичностью, и если латиняне пришли к измышленным ими догматам, то к этому они вынуждались всем своим прошлым.
Или, вот еще пример преувеличенной полемики Хомякова с Западом: в лишении мирян (Святой Чаши Хомяков видит узурпацию и гордость латинской иерархии. Между тем, эта особенность романизма может объясняться иными,
—549—
более глубокими, причинами, но с гораздо меньшим осуждением Запада, а именно, например, слишком большой (– исторически засвидетельствованной –) связью Римской Церкви с Ветхозаветным культом и Ветхозаветным строем мышления.
Отразившаяся и во многом другом, эта связь, чисто-исторически, без каких-либо злостных намерений, могла исказить и Евхаристийный обряд. Обратим внимание, что никто из духовенства, даже сам папа, если бы он причащался не как служащий, а например, на смертном одре, не вкушает Святой крови, совершенно так же, как и любой мирянин. Мало того. При служении нескольких священников испивает Святую Чашу один только старший. Следовательно, Святой Кровью вообще не причащаются у латинян, т. е. Она не рассматривается здесь как привилегия духовенства, – вопреки Хомякову, а имеет какое-то особое значение.
Какое же именно? Припомним, что Св. Евхаристия свой прообраз имеет в ветхозаветной «жертве хваления»: из разных видов жертв эта именно наиболее подходит к Евхаристии и по значению своему, и по литургической обрядности. В Литургии же Св. Иоанна Златоустого Св. Евхаристия прямо называется «жертвой хваления – θυσία αἰνέσεως» (в молитве по поставлении даров, так называемой молитве проскомидии). Жертва хваления – ובה תירת-השלמים – зева тодат гашламим или просто «ובת התירה – зева гаттода – была в ветхозаветном культе одним из трех подвидов «жертвы мирной» – זבח שלמים – зева шеламим. – И вот, думается, католицизм проводит аналогию Евхаристии кровавой и «мирной жертвы» во всех деталях, более последовательно, чем это заповедано Христом, принесшим на Тайной Вечери «жертву мирную» же, но бескровную.
А так как в кровавой «жертве мирной» вкушали только мясо жертвенного животного, кровь же, «в которой жизнь», т. е. самая жертва, приносилась Богу и изливалась в рога жертвенника, то поэтому и католицизм, допускает Св. Причастие, как причастие, и притом решительно всех членов Церкви, от папы и до последнего мирянина, только под одним видом, под видом Тела, Кровью же, собственно, никто не причащается. Но так как надо же ее
—550—
куда-нибудь деть, то она потребляется, в роде того, как у нас потребляются Святые Дары после литургии, с той однако разницей, что это потребление, равно как и потребление оставшегося Святого Тела, совершается на Западе во время самой литургии, непосредственно после причащения, и притом старшим из служащих, а у нас потребление оставшихся Св. Даров совершается во время окончания Литургии и притом младшим из служащих, обыкновенно диаконом; но это – различие устава, не существа таинства. В обоих случаях уста и внутренности священнослужителя, потребляющего св. Тайны, уподобляются, по своему литургическому значению, рогам ветхозаветного жертвенника. Думается, таков именно смысл, по крайней мере первоначальный, пресловутого лишения мирян Св. Чаши. Повторяю, я хочу сказать, что у латинян не миряне только, но и решительно все верующие, возглавляемые папой, лишены Св. Чаши. Вероятно, это еще хуже, чем лишить Св. Чаши одних мирян; но это делается вовсе не злостно.
На всех этих толкованиях настаивать отнюдь не берусь; очень может быть, что возможны и иные объяснения. Но трудно не быть уверенным в том, что полемика против латинства – дело, требующее осторожности, так как весьма легко, под видом борьбы со «схоластикой» и «папизмом», подкопаться и под основы нашего собственного вероучения. Это-то мы видим, например, в двусмысленной и соблазнительной Хомяковской формуле, согласно которой Таинства совершаются не для стихий, не для животных и не для неверующих, – формуле, которая или самоочевидна и не нуждается в высказывании (– кто же говорит, что – для животных? –), или же имеет внутренним смыслом своим уничтожение реальности Таинства, – превращение догмата о таинстве в какое-то прагматическое или модернистическое правило нашего поведения. Если Хомяков хочет сказать, что Таинство предназначается, в смысле непосредственного использования его благодатных даров, только для членов Церкви, то это утверждение, в известном смысле, бесспорно, хотя и тут могут быть возражения, что Таинство косвенно воздействует на всю тварь, а некоторые виды освящения – и прямо применяются ко всей твари (– см. например в Требнике многочисленные молитвы и обряды,
—551—
космического значения). Если же смысл Хомяковской формулы – тот, что Таинство – лишь постольку Таинство, поскольку о нем так думают члены Церкви, и в собственном смысле – ничто для всех, о нем так не думающих, т. е. что оно, например, не способно опалить кощунника, в Таинство, однако, не верующего, – то этот смысл, вне всякого сомнения, не может быть допущен.
Подобных частных вопросов, заставляющих думать, что, действительно, в Хомяковском учении о Церкви, а, следовательно, и во всей его системе, что-то неладно; что или Хомяков, под давлением каких-то посторонних учений, в то время, вообще далекое от церковности, не сумел выразить истинно православной веры своего сердца, или же, напротив, что он старался, хотя и не вполне сознательно, прикрыть неправые убеждения своего ума красивой, но двумысленной, одеждой полуцерковных формул. Говорить все это о Хомякове, вероятно самом чистом и самом благородном из великих людей новой русской истории, тяжело и скорбно; но нам приходится говорить так по вине проф. Завитневича, который не пресек и даже не постарался пресечь подозрений, подобных здесь высказанным. Повторяю, его труд нуждается в дополнительном томе.
Во введении к первому тому, указывая на недостаточность знакомства с Хомяковым и славянофилами не только общества, но даже и многих ученых, проф. Завитневич справедливо замечает, что до изучения духовного наследия славянофилов нельзя сказать, что́ из него «сделается прочным достоянием жизни и что́ пойдет в отброски, как временный и случайный момент в процессе исторического развития»1216. Вот почему, взяв на себя «задачу исчерпывающего изложения всей суммы понятий, высказанных Хомяковым, мы не могли, говорит он, позволить себе слитком большой переборчивости в отношении к бывшему в нашем распоряжении научному материалу, а должны были прежде всего позаботиться о том, чтобы в нашем труде читатель встретил полноту данных и документальность в изложении»1217. Соблюл ли Автор это собственное требование материальной полноты своей работы? Нет, со
—552—
стороны содержания исследование проф. Завитневича может быть восполнено. В краткой рецензии мы не имеем ни возможности, ни надобности указывать все опущенное проф. Завитневичем, но, однако же отметим кое-что, в приложении. При этом многие пропуски проф. Завитневича объясняются слишком большой продолжительностью печатания его работы, в течение какового срока появилось несколько документальных данных, которые полезно было бы включить в содержание разбираемого труда, но которые остались незамеченными исследователем, и надо сказать, что ряд их (см. приложение) без особого труда мог бы быть продолжен. Работа же над пополнением материалов, использованных проф. Завитневичем, требуется и существом дела. При чтении рассматриваемой нами книги рождается целый ряд вопросов, на который ни материалы, там содержащиеся, ни приведенные здесь, ниже, дополнения к ним не дают ответа. Проф. Завитневич почему-то ограничивается напечатанными уже помимо него материалами, да и то далеко не в полном их объеме, а рукописных источников не использовал. Между тем, немыслимо, чтобы за двадцать один год работы, при желании найти что-нибудь новое о Хомякове, исследователь не мог найти ничего; этому поверить невозможно. Очевидно, он и не искал рукописного материала. Вот почему, круг сведений проф. Завитневича ограничен как раз тем же горизонтом, что и всякого читателя Хомякова, не занимавшегося нарочитыми разысканиями по истории славянофильства. Но вопросы, требующие специального обследования по архивным материалам, остаются не решенными и даже не возбужденными в труде проф. Завитневича.
Прежде всего, мне думается, что если вообще исследование рода, к которому принадлежит великий человек, внутренних особенностей этого рода, его жизни, его духовных черт, его внутреннего строения, есть одна из существенно важных задач, предстоящих исследователю, то, в отношении к Хомякову, который по признанию всех о нем писавших, как одобрительно, так и с порицанием, должен считаться натурой на редкость почвенной, на редкость связанной с родом и бытом, – в отношении Хомякова, говорю, это требование должно быть поставлено с особливой настойчивостью. Но настойчивость эта должна
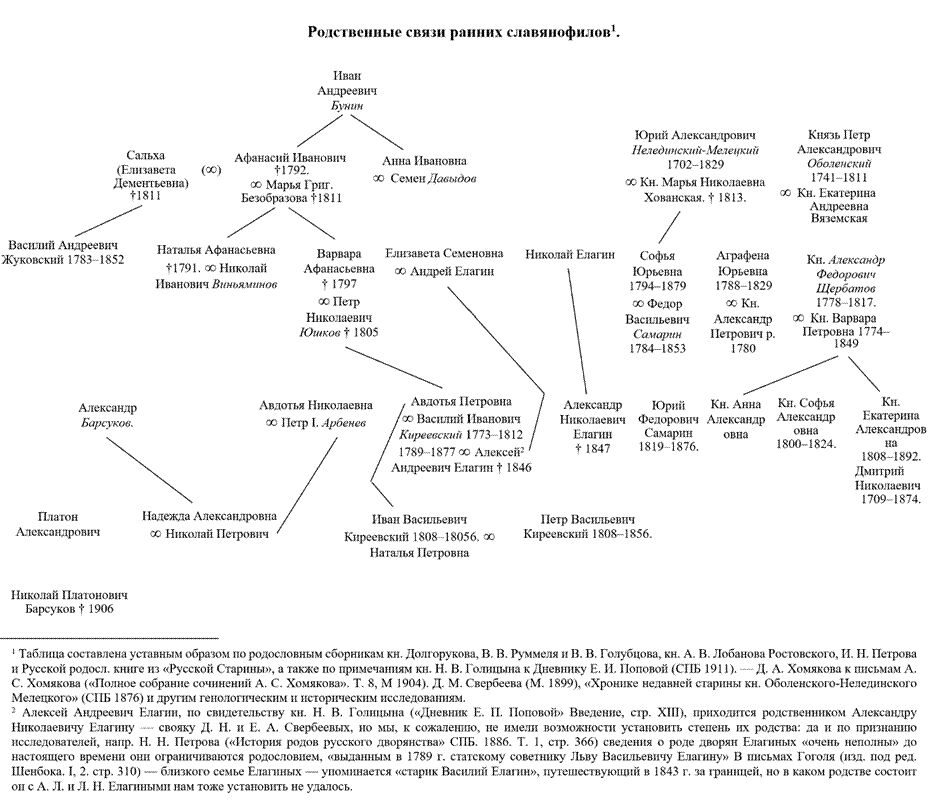
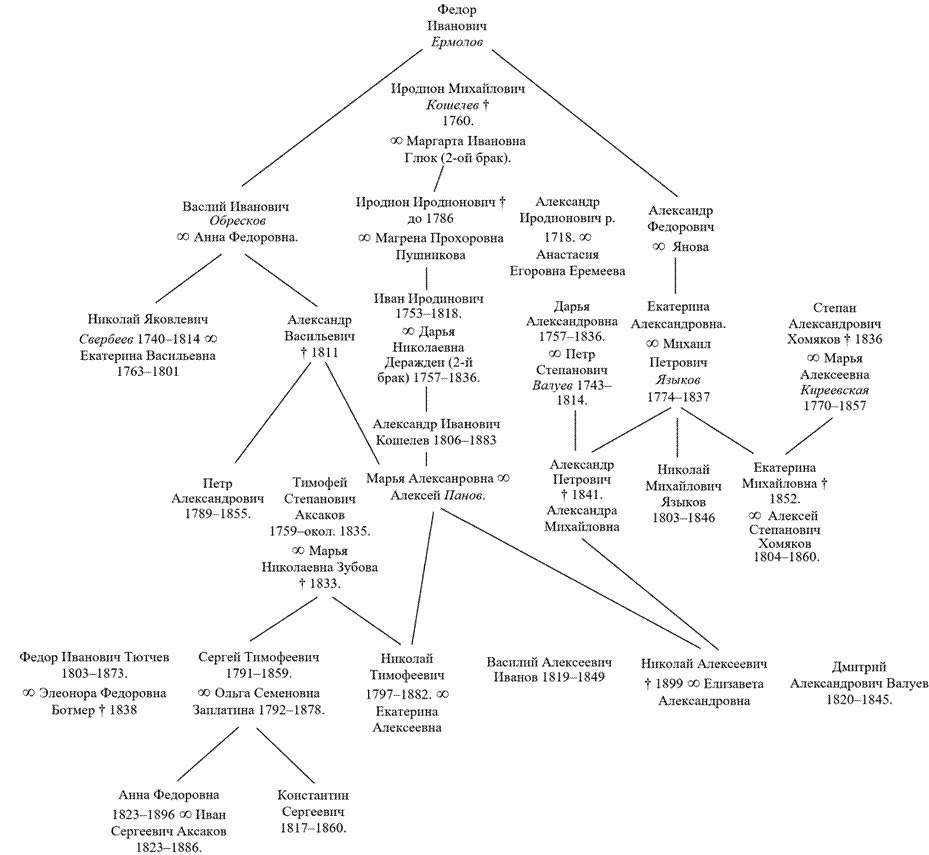
—553—
быть тем большей в данном случае, что самый род Хомяковых есть, бесспорно, одна из благороднейших линий, тянущихся в русской истории, линия, незапятнанная ничем темным и, несмотря на свою древность и нефальшивую родовитость, не искавшая себе внешнего положения. Род Хомяковых и сам по себе, даже независимо от Алексея Степановича, своей энтелехии, есть предмет исследования, достойный всяческого внимания. Смеем думать, что материалов для такого исследования было бы более, чем достаточно; но то, что сделано у проф. Завитневича, представляется нам недостаточным и жидким. Завитневич не потрудился, напр., справиться даже о гербе Хомяковых, хотя вовсе не требовалось поисков для извлечения этого описания из «Общего Гербовника». Вот оно, кстати: «В щите, имеющем красное поле, изображены два золотые креста и между их серебряная подкова, шипами вниз обращенная. Щит увенчан дворянским шлемом и короной со страусовыми перьями. Намет на щите красный, подложенный серебром». Это описание должно быть восполнено: щит герба Хомяковых – так называемый в геральдике «французской» формы, т. е. четырехугольный, снизу заостренный, а шлем – западноевропейского типа, т. е. с пятью решетинами и поставлен прямо. Далее, в «Общем Гербовнике», откуда взяты приведенное описание даются сведения о предках Алексея Степановича1218. Для изучения предков Хомякова следовало бы использовать также «Записки А. Т. Болотова», где имеется не мало генеалогических сведений.
Только что было сказано нами о необходимости изучить генеалогическую подпочву А. С. Хомякова. Это изучение, вообще говоря, возможно и необходимо в двояком направлении. В одном случае мы познаем тот род, в который входит и данное лицо; в другом случае, предметом познания оказывается уже совокупность тех разнофамильных родов, кровь которых течет в жилах данного лица. Первое
—554—
изучение определяет место одного среди многих, в составе многих; второе же показывает одного как состоящего из многих, т. е. место многих в одном. Первое изучение построяется по общеизвестной схеме генеалогического дерева:
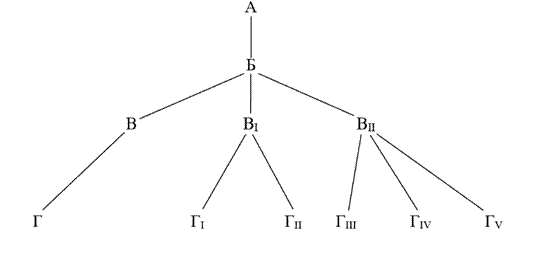
А второе должно строиться по схеме обращенной, хорошо известной в биологии, в генеалогии же изредка употребляемой под названием таблицы «восходящего смешанного родословия» и дающей «родословную с гербами». Эту последнюю схему можно было бы назвать идеологическим деревом. Вот она:
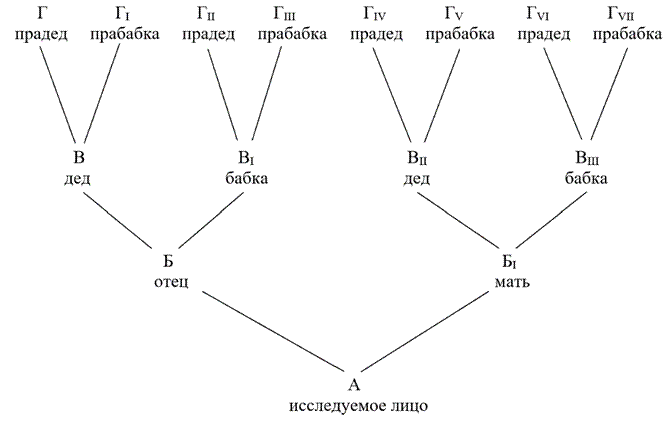
Генеалогическое дерево по преимуществу важно при исследовании, имеющем своим предметом род; дерево же идеологическое наиболее полезно при изучении строения отдельной личности, ибо с особой наглядностью представляет нам все потенции, полученные данным лицом от
—555—
своих предков. Но, к сожалению, ни та, ни другая схема не были применены проф. Завитневичем к А. С. Хомякову. Между тем, сколь много обещало бы такое применение, хотя бы для анализа черт его характера, полученных им от матери Марьи Алексеевны, рожденной Киреевской, от бабушки, рожденной Грибоедовой и т. д.
Рассмотрение рода, к которому принадлежит изучаемое лицо, раздвигает это лицо, как бы увеличивает его под микроскопом во времени. Но это лицо может быть «увеличено» и в пространстве – чрез рассмотрение современной ему родни. Если предки его – его корни, то родня – ветви, произросшие на тех же корнях, и какой-нибудь признак, слабо выраженный в данном лице, а потому и малозаметный, может оказаться на этих ветвях более наглядным и более учитываемым. Но, важный вообще, вопрос о родне, в данном случае, когда дело идет о А. С. Хомякове, приобретает своеобразную значительность. Дело в том, что московские славянофилы и их ближайшие единомышленники находились в тесных родственных связях. Наблюдение немудреное! Но оно богато существенными выводами. Так, напр., этот факт родственного строения кружка славянофильских деятелей объясняет тесную сплоченность славянофилов каким-то особенным дружелюбием, которого не найдем в западнических кружках, опирающихся более на единство в теоретической программе, чем на природные связи их сочленов. В указанной особенности славянофильского кружка находит себе объяснение и странная, на первый взгляд, замкнутость сферы распространения славянофильских воззрений; быстро, можно сказать – почти мгновенно, распространившись в известных кругах и найдя себе тут внезапное признание и восторженную оценку, славянофильство не только не находило себе сочувствия в кругах иных, но и, попросту, не были известны даже имела многих славянофилов. Не правильно ли будет сказать, что граница понимания, а тем более – признания, славянофильства почти совпадала с границей родства славянофилов? Далее, фактом родственной сплоченности славянофилов указуется и «материальная причина» их воззрений, – именно, то важное, если угодно – преувеличенно важное, место, которое славянофилы теоретически
—556—
признали за родственной расположенностью, за дружественной близостью членов общества, – в ущерб правовым, принудительным нормам. Отсюда идет их столь настойчивая борьба против твердого начала – в Церкви, в государстве, даже в мышлении. Им, привыкшим дышать воздухом родственной уступчивости, родственной обходительности, той мягкой беззаконности, без которой немыслимо и самое родство, по-видимому, в голову не приходило, что какая-либо общественная группа может быть построена иначе, – если только не по злонамеренности. Проецируя свои кабинеты, свои гостиные и свои столовые на весь мир, они хотели бы и весь мир видеть устроенным по-родственному, как одно огромное чаепитие дружных родственников, собравшихся вечерком поговорить о каком-нибудь хорошем вопросе. Таким образом, славянофильство можно рассматривать, как жизнепонимание, ориентированное действительно на великом (но все же не на единственном!) факте – родственности. Раз такая ориентировка принята, оно неуязвимо, но вне ее славянофильство естественно возбуждает много недоумений. Но вот, к сожалению, проф. Завитневич не обратил своего внимания на этот факт, хотя уже в 1911-м году эта родственная сплоченность ранних славянофилов была отмечена кн. Н. В. Голицыным.
«Не излишне будет отметить мимоходом, – говорит он, – насколько многочисленны были родственные связи между большей частью деятелей первоначального славянофильства. Панов – был в свойстве с Аксаковыми и с Валуевым; Валуев же приходился племянником А. С. Хомякову чрез жену его, рожденную Языкову. Хомяковы в свою очередь состояли в родстве с Киреевскими, ибо мать А. С. Хомякова, Мария Алексеевна, была рожденная Киреевская, наконец, Свербеевы, не принадлежа сами к славянофильскому лагерю, являлись связующим звеном между вышеперечисленными семьями: Панов приходился двоюродным племянником Д. Н. Свербееву, так как мать его, Мария Александровна Панова, рожденная Обрескова, была родной племянницей матери Свербеева, тоже рожденной Обресковой; с другой стороны Д. Н. Свербеев был, также по женской линии, троюродным братом Языковых и потому – дядей Валуева; наконец, Свербеевы находились в свойстве с Елагиными, а следовательно – и с Киреевскими, вследствие
—557—
брака сестры Ек. Ал. Свербеевой, Анны Александровны, с Александром Николаевичем Елагиным, родственником Авдотьи Петровны по ее второму мужу1219. – Далее кн. Н. В. Голицын подчеркивает и значение этих родственных связей в изучении славянофильства: «Это переплетение родственных связей дает нам право заключить, что в первоначальной своей стадии славянофильство распространялось в кругу лиц, не только близких по своему сословному происхождению и общественному положению, но и более или менее тесно связанных друг с другом отношениями родства и свойства в разных степенях1220.
Такой вывод делает кн. Голицын, хотя и с оговоркой, что не желает «придавать этому обстоятельству (родственных связей) какого-либо исключительного значения для объяснения хода распространения славянофильства в первые годы его существования»1221.
Подразумевающаяся в этой родственной уютности замкнутость славянофильского кружка неполная доступность его чужим, хотя бы и единомысленным людям, имеет себе отчасти свидетелем Никиту Петровича Гилярова-Платонова. Друг славянофилов, «единственный человек, с которым» Хомяков, «по собственному его признанию, признавал полное свое согласие»1222, он все же ощущал грань разделения между собой и московским кружком, но так как не было при этом недостатка во взаимном признании или расхождения в понимании жизни, то причин чуждости надобно искать в чем-то органическом. Как сейчас увидим, Гиляров это органическое указывает в самих славянофилах. Но, с другой стороны, из устных рассказов Анны Сергеевны Бухаревой, вдовы Александра Матвеевича, нам известно о тяжелом и неприятно-самолюбивом характере Никиты Петровича; на неприветливость его и само-занятость указывало ему расположенное к нему семейство Аксаковых1223,
—558—
и, следовательно, часть нижеследующих жалоб его можно объяснить его личными свойствами.
Вот эти жалобы Н. П. Гилярова в его письме 1 от 2 февраля 1886 г., высказанные князю Шаховскому по поводу кончины Ив. с. Аксакова: «– Приехавши из Троицы с последних проводов Аксакова, я нашел вашу посылку и в ней письмо; пробежал его и сейчас же отвечаю на то, что прямо ко мне относится. «Поднимите упавшее знамя» – вот что вы пишете. – Приезжий иностранец смотрит в Москве царь-пушку и царь-колокол и ищет случая видеть Каткова и Аксакова. Но в том же Кремле есть пушка-единорог; об ней не говорят и ее не упоминают. Я об себе не великого мнения, но, однако и не маленького. Но я не признан, вот что, родной! я в положении какого-то Дон-Карлоса. Аксаков меня ценил, ставил меня очень высоко; во многих случаях я был для него авторитетом. Мало того: покойный Ю. Ф. Самарин склонялся предо мной (по моему мнению даже сверх заслуженного); для Хомякова я был единственным человеком, с которым он признавал полное свое согласие, и однако NN. смотрит не то косо, не то сухо. Когда Аксаков начал издавать Москву и предложил мне писать руководящие статьи с неограниченной властью (я и писал их) он... и не заикнулся ни разу мне предложением со редакторства. Немногие знали даже, что некоторые из самых серьезнейших передовых принадлежат мне. Итак, единорог оставлен был в тени. Не помню, чуть ли даже я не жаловался вам, что дух мой падает иногда при создании, что у меня нет учеников, что меня игнорируют и что потому я бесполезен. Кончина Аксакова и восклицание, которое слышу «поднимите знамя» воскрешают эту мысль снова, я игнорирован, я замолчан, нео-славянофилы, народившиеся, когда я был уже во цвете сил (в роде Ламанского и Миллера), имеют обо мне только внешнее понятие, благоволят знать только понаслышке. Покойный Гильфердинг, в глазах моих, Хомякова и К. Аксакова – мальчик некогда и ученик,
—559—
умер превознесенным и препрославленным; он был авторитет и председатель Славянского общества, я не авторитет ни для кого; ни разу никто меня не назвал кандидатом на выдающееся общественное положение... «И вы погибли бы, как погибли тысячи других, которых я не знаю, но у вас есть друзья...» и проч. Вот что некогда сказал Николай Павлович Самарину, привезенному из Петропавловской крепости к нему в кабинет. Да, у Самарина были друзья, и он был двоюродный брат таких-то, племянник таких-то, и ему не дали сгнить в крепости. И Аксакова положение социальное таково было, что его нельзя было потерять, как иголку. Он был известен двору, Анна Феодоровна там и жила; товарищи и знакомые на высших степенях государственной службы, словом, большие связи, и при том даже не в России только: вот что давало ему значение вождя и влияние до известной степени, по крайней мере отрицательное. В этом отношении положение Аксакова не повторится, и не от меня уже, милейший мой, зависит»1224. Далее, Гиляров указывает на своевременность смерти Аксакова, ибо «идеал славянского братства, начертанный его (И. С. Аксакова) учителями (Хомяковым и К. Аксаковым) разлетается; на распростертые объятия «братья» отвечают пренебрежением, завистью, коварством, зложелательством... русское великодушие к Славянам упраздняется самыми обстоятельствами, самой историей, я это предсказывал еще в 1838 году, я настаивал, но кому же нужно было меня слушать?». Так подтверждается оборотная сторона родственности славянофильского кружка – замкнутость. Но если бы и не было ее, тем не менее остается факт связей по родству, и Хомяков не может быть рассматриваем уединенно от своих друзей-родственников, как это делается у проф. Завитневича. Этот последний оставляет почти без внимания идейное взаимоотношение московского кружка. Мало того, Хомяков рассматривается у него обособленно, вне своих отношений к другим мыслителям и исследователям разных направлений. Между тем, само собой ясно, что для человека, которого постоянно упрекали даже в излишних разговорах и спорах, т. е. в вечному умственном диалоге,
—560—
такое исследование тех, с кем он разговаривал и спорил, существенно необходимо: ведь Хомяков не был пустынником, который в уединенной Фиваиде сложил свой взгляд на мир и поведал о нем будущим поколениям, не слыша ответного голоса со стороны мира.
Не останавливаясь долее на указанном факте, для дальнейших исследователей славянофильства я привожу здесь лишь таблицу, показывающую более точно и более наглядно родственные связи славянофилов. Таблица эта составлена по моей просьбе Ф. К. Андреевым, занятым изучением славянофилов и в особенности Ю. Ф. Самариным, и вероятно войдет в его книгу о последнем. Вот почему, мы оба были бы весьма обрадованы, если бы родственники или потомки перечисленных в ней лиц и других, не попавших в таблицу, за неимением о них генеалогических сведений, откликнулись на наш призыв и сообщили сведения дополнительные.
Говоря о развитии личности Хомякова, проф. Завитневич оставляет без внимания такие данные, которые естественно напрашиваются в качестве вспомогательных материалов, для восполнения тех сведений, на отсутствие которых жалуется Завитневич. Так, почему он не постарался выяснить нам, кто были учителя Хомякова в детстве и какое воздействие они оказали на ребенка, а потом на юношу. А между тем, на странице 97-й его книги, этот вопрос поднимается сам собою. Далее, проф. Завитневич почему-то не изучает ни почерка, ни портретов Хомякова, хотя и тем и другим пользуется для исследования личности и установления ее тождества даже такое ответственное учреждение, как суд. Изучить развитие почерка Хомякова и изменение черт его лица по ряду последовательных портретов – это значило бы заполнить многие пробелы в понимании духовного развития Хомякова, которые пока остаются пустыми.
На стр. 98-й говорится о книжных покупках Хомякова, причем указывается, что в один год было куплено книга на 10,000 рублей. Состав библиотеки, сознательно приобретаемой (а так именно приобретал книги Хомяков) в высокой степени показателен для умственных интересов и кругозора владельца ее. Проф. Завитневич где-то бросает в примечании несколько слов, что по Богучаровской
—561—
библиотеке можно было бы выяснить, что именно читал Хомяков. Но позвольте, чья же эта обязанность, как не самого исследователя Хомякова, и почему он сваливает ее с себя на читателя? Богучарово находится не на Гималаях, и чем приглашать туда своего читателя, Завитневичу проще было бы самому поехать туда из Киева, да кстати попросить у сына Алексея Степановича, Димитрия Алексеевича Хомякова, разрешения покопаться в старых приходорасходных книгах его отца.
В книге проф. Завитневича, особенно при ее обширности, огромным недостатком должно признать отсутствие указателей – именного и предметного, таблицы «трудов и дней» Хомякова и вообще разного рода справочных таблиц и схем, столь необходимых в нашей литературе вообще, а в особенности – в книгах исторического характера. Мы надеемся, однако, что проф. Завитневич выпустит еще дополнительный том, где восполнит эти пробелы. Подобных вопросов проф. Завитневичу я имел бы и еще немало. Но оставляя их, равно как и те возражения его Хомякову по поводу древнерусского просвещения и характера связанной с ним народной веры в иконы, чудеса и вообще всякие непосредственные проявления помощи Божией (тут я как раз стал бы на сторону Хомякова, против проф. Завитневича, подчеркивающего и закрепляющего уклон Хомякова к имманентизму в имманентизм уже определенный), я выскажу тот итог, который сложился у меня при чтении почтенного труда Киевского профессора:
С величайшим сочувствием относясь к избранной им теме, приветствуя в его лице увлечение славянофильством вообще и благородной личностью Хомякова в частности, высказывая Автору благодарность за его усилия дать законное место в общественной мысли славянофильству, мы однако не можем считать его груд окончательным словом русской богословской науки о мировоззрении и личности А. С. Хомякова. Но книга проф. Завитневича – есть важный и необходимый шаг в изучении Хомякова. Мы надеемся, что или сам Завитневич или другие исследователи, при помощи его труда, сумеют ближе подойти к выяснению тех вопросов, которыми не может не заниматься богословская и общественная мысль нашего времени.
—562—
Приложение.
1.
Имея намерением обсудить материальную полноту исследования проф. Завитневича, начнем с обзора источников. На страницах 51–58 I-го тома у проф. Завитневича перечислены поэтические произведения Хомякова, причем отмечается, где какое было напечатано. Но в настоящее время, когда Д. А. Хомяков выпустил новое издание (1909 г.) IV-го тома «Полного собрания сочинений Хомякова», эти указания Завитневича должны быть исправлены, а именно: теперь в этот том вошли: «Послание к Веневитиновым»1225, «Бессмертие Вождя»1226, «Желание покоя»1227, «Молодость» и «Старость»1228, «Элегия на В. К.»1229, «Вдохновение»1230, «Три пьесы при прощаниях» под заглавием «Три экспромта при прощаниях»1231, «На новый 1828 г.»1232, «Ермак»1233, «Дмитрий Самозванец»1234, «Степи»1235, «Экспромт к М. А. Н.»1236, «Подражание древним»1237, «Признание»1238, «Горе»1239, «Разговор с С. С. Уваровым»1240, «Рос... (А. О. Смирновой)»1241, «Новград»1242.
Но, кроме указанных, в новое издание IV-го тома вошли еще не указываемые проф. Завитневичем: «В альбом В. С. Карамзиной» (1832 г.)1243, «В альбом п. А. Бартеневой»1244
—563—
(1832 г.) и английские переводы 3-х стихотворений Хомякова, сделанные Пальмером1245; наконец, тут же находим отрывок: «Прокопий Ляпунов. Сцена в Рязани»1246; помещен тут и список стихотворений, положенных на музыку1247. С другой стороны, некоторые вещи, указываемые проф. Завитневичем и частью даже напечатанные в журналах, почему-то не вошли в «Полное собрание сочинений Хомякова». Таковы: «Вадим» (одно из раннейших стихотворений Хомякова), «В альбом сестре», «Думы», «В. А. Жуковскому» и, наконец, ряд стихотворений, в принадлежности которых Хомякову проф. Завитневич не уверен и о которых, по его словам, «мы не имеем никаких сведений». Список их приводится на странице 58-й. Кроме «Новгорода», ни одно из них не напечатано в «Собрании». Ценители Хомякова, конечно, будут благодарны проф. Завитневичу за ценный список, над составлением которого он работал не мало; но они были бы, конечно, еще более благодарны, если бы проф. Завитневич содействовал и изданию этих стихов. На странице 65-й I-го тома проф. Завитневич перечисляет статьи, не вошедшие в «Сочинения Хомякова». Но все они теперь вошли в новое издание III-го тома (1900 г.): «О зодчестве», «О сельской общине»1248, «Ответ... по поводу напечатания статьи Дасколова» под заглавием: «Греко-болгарская распря»1249, «Заметка об Англии»1250. Не нашли мы тут только «Послания сербам из Москвы». Но, кроме того, в том же III-м томе напечатаны не указанные проф. Завитневичем: «О князе В. Г. Мадатове»1251, «Из писем А. С. Хомякова к книг. С. А. Мадатовой», «Заемные Банки закрыты. Какие из
—564—
того последствия?»1252. «Опыт улучшения зимних дорог укатыванием» и английское описание Московки, с чертежами1253.
2.
Далее, идет у проф. Завитневича ряд воспоминаний современников о Хомякове и литература предмета. Тут дополнений можно бы было делать очень много, но мы отметим лишь кое-что. На первом месте мы ставим здесь «Отрывок из записок Ю. Ф. Самарина», сообщенный баронессой Э. Ф. Раден и доставленный в редакцию «Татевского сборника» О. А. Новиковой – отрывок величайшей биографической важности и по своему удельному весу стоящий целых книг о Хомякове. Это чуть ли не единственное свидетельство о внутренней жизни Хомякова, притом о наиболее тонких движениях его души, записанное другом и учеником и вовсе не предназначавшееся для печати. Ввиду малой известности этого отрывка считаю необходимым привести его полностью. Вот он: «...Хомяков понимал христианское Откровение, как живую, непрерывную речь Божию, непосредственно обращенную к личному сознанию каждого человека, и вслушивался в нее с напряженным вниманием. Наши разговоры нередко касались этой темы и по поводу общего вопроса о значении Промысла в истории человечества, народа или отдельного лица, но он никогда не вводил меня в область собственных внутренних ощущений. Один только раз дано было проникнуть в тайное этой непрерывной беседы его с Богом. Разговор этот так глубоко врезался в мою память, что я могу повторить его почти от слова до слова.
Узнав о кончине Екатерины Михайловны, я взял отпуск и, приехав в Москву, поспешил к нему. Когда я вошел в его кабинет, он встал, взял меня за обе руки и несколько времени не мог произнести ни одного слова. Скоро, однако, он овладел собой и рассказал мне подробно весь ход болезни и лечения. Смысл рассказа его был тот, что Екатерина Михайловна скончалась вопреки
—565—
всем вероятностям вследствие необходимого стечения обстоятельств: он сам понимал ясно корень болезни и, зная твердо, какие средства должны были помочь, вопреки своей обыкновенной решительности, усомнился употребить их. Два доктора, не узнав болезни, которой признаки, по его словам, были очевидны, впали в грубую ошибку и превратным лечением произвели болезнь новую, истощив сперва все силы организма. Он все это видел и уступил им и т. д... Выслушав его, я заметил, что все это кажется ему очевидным теперь, потому что несчастный исход болезни оправдал его опасения и вместе с тем изгладил из его памяти все остальные признаки, на которых он сам, вероятно, основывал надежду на выздоровление. Я прибавил, что, воспроизведя теперь по-своему и в обратном порядке последствий к причинам весь ход болезни, он только подвергает себя бесплодному терзанию. Тут он остановил меня, взяв меня за руку: «Вы меня не поняли: я вовсе не хотел сказать, что легко было спасти ее. Напротив, я вижу с сокрушительной ясностью, что она должна была умереть для меня, именно потому, что не было причины умереть. Удар был направлен не на нее, а на меня, я знаю, что ей теперь лучше, чем было здесь, да я-то забывался в полноте своего счастья. Первым ударом я пренебрег; второй – такой, что его забыть нельзя». Голос его задрожал, и он опустил голову; через несколько минут он продолжал: «Я хочу вам рассказать, что со мной было. Тому назад несколько лет я пришел домой из церкви после причастия и, развернув Евангелие от Иоанна, я напал на последнюю беседу Спасителя с учениками, после Тайной Вечери. По мере того, как я читал, эти слова, из которых бьет живым ключом струя безграничной любви, доходили до меня все сильнее и сильнее, как будто кто-то произносил их рядом со мною. Дойдя до слов: «вы друзи мои есте», я перестал читать и долго вслушивался в них. Они проникали меня насквозь. На этом я заснул. На душе сделалось необыкновенно легко и светло. Какая-то сила подымала меня все выше и выше, потоки света лились сверху и обдавали меня; я чувствовал, что скоро раздастся голос. Трепет проникал по всем жилам. Но
—566—
в одну минуту все прекратилось; я не могу передать Вам, что со мной сделалось. Это было не привидение, а какая-то темная непроницаемая завеса, которая вдруг опустилась передо мной и разлучила меня с областью света. Что на ней было, я не мог разобрать; но в то же мгновение каким-то вихрем пронеслись в моей памяти все праздные минуты моей жизни, все мои бесплодные разговоры, мое суетное тщеславие, моя лень, мои привязанности к житейским дрязгам. Чего тут не было! Знакомые лица, с которыми Бог знает почему сходился и расходился, вкусные обеды, карты, биллиардная игра, множество таких вещей, о которых, по-видимому, никогда я не думаю, и которыми, казалось мне, я нисколько не дорожу. Все это вместе слилось в какую-то безобразную массу, налегло на грудь и придавило меня к земле, я проснулся с чувством сокрушительного стыда. В первый раз почувствовал я себя с головы до ног рабом жизненной суеты. Помните, в отрывках, кажется, Иоанна Лествичника эти слова: «Блажен, кто видел ангела; сто крат блаженнее, кто видел самого себя». Долго я не мог оправиться после этого урока, но потом жизнь взяла свое. Трудно было не забыться в той полноте невозмутимого счастья, которым я пользовался. Вы не можете понять, что значит эта жизнь вдвоем. Вы слишком молоды, чтобы оценить ее». Тут он остановился и несколько времени молчал, потом прибавил: «Накануне ее кончины, когда уже доктора повесили головы, и не оставалось никакой надежды на спасение, я бросился на колени перед образом в состоянии близком к исступлению, и стал не то, что молиться, а испрашивать ее от Бога. Мы все повторяем, что молитва всесильна, но сами не знаем ее силы, потому что редко случается молиться всей душей, я почувствовал такую силу молитвы, которая могла бы растопить все, что кажется твердым и непроходимым препятствием: я почувствовал, что Божие всемогущество, как будто вызванное мною, идет навстречу моей молитве, и что жизнь жены может быть мне дана. В эту минуту черная завеса опять на меня опустилась, повторилось, что уже было со мной в первый раз, и моя бессильная молитва упала на землю! Теперь вся
—567—
прелесть жизни для меня утрачена. Радоваться жизни я не могу. Радость мне была доступна только чрез нее, как то, что утешало меня, отражалось на ее лице. Остается исполнить мой урок. Теперь, благодаря Богу, не нужно будет самому себе напоминать о смерти, она пойдет со мной неразлучно до конца».
Я записал, – продолжает Ю. Ф. Самарин, – этот рассказ от слова до слова, как он сохранился в моей памяти; но перечитав его, я чувствую, что не в состоянии передать того спокойно сосредоточенного тона, которым он говорил со мной. Слова его произвели на меня глубокое впечатление именно потому, что именно в нем одном нельзя было предположить ни тени самообольщения. Не было в мире Человека, которому до такой степени было противно и несвойственно увлекаться собственными ощущениями и уступить ясность сознания нервическому раздражению. Внутренняя жизнь его отличалась трезвостью, – это была преобладающая черта его благочестия. Он даже боялся умиления, зная, что человек слишком склонен вменять себе в заслугу каждое земное чувство, каждую пролитую слезу; и когда умиление на него находило, он нарочно сам себя обливал струей холодной насмешки, чтобы не давать душе своей испаряться в бесплодных порывах и все силы ее опять направить на дела. Что с ним действительно совершалось все, что он мне рассказал, что в эти две минуты его жизни самопознание его озарилось откровением свыше, – в этом я так же уверен, как и в том, что он сидел против меня, что он, а не кто другой говорил со мною.
Вся последующая его жизнь объясняется этим рассказом. Кончина Е. М. произвела в ней решительный перелом. Даже те, которые не знали его очень близко, могли заметить, что с сей минуты у него остыла способность увлекаться чем бы то ни было, что прямо не относилось к его призванию. Он уже не давал себе воли ни в чем. По-видимому он сохранил свою прежнюю веселость и общительность, но память о жене и мысль о смерти не покидали его. Сколько раз я замечал по выражению его лица, как мысль эта перебивала веселую струю его добродушного смеха. Жизнь его раздвоилась. Днем он работал, читал, говорил,
—568—
занимался своими делами, отдавался каждому, кому до него было дело. Но когда наступала ночь и вокруг него все улегалось и умолкало, начиналась для него другая пора. Тут подымались воспоминания о прежних светлых и счастливых годах его жизни, воскресал перед ним образ его покойной жены, и только в эти минуты полного уединения давал он волю сдержанной тоске.
Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимой веселостью, мы улеглись, погасили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным, добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь...»1254.
3.
К приведенному выше рассказу Ю. Ф. Самарина П.И. Бартенев прибавляет следующее: «В генерал-губернаторство графа Закревского велено было дворникам поочередно ходить в пересыльное помещение преступников, ссылаемых в Сибирь, в подмогу сторожившим их. Дворник Хомякова, возвратившись домой, рассказывал, что двое ссыльных вспоминали при нем о своих подвигах и говорили, что они были задержаны под Тулой, намереваясь ограбить господскую усадьбу. С наступлением ночи они засели в кустах и дожидались, чтобы в барском доме потухли огни. Долго ждали они, но в одной комнате все
—569—
горела свеча: они подошли ближе и в окно увидели, что кто-то на коленях молится, и молился он до рассвета, пока их схватили проснувшиеся люди. Дворник спросил, в какой усадьбе они попались, и узнал, что это было в Богучарове у А. С. Хомякова. Барин наш спасся молитвой от ограбления, говорила Хомяковская дворня»1255.
4.
К этим важным свидетельствам о внутренней жизни Хомякова следует присоединить письмо И. С. Аксакова к графине А. Д. Блудовой, писанное под впечатлением смерти Хомякова. В этом письме с большой выпуклостью выступает и благоговение пред Хомяковым всего кружка славянофилов и подозрительное отношение к нему со стороны правительства. Письмо это – из Вены и датировано понедельником 31 октября (12 ноября по н. ст.) 1860-го года. Вот, в каких словах выражает свою скорбь И. С. Аксаков: «Нам с Вами, Графиня, нечего говорить друг другу о громадности нашей потери, ни о великости беды, разразившейся над нами, над всей Россией. – Никогда не становясь в позицию главы партии или учителя. Хомяков, конечно, был не только нашим вождем и учителем, но и постоянным неисчерпаемым источником живой силы духовной, мыслей жизненных, плодотворных, так сказать, зиждущих. – Мудрец с младенческой простотой души, аскет, постоянно озаренный святым веселием души, поэт, философ, пророк, учитель церкви, Хомяков, как и в порядке вещей, был оценен при жизни очень немногими, но значение его будет расти с каждым годом. Его слово еще звучит, несется чрез современные поколения к поколениям грядущим.
Не знаю, как в России, но здесь это известие глубоко огорчило всех мыслящих, образованных Славян. Нас это известие, застало в Вене, недели две скрывал я это от брата, пока не подготовил его постепенно. Поэтому только вчера могли мы отслужить в нашей церкви публичную панихиду по Хомякове. Мы напечатали в здешнем
—570—
Fremdenblatt объявление, которое я Вам посылаю и которое перед тем за неделю в Воскресенье было прибито к церковным дверям. Других не было приглашений. Церковь в назначенный день, именно вчера, наполнилась представителями всех Славянских племен, не только православных, но и католических и униатских. После литургии Мих. Феодор. Раевский, с искренним чувством, со всевозможной торжественностью, отслужил панихиду. К сожалению, он не успел написать прекрасно задуманную им проповедь на текст: «не бойся, малое стадо», потому никакого слова произнесено не было. – Тут были и Галичане, знающие все наизусть стихи Хомякова к Киеву; и Чехи, помнящие его послание к Ганке, другие Славяне, также не забытые и названные в стихах Хомякова. Не было только, знаете ли, кого? Русских! Мы, конечно, тут были с братом, но, как Русские литераторы. Славяне же здесь привыкли связывать идею о России с ее официальным представительством и потому были поражены, огорчены, смущены, скандализованы тем, что ни одного чиновника не было в церкви! А между ними есть православные, бывающие в церкви, и к тому же было Воскресенье! Дело было не случайно. Управляющий посольством Кнорринг находил неприличным служить по Хомякове панихиду в Посольской церкви и запретил своим чиновникам быть на панихиде. Но это его дипломатическое поведение получило характер резкой демонстрации, характер протеста, произведшего сильное впечатление на Славян. – Что было нам отвечать на их вопросы? Мы были поставлены в очень неловкое положение, Славяне видели, что правительственная Россия не только не уважает Русских поэтов, но даже явно публично оказывает им полное презрение. Но этого мало. Они подумали, что это презрение относится именно к тому поэту и писателю, который был проповедником идеи Славянства; следовательно, объясняли они, это презрение распространяется на самое идею и на всех Славян! Нет, говорят они, когда дело дойдет до публичности, то Россия всегда постыдится нас пред лицом света! Разумеется, мы старались всячески поправить дело, сваливая вину на болезни и на недоразумения, но, в сущности, Славяне правы!
—571—
Я знаю, (но это между нами) Кнорринг призывал потом к себе священника и делал ему официальный выговор при всех членах посольства. Не грустно ли это? И чего они боятся! Демонстрации! – Но даже проповеди не было произнесено, но присутствовавшие, отслушав панихиду благочестиво, тотчас же разошлись, но демонстрация была устроена Русским посольством...»1256.
5.
В Кнорринге ли дело? На это дает ответ другой исследователь: «Люди, близкие к царю и имевшие вес, даже влияние, пугали несбыточными страхами, старались уронить в глазах государя и всей администрации благонамеренные стремления славянофильской партии и всячески старались остановить начавшиеся в пользу народа движение. Самый крупный из представителей такого направления является Строганов, и вот, напр., что он пишет брату своему, гр. Ал. Гр. Строганову в Одессу: «Славянофилы превозносят зарю новой жизни для России и смотрят на основание общины как на первый шаг отступления от петровских реформ. Хомяков говорил на днях, что после этого первого шага, второй должен быть отпуск бороды и кафтан, чтобы народ узнал, что правительство ищет свое спасение в его начале. Ты видишь, что это православный социализм! При этом корифеи утверждают, что если дворянство в продолжение стольких лет не успело упрочить себя как независимое сословие, то сим доказало свое ничтожество и не заслуживает быть поддержано. Движение умов вообще замечательное, и я опасаюсь, что, расшевелив неосторожно одно учреждение, не раскачали бы все здание... Мне кажется, что рано или поздно, но придется взяться за это (sic!) средство, как это делают с избалованными детьми»1257.
6.
В анонимных стихах на Хомякова, ходивших в его
—572—
время, характерно выражается недоброжелательное, даже злобное, настроение против Хомякова, которое питалось даже тем, чем, при добросовестности, возбуждаться ему не было никаких оснований. Проф. Завитневич приводит первые стихи одного из таких пасквилей, но в совершенно противоположном истинному их значению смысле, как если бы многосторонность Хомякова в них одобрялась. Вот эти стихи полностью, во многом и ныне современные, даже сугубо:
А. С. Хомякову.
Поэт, механик и феолог,
Врач, живописец и филолог,
Общины Русской публицист –
Ты мудр, как змий, как голубь чист.
В себе одном все эти знанья
Ты съединил и упованья
Прогресса на Руси предрек:
Вот, говоришь, златой вам век!
И дружно мы с тобой жили
И за успех усердно пили.
Нас многих словом ты увлек;
Но цвет надежд твоих поблек.
Не обратил ты Альбиона!
Увы, ревнитель Аарона,
Не миро с твоея брады
Сошло на русские зады.
Они не стали передами.
Славянские народцы сами
Отбрасывают те мечты,
Какими их баюкал ты.
Итак, мой змий, итак мой голубь,
И нам не побросать ли в пролубь
Весь этот сор, весь этот хлам.
Что восхищал Московских Дам?
Рубаха, мурмолка, поддевка
Не удались: нам в них неловко.
Что-ж, голубь мой? Как быть, мой змей?
Пиджак наденем поскорей.
А, чтоб прогнать мирскую скуку.
Мы новую откинем штуку:
Овечек стадо, твой народ.
Опять тебе разинет рот1258.
—573—
7.
Другое стихотворение в этом же роде:
И тот великий муж, о друг мой Хомяков,
Что против Англии замыслил хитрый ков.
Кто в ней хотел прервать связь алтаря и трона.
Ревнитель древнего восточного закона
Всесокрушающий и он в борьбе сей пал
И лучший свежий лист венца его увял1259.
Добавим еще, что по свидетельству Д. X., приведенное выше стихотворение, а следовательно – и это, принадлежит перу Дмитрия Николаевича Свербеева1260, западнику умеренно-либерального направления.
8.
Не только умеренные либералы, но и революционеры, современники Хомякова, не сумели увидеть в Хомякове ничего хорошего. 26 марта 1849 года петрашевец А. Н. Плещеев, посетив Москву, написал письмо С. Ф. Дурову с изложением своих московских наблюдений. Вот кое-что оттуда, относящееся к славянофилам: «Перехожу к умным людям. Их здесь много. Все они, как выразился кто-то, лежат за общее дело. Впрочем есть и такие, которые делают»...1261. Относительно этого места Плещеев дал на вопрос следственной комиссии такое объяснение: «Здесь я употребил слово «умные люди», говоря о славянофилах, так называемых и пользующихся в Москве этой репутацией... «Лежат за общее дело – я разумел в том отношении, что все славянофилы имеют там свою теорию, состоящую в каком-то стремлении сблизиться
—574—
с народом, от которого мы будто бы слишком отдалились нравами и одеждой. Эту-то теорию они считают общим делом своим; известно, что некоторые даже ходят в русских народных костюмах с бородой. «Лежат за общее дело» – было сказано об них в насмешку, ибо они, кроме весьма ограниченного кружка, не имеют последователей». «Большая часть людей, пользующихся в Москве репутацией умных, проводят жизнь в спорах, ни к чему не ведущих»1262. «Об московском обществе, – продолжает свое письмо Плещеев, – можно заметить, что здесь гораздо больше начитанных и правильно смотрящих на вещи, чем в Петербурге. Славянофильство имеет весьма ограниченный круг прозелитов. Их светила: 1) Хомяков, которому подобного по дару болтать не сыщется на всей Руси. Человек без серьезных убеждений, как говорят, но очень образованный, очень умный, умеющий заставить себя слушать. Тип энциклопедиста. 2) Аксаков (К. С.) – фанатик»... и т. д.1263.
9.
О заграничной оценке Хомякова мы нашли два свидетельства. Первое из них, относящееся к 1855 году, дает протоиерей И. И. Базаров: «Великая княгиня (Ольга Николаевна, в Штутгарте) возвратилась уже в июне из Петербурга1264 и опять началась наша обычная жизнь в Штутгарте. В это время, по желанию ее Величества, я перевел на немецкий язык брошюру Хомякова, появившуюся на французском языке под заглавием: «Quelques mots d’un сhrétien orthodoxe aux confessions occidentales». Перевод мой намеренно был издан во Франкфурте, чтобы не подать виду немцам, что будущая королева Виртембергская вмешивается в спор церковный между восточными и западными церквами. Написанная очень смело и умно, брошюра Хомякова обратила на себя внимание немецких богословов и вызвала, по крайней мере со стороны протестантов.
—575—
отзывы, в которых слышалось сознание правды, высказанное им в глаза православным не богословом»1265 (1855 г.).
10.
Но в 1874 году немцы отнеслись к Хомякову гораздо менее благосклонно. «Русские певцы и пророки, – читаем мы в одном из журналов того времени, – находились в предвидении странных событий; не говоря уже о сатирических стихотворениях, в которых с большим или меньшим остроумием преследовались ожидаемые неприятели – англичане и французы – из общей среды в особенности выделялся поэт Хомяков, признаваемый и чествуемый сторонниками своими, как гений, при весьма ограниченных положительных знаниях, молодой писатель этот обладал необыкновенно пылкой фантазией, представлявшей также его воображению в прошедшем совершенно призрачную историю России; из стихотворений его одно в особенности известное под названием «Видение», замечательно по странному содержанию своему. Поэт видит среди утренней зари в тумане гору, увенчанную чертогами и церквами; на нее поднимается крестный ход; шествие составляет духовенство в облачениях, установленных греческой церковью, с бородами, согласно требованиям ее закона; за ними следует верующая толпа; повсюду в этом шествии виднеется греческий крест; духовенство и толпа Поют псалмы на славянском языке; поэт видит и чувствует, что он в России, но гору он признает за Гридшен в Праге; он (? П. Ф.) возвышается среди России и вся прекрасная страна, которую он оттуда объемлет взором, это Россия, исповедующая православную религию и подчиненная православному царю. Подобные стихотворения переходили из рук в руки и возбуждали всюду восторг»1266.
—576—
11.
Не лишены интереса некоторые сообщения Н. А. Мельгунова. Славянофилы (Хомяков и Шевырев) считали его «односторонним западником»; он «на посылках у Фрягов», писал о нем Шевырев к Погодину1267. Сам же Мельгунов не признавал себя таковым, и вот как, в двух письмах к Шевыреву. определяет он свое положение: «Вы в моей системе находите место, а я в вашей не нахожу, я изгнанник. Вы же для меня алхимики, ищущие золота в русской истории. Золота вы не найдете, но набредете на много (sic!) хорошего и дельного, и, главное, пробудите в русских жажду самопознания. Вот ваша неотъемлемая (sic!) заслуга. И потому мир вам! Подай руку, и пусть каждый трудится по силам на славу человечества»1268. А вот несколько сведений у Мельгунова и прямо о Хомякове: «– Хомяков только что приехал из деревни. Лето он провел на Кавказе. До Рождества он намерен жить затворником: на душе у него новая трагедия. Первое действие уже написано; но он его еще не показывает. Чудный малой; жаль, что софист такой, что мочи нет. Но это софизмы не философа, а поэта, и я ему прощаю. Однако желал бы видеть его вместе с Баратынским. Они никогда друг с другом не говорили: я уверен, что если они свидятся и поспорят, то хоть сколько-нибудь вылечатся от страсти оригинальничать, наперекор истине и убеждению. Ничто так не исправляет, как собственный недостаток в чужом – это славное зеркало»1269...
В другом письме он сообщает: «Мы, Москвичи, по обыкновению ничего не делаем. Павлов до сих пор не может кончить своей повести. Хомяков затеял труд весьма серьезный и обширный, говорит, что начнет в деревне; увидим. Только сомневаюсь»1270. «Через два месяца
—577—
1 января 1889 года Мельгунов рассказывает Шевыреву, как общие московские приятели встречали у него жженкой и шампанским новый год. Был и Хомяков, только что приехавший, но ничего не написавший; «толкует о хозяйстве, в котором ничего не смыслит»1271. 15 мая 1847 года: «Сегодня утром выехал Хомяков с женой в Петербург, где намерен взять паспорт в чужие края. Вчера вечером мы провожали его и теперь думаем, что он уже на пути в Северный Вавилон. Ты найдешь в нем перемены, в наружности же его ту, что он с виду сбивается на поверенного винными откупами»1272.
12.
Гр. П. А. Валуев, в своем Дневнике, от 27 января 1859 года, замечает: «Стихи Хомякова: Благочестивому меценату»,
«В час полночный близь потока»,
в альманахе «Утро», говорят, обращено к государю»1273.
13.
В письме к Гоголю от 14 мая 1844 года, из Москвы. А. О. Смирнова замечает: «Хомяков так умен, что о душе его ничего нельзя сказать: можно, однако уверительно сказать, что его сердце доброе»1274.
14.
Приведем еще два свидетельства о Хомякове, как поэте, со стороны такого видного поэта, как Г. А. Боратынский, из его писем к И. В. Киреевскому: «О трагедии Хомякова (речь идет о «Дмитрии Самозванце»), – читаем мы в письме от начала 1832 года, – ты мне писал только
—578—
то, что она кончена. Поговори Мне о ней подробнее. Мне пишет из Петербурга брат, которому Хомяков ее читал, что она далеко превосходит «Бориса» Пушкина, но не говорит ничего такого, почему можно бы составить о ней понятие. Надеюсь в этом на тебя»1275. – 30 мая 1832 года Боратынский снова волнуется по поводу того же произведения: «Не могу вообразить, что такое трагедия Хомякова. Дмитрий Самозванец лицо отменно историческое; воображение наше по неволе дает ему физиономию, сообразную с сказаниями летописцев. Идеализировать его – верх искусства. Байронов Сарданапал – лицо туманное, которому поэт мог дать такое выражение, какое ему было угодно. Некому сказать: не похож. Но Дмитрия мы все как будто видели, и судим поэта как портретного живописца. Род, избранный Хомяковым, отменно увлекателен: он представляет широкую раму для поэзии. Но мне кажется, что Ермаку он приходится лучше, нежели Дмитрию. Скоро ли он напечатает свою трагедию? Мне не терпится ее прочесть, тем более что ее издание противоречит всем моим понятиям, и я надеюсь в ней почерпнуть совершенно новые поэтические впечатления»1276. Оба письма из глуши – из казанской деревни Боратынского.
15.
Недостаток сведений о Хомякове в его молодости побуждает к особенно высокой оценке всякой строчки из воспоминаний о нем его современников. Такие строчки оставлены, между прочим, Д. Н. Свербеевым. Вот некоторые места из его Записок1277.
14-е декабря 1826 г. вызвало многочисленные толки. Свербеев был в это время в Париже и был вынужден слушать либеральные разговоры, противоречившие его тогдашним политическим воззрениям. «Но, – замечает он, – доходившие до меня рассказы о России от жившего со мной в одном отеле генерала Шатилова, консерватора
—579—
Голохвастова и, юного, менее сдержанного, чем первые, Хомякова, несмотря на всю осторожность наших ежедневных толков, несколько колебали твердость моих убеждений»1278. Рассказывая о своем парижском времяпровождении, он делает еще значительный штрих в облике Хомякова: «По утрам охотно болтался, – говорит о себе Свербеев, – с многоглаголивым Хомяковым, своеобразным юношей, который и тогда уже, сам того не подозревая, пророчил России в себе гениального человека. В это время читал с ним отрывки из второй своей, забытой всеми трагедии «Димитрий Самозванец». Его первая трагедия называлась «Ермак». Обе были слишком растянуты, но в обеих было много мысли и поэзии. В то же время брал он уроки живописи масляными красками и рисовал с моделей, нередко с натурщиц, что очень изумляло меня, знавшего девственную чистоту его нравов, а ему тогда едва ли было и 20 лет от роду. Впрочем, ничем необоримая сила его характера выражалась и строгим соблюдением отеческих и православных преданий. Приехав в Париж в начале нашего Великого поста, я, как очевидец, свидетельствую перед будущими его биографами, как строго этот двадцатилетний юноша соблюдал в шумном Париже наш пост, во все продолжение которого он решительно ничего не ел ни молочного, ни даже рыбного, а жившие с ним Шатилов и Голохвастов сказывали, что он не разрешал себе скоромного в обычное время и по средам и пятницам. Но любовь к славянству и страстная к России тогда на него еще не находила»1279.
26-го декабря 1846 г. умер поэт Языков, за несколько часов до смерти заказавший себе похоронный обед и потребовавший, чтобы на нем было много вина. Началась безобразная похоронная оргия. Но Хомяков, по замечанию Свербеева, лишь «скромно при том присутствовал»1280.
Наконец, следует упомянуть о любопытных, хотя и крайне странных, суждениях высказываемых о славянофильстве
—580—
Свербеевым в «Воспоминаниях о П. Я. Чаадаева»1281.
16.
Кое что, касающееся Хомякова, находим и в «Дневнике» А. В. Никитенко.
В 1832 г., 3-го апреля А. В. Никитенко записывает: «Читал Хомякова трагедию «Димитрий Самозванец». Нет, Хомяков решительно не имеет драматического таланта. Ни один характер не создан, как должно, действия нет; одни разговоры, которые можно бы на половину сократить, без всякого ущерба для целости пьесы. Стихи очень хороши. Но драма требует не слов, а дела»1282.
24 февраля 1852 г. он опять упоминает имя Хомякова, в связи со смертью Гоголя. Любопытная подробность: толчком к предсмертной болезни Гоголя и сожжению бумаг его послужила смерть жены Хомякова, очень встревожившая Гоголя1283.
28-го марта 1852 г. Никитенко записывает: «В Москве опять переполох. Там издан сборник [«Московский сборник», выпущенный в свет 21 апреля] Хомяковым, Киреевым [И. П. Киреевским] и Аксаковым [Ив. и К. Сергеевичами Аксаковыми], в котором, говорят, напечатаны очень сильные вещи – Стихи Хомякова еще сильнее [«Мы род избранный, говорили Сиона дети в старину...»] сильнее – чем статья Ив. Аксакова о Гоголе, о сборнике уже много толкуют в публике. Тучи собираются: быть грозе. А кто виноват?»1284.
20-го января 1856 г.: «Познакомился на вечере у министра [А. С. Норова] с одним из коноводов московских славянофилов, Хомяковым. Он явился в зало министра в армяке без галстука, в красной рубашке с косым воротником и с шапкой-мурмулкой под мышкой. Говорил неумолчно и большей частью по-французски – как и следует представителю русской народности. Встреча его со мной
—581—
была несколько натянута, ибо он, не без основания, подозревает во мне западника. Но я поспешил бросить себе и ему под ноги доску, на которой мы могли легко сойтись. Он приехал сюда хлопотать о разрешении ему издавать славянофильский журнал, и я обратился прямо к этому предмету, сказав, что ничего не может быть желательнее, как чтобы каждый имел возможность высказывать свои убеждения. Это тотчас развязало нам языки, и мы пустились рассуждать, не опасаясь где-нибудь столкнуться лбами. Он умен, но, кажется, не без того, что называется «себе на уме»1285.
31-го января 1861 г. Никитенко записывает об обеде у гр. Блудова: «Графиня восхищалась стихами Хомякова, а [П. B] Анненков не находил в них ничего хорошего»1286.
Священник Павел Флоренский.
Голованенко С. А. Памяти Г. Р. Державина († 8/VII–1816 г.) // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 7/8. С. 582–586 (1‑я пагин.).
Поэзия Гавриила Романовича Державина какая-то яркосветная: восходит ли творчество поэта к пределам религиозным, или нисходит к житейской суете – на всех путях излучения. Бог – свет и жизнь – «слиянный в узел блеск денниц»: все существующее «пьёт свет с очес Бога». Солнце, краса природы, – символ «священной истины», «блаженства», «нетленной доблести». «Дивлюсь... едва ли ты не Бог!» Поэт воспевает полносветные моменты дней и времён года, и тут – рубинные ковры, коральные терема, рдяные кристаллы, искромётные ткани, злачно-зелёные моря, вихрепламенные змеи, яхонты, злато, багрец, жёлтые-синие глянцы и все это «гнёзда солнечных пучин»! Вот переливаются облака в лучезнойной тяготе! Вот разноцветная ткань – радуга: «с зеленью тень слиял с серебром чудный отливный блещущий глянец». В сверкающих кудрях лесов «течёт золото», в искромётной воде блещут рыбы сребристые и вода в «броне златорядной», в огне сафирном, пурпурном... «Алмазна сыплется гора... жемчугу бездна и сребра»... Поэта привлекают яркоцветные птицы, «а тёмно-зелены в искрах перья с рассыпною бахромой», лазурно-сизо-бирюзовы круги. «Где ступит – радуги играют, где станет, там лучи вокруг». Синички, ласточки, чечётки замечаются в особые моменты, когда и они – скромные – влекут к свету: ласточке в высоте видна изумрудно-зелёная земля с золотыми нивами... При описании человека Державин обращает внимание на цвет и блеск глаз, на всё световое и цветное вплоть до «жилок голубых с
—583—
розоватой кровью». Огнь, солнце, лучистая звёздочка, душа человека и всё лучшее в нём – светозарно. Истина, добродетель, краса – «три лучный свет»; правда, мужество, храбрость – яркие излучения, являющиеся в видениях: это не рассудочные понятия, а идеи. Ярко-зелёный травной ковёр; тёмнолиственные клёны. «На тёмно-голубом эфире златая плавала луна в серебряной своей порфире, блистаючи с высот» – такова обстановка видений... Является жена «солнечной красы», с очей блестяще отливается эфира чистого лазурна даль, или очи «сафиросветлые»; на ланитах – заря. «Как снег тонища бела обвивает ея орехокурчаты власы». Одежда – серебряной волной; пояс – злат, виссон черноогненный подобен радуге. Это – вершины духа. Но световидны и будничные полосы жизни: младенчество – капля блестящей росы; юность – ручей, перлом блестящий на лугу; мужество – река в полдень; старость – стеклянное озеро. Огнём неугасимым светится любовь и дружба и ярко-пестры все, самые чувственные, слишком человеческие, утехи – наслаждения. Вот обед... «Багряна ветчина, зелёны щи с желтком, румяно-жёлт пирог; сыр белый, раки красны; что смоль янтарь – икра и с голубым пером там щука пёстрая – прекрасны». Кубок сафирный, перлами блестящий; пунш в искрах; вина – красно-розовы, чёрно-тинтово, злато-кипрское... Таким образом и нечувственное, и чувственное, и вершины и низины человеческой жизни световидны, разноцветны, и поэзия Державина, по преимуществу, поэзия света. Правда, сам поэт называет свою лиру тихострунной, но его лира, строго говоря, не лира: Державин – художник, стихия которого свет и краски; его лира не тихо и не громко-струнная: Державин – поэт блеска, а не треска. «Державин – поэт блеска» – эта дальнейшая кристаллизация нашего тезиса почти очевидная и раньше – может быть проверена на анализе религиозно-патриотических излучений поэзии Державина.
Бог – трилучный свет, но в поэзии Державина Бог – свет яркий, сверкающий, свет ветхозаветный, а не «свете тихий», евангельский. Хотя Бог «дивен и велик нам воплощеньем Слова», само Слово описывается Державиным чертами грозного правосудного Отца и самое поразительное –яркое во Христе соединение двух естеств, соединение,
—584—
напоминающее, по существу, богочеловеческие отношения по типу «я – червь, я – Бог». Внутренне близки Державину величественные стороны поэзии Псалтири. Бог – огонь поедающий – громом и молнией испепеляет он гордость – мнимое величие человека. Бог – царь Славы: слава человеческая, и громкая и тихая, пред ним ничто. Бог – красота красот незримых; все земное – тлен, тина. Человек – ничто, но он существует. «Я есмь, конечно, есть и Ты». «Ты есть и я уже не ничто». «Я царь, я раб, я червь, я Бог». Такая последовательность мыслей о человеке, где начало – «я есмь» и конец «я – Бог», в связи с ветхозаветным представлением о богочеловеческих отношениях, приводит к раздвоению личности; и жизнь становится сверкающими сменами противоположного (я червь, я Бог). Ничтожество – человек, сыновне не приобщенный к божественному – заёмному – свету, мечется: иногда «сверкнёт» мечта: «и сладка мысль и дерзновенна желать с Творцом слиянну быть»; а чаще во тьме самоутверждения – всюду яростно грозится смерть. Временно сильный заёмным светом, человек тянется ко всему блестящему, сверкающему, потому что для ока человеческого свет божественный блещет, сверкает; отливается; человек сменами, антитезами пытается создать искусственный блеск, лишь бы не быть во тьме. От естественного утомления блеском кружений рождается желание ровного – умеренного света, которое подводит поэта к надежде: «сияй надежда, луч лия». «Буду риз ея держаться до объятия любви». Но кроткие лучи надежды, трепетно-неровные, не похожи на «лучезарно-блестящую искру солнца», и надежда, случайная пристань в поэзии Державина, переходит в покорность року (я – раб) или в самонадеянность (я – царь): кроткая надежда – «ожерелье красоты» становится «дщерью самолюбия», или «ветвью веры». Как бы то ни было, характер встреч и пересечений света чистого и заёмного, сверкающие колебания по типу «я червь, я Бог», неприятие надежды подтверждают тезис: поэзия Державина – поэзия блеска. Знаменательно, что Державин, восторгавшийся Псалтирью, почти не касался тихих проблесков в ней сыновнего сознанья, как бы предчувствуя, что сыновство в пределе расходится с блеском богочеловеческих внешних отношений. Но как
—585—
понять неоднократные признания поэта о своем «чистосердечье» («Я любил чистосердечье». «В сердечной простоте беседовать о Боге» и др.)? «Блеск», в силу своего происхождения, может иметь двоякую значимость, может быть действительным и мнимым. В сфере религиозной Державину чуждо было искусственное сгущение туманных переживаний, чужд был дурной психологизм, культивированный, главным образом, сентиментальным романтизмом. «Если я блистал восторгом, с струн моих огонь летел; не собой блистал я – Богом, вне себя я Бога пел». В этом антипсихологистическом устремлении – «чистосердечье» поэзии Державина. За сферой чисто-религиозной чаще и чаще встречается блеск искусственный – в чём признаётся сам поэт: «Если ж я и суетою сам был обольщён... признаюся.,. красотою, быв пленённым пел и жён... Падал я, вставал в мой век. Брось, мудрец, на гроб мой камень, если ты не человек». Сквозь блеск искусственный можно разглядеть проблеск естественный, чистый. И признания Державина, окрашивая по иному приписываемый поэту чувственный эпикуреизм, напоминают слова другого поэта: «Не тебе песнь любви я пою, а твоей красоте ненаглядной». Проблески чистые особенно приметны в патриотических гимнах, давно заподозренных в нечистосердечьи. В исторических образах воплощается идея царства Божия и идеального царя в духе ветхозаветных патриотических псалмов, имеющих помимо конкретно исторического, и символическое значение. Вполне естественно, что поэт блеска стал поэтом блестящего века... но не Екатерины II, а Фелицы-Екатерины: то, что часто принималось за лесть, было плодом «чистосердечья», провидением идеального царства. «Если звуки посвящались лиры моея царям: добродетельми казались мне они равны богам». Так и в мглистом тумане суеты виднеется блеск иного.
Нельзя ли в личной жизни поэта Державина найти объяснение свойствам его поэзии? Зимою, при взгляде на комету, малютка-Державин впервые произнес слово «Бог». Ода «Бог» задумана в Светлую пасхальную ночь и закон-
—586—
чена после виденья чрезвычайного света, блиставшего в глазах и летавшего вокруг стен. Умершая жена явилась поэту в белом облаке... Державин часто и любовно называл себя внуком татарского мурзы Багрима. Не вспыхивал ли восточный свет предков в душе внука посредственно, по каким-то запутанным тропам наследственности? Любовь поэта к свету, блеску, блестящему, в связи с восточными – идейными мотивами, не осмысливается ли словами: «с Востока – свет»?
С. Голованенко.
[Иларион (Троицкий), архим.] Из академической жизни. Пострижение в монашество студента Московской Духовной Академии Гладкова и речь новому иноку Панкратию // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 7/8. С. 587–590 (1-я пагин.).
—587—
7-го июля в академическом храме за всенощным бдением пострижен в монашество студент 3-го курса Академии Василий Васильевич Гладков. По первоначальному своему образованию Гладков – реалист: он окончил курс реального училища в г. Арзамасе, после чего выдержал гимназический экзамен на аттестат зрелости. Но ни в реальном, ни в гуманитарном знании юноша не находил себе удовлетворения; его влекла к себе наука богословская, духовная, и он поступил на два года в нижегородскую духовную семинарию, в которой получил звание студента семинарии, а в 1914 году – в Академию.
Пострижение совершал инспектор Академии архимандрит Иларион. Новый инок наречен Панкратием. По окончании всенощного бдения архим. Иларион вручил нового инока для духовного руководства доценту Академии иеромонаху Варфоломею и приветствовал его следующей речью.
Речь архимандрита Илариона
Возлюбленный о Господе брат, инок Панкратий!
От всей души приветствую тебя со вступлением в лик инокующих. Твое давнишнее желание ныне исполнилось. Радуйся! И паки реку: радуйся! Окружающий тебя сейчас лик иноческий, конечно, не смутится от моего приветствия. Церковное песнопение в чине пострижения уверяет нас, что ныне тайное и у горних совершается веселие. Радуемся
—588—
и мы, земнородные. И не потому только, что растроганы сейчас мы умилительнейшим священнодействием пострижения. Нет, каждый из монахов по собственному опыту знает, что не напрасно он при пострижении облекся во одежду веселия и радости духовные, во отложение и попрание всех печалей и смущений от бесов, от плоти и от мира находящих.
Людям, далеким от жизни монашеской и совсем этой жизни не понимающим, монашество кажется чем-то мрачным и ужасным, каким-то ненужным самоубийством, преждевременным погребением. Такие люди, – если бы они только были здесь, – с недоумением покивая главою, подумали бы, услыхав мое тебе приветствие: «человек отрекся от мира со всеми его радостями, облекли его в черные одежды и говорят ему о какой-то радости!»
Да, брат, мир Божий полон красоты и радости. Как много говорят своим величественным безмолвием яркие звезды в темную ночь! Смотри, как прекрасны горы и моря! Как солнце землю ласкает лобзаньями своих светлых и теплых лучей! Как земля убирается навстречу этой солнечной ласке великолепием благоухающих цветов! Славный царь Соломон не мог создать себе таких роскошных одежд, какие без труда и забот имеет каждый цветок полевой.
Но разве от этого прекрасного Божьего мира, проповедующего о славе своего Творца, я предлагал тебе отречься? Ни Христос, ни христианство, ни Церковь, ни монашество прекрасного Божьего мира не хулили, не отвергали, не почитали за зло. Смотри, – самые храмы для наших богослужебных собраний мы украшаем священными изображениями, в них мы воскуряем благовонный фимиам, иногда приходим сюда с цветами. Давно замечено, что обители иноческие стоят в красивейших местностях и даже славятся своим местоположением.
Да и как мог бы человек отречься от мира, как творения Божия? Как можно уйти от мира, если мы живем на земле? Для этого нужно было бы лечь во гроб, прикрыться крышкой и попросить закопать себя в могилу.
Наши духоносные наставники, преподобные подвижники, когда говорят об отречении от мира, – не этот
—589—
прекрасный Божий мир разумеют. Миром они называют страсти. «Когда вообще хотим наименовать страсти, называем их миром» (Исаак Сир. Слово 2-е).
Ты отрекся от страстей. Что же? Лишил ли тем себя Ты радости? Но что такое страсть? Радость она или печаль? Счастье или бедствие? Страсть есть именно страсть, страдание мира. Страсть это – ржавчина, разъедающая разумную тварь. Страстное отношение к миру совсем теряет мир как прекрасное Божие творение. Ведь кто не знает, что люди, преданные страстям, часто совсем не видят и не замечают красоты Божьего мира? Прекрасный Божий мир несравненно больше любят подвижники, отрекшиеся от мира страстей. А служитель страсти лишь оскорбляет Божие творение. Мир, полный красоты и радости, полон для него греха и соблазна.
После грехопадения мир стал ареной борьбы. Добро в нем борется со злом. Светлые ангелы воюют с мрачными демонами. Даже неразумная тварь, видя эту борьбу и временную победу суеты, болезненно воздыхает. А тварь разумная стоит в самой средине сражающихся. Вокруг человека и из-за человека идет особенно упорная борьба между добром и злом.
Нельзя жить и спасаться, нельзя быть христианином, не подвизаясь в этой борьбе. Отречение от мира страстей и борьба со грехом это – необходимое условие всякой вообще христианской жизни. Где нет отречения от мира, где дана полная власть и свобода страстям, там нет жизни христианской. Монахи от всех христиан может быть только тем и отличаются, что они громко и открыто исповедуют немощь своего естества. Монахи как бы так говорят: «да, мы слабы и грешны, нам трудно бороться против греха и страстей, но мы знаем, что без победы над этими врагами нет жизни, нет спасения, нет мира и радости; потому-то мы и связываем себя обетами, как бы воинской клятвой, ограждаем себя высокими монастырскими стенами». Это откровенное исповедание ставит монахов в первых рядах воинства Христова, ополчающегося против демонского мира страстей.
Тебя, возлюбленный брат, не взял в свое воинство царь земной, но тебя принял ныне в свое воинство Царь
—590—
Небесный, который чрез мое недостоинство облек тебя во все оружия, «во еже мощи тебе победити всю силу и брани начал и властей и миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных». Не думай, что ты уже сразу вознесся над миром. Оружия не раздают воинам, когда не предвидится брани. Потому-то и вручены тебе оружия, что тебе, как и всякому христианину, предстоит невидимая брань с врагами нашего спасения. Ты стал монахом, но ты остался человеком, человеком со всеми его немощами и недостатками. Как и все, монах подвержен искушению страстей. О, если бы достаточно было только отречься от мира, чтобы грехи и страсти оставили монаха в покое! Но нет, не таков закон духовной жизни. Свобода от страстей далеко и к ней нужно идти тяжелым путем постоянного бодрствования над собой, путем неустанной борьбы с греховными помыслами и намерениями, путем очищения сердца своего от греховных и страстных навыков. На этом пути, ведущем к вожделенной свободе от страстей, ты уже стоял, как носящий имя Христово от рождения. Ныне ты лишь укрепляешься на этом пути, чтобы идти по нему неуклонно. И совершенное над тобой священнодействие, и произнесенные тобой обеты, и даже самые эти одежды иноческие – все это будет, несомненно, тебе помогать, как тысячам монахов помогало и до тебя.
Итак, иди теперь бодрее и смелее по пути, ведущему к свободе от страстей. Но если страсть есть страдание мира, если она – ржавчина мира, то не ясно ли, что путь борьбы со страстями есть путь очищения мира, освобождения его от рабства суете? Не ясно ли, что путь христианина и особенно монаха есть путь, ведущий к радости? Кто пошел по этому пути, тот пошел к радости. Скорби неизбежны и на этом пути, но они подъемлются здесь ради будущего утешения. Потому и приветствовал я тебя словом: радуйся! Борись со грехом и страстями и достигай радости вечной! Когда на том пути, на котором ты ныне укрепляешься, ты достаточно пострадаешь в борьбе со страстями, тогда радуйся, по слову Господню, потому что награда твоя многа есть на небесех!
Журналы собраний Совета Императорской Московской Духовной Академии за 1915 год // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 7/8. С. 321–384 (2-я пагин.).
—321—
рить отдельно об апостолах и отдельно – о Христе, то для более ясного определения сущности Христова учения о богатстве и бедности последнее необходимо оттенить и церковным пониманием; поэтому, сообразно авторскому плану, это не дополнение, а естественное дальнейшее раскрытие его первоначального замысла. Однако, если уж автору не удались его характеристики апостолов, благодаря его нелюбви к первоисточникам, то можно быть заранее уверенным, что он не заглянет в подлинные творения церковных писателей. Об евангелиях он, впрочем, все-таки кое-что слышал, здесь же он оказывается в совершенной пустыне. Правда, ему на помощь приходит Зейпель, недавно появившийся в русском переводе, на которого автор и ссылается, но мы совершенно не уверены, что даже его автор просмотрел внимательно. Во всяком случае у него дело не пошло дальше простого перечисления нескольких имен отцов и учителей церкви, которые, якобы особенно много занимались вопросом о богатстве и бедности; но по сравнению с автором настоящей работы этим вопросом занимались много едва ли не все они, поэтому выделять из них некоторых ему не следовало бы. Здесь же, на 71-й странице кончается, наконец, и все сочинение и в кратком заключении подводятся итоги: „Евангелисты (по данному вопросу) дополняют друг друга... Христос дает истинное, т. е. с точки зрения вечной жизни учение о богатстве и бедности.., а приложение его к нашей жизни производит Церковь“, – с каковым суждением нужно было бы согласиться даже и в том случае, если бы оно стояло не на 71-й, а на 1-й странице работы.
Мы указали лишь сравнительно немногие недостатки сочинения: их можно было бы отметить почти постранично, хотя все они сводятся к одной основной ошибке, – полное невнимание к священному тексту и слепое доверие к текстам не священным. Оставляем в стороне язык и литературную манеру сочинения: первый – крайне сумбурный и менее всего – русский, что же касается второй, то она, говоря снисходительно, „свидетельствует о большой молодости автора“. Низкая степень интеллигентности автора обнаруживается и в списке книг, приложенном к сочинению. Он озаглавлен: „литература“, но, в действительности, это ни
—322—
что иное, как „каталог книг по разным отделам знаний“. Тут и история, и экзегетика, и публицистика, и изящная литература. Страницы не указаны, а по заголовкам никак не догадаешься, какое все это имеет отношение к теме.
Итак, общий приговор о сочинении г. Орлова должен быть очень неблагоприятным: его сочинение лишено малейших признаков научности, легковесно, не литературно. Однако принимая во внимание то, что оно писано в очень трудный для сосредоточенной умственной работы год, и то, что автор все же философски интересовался своей темой, мы находим возможным не отказывать ему в получении искомой степени“.
35) О сочинении студента Петрова Сергея на тему: „Церковно-приходские школы в России за последнее время их существования (с 1884 г.)“.
а) И. д. ординарного, заслуженного профессора А. П. Шостьина:
„Предпослав вначале краткий очерк истории церковноприходских школ на Руси с древнейших времен до царствования Александра III, автор более подробно говорит за тем о возрождении их в 1884 г., о дальнейшем постепенном развитии и благоустроении их до наших дней, о различных типах их, о расширении программ преподавания в них, о сельско-хозяйственных, ремесленных и рукодельных занятиях в них, об учреждении Издательской Комиссии и Статистического Отдела при Синодальном Училищном Совете и, наконец, об отношении Государственной Думы (3-го созыва) к церковным школам.
Казалось бы, что при такой постановке дела в результате должна получиться более или менее обстоятельная и хорошо обоснованная „история“ церковно-приходских школ. Но, к сожалению, автор отнесся к своему материалу чисто-механически и дал лишь набор сырого необработанного материала. Во множестве выписывает он параграфы различных „Правил“ и „Положений“ касательно церковно-приходских школ, не давая себе труда вдуматься в эти параграфы и обсудить их, не замечая даже, что многие из них буквально повторяются... Напр., приведенные на стр. 69–72 правила о второклассных школах нередко до бук-
—323—
вальности совпадают с правилами о церковно-учительских школах на стр. 95–98. И остается непонятным для читателя, к чему же нужно было вторично выписывать одно и то же?...
На стр. 123 автор говорит, что „устраиваемые духовенством воскресные школы встречались населением с большим сочувствием“.., а через 10 страниц пишет: „среди деревенского населения еще сравнительно не так давно не редкость было встретить равнодушное, а иногда даже враждебное отношение к воскресным школам“ (133). Автор совсем не замечает, что эти два заявления довольно трудно примирить друг с другом, и потому не делает никакой попытки к их примирению...
Также не мирятся у нашего автора и разные статистические сведения, сообщаемые на соседних страницах, напр., о числе учащихся в воскресных школах. На стр. 133 автор утверждает, что в 1911 г. число учащихся в воскресных школах было 9069; а на следующей (134) странице, определяя в раздельности число учащихся в этих школах мужчин и женщин, он насчитывает первых 2032, а последних 6313, каковые цифры в сложности дают лишь 8345 (а не 9069, – разница не маленькая!..) Также в 1912 г. по общей таблице на стр. 133 число учащихся автор приводит 8901; а по раздельной таблице на стр. 134 оказывается в этом году мужчин 2104, а женщин 6613, – что в сложности дает 8717 (а не 8901). Автор ничего этого не замечает и читатель в затруднении: как же относиться к приводимым у него цифрам? Доверять ли им?
Такое же механическое и недостаточно внимательное отношение к найденному материалу замечается у нашего автора и в других главах сочинения. Напр., пишет он главу о церковных школах „на выставках“ (Московской 1888 г., Киевской 1894 г., Нижегородской 1896 г., Парижской 1900 г., Петроградской 1903 и 1909 г.) и чем же наполняет он эту главу? – Неоднократным повествованием о том, на какой выставке в каком отделе и в какой комнате были расположены различные школьные экспонаты!... А надлежащие выводы и заключения из всего этого предоставляется делать уже самому читателю.
—324—
И с внешней стороны сочинение г. Петрова далеко не безупречно. Постоянно здесь встречается в цитатах Лентович (вм. Леонтович – стр. II, IV, 37 и др.), или такой перенос слов: „во-здействия“ (70), „ра-здвоение“ (XXIX), „ра-скрытию“ (150), „приз-нан“ (37), „прог-рамма“ (28, 32, 33, 40) и множество других подобных. Конечно, это – мелочи; но они неприятно режут глаз и портят впечатление. Быть может, в них повинен переписчик; но и автор должен быть в ответе: почему не прокорректировал тетради повнимательнее?..
При всем том, принимая во внимание труд автора по собиранию обширного материала и заметную любовь его к избранному предмету исследования, можно признать сочинение его достаточным для присуждения степени кандидата богословия“.
б) Экстраординарного профессора священника И. В. Гумилевского:
„Автор обнаружил хорошее знакомство с законоположениями, программами, правилами и литературой вопроса включительно до ст. отчетов Государственной Думы. Все это автор собрал с большим усердием и проследил с неослабевающим вниманием и интересом, доказывающими его любовь к исследуемому предмету. Если задача автора в том, чтобы изложить историю данного вопроса, то она выполнена с достаточной полнотой, последовательностью и обоснованностью и его сочинение в печатном виде может служить небесполезным справочником по данному вопросу. Приятно отметить в авторе убежденного защитника церковной народной школы в интересах Православной Церкви, как интересах общечеловеческого значения, и любовь к школьному делу, которой проникнуто все его сочинение и которая побуждает его заключить свое сочинение словами: „Дела, живого дела и души побольше!“ Сочинение, конечно, не без недостатков: излишне преобладает фактический материал и недостаточна богословско-педагогическая оценка его. Степени кандидата богословия автор заслуживает“.
—325—
36) О сочинении студента Ликунова Александра на тему: „Преподобный Димитрий Прилуцкий и созданные им монастыри“.
а) Ординарного профессора С. И. Смирнова:
„Сочинение написано по следующему плану: I Сведения об источниках для жизнеописания преп. Димитрия, II Биография преподобного, III Монастыри, созданные им: Никольский в Переяславле и Спасо-Прилуцкий, IV Приложения – житие преп. Димитрия в разных редакциях, похвальное слово и службы ему.
Источники для своей необширной темы автор почерпает из рукописей. Главный источник – житие преп. Димитрия очень распространено было в богослужебных и четиих сборниках древности, не раз перерабатывалось, дополнялось новыми чудесами святого и потому дошло до нашего времени в нескольких редакциях. Автор самостоятельно устанавливает последовательность этих редакций и пытается сделать поправки к существующей, правда очень скудной, литературе о житии. В приложениях помещает довольно внимательно изученные им тексты источников.
К недочетам сочинения надо отнести, прежде всего, недостаточную осведомленность автора в аскетической и агиографической письменности древней Руси и Востока, без чего нельзя, конечно, плодотворно изучать какое угодно житие или похвальное слово. Поэтому житие преп. Димитрия в разных его частях почти не сопоставляется с другими произведениями того же рода письменности и неясно автору, как исторический источник и литературный памятник. Его замечания, что житие имело официальное происхождение, что оно образцовое произведение, прямо наивны. Не изучив таким образом главного источника о преп. Димитрии, г. Пикунов не сумел, как следует, изложить и биографию подвижника: здесь он впадает то в житийный тон, то в панегирический, то предается попутным благочестивым размышлениям. Между тем личность святого и его деятельность остались для нашего автора далеко неясными. Не обращено, наприм., достаточного внимания на отношение преподобного Димитрия к рабству, к монастырской благотворительности. Очерки о монастырях, построенных подвижни-
—326—
ком, крайне поверхностны. Не блещет сочинение своими литературными достоинствами: стиль его вялый, нудный, по местам безмощный или претенциозный. „Обитатели Авнежской области, пишет наш автор, отличались большим практицизмом и не признавали духовных ценностей“ (стр. 57) – этими словами обозначаются опасения жителей Авнеги, что поселившийся у них подвижник, основав монастырь, отберет со временем их земли. Встречаются нескладные выражения (напр., 94, 101). Наконец, автор страдает поразительной, прямо недопустимой для студента, безграмотностью.
В виду этих недочетов сочинение г. Пикунова можно отметить лишь очень невысоким кандидатским баллом“.
б) Доцента Н. Д. Протасова:
„Автор небрежно отнесся к своей работе. Только 18 страниц (88–106) он уделил для ответа на вторую половину своей темы – „созданные (пр. Димитрием) монастыри“. Однако, вполне точного, определенного ответа он не дал. На этих немногих страницах мы находим беспорядочное нагромождение отрывочных сведений, которые совершенно не позволяют составить отчетливого представления о предмете речи. Вот как, напр., г. Пикунов пишет в самом начале отдела о Николаевском Переяславском монастыре. „Основав новый монастырь с новым строгим общежительным уставом, Димитрий имел возможность, порвав всякую связь с прежними растлевающими монастырскими порядками, собрать к себе все лучшее из мира и монастырей, что действительно искало подвига спасения, а не спокойной жизни“ (стр. 88). Откуда знает об этом г. Пикунов, – неизвестно.
Указав, далее, что в 1382 г. Николаевский монастырь был разорен татарами, автор пишет: „значительно улучшилось вероятно положение Николаевского монастыря хотя бы только с внешней стороны со времени учреждения в монастыре церковного чествования Димитрию в особенности после канонизации 50 и 70 годов“1287. Где данные для такого утверждения, и в каком столетии была канонизация –
—327—
автор не говорит. Из таких отрывочных, непроверенных и неподтвержденных замечаний состоит этот весь отдел. Той же неопределенностью, отсутствием плана отмечен и следующий отдел – „Спасо-Прилуцкий монастырь“ (стр. 92–106).
Автор не умеет разбираться в подлежащем рукописном и литературном материале, избегает тщательного анализа последнего, отчего у читателя возникает искреннее сожаление, что столь интересная тема, достаточно богатая по точным данным, осталась совершенно не обследованной.
Досадно видеть также – совсем необработанный слог, массу орфографических ошибок, которыми усеяны некоторые страницы, неправильные выражения и пр.
Однако, принимая во внимание, что г. Пикунов изучал соответствующий рукописный и литературный материал, скомбинировал его в одно целое и дал несколько приложений, из которых видно, что он имел дело с источниками в собственном смысле, можно признать г. Пикунова достойным степени кандидата“.
37) О сочинении студента Покровского Гавриила на тему: „Филарет, митрополит Московский, как библеист – историк“.
а) Ординарного профессора Д. И. Введенского:
„Сочинение студента Гавриила Покровского состоит из предисловия, указателя литературы, введения, двух глав и заключения. В предисловии автор выясняет план работы. Во введении он предлагает общие биографические сведения о митрополите Филарете. В 1-й главе („Взгляд митрополита Филарета на историю Библейского народа“) г. Покровский доказывает, что митрополит Филарет чрез всю историю народа Божьего как бы пролагает непрерывную цепь, показывающую, как Промысл Божий утверждал в среде богоизбранного народа Царство Божие. Во 2-й гл. (Митрополит Филарет, как библеист – историк“) автор говорит a) об источниках и пособиях, какими пользовался митрополит Филарет при изложении библейско-исторических данных, b) о методе и c) о языке библейско-
—328—
исторических работ митрополита Филарета. В заключении г. Покровский выясняет значение митрополита Филарета, как библеиста-историка.
Из перечня литературы, привлеченной нашим автором при разработке вышеуказанной темы, видно, что г. Покровский располагал всеми изданными сочинениями митрополита Филарета, а равно и работами, в которых даются биографические сведения о почившем московском Первосвятителе. Он не довольствовался специальными работами святителя Филарета по библейской истории и экзегетике, каковы, напр., „Начертание церковно-библейской истории“, „Записки на книгу Бытия“, „Замечания на книгу Исход“, но, изучая все сочинения приснопамятного святителя, со включением писем к разным лицам, всюду пытался отмечать, как относился митрополит Филарет вообще в своих сочинениях к библейско-историческим фактам. И на основании самостоятельного изучения трудов митрополита Филарета автор пришел к тому же выводу, к которому приходили и ранее его авторитетные ученые, признававшие мудрого Филарета „душой эпохи“, „солнцем, на которое нельзя прямо смотреть, если не дано нам орлиного взора“, „великим святителем России“, „не выразителем, а руководителем времени“ – человеком, которому, по меткому выражению ректора Моск. дух. Академии прот. А. В. Горского, „Господь открыл язык образов и сеней мира ветхозаветного“. Автор хорошо показал в своей работе, что у митрополита Филарета не было ничего пустого и что „в немногом“, как, например, в его „Начертании“, он давал многое. Самые краткие замечания митрополита Филарета о библейских фактах, рассеянные по его сочинениям, свидетельствуют, по мысли нашего автора, о глубоких ученых прозрениях митрополита Филарета.
Знаток Слова Божьего, дающего „дух и свет“ всем наукам, митрополит Филарет является и знатоком сочинений И. Флавия, Филона и творений отцов Церкви, как сокровищницы мыслей „Христоносных умов“. Московский архипастырь изучал все, что должен был знать человек науки: он с уважением относился к древнееврейскому языку и прекрасно знал его, также высоко ценил он и достоинство перевода LXX. Но при этом, он справлялся
—329—
при своих изысканиях с переводами: самарит., сирск., Акилы и др., соглашая и разъясняя разночтения. Все эти основные мысли своей работы г. Покровский и обосновывает на данных сочинений митрополита Филарета и указывает, вместе с тем, одну особенность ученых работ его. „Смиренное молчание веры“ митрополит Филарет нередко предпочитал „возносящемуся испытанием разуму“. Любопытны, между прочим, суждения митрополита Филарета об ученых ссылках на авторитеты. Он довольствуется, в большинстве случаев, „одним свидетельством“ и в оправдание такого приема говорит: „логика учит или, если угодно, рассудок сказывает, что когда доказательство справедливо, и заключение из него выведено верно, нельзя спорить против заключения, ибо что выводится из истины и выводится верно, то, по необходимости, есть истина, а не ложь. – Между прочим, требуют многочисленных доказательств. Доказательства – не деньги, которых чем больше у кого есть, тем более тот может купить. Довольно одного доказательства“.
Уясняя себе значение митрополита Филарета, как библеиста-историка, автор извлек, несомненно, для себя громадную пользу, познакомившись с трудами великого иерарха Русской Церкви, который в частном всюду указывает общее, в раздробленных фактах – идейно-целое и неделимое.
Быть может автор и не обладает достаточным орлиным взором, чтобы он мог прямо смотреть на „солнце“, но он умело останавливается на том, что, по смыслу его темы, должно было останавливать внимание в трудах митрополита Филарета. Он не возвеличил великого иерарха, но показал, что у великого многому может поучиться меньший.
Отступая от Филарета, автор иногда погрешает в своих суждениях. Так, он употребляет, например, без оговорки и без достаточных оснований термин „библейский народ“ (заголовок гл. 1-й). У автора мы видим, далее, какое-то странное представление об ортодоксальных (стр. 51) богословах. Они представляются автору учеными, отрицающими естественные законы истории. Автор любит, затем, останавливать свое внимание предпочтительно на
—330—
отдельных трактатах митрополита Филарета, в которых дается оценка библейско-исторических фактов и, пораженный обилием имевшегося у него под руками материала, рассеянного в сочинениях митрополита Филарета, нередко пользуется готовыми выводами, уже сделанными, напр., проф. А. П. Смирновым и др. Благодаря этому, от него ускользают иногда мелкие, но выразительные штрихи, которые он мог бы внести в свое сочинение при более тщательном самостоятельном обзоре суждений и заметок митрополита Филарета, рассеянных в сочинении последнего.
Но все эти недостатки не таковы, чтобы их можно было ставить в серьезную вину нашему автору, добросовестно отнесшемуся, в целом, к сочинениям приснопамятного московского святителя-библеиста по преимуществу. В виду сказанного мы признаем сочинение г. Покровского вполне достаточной работой для получения степени кандидата богословия“.
б) Доцента иеромонаха Варфоломея (Ремова):
„Сочинение студента Гавриила Покровского посвящено великой памяти святителя Московского Филарета исследованием его научной деятельности, как библеиста-историка. Г. Покровский имел тем большие побуждения к изучению предмета своего исследования, что близок день 19 ноября 1917 года – день пятидесятилетия со дня кончины этого ярко горевшего Светильника Церкви, и долг признательный памяти питомца Московской Духовной Академии – принести свой посильный дар любви и уважения Великому Филарету. Долг признательный памяти питомца Московской Академии... Да, именно так. Филарет учился и учил здесь (но ведь нельзя сказать, чтобы – в Московской Академии). Филарет написал „Начертание“ и „Записки“... Но этого мало. Филарет в годы своего святительства с поразительным интересом относился к нашей Академии. Ему дорога была именно Академическая наука. Можно бы найти много интересного для характеристики отношений Филарета к библейской науке, в частности к библейской истории: ведь Филарет следил за работами и профессоров и студентов, интересовался лекциями, разработкой определенных вопро-
—331—
сов, определенных тем... Но г. Покровский на это совсем не обратил внимания, не догадался, что есть столь ценная область в жизни Филарета близкая интересам нашего автора. Об этом мы весьма жалеем, потому что наличный труд г. Покровского рекомендует его, как студента, усердно и вдумчиво работавшего над сочинением, как занимавшегося им с большим интересом. Судя, напр., по „введению“ г. Покровского, он умеет пользоваться материалом, умеет выбирать нужные штрихи и комбинировать их.
У г. Покровского дается в общем очень хорошая работа, и материал подобран весьма достаточный. В качестве материала для характеристики Филарета г. Покровский очень остроумно привлекает слова и речи его. Это наш автор делает правильно. По нашему мнению, Филарет слов и речей ничуть не меньший библеист-историк чем Филарет „Начертания“ и „Записок“. Для нас „Начертание“ и „Записки“ в значительной степени потеряли свою цену, да ведь они и не были самостоятельными трудами Филарета. Напрасно поэтому г. Покровский идеализирует эти труды Филарета, приписывая им гораздо большую ценность, чем какую они имеют в действительности. Впрочем, это преувеличение, являющееся погрешностью с точки зрения объективной, исторической, делает честь ревности автора о славе Филарета, хотя и неумеренной. – Слова и речи Филарета, хотя по крупицам дают материал для г. Покровского, но они гораздо ценнее „Начертания“ и „Записок“. В словах и речах Филарет самостоятельнее и сильнее; здесь он является уже с продуманными, просознанными библейско-историческими взглядами: здесь у него дана философия библейской истории. Г. Покровский делает методологическую ошибку: он не характеризует и не оценивает своих источников – тех данных, на основании которых пишет, а между тем обзор источников должен бы быть исходным пунктом работы его.
Далее, читая работу г. Покровского, мы пожалели, что она написана по какому-то странному плану и методу. Очень жаль именно того, что автор, имея в руках достаточный материал, совсем не представляет себе научного метода работы. Вместо того, чтобы ответить по трем пунктам:
—332—
1) источники библейско-исторических воззрений и трудов митрополита Филарета, 2) характеристика трудов Филарета, как библейского историка, и 3) влияние и значение митрополита Филарета в дальнейшем развитии библейско-исторической науки, автор наш идет ощупью. Все-таки любовь к святителю Филарету и желание работать преодолевают трудности незнакомой дороги: г. Покровский старался дать хорошую характеристику митрополита Филарета, как библеиста – историка, и это ему в значительной степени удалось.
В том виде, в каком представлена г. Покровским его работа, мы считаем ее не в одинаковой степени удовлетворительной в различных частях ее. Глава первая сочинения г. Покровского – „Взгляд Митрополита Филарета на „историю“ „Библейского народа (?!)“ написана сравнительно хуже, особенно в начале ее неудачно противоположение двух крайних направлений библейско-исторической науки – „эволюционистов“ и „ортодоксалов“ (стр. 51–52). Сравнительно лучше разработаны – „Введение“ и глава вторая – „Митрополит Филарет, как библеист-историк“. Хотя „введение“ г. Покровского более красиво и изящно по внешней отделке и более обстоятельно трактует избранный предмет в тех рамках, в каких он намечен автором, но мы позволяем себе сказать слово одобрения г. Покровскому именно за вторую часть его исследования. И это мы делаем несмотря на то, что не согласны с тем способом, которым автор ведет свое изложение и исследует предмет. „Введение“, дающее прекрасную характеристику духовного роста Филарета до написания им „Начертания“ и „Записок“, во-первых, прямого отношения к теме не имеет, а, во-вторых, оно писалось при наличности хороших пособий. Совсем не то – вторая глава сочинения. Пусть автор здесь и не так блестящ в изложении, пусть он допускает при исследовании предмета методологические ошибки, все же он старается самостоятельно разобраться в предмете.
В „Заключении“ сочинения автор на 148–159 стр. желает дать оценку библейско-исторических воззрений митрополита Филарета. Вместо нее он дает несколько иное – говорит в панегирическом тоне о значении Филарета в
—333—
области библейской истории. С теплотой в выражениях, се подкупающей задушевностью г. Покровский приписывает Филарету огромное значение в области библейской истории и трудам его огромную научную ценность. Но мы не согласны с нашим автором в том, что „источник широкого влияния исторических произведений Филарета в области библейской мысли находит свое обоснование в строгой „научности“ этих произведений“ (стр. 154). – Нет, не в строгой научности, а в строгом православии их и в обаянии светлой личности великого святителя.
Местами между строк и даже в самом изложении нашего автора можно читать то, что относится к его личным взглядам. Мы верим в их искренность и очень ценим доброе и серьезное настроение г. Покровского. – С удовольствием признаем и подтверждаем его несомненное право на степень кандидата богословия“.
38) О сочинении студента Покровского Сергея на тему: „Московские догматисты за истекшее столетие. (По поводу 100-летняго юбилея Московской Академии)“.
а) И. д. доцента А. М. Туберовского:
„Истекающий учебный год, отмеченный для Московской Духовной Академии юбилейной датой, внушил г. Покровскому прекрасную мысль – воскресить в памяти ее всех делателей „священной науки“ за минувшее столетие и хотя несколько обдуть прах забвения, густо покрывший их творения. Конечно, Академия и особенно догматическая кафедра могут быть только благодарны автору за такое предприятие.
В немалую заслугу автору нужно поставить девственность той почвы, на которой он работал, обусловленную этим самостоятельность, независимость в оценке своего материала, неустрашимость перед архивной пылью, из которой он извлекал погребенные в ней послужные списки и конспекты, равно как и стойкость перед таким трудом, как просмотр рукописного латинского оригинала лекций арх. Поликарпа более, чем на 340 листах.
Важнейшей заслугой Московской Академии перед русским богословием С. Покровский признает искоренение схоластики, пособием чему служил главным образом
—334—
исторический метод, нашедший на догматической кафедре таких ярких выразителей, как арх. Филарет (Гумилевский) и прот. А. В. Горский. Соответственно этому, задачу своего исследования автор полагает в констатировании последовательного освобождения академической догматики от схоластических пут (IV). И этой, ясной поставленной, задаче автор следует до последней страницы.
В предварительном отделе о состоянии догматической науки до преобразования духовных школ – г. Покровский прекрасно выясняет преемственную связь Московской Академии с существовавшими до нее: в Москве – Славяно-Греко-Латинской Академией и Лаврской Семинарией – в обители пр. Сергия. Ясно также указывает, в чем состояла духовно-учебная реформа, результатом которой было открытие Московской Академии, заменившей собой обе названные школы. Отлично охарактеризовано также положение богословской науки в Киевской и Московской школах в их различии и сходстве между собою. Выпукло очерчено значение преобразовательных проектов Комиссии Духовных Училищ. Чтобы не повторяться, в том же отделе автор излагает и все последующие распоряжения духовной власти, касавшиеся постановки догматического богословия в духовной школе, среди которых особое место занимает забота о классическом учебнике по догматике на отечественном языке. Вступительный отдел (1–51 стр.) оканчивается делением истории догматической науки в Московской Академии на три периода – с преподаванием догматики: 1) на латинском языке, 2) на русском, но ex officio ректором Академии и 3) на русском языке – специалистом.
Следующий отдел (52–56) озаглавлен: „Исторические сведения о состоянии науки догматического Богословия в Московской Духовной Академии за истекшее ее столетие (1814–1914 гг.)“, – между тем автор говорит здесь только об открытии Московской Академии, как бы и следовало его тематизировать.
Дальнейший большой отдел (57–99 стр.) посвящен первому догматисту Моск. Академии – архим. Филарету Амфитеатрову. Сообщая биографические сведения об арх. Филарете, автор допустил некоторый хронологический ляпсус. Сообщив о рождении арх. Филарета в 1877 г. (цифра 8 –
—335—
простая описка), автор называет его в 1789 г. 17 апр., при отдаче в духовное училище, десятилетним мальчиком. Одну, из этих цифр следовало бы установить поточнее. Биографическая часть этого отдела изложена подробно и живо. Говоря о значении Филарета Амфитеатрова, как догматиста, автор хорошо делает, привлекая к рассмотрению Догматическое Богословие его племянника и воспитанника арх. Антония, стараясь по этой, прошедшей цензуру Филарета, системе, за утерей его собственных лекций восстановить ученый облик первого московского догматиста.
Недостатком этого отдела служит, по нашему мнению, несколько поверхностный характер рассуждений о мистицизме, волновавшем передовое русское общество того времени и проникшем отчасти в Академию. Нельзя, конечно, столь глубокое явление, как мистицизм на русской почве объяснять одними политическими обстоятельствами начала прошлого века. При объяснении этого явления не следовало забывать предшествующего увлечения рационализмом, вольтерианством, в отпор чему и развивалось мистическое движение в тех же слоях общества, которые были повинны и в первом увлечении. Не понятно также, почему один Филарет был противником мистических идей, когда другой, не менее его знаменитый и благочестивый, сочувствовал им, на первых порах особенно.
В этом отделе, так же, как и в следующем – об иером. Платоне Березине (100–104 стр.) приведены извлеченные автором из архива академического Правления конспекты в оригинале и переводе.
Говоря далее об арх. Кирилле (104–127 стр.) и называя его систему первым опытом систематического изложения догматического учения Православной Церкви на русском языке“ (126 стр.), г. Покровский, очевидно, забывает, что он уже назвал таковым „Богословие“ м. Платона (19 стр.). – Архим. Кириллу принадлежит честь быть пионером – лектором догматики на русском языке в нашей Академии. Автору следовало бы в этом отделе рассмотреть и Догматику прот. П. Терновского, сопричислив его к „московским догматистам“ по влиянию на него арх. Кирилла, как он сделал это ранее в отношении Антония, питомца Филарета. Благодарной темой, к сожалению, не выполненной,
—336—
являлось бы также здесь для г. Покровского рассмотрение того, сколь далеко простирался опытно-религиозный метод в системе арх. Кирилла.
Наибольший, кажется, труд подъял на себя автор, проштудировав и изложив в виде подробного конспекта (127–164) сохраняющуюся на латинском языке рукопись Полемико-Догматического Богословия многоученого и гонимого ректора и профессора догматики архим. Поликарпа Гайтанникова.
Живой очерчена далее автором личность и деятельность ректора и догматиста арх. Филарета Гумилевского (164–197 стр.), принадлежащего, по делению автора, ко второму периоду. Здесь же автором приведен экзаменский конспект и рассмотрена система Догматического Богословия арх. Филарета.
Следовавшие за Филаретом Гумилевским догматисты: арх. Евсевий Орлинский (197–199 стр.), арх. Алексий Ржаницын (199–200 стр.), арх. Евгений Сахаров – Платонов (200–201), арх. Сергий Ляпидевский и арх. Савва Тихомиров (201–202) не могли быть очерчены автором подробно, как по недостатку времени, так и по сложности предшествовавших отделов, требовавших изучения архива, рукописей, перевода, почему г. Покровский и ограничивается конспективным изложением. С большей полнотой и понятной теплотой автор говорит лишь о прот. А. В. Горском (202–210).
Третий период, по незаконченности его до настоящего времени, совсем не мог служить объектом историко-догматического иcследования для автора, если не считать последних строк с замечанием о труде проф. А. Д. Беляева.
Работа г. Покровского, при несовершенстве деления и других отмеченных дефектах, является, тем не менее, по нашему мнению, ценным прикладом к юбилейной литературе о Московской Академии и степени кандидата богословия заслуживает с похвалой“.
б) Ординарного профессора М. М. Тареева:
„Сочинение начинается довольно обширным вводным отделом: „Наука догматического богословия до времени преобразования духовно-учебных заведений. Меры к улучшению состояния этой науки в XIX и начале XX столетия“.
—337—
Далее следуют „исторические сведения о состоянии науки догматического богословия в московской духовной академии за истекшее ее столетие“. История науки разделяется на три периода. Обозреваются период первый (догматисты архим. Филарет Амфитеатров, иером. Платон Березин, архим. Кирилл Богословский-Платонов и архим. Поликарп Гайтанников) и период второй (архимандриты Филарет Гумилевский, Евсевий Орлинский, Алексий Ржаницын, Евгений Сахаров-Платонов, Сергий Ляпидевский, Савва Тихомиров, – и протоиерей А. В. Горский). Сочинение не закончено. План следует признать соответствующим предмету исследования·. Замечается по местам несоразмерность между обширными биографическими сведениями о каком-либо догматисте, заимствуемыми из появившихся монографий, и скудными данными о догматической деятельности его, составляющей прямой предмет исследования. Автору пришлось работать по рукописям, и труда им приложено к делу немало. Степени кандидата богословия заслуживает“.
39) О сочинении студента Постникова Сергея (Тверск.) на тему: „Преподобный Макарий, игумен, Калязинский чудотворец“.
а) Ректора Академии Епископа Феодора:
„Труд автора носит на себе все признаки усиленного стремления придать ему характер строго научного исследования. Одних примечаний к тексту, выделенных в конце сочинения в особое приложение, целых 40 страниц (с 207 по 247). Они представляют из себя справки, выдержки и указания на рукописи, архивные дела, летописи и т. п. Одних рукописей автор, по его словам, прочитал 44, а в исследовании своем он Постоянно стремится к критическому анализу, сопоставлению и уяснению богатого материала. почерпаемого им из обширного архивного материала. Все это, похвальное само по себе усердие автора и конечно необходимое при научной работе, требует и навыка к подобной работе и еще кой чего, более важного, чем простой навык. Ни первого, ни последнего у автора в достаточной мере не оказалось, а потому весь этот научный аппарат и оказался в его сочинении слишком большим грузом, среди которого как бы затерялась личность преп.
—338—
Макария, о котором он должен был писать. В массе побочного материала, внесенного, автором в свое сочинение, в постоянном анализе памятников сведения о преп. Макарии, обрисовка его личности и прочее, что гл. образом нужно иметь в виду при работах подобного рода, как-то точно распылились и отодвинулись в сторону. Когда, где родился преп. Макарий, как он рос духовно, как слагалась вся его жизнь и прочее, все это у автора бледно, не точно, не ярко. Он гораздо более уделил внимания вопросам общего характера; напр. с 53–85 стр. у него делается общий очерк состояния Руси, совсем не вызываемый в таком объеме ходом и целью работы. От этого объем сочинения очень увеличился, но сущность работы, ее прямой предмет нисколько не улучшились. Для того, чтобы труд автора мог иметь научный интерес и мог быть напечатан в целях даже чисто религиозного назидания всех почитателей преп. Макария, его необходимо переработать в том именно направлении, чтобы архивный материал не заслонял личности преп. Макария, а только давал возможность более уяснить ее. Автору нужно позаботиться и о внешней стороне изложения, исправить небрежность даже оглавления, где отделы не соответствуют тексту. Как опыт собрания материалов по вопросу о личности преп. Макария, свидетельствующий о трудолюбии автора и об его искреннем почитании преп. Макария, сочинение его дает ему право на получение степени кандидата богословия“.
б) И. д. доцента иеромонаха Пантелеймона (Успенского):
„Я все годы юности и детства, пишет автор, провел под непосредственным покровительством преп. Макария“... (4 стр.). „Я глубоко чту и уважаю труды и подвиги Чудотворца, к раке которого припадал с детского возраста, благоговейно лобзал его св. мощи и сердцем ребенка и устами взрослого юноши... из любви и глубокого уважения к которому я начал свою настоящую работу“ (82 стр.). Таковы субъективные мотивы, побудившие г. Постникова взять настоящую тему для курсового сочинения. Объективным же побуждением было отсутствие более или менее серьезной работы, относящейся к жизнеописанию преп. Макария Калязинского. Таковое жизнеописание автор и пытается дать в
—339—
своем сочинении на основании изученного им рукописного житийного материала и перечитанных пособий.
Свою работу автор начинает библиографическим очерком, в котором пытается установить источники жития преп. Макария и первичные его редакции и дает общий обзор содержания жития, похвального слова, молитвы, описания чудес и службы пр. Макарию по рукописным спискам. Далее в сочинении следует изображение эпохи пр. Макария, где автор чересчур и совершенно напрасно распространяется о низком уровне просвещения и вообще религиозно-нравственном состоянии русского общества XV века, тем более, что все это взято автором из вторых рук, но далеко не все процитировано. В жизнеописании пр. Макария г. Постников дает не голый перечень фактов из жизни Угодника Божия, но пытается нарисовать его личность на истерическом фоне и проникнут в психологию Преподобного. Последнее, впрочем, мало дается автору: так он неглубоко и односторонне объясняет отказ преп. Макария от женитьбы и отречение от мира распространенными в то время и ходячими в русском обществе идеями и пр. Автор даже впадает здесь в противоречие: по его словам выходит, что пр. Макарий то презирал мир и на женщину смoтpел, как на нечто нечистое (стр. 80–81, 101, 115), то совершенно наоборот (стр. 177). Довольно обстоятельно и подробно автор говорит о происхождении пр. Макария и устанавливает его родословную, но разбирая критически хронологические даты жития, не достигает согласования и желательной ясности. За жизнеописанием автор излагает аскетический идеал пр. Макария, неудачно связывая его с идеей счастья, и, наконец, дает историю канонизации мощей Преподобного.
Работа г. Постникова производить невыгодное впечатление по отсутствию планомерности и раздельности (в сочинении нет даже цифровых обозначений глав) и крайне необработанному и плохому языку. В сочинении весьма часто встречаются не только неясные и неудачные выражения, но и совершенно неправильное построение речи, так что трудно бывает понять автора. Иногда автор начинает фразу и так и оставляет ее неоконченной. Нередко автор прибегает к иностранным словам не только без нужды, но
—340—
и без достаточного понимания их (стр. 5, 131, 132, 139, 141 и др.). По недосмотру автора и его переписчика сочинение изобилует массой орфографических ошибок, иногда грубых и непростительных (стр. 3, 4, 7, 21, 24, 66, 68, 76, 149 и др.). Автор везде цитирует использованные им рукописи, но он имеет дурную привычку не только не ставить чужих слов в кавычках, но даже и не цитировать их, между тем у него немало и буквальных заимствований из разных пособий.
При всем том сочинение г. Постникова не лишено и некоторых положительных качеств. Автор трудился в неразработанной области и по первоисточникам. Он прочел до 44 рукописей (рукописных житий пр. Макария Калязинского), просмотрел достаточное количество пособий и сделал много мелких и подробных примечаний, имеющих отношение к личности пр. Макария и к судьбе основанного им монастыря. Вообще автор работал с любовью и усердием. Особенно приятно отметить у автора наличность живого религиозного чувства – живой веры и любви к. родному Угоднику Божию. О пр. Макарии автор везде говорит с восторгом и одушевлением и вдается иногда в поэтические и картинные описания. Жаль, что автор – крайне плохой стилист и не обладает способностью систематика (последнее он и сам сознает). От этого, при значительной затрате труда и энергии, автор достиг далеко не блестящих результатов. Во всяком случае степени кандидата богословия работа его заслуживает“.
40) О сочинении студента Прыткова Николая на тему. „Феофан Прокопович как проповедник“.
а) Доцента В. И. Виноградова:
„Сочинение г. Прыткова очень близко напоминает собой здание, в котором крыльца значительно больше самого дома: больше половины обширного сочинения (248 из 408) посвящено „выяснению тех внешних условий, под влиянием которых создавалась проповедническая деятельность Феофана Прокоповича“ (см. стр. 246). Получилось это, с одной стороны, потому что автор слишком увлекся усердно изученным им материалом, характеризующим эпоху
—341—
Петра Великого и его ближайших преемников, и внес в первую половину своей работы не мало совершенно лишнего с точки зрения его прямых задач; а с другой – внес в эту часть не мало такого, что, по существу дела, должно было войти во вторую или, вернее, в главную часть сочинения – именно эпизодическое изложение содержания и оценку отдельных проповедей Феофана. После этого эпизодического обзора и оценки проповедей Феофана последующий специальный „обзор содержания проповедей“ и характеристика „литературной стороны“ их, занимающие ⅔ (стр. 297–408) второй, главной части сочинения, являются в значительной мере повторением или распространением уже высказанного ранее.
Работа г. Прыткова носит характер обстоятельного изложения содержания литературных трудов и научных исследований, связанных с личностью Феофана Прокоповича. Рассматриваемая с этой точки зрения, она отличается значительными достоинствами и характеризует с похвальной стороны как эрудицию, так и трудоспособность автора. Наиболее успеха имеет автор, когда вращается в области исторических и историко-литературных интересов, и наименее, к сожалению, – в области – специально-гомилетических. Его гомилетические воззрения и понятия не имеют ни достаточной глубины и ясности, ни точности формулировки; особенно пострадал от этого отдел, посвященный „гомилетической теории Феофана“ (стр. 249–296); совершенно неудачной оказалась и попытка гомилетического оправдания светско-публицистического характера проповедей Феофана (заключение).
Степени кандидата богословия автор заслуживает“.
б) Экстраординарного профессора священника В. Н. Страхова:
„Проповедническая деятельность Феофана Прокоповича сводится почти исключительно к защите государственных реформ и политики Петра Великого. Поэтому г. Прытков вполне справедливо после введения, где он кратко и недостаточно отчетливо говорит о значении публицистики для эпохи реформ вообще, для Петровской эпохи – в частности, обращается к характеристике Великого Преобразова-
—342—
теля России и обозрению его государственных реформ и политических предприятий. Глава эта написана по историческим трудам профф. Соловьева и Ключевского, почему личность Петра и его реформы освещены хотя и кратко, но в общем обстоятельно. Так естественно нам автор наметил содержание проповедей Феофана Прокоповича, панегириста Петровских реформ. Прежде чем излагать гомилетическую теорию Феофана и содержание его проповедей, автор дает биографические сведения о Феофане и вместе с тем кратко характеризует его научно-литературную и проповедническую деятельность сначала в Киеве – в качестве учителя и префекта Киевской Академии, потом в Петрограде – в качестве непосредственного сподвижника Петра и при его преемниках. Глава эта, занимающая почти половину сочинения (с. 73–248 из всех 408 с.) г. Прыткова, – самая интересная и лучшая. Автор с любовью относится к личности Феофана и всюду старается объяснить кажущуюся иногда неискренней публицистически-проповедническую и придворно-политическую деятельность Феофана его нелицемерным преклонением пред величием личности Петра и его реформ. И даже уже несомненно неискреннюю и „не всегда симпатичную“ (с. 167) роль Феофана при преемниках Петра, когда ясно обнаружился его „полицейский талант“ (с. 178), автор, хотя и нерешительно („хочется думать“ с. 181), объясняет тем, что Феофан в жестокой борьбе со своими врагами отстаивал принципы и начинания Петра, чрез Что „спас реформу Петра“ (с. 61, срв. и с. 163). – После общей характеристики литературной и проповеднической деятельности Феофана автор излагает его гомилетическую теорию и потом дает детальный обзор содержания проповедей, похвальных слов и приветственных речей Феофана, разделяя проповеди Феофана на догматико-нравоучительные и публицистические и нраво-обличительные. Сочинение заканчивается характеристикой литературной формы проповедей Феофана и общим заключением о значении Феофана, как популяризатора и защитника Петровских реформ применительно к стихотворению Майкова (см. с. 408).
Автор отнесся к делу серьезно и литературу вопроса изучил внимательно, о чем свидетельствуют и его под-
—343—
строчные примечания в начале почти каждой главы, где он не просто перечисляет имевшиеся у него под руками пособия, но и удачно критикует некоторые из них (особ, сс. 73, 74, 75, 252). Остается лишь пожалеть, что автор не остановился более подробно и специально, кроме общих и как бы попутных замечаний на с. 293 и 385, на выяснении исторического значения Феофана, как проповедника, на вопросе о том, что нового в содержании и форме проповеди имеем мы у Феофана по сравнению с предшествующим состоянием русской проповеди и какое влияние оказал Феофан на последующих проповедников, – да подосадовать что такое хорошее сочинение переписано очень безграмотно и изложено иногда – правда, очень редко-вычурным (напр. с. 9) и растянутым (с. 1–2, 12) языком.
Степени кандидата богословия автор заслуживает вполне“.
41) О сочинении студента Пясецкого Петра на тему: „Литературное движение в юго-западной Руси XVI и XVII веков“.
а) И. д. доцента священника И. М. Смирнова:
„Конец XVI и начало XVII вв. являются не только одним из самых критических моментов жизни юго-западной русской православной Церкви и народности, но в тο же время отмечаются в истории культуры этого края, как наиболее исключительная эпоха по развитию просвещения. Во всяком случае, и по подбору организаторских сил, и по объему проявленного воодушевления, и по обширности и разнообразию предпринятых просветительных средств, указываемое явление остается во всей совокупности небывалым до отмеченного периода и пока не повторившимся и доселе. Отсюда, дать целостную, взятую в последовательности развертывавшихся явлений и их внутренней связи, картину какой-нибудь отдельной части этого многостороннего культурно-просветительного движения представляет, конечно, громадный научный интерес, тем более, что еще многое в историческом ходе событий остается не вполне выясненным. – Г. Пясецкий темой для своей кандидатской работы выбрал одну из наиболее заметных
—344—
сторон указанного движения. – Он сосредоточил свое внимание на литературе полемической, поставив задачей исследования – дать историю развития полемики, указать ее средства, сделать оценку отдельных произведений, как со стороны их прямого значения, так и возможного литературного влияния, и поставить, наконец, (в отделе источников) в известное соотношение к западно-европейской науке и, вообще, книжности. Приступая к работе, автор имел в виду расположить материал по следующему плану: в первой части сделать анализ противо-протестантских полемических произведений, вторую посвятить антикатолической полемике, в введении дать вступительный исторический очерк событий разбираемой эпохи. Но, к сожалению, выполнить задачу в предполагаемом объеме ему не удалось; вследствие обилия материала с одной стороны, и недостатка времени с другой, вполне законченный характер приобрели только наблюдения над сочинениями одной противо-протестантской полемики, подготовительные же запасы по разработке противо-католических произведений остались в необработанном виде.
В начале своей работы автор вводит (стр. 1–51) читателя в круг явлений той исторической перспективы внутренней жизни юго-западной Руси XVI века, которая обусловливала зарождение полемической противо-протестантской литературы; анализу памятников последней отведены четыре главы работы (стр. 51–242). Памятники эти, взятые на протяжении 70-ти лет (от половины XVI в. до 20-х годов XVII в.) не многочисленны. Здесь видим: Полемическое сочинение „против повести нынешних безбожных еретиков“ (гл. I), Послания старца Артемия (гл. II), „Обличительное описание против Люторов“, Письма кн. Курбского, Статью „о образох, рекше о иконах“ (из Острожского Сборника – „Книга о Вере“ 1588 года, гл. Ill), „Книгу о вере“ Азарии (– Захарии Копыстенского, гл. IV); к концу приложено коротенькое заключение.
Задачи своей работы поняты автором вполне правильно и выполнены исчерпывающе. Разбирая каждое из перечисленных произведений, он оценивает его с таких точек зрения: – Дает понятие о содержании (с подробным расположением частей), решает вопрос об авторе (в
—345—
случае анонимности произведения), а также и времени происхождения памятника (если последний не датирован), указывает полемические и литературные, приемы автора, степень его знакомства с богословской литературой и светской наукой; наконец, выясняет значение памятника в истории полемической письменности. Правда, в последней главе, касающейся произведения Захарии Копыстенского, г. Пясецкий не затронул вопроса о степени сближения этого автора с западно-европейской наукой на почве пользования последним с западно-европейскими изданиями святоотеческой, канонической, исторической, агиографической и пр. литературой, знакомство с которой 3. Копыстенский здесь обнаруживает поразительное. Но это вышло уже независимо от доброй воли автора.
Осуществляя указанную программу, г. Пясецкий был вполне самостоятелен в своих взглядах на вещи; особенно это нужно отметить по отношению к первой главе, предмет которой считается вполне литературной новинкой.
Что же касается до изложения, то оно, можно сказать, безукоризненно: ясный, сжатый, точный в своих определениях, легкий (иногда с долей юмора) для чтения – язык сочинения г. Пясецкого является приятным исключением в подобного сорта курсовых работах. Приходится пожалеть, что автору не пришлось, в силу уже указанной причины, довести до конца намеченный план своего сочинения; тогда бы положительные стороны его литературных приемов обнаружились еще яснее. Степени кандидата богословия г. Пясецкий заслуживает“.
б) Экстраординарного профессора протоиерея Д. В. Рождественского:
„По большей части, курсовые сочинения студентов Академии начинаются заявлением, что избранная тема касается неисследованной еще области и разработка этой темы представляет насущную потребность, которой автор и намерен удовлетворить своим сочинением. Рецензируемое сочинение, по-видимому, не претендует на это. Взяв для обследования только часть избранной темы, автор на стр. IV замечает, что „общее заглавие сочинения нуждается в подзаголовке – «Литературная борьба с протестантством до
—346—
Петра Могилы»; а в перечне пособий, под № 26, у него значится сочинение: Цветаев Д., „Литературная борьба с протестантизмом в Московском государстве“. На стр. 52 читаем: „обзор противопротестантской полемической литературы обыкновенно начинали с посланий Московского выходца старца Артемия“. – „По первоначальному плану, сочинение должно было состоять из введения (характеристика эпохи) и двух частей (полемика противокатолическая и противопротестантская“ (стр. III). Но автор, убедившись в том, что избранная „область – море великое и пространное“, и, очевидно, убоявшись обретающихся в нем бесчисленных гадов, решил „остановиться на разработке только второй части намеченного плана“ (стр. IV), хотя естественно было бы ожидать, что у него недостанет времени и сил для разработки не первой, а второй части. К своему решению автор пришел „после нескольких месяцев работы“ (стр. IV): над чем же работал он в эти месяцы? и почему бы не изложить, хоть конспективно, результатов этой работы?
Сочинение начинается обширным, по отношению ко всему объему сочинения, введением (стр. 1–51), тщательно обработанным и изложенным хорошим языком. Далее следует обозрение полемических противопротестантских сочинений, из которых на первом месте стоит напечатанное впервые только в 1914 году сочинение „против повести нынешних безбожных еретиков“ (стр. 52–80). Это сочинение, не отличающееся своими достоинствами и не представляющее особого интереса, разобрало с большой обстоятельностью, с подробным указанием его недостатков. В следующей, наиболее общирной главе второй (стр. 81–165) ярко обрисована личность бывшего троицкого игумена Артемия и дана характеристика его полемических трудов, с обзором их содержания. В главе третьей (стр. 166–207) рассмотрены – по выражению автора рецензируемого сочинения – „литературные явления, вышедшие из литературного наследия Артемия или находящиеся с ним в несомненной генетической связи“ (стр. 164). Наконец, глава четвертая (стр. 208–242) посвящена „книге о вере“. Заключением в две страницы (243–244) сочинение кончается. В сочинении сообщается немало интересных фактов (стр. 20, 44, 91, 104, 117–118 и др.); весь изученный материал
—347—
автор подвергает самостоятельной критике (в особенности, в главе первой); на стр. 218 он приводит собственное соображение, свидетельствующее о внимательном отношении к изучению памятников.
Рецензент находит нужным присовокупить несколько частных замечаний. Так, автору следовало бы с большей внимательностью отнестись к некоторым текстам Писания, приведенным в изученных им памятниках. Требовало, напр., разъяснения выражение Втор.32:8 (стр. 58, 63–64), неодинаково читающееся в масор. тексте и в переводе LXX (см. исследование проф. Корсунского „Перевод LXX. Его значение в истории греческого языка и словесности“. Св.-Тр. Сергиева Лавра, 1897. Стр. 92–93). На стр. 131 приводится из послания старца Артемия выражение: „не учини себе всякого подобия, елика на небеси выше, елика на земли низу и елика в водах, под землей, и не поклонишися чужим богом, ниже послужити им“. Оно может возбудить недоумение и, во всяком случае, требует разъяснения – в виду того, что у Артемия вслед за этим выражением читаем: „зриши-ли, яко чужим богом не указали чинити подобиаа (Русская Историческая Библиотека, издаваемая Археографической Коммиссией. Т. 4. Петербург – 1878. Столб. 1270; по см. „Из чтений по Священному Писанию В. 3.“. А. А. Жданова. Сергиев Посад, 1914. Стр. 192 и след.). Сопоставление в том же послании Артемия (столб. 1281) выражений из псалмов: „поклонюся... к церкви святей твоей“ (137,2) и: „взнепавидех церкви лукавых“ (25,5) не вызвало никакого замечания со стороны г. Пясецкого (стр. 136); а между тем, понимание Артемием Ис.137:2, кажется, вполне соответствует пониманию выражения: „нам оставль образ“ (1Пет.2:21) автором сочинения „против повести нынешних безбожных еретиков“ (стр. 61 рецензир. сочинения), приводящим это выражение в защиту иконопочитания. – На стр. 122 следовало бы выяснить, что, собственно, значит самое выражение: „ведомость веры“. Не совсем ясно начало стр. 158: „свидетельства святоотеческой письменности приводятся в посланиях (Артемия), в большинстве случаев, без указания источника заимствования. Очевидно, автор давал себе ясный отчет в их значении в полемике“. Наконец, на стр. 66–67 г. Пя-
—348—
сецкий у автора сочинения „против повести“... находит „единственное... достоинство, которого от него отнять нельзя, это – самостоятельность в комбинировании собранного материала“. А ранее говорилось о совершенном отсутствии плана в названном сочинении (стр. 55), об „удивительно механическом отношении автора к своей работе“ (стр. 64). – Есть неудобные и неуместные в ученом исследовании выражения: на стр. 8 дважды употребляется „козырь“, стр. 19: „тесные сторонники“, стр. 30: „католич. церковь, выражаясь вульгарно, подтянулась,“ здесь же: „помирить шляхту со сладким ярмом своей власти“; автор пишет: „привилегия“ (стр. 6).
Несмотря на указанные недочеты, сочинение можно признать вполне удовлетворительным для присуждения автору его кандидатской степени“.
42) О сочинении студента Садовского Евгения на тему: „Богословствующая мысль русских так называемых светских богословов пред судом пастыря Церкви“.
а) Доцента В. И. Виноградова:
„Знаменитый церковный вития последнего времени покойный Амвросий, архиеп. Харьковский, не раз в своих проповедях высказывал глубоко-верную мысль, что пастырь-проповедник, действующий среди современного интеллигентного общества, должен быть „христианским философом“, „знающим, так сказать, все входы и выходы философии“, чтобы следить, откуда и какое идейное течение прокрадывается в христианское общество. Глубоко справедливое вообще, требование, высказанное архиеп. Амвросием, вдвойне справедливо в отношении тех течений современной философской мысли светского общества, которые непосредственно захватывают вопросы религиозные, истины христианской веры, христианского богословия с целью их своеобразного, посильного раскрытия и обоснования: ведь эти течения определяют душу своеобразно, но искренне верующей интеллигенции „ищущей Бога путями своими“, ту душу, с которой и должен иметь дело пастырь в светском образованном обществе. Современное религиозно-идеалистическое течение, обострившее интерес к богословским во-
—349—
просам, выдвинуло целый ряд мыслителей, в литературных трудах которых дается, освещение тех или других богословских вопросов. Из них наш автор свое внимание останавливает на Н. А. Бердяеве по следующим, совершенно правильным соображениям. Прежде всего, богословские исследования находят в Бердяеве благодарную для себя почву в виде богатой философской эрудиции и выливаются в более или менее цельную религиозно-философскую систему. В лице его, затем, мы имеем пред собой бывшего марксиста, а его религиозно философская концепция явилась в результате его продолжительной и сложной эволюции от марксизма к христианству, следы которой мы находим в его литературных произведениях. В этом отношении Н. А. Бердяев является типичным представителем той идейной эволюции, которую пережила значительная часть русского мыслящего общества в течение 15-летия от средины 90-х годов до конца первого десятилетия XX века.
Наш автор ставит себе задачей: с одной стороны, проследить путь идейного развития Н. А. Бердяева, дать генезис его религиозно-философской эволюции, а с другой – сделать с православно-христианской точки зрения оценку его религиозно-философских воззрений, явившихся в результате этой эволюции. Задача, поставленная автором, делает ему честь своей серьезностью и ценностью, но вместе с тем выдвигала ему на пути затруднения, с успехом преодолеть которые мог только студент с такой выдающейся философско-критической мыслью и богословско-философской эрудицией, как наш автор. Дело, во первых, в том, что литературные произведения Бердяева это не раскрытие определенной системы, сложившегося мировоззрения, это – непрерывные колебания между различными точками зрения, кинематографическая лепта, на которой пред читателем последовательно проходят народничество, идеализм, утилитаризм, эволюционизм, натурализм, критический монизм, материализм, позитивизм, адогматизм, агностицизм, дарвинизм, социализм, декадентство, спиритуализм, демократизм, конституционализм, неокантианство и, наконец, византизм и православная ортодоксия, философские портреты и литературные характеристики отдельных мыслителей и писателей. Г. Садов-
—350—
ский вращается среди всех этих затрагиваемых Бердяевым идейных движений с. поразительным, для студенческой работы, знанием дела и искусством философскокритического анализа: всюду дает себя знать сильный философский талант, вооруженный широкой научно-философской эрудицией. – В то же время, разбирая те или другие философские течения или отдельных мыслителей, Н. А. Бердяев редко раскрывает свое собственное „я“, он больше ищет и критикует, чем утверждает и формулирует, обнаруживая при этом необычайную умственную эластичность, способность перевоплощаться в писателя, которого он излагает: он начинает говорить его языком, усвояет приемы его мысли, манеру его письма. Все это не может не представлять больших затруднений при попытке проследить нить авторских исканий, основную линию совершившейся в нем религиозно-философской эволюции: иногда последняя теряется в этой массе разбираемых Бердяевым направлений, и начинает казаться, будто мировоззрение его разорвалось на несколько, почти не соприкасающихся между собой, рядов. Г. Садовский в общем удачно справился с этими трудностями и дал логически и психологически безупречную яркую, цельную картину эволюции современной мыслящей и жаждущей Бога души от марксизма ко Христу, равно как и правильную оценку наличного, последнего момента ее исканий и борений. Правда, не все моменты этой эволюции раскрыты г. Садовским достаточно равномерно и глубоко; от некоторых утверждений наш автор, при дальнейшем, еще более тщательном изучении литературных трудов Н. А. Бердяева, наверное, откажется; при большем досуге времени последнюю главу написал бы менее конспективно; но все это нисколько не мешает быть труду г. Садовского выдающейся студенческой работой, за которую автор вполне заслуживает не только степени кандидата богословия, но и особого внимания Совета Академии“.
б) Экстраординарного профессора священника Е. А. Воронцова:
„В предисловии к своей работе наш автор определяет, почему для характеристики воззрений современных
—351—
светских богословов он останавливается только на Бердяеве, лишь мимоходом касаясь богословствования Розанова, Мережковского и других, здесь же сообщаются данные о методе работы. Самое исследование г. Садовского отличается широтой христианского кругозора автора, его вниманием даже к малейшим деталям в эволюции религиозных идей Бердяева, его добросовестной критикой воззрений последнего. Наш автор обладает незаурядной способностью богослова-критика, а уровень его философских познаний, по-видимому, стоит на высоте принятой им на себя задачи“.
43) О сочинении студента иеромонаха Никиты (Сапожникова) на тему: „Преп. Иоанн Лествичник и процесс духовной жизни по его „Лествице“.
а) Ректора Академии Епископа Феодора:
„О личности преподобного Иоанна Лествичника автор говорит на десяти страницах и передает о нем только то, что сказано о нем у Св. Димитрия Ростовского и Филарета, Архиеп. Черниговского. Так просто он решает задачу своего ученого исследования о личности преп. Иоанна. Еще проще у него решается вопрос о „Лествице“ преподобного, как литературном памятнике святоотеческой письменности; он просто ничего не говорит ни о судьбе ее, ни о списках и рукописях, в каких она была и есть, и пр. Таким образом в первой части сочинения автор изложил кратко то, что почти каждому благочестивому мирянину известно о преподобном из жития о нем, и какого-либо нового, научного и обстоятельного обследования о личности Преп. и его писаниях автор не представил. Автора более занимал второй вопрос, поставленный темой: именно процесс духовной жизни по Лествице. Этому вопросу он уделил 180 страниц и с большим усердием и любовью выписал почти всю „Лествицу“ преп. Иоанна, его же собственными словами. Вот почему по существу самого текста сочинения положительно нельзя ничего говорить: это значило бы говорить о преп. Иоанне как писателе и авторе, говорить о верности его рассуждений о духовной жизни. В нашу задачу, конечно, это не входит и не мо-
—352—
жет входить; это скорее должен был сделать автор сочинения в виде внесения хотя бы каких-либо критических замечаний и какого-либо психологического анализа к тексту писаний преподобного. Но этого у него нет и понятно почему: авторитет преподобного в духовной жизни, конечно, должен наложить печать молчания на уста всякого, а не только молодого инока. Вот почему автор понял задачу своего труда для второй части темы только в смысле истолкования плана Лествицы, по какому она написана преп. Иоанном и по какому он сам потом уже ее перелагает. Это раскрытие плана Лествицы и есть то нечто свое, что можно находить в сочинении о. Никиты. Конечно, нельзя с безусловной достоверностью полагать, что преп. Иоанн писал свою „Лествицу“ именно по плану, изъясненному о. Никитой, но во всяком случае у о. Никиты в том плане, который он начертал, укладывается вся „Лествица“. И здесь опять отношение у автора к „Лествице“ более внешнее: он прямо даже отрицает „возможность деления процесса духовной жизни по Лествице с внутренней стороны“ и признает возможность деления только с внешней (3 стр.). „С внутренней стороны весь процесс духовной жизни обыкновенно разделяют, говорит автор (см. 3 стр.), на два периода: 1) борьбы со страстями и 2) бесстрастия. Однако разделять на периоды духовную жизнь по „Лествице“ с внутренней стороны ее представляется неудобным, ибо „Лествица“ содержит в себе начертание не самой дух. жизни, не внутреннего существа ее, а только того, что потребно и прилично монашескому житию, или „показывает наилучший путь печению подвижника, путь, а не течение“. „А самое течение в Лествице представляется процессом восхождения „в сердце“, „тайного восхождения“ (3 стр.). Понимая так дело, автор и делит с внешней стороны процесс духовной жизни на 3 периода: 1) отречение от мира (3 первые главы „Лествицы“), 2) пребывание в общежитии (с 4–26 гл.) и 3) пребывание в отшельничестве (с 27–30 гл.), и в таком порядке 3-х основных частей или глав своего сочинения и выписывает все содержание „Лествицы“ с соответствующими по содержанию заглавиями. Автор совершенно спустил из виду, что ведь это, как бы троякое, деление пути подвижника обусловливается наличностью его
—353—
души, наличностью настроений и переживаний, соответствующих его духовному возрасту, там то и совершается процесс „восхождения в сердце“ и есть законы роста духовного, есть психологическая сторона этого процесса и нужно было сделать попытку хотя в заключение своей работы взглянуть на изложенный материал не с точки зрения внешнего плана его изложения, а с точки зрения закономерности духовного развития, и попытаться установить эту закономерность процесса, насколько дает на это право,, Лествица“ преп. Иоанна, ну хотя бы в смысле перехода от страха чрез надежду к любви, – от покаяния чрез смирение к полноте духовного созерцания и т. п. Автор как будто забыл то, что он сам же говорит на стр. 4-й (оборот): „что касается распределения отдельных глав в пределах трех основных делений („Лествицы“), то они не случайно поставлены одна после другой, но в строгой внутренней связи и последовательности, так как „совершенно невозможно, гов. преп. отец, не познав предшествующего видеть последующее“ (24,1). Таким образом сам автор признает, согласно словам преподобного, закономерность внутреннего процесса жизни, начертанного „Лествицей“, а потому и не понятно, почему он отказался от этого в своей работе. Кое что он даже сделал с этой точки зрения отношения к „Лествице“, т. е. в целях более строгого соблюдения закономерности в процессе дух. жизни: напр. у него при изложении материала „Лествицы“ после 15 слов поставлены слова 18, 19, 20, 21, а потом уже 16, 17, ради, как он говорит, „научного отношения к делу“ „и ради последовательности и стройности изложения учения преп. Иоанна“ (5 стр.). Вот эта то последняя цель и должна бы руководить им во всей его работе. В общем сочинение автора свидетельствует об его весьма тщательном и любовном отношении к делу и читается с удовольствием. Язык у автора довольно изящный и речь стройная.
Степени кандидата богословия он вполне заслуживает“.
б) И. д. доцента иеромонаха Пантелеймона (Успенского):
Автор предпосылает своей работе довольно обстоятельно и толково изложенный план, где он устанавливает,
—354—
что разделение духовного возраста на 30 степеней в „Лествице“ преп. Иоанна имеет внешне-символический, условный характер. „Лествица“ это начертание – не самой духовной жизни, не внутреннего существа ее (так как она есть процесс „восхождения в сердце“, процесс „неприметного преспеяния“, „тайного восхождения“), а наилучшего пути подвижнического течения, или точнее – того, „что потребно и прилично монашескому житию“. Самое же сочинение о. Никиты излагает сначала жизнь преп. Иоанна, а затем процесс духовной жизни по „Лествице“, каковой представлен в трех частях или отделах [1) Отречение от мира, 2) Пребывание на послушании и 3) Пребывание на безмолвии].
Излагая жизнь преп. Иоанна, автор хорошо делает, что пытается согласит разные сказания о происхождении и родителях св. Отца, а также что устанавливает более или менее точно хронологию смерти преп. Иоанна по Fabricius’y, Guillon’y и Архиеп. Филарету (563 г.), но вопрос об образованности св. Отца выяснен автором довольно общо и недостаточно определенно. „Обширная ученость“ преп. Иоанна Лествичника, по словам о. Никиты, состояла в обширной начитанности его в Св. Писании и святоотеческих творениях и в тонком и глубоком отношении к ней. Далее автор говорит; „Много можно было бы привести и других выражений из „Лествицы“ (несколько выражений, говорящих о знакомстве преп. Иоанна с твор. св. Отцов, выше действительно приведено), свидетельствующих об учености преп. Иоанна. Но для нас довольно и того, что она единодушно признается его современниками“ и пр. Если у автора было еще много данных для доказательства учености преп. Иоанна, то напрасно он их не привел.
При описании процесса духовной жизни автор пользуется иногда примечаниями к „Лествице“ (по Оптинскому изд.) в такой же мере, как и текстом самого произведения (стр. 17 обор., 30 об., 77 и др.), между тем как эти примечания хотя переведены с греческого, но принадлежат разным лицам, а не Иоанну Лествичнику. Автор при написании сочинения пользовался „Лествицей“ в переводе нашей Академии, но весьма часто он прибегает и к пере-
—355—
воду по изд. Оптиной Пустыни, делая из него выдержки для пояснения первого перевода. При этом весьма естественно было бы ожидать, что автор скажет нечто о достоинствах и особенностях этих переводов, но такого замечания мы не встречаем у о. Никиты. Между тем это сделать, было бы не лишне и весьма легко, так как уже из чтения работы о. Никиты для рецензента вполне выяснилось, что Перевод Московской Духов. Академии является наиболее точным и дословным, а перевод Оптиной Пустыни – более свободным, выразительным и ясным, лучше передающим дух, смысл и содержание „Лествицы“; поэтому последний перевод, как сделанный с большим знанием дела, и должен быть назван более удачным.
Цитация автора не отличается тщательностью и точностью (напр., автор просто указывает на житие преп. Иоанна, или указывает известное слово из „Лествицы“ и параграф в нем, но не выставляет страницы и пр.). Архиеп. Филарета (Черниговского) о. Никита называет патрологом, между тем как он по преимуществу был историком: даже патрологичсский труд его носит, ведь, не иное название, а именно: „Историческое учение об Отцах Церкви“.
В конце своей работы автор не приложил никакого заключения или послесловия. В содержании, изложении и языке „Лествицы“ есть немало типичных, индивидуальных особенностей, по которым можно и должно было бы охарактеризовать преп. Иоанна Лествичника, как писателя-аскета. Желательно было бы, чтобы автор сравнил преп. Иоанна с другими отцами-аскетами, хотя бы, например, с преп. Исааком Сириным. Ио все это (равно как и то, что сказано по поводу переводов „Лествицы“) относится скорее не к недостаткам работы, а к тем desideria, которые возникают при чтении ее.
Автор не поклонник многословия и водолейства: он не любит говорить лишнего, пережевывать одно и то же по нескольку раз. Работа о. Никиты отличается замечательной стройностью, систематичностью и сжатостью. Язык сочинения вполне отвечает содержанию: рецензент нигде не замет ил лишних слов, неясных и неудачных выражений. Толковое, обдуманное, верное, последовательное изложение мыслей заставляет предполагать в о. Никите не хва-
—356—
стливого. но скромного, честного, трудолюбивого и поэтому полезного труженика. Автор прекрасно и детально изучил „Лествицу“ преп. Иоанна, и это окажет, несомненно, ему в жизни весьма немалую услугу. Таковы положительные качества сочинения о. Никиты, которые по всей справедливости заслуживают ему степень кандидата богословия“.
44) О сочинении студента Сикова Максима на тему: „Опыт систематизации аскетических идей по Добротолюбию“.
а) Ректора Академии Епископа Феодора:
„Задача работы сводилась у автора к тому, чтобы весь материал Добротолюбия распределить по предметно, объединив писания отдельных св. отцов, вошедших в Добротолюбие, а потом из этого предметно объединенного материала попытаться создать систематически объединенное цельное раскрытие или изложение аскетического мировоззрения, или сделать как бы опыт построения системы аскетики по св. отцам. Первая задача работы, более механического характера, выполнена автором видимо тщательно и добросовестно и материала у него оказалось настолько много, что вторую задачу, т. е. изложение его в системе, он мог выполнить только на половину, окончив ее изложением и уяснением общих принципов и началах духовной жизни. То, что должно вводить читателя как бы во внутреннюю лабораторию духовной жизни и интимную сторону подвига, автор не успел изложить, дав только конспект предположенной работы в оглавлении своего труда. Самая система автором предполагалась строиться по следующему плану: Понятие об аскетизме, его общеобязательность, цель и задача, осуществление и формы аскетизма (I гл.). Понятие о грехе, состояние человека невинное и греховное (II гл.). Свобода и благодать, и их взаимоотношение в процессе спасения (III гл.). Обращение человека на путь спасительный: желание спасения, решимость следовать за Христом и покаяние (IV гл.). Настроения спасающегося – ревность, терпение и смирение, как силы, движущие человеком по пути спасения (V гл.) вместе с трезвением и молитвой. Процесс борьбы со страстями (VI гл.) и проявление в человеке духовного совершенства и начал духовной жизни – веры,
—357—
любви и созерцания (VII гл.). Предположенная в таком объеме к построению система конечно требует от автора гораздо более времени и труда, нежели сколько он уделил на нее, начав работу, по его признанию (II стр.), только с апреля месяца и оставив поэтому невыполненной ту часть, которая предположена у него всей V-й, VI-й и VII гл. сочинения. Впрочем мы не придаем особенного значения этой недоконченности работы автора, так как и в том, что сделано им, вполне достаточно выразились все качества и особенности его работы и продолжение труда было бы важно только для него самого в том смысле, чтобы не пропадала его предшествующая чисто черновая и механическая работа. Общий характер сочинения автора очень простой и естественный; по каждому вопросу намеченной им в оглавлении программы своей системы он соединяет и приводит все найденное им у разных св. отцов в Добротолюбии и преимущественно их же словами. Из этой сводки открывается удивительное единство и родство духовного опыта, духовной мудрости и разума св. отцов с сохранением разнообразия оттенков мысли, ее глубины, простоты и ясности в зависимости от индивидуальных особенностей духовной жизни писавших. Автор совершенно устраняется сам от всякого пояснения изложенных им мыслей или делает это очень кратко, только для связи речи, так что система строится действительно святоотеческих мыслей, а не его собственных толкований. Правда на страницах 129–153 автор делает свои примечания по некоторым вопросам аскетики и там уже проявляет свой анализ и синтез в отношении к самому святоотеческому материалу, по делает это особо от системы, в качестве приложения, выделяя тем свое от чужого. Эти примечания очень интересны и служат прекрасным дополнением к тексту. То, что должно особенно заслуживать внимания в труде автора, как его собственное, это конечно самый план системы, по которому он распределяет весь материал Добротолюбия. В общем он вполне удовлетворителен и почти полностью намечает все вопросы, входящие в круг аскетики. Нам, казалось бы, полезным сделать к этой программе пояснение, в котором изъяснялась бы связь отдельных вопросов, пунктов и глав этой предположенной автором
—358—
системы. Почему он, напр., после предварительных замечаний об аскетизме (I гл.) начинает работу с понятия о грехе и какое значение в системе аскетики должно иметь учение о грехе? Это он делает верно, так как самое бытие подвижничества обусловливается греховностью человека, но сущность этой мысли у него недостаточно раскрыта. Далее он говорит о свободе и благодати, как о причине осуществления аскетизма (III гл.). Здесь нужно было пояснить ту последовательность мыслей, по которой в системе аскетики должен следовать вопрос о благодати и свободе. При этом вернее, конечно, называть свободу и благодать не причинами, а средствами к осуществлению задач подвижничества.
Так как эти вопросы не касаются самого процесса подвижнической жизни, то их можно выделить в особый отдел, дополнив его более подробным раскрытием некоторых пунктов христианской антропологии или сотериологии, напр. о деле Христа Спасителя, о св. Церкви и т. п. Не видно у автора в программе его системы разделения внешней и внутренней стороны подвижничества, а разделение пути подвижничества на отрицательный (о страстях) и положительный (о добродетелях) едва ли вполне приемлемо. Впрочем, последнее у него только предположительно намечено, а не выполнено, и нельзя судить по характеру работы, насколько это деление удачно. В общем работа автора производит приятное впечатление и ценна тем, что суммирует весь материал Добротолюбия и в кратком систематическом изложении дает возможность познакомиться со святыми отцами в том вопросе о духовной жизни, которая так мало раскрыта у нас в богословских трудах.
Степени кандидата богословия автор вполне заслуживает“.
б) И. д. доцента А. М. Туберовского:
„Сочинение г. Сикова должно было, согласно плана, представлять собою 8 глав, но, благодаря особым обстоятельствам, в которые был поставлен автор с самого начала учебного года, ему удалось осуществить свой план лишь наполовину. Однако, и в таком объеме работа ст.
—359—
Сикова не может быть признана совершенной. Так, прежде всего, автор ни слова не говорит о самом Добротолюбии: о его происхождении, составе, переводах и пр., начиная свой труд без всякого предварения, ex abrupto. Задавшись целью систематизировать аскетические идеи Добротолюбия, автор злоупотребляет, как нам кажется, выписками из своего источника, приводя их в таком количестве и всюду, что из за них почти не видно самого автора, так что вместо системы у него получилось нечто в роде симфонии. Из отдельных §§ особенное внимание рецензента обращает на себя 1-й. Здесь идет речь о постепенности духовного возрастания, о тяжести подвижничества, но только не об общеобязательности аскетизма, как гласит оглавление §. Слабо, по нашему мнению, разработана также IV часть об обращении, этом исходном, определяющего значения, моменте подвижничества. Впрочем, принимая во внимание, что автор, несомненно, не без усердия и душевной пользы прочел столь великое аскетическое творение, как Добротолюбие, и обнаружил в своем сочинении умение к объединению и согласованию обширного материала, равно как и некоторый психологический анализ (особенно в рассуждении о духе, как образе Божием – II гл., § 1), ничего не имеем против присуждения автору степени кандидата богословия“.
45) О сочинении студента Соловьева Алексея на тему: „Воспитание и педагогические воззрения святых отцов-каппадокийцев“.
а) И. д. ординарного, заслуженного профессора А. И. Шостьина:
„В сочинении г. Соловьева мы находим три отдела. В первом (стр. 2–34) говорится о домашнем и школьном воспитании самих отцов-каппадокийцев (Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского), во втором (стр. 35–206) довольно подробно и обстоятельно излагаются их педагогические воззрения. Оба эти отдела основаны преимущественно на тщательном изучении творений названных отцов Церкви; но в должной мере принята во внимание и относящаяся сюда позднейшая литература (из русских
—360—
Исследователей – труды проф. Лебедева, преосв. Бориса Плотникова, Миролюбова и др., из иностранных – К. Weiss'a, Erziehungslehre der drei Kappadozier). Заимствованный из указанных источников материал изложен нашим автором весьма объективно и в должном порядке. В последнем отношении некоторое недоумение может возникнуть лишь по поводу известной „речи Василия Вел. к юношам о том, как извлекать пользу из языческих, сочинений“. Эта речь помещена автором в главе о нравственном воспитании (стр. 121–144); но, может быть, уместнее было бы рассмотреть ее в следующей главе об умственном образовании.
В третьем отделе сочинения автор занимается сравнением педагогических воззрений св. отцов-каппадокийцев с педагогическими идеалами народов античного мира и педагогическими предписаниями некоторых позднейших педагогов (главным образом – Амоса Коменского и у нас Евсевия, архиеп. Могилевского). Окончательное и неоспоримое заключение нашего автора сводится к тому, что „мысли святых отцов каппадокийцев о воспитании живы и действенны до позднейшего времени, что они всегда имели и будут иметь ценность и значение“ (стр. 274–275)... Но здесь, пытаясь доказать, что в педагогике каппадокийцев можно находить все лучшее, что дала миру античная педагогика, автор выражается так неудачно, что можно заподозрить его в странном убеждении, будто требование безусловного послушания детей родителям св. отцы „перенесли“ из Китая... (стр. 263–264). Конечно, это лишь неудачное выражение, а отнюдь не серьезное убеждение нашего автора. И не видится никакого препятствия к тому, чтобы признать его сочинение весьма удовлетворительным для присуждения ему степени кандидата богословия“.
б) Доцента Н. В. Лысогорского:
„Сочинение студента Соловьева состоит из трех отделов. Первый отведен автором повествованию о воспитании св. отцов каппадокийцев (стр. 2–34): причем почти не уясняется влияние этого воспитания на образование педагогических воззрений названных отцов. Во втором отделе (стр. 35–208) излагаются самые педагогические воз-
—361—
зрения св. отцов-каппадокийцев. Отдел этот наиболее обширный и лучший в сочинении. Автор приложил много труда для изучения творений св. Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского и извлек из них порядочное количество потребного ему материала. Затем автор задался прекрасной целью сравнить педагогические воззрения помянутых отцов церкви с педагогическими идеалами народов античного мира и педагогическими идеями позднейших мыслителей (208–275). Разумеется, здесь автору трудно было работать по первоисточникам, трудно было бы и охватить всю существующую педагогическую литературу. Но в условиях своего положения он сделал достаточно. Степени кандидата богословия г. Соловьев вполне заслуживает“.
46) О сочинении студента Троицкого Николая на тему: „Проповеднические труды Епифания Славинецкого“.
а) Доцента В. И. Виноградова:
„Проповеднические труды Епифания Славинецкого доселе не имели своего специального исследователя, равно как и издателя. Научная литература об Епифании вообще неширока. Г. Троицкому пришлось работать по рукописным источникам, руководясь немногочисленными учеными трудами. Представленное им сочинение свидетельствует, что как с источниками, так и с литературой своего предмета он ознакомился добросовестно. Свои наблюдения автор изложил довольно обстоятельно. Однако раскрыть предмет всесторонне, равно как и дать нечто новое, сравнительно с современным положением научных вопросов об Епифании, к чему автор, к его чести, делает всюду попытки, г. Троицкому не удается вследствие недостатка у него общей историко-литературной перспективы и эрудиции; интереснейший вопрос о принадлежности Епифанию замечательного „слова о милости“ нисколько не подвинулся вперед в своем разрешении.
Степени богословия автор заслуживает“.
б) Экстраординарного профессора священника И. В. Гумилевского:
—362—
„Автор вполне заслуживает степени кандидата богословия за труд собрания и копирования проповедей Епифания Славинецкого (см. Приложение стр. 1–477), за критический труд определения числа подлинных проповедей Епифания Славинецкого (см. II ч. стр. 167–269) и за оценку этих проповедей со стороны их содержания и формы (см. III ч. стр. 270–350). И объем сочинения (1–350+I–III+1–477), и его содержательность, и самый стиль – все говорит в пользу автора, как достойного кандидата богословия.
Недостатки сочинения. Отсутствует критическое обозрение литературы вопроса (общее указание на нее в Введении (стр. 1–18) не может заменить его). Подойдя к вопросу без научной оценки материала – посредника его мысли, автор не выяснился в тех гранях, которыми должны были размежеваться его тезисы в ряде других. Отсюда авторское „я“ и „мы“ не всегда выступает с ясно обозначенным собственным содержаyнием (напр. стр. 40–41, 51, 54 ср. 55–58). – Принимая во внимание тему сочинения, следует отметить, что автор преувеличил значение первой части своего труда: „Биографические сведения Епифания Славинецкого “. Автор увлекся биографией и потому она – почти в стороне от проповеднических трудов Епифания Славинецкого, что вредит единству темы. Практические результаты, которых достиг автор, не искупают этой ошибки: на основании первой части сочинения можно понять, почему проповеди Славинецкого „носят отвлеченный характер “ (он – „Далекий от окружающей его жизни “ (стр. 165) и почему „проповеднических его произведений сохранилось до нашего времени сравнительно ограниченное количество “ (на них он тратил „лишь остаток своего времени“, посвящая последнее преимущественно на „исправление текста наших священных и богослужебных книг“ (стр. 166)... Конечно, такие результаты не требовали биографии почти в половину всего сочинения (166 стр. из 350) и могли быть достигнуты работой в меньшем объеме с чисто гомилетическим характером. – В частности, встречаются погрешности против логики (стр. 167 ср. 270; 132–133), стиля (напр. стр. 61) и орфографии (напр. стр. 61). – Прилагаемые проповеди нуждаются в критическом установлении своего текста... Но все эти недостатки, возбуждая автора к науч-
—363—
ному продолжению своего труда, отнюдь не препятствуют ему быть тем, чего он ищет данным сочинением“.
47) О сочинении студента Херсонского Василия на тему: „Этико-социальная теория А. С. Хомякова“.
а) Ординарного профессора Μ. М. Тареева:
„Этико-социальный угол зрения дает наиболее полное и всестороннее освещение религиозно-философской мысли А. С. Хомякова. Центральной идеей в христианстве он считает церковь, и церковь у него полагается исходным пунктом народно-исторической жизни. Его одинаково интересует и то, чтобы религия, христианство, была социально-практической силой, и то, чтобы народно-историческая жизнь управлялась религией, христианством, чтобы государственные учреждения народа были воплощением православия. По этой своей основной мысли А. С. Хомяков не является одиноким мыслителем: он входит в длинный, можно сказать – в бесчисленный ряд мыслителей, дающих социальное истолкование религиозно-этической идее и религиозно-этическое обоснование социальному строю и праву. В этом ряду числится множество философов и социологов, начиная с греческого Платона и кончая Когеном, который ориентирует этику (и религию) в юриспруденции, Штаммлером, Наторном, Шмоллером, Шэффле, Вагнером и т. д. На этом пути стоит практика Западной церкви (особенно католической) с ее теоретиками-богословами, как католическими, начиная с Фомы Аквината, так и протестантскими; сюда же всецело относится позднейшее христианско-социальное движение. Из русских мыслителей и писателей здесь могут быть названы: другие, кроме Хомякова, славянофилы, особенно Аксаковы, Гоголь, Достоевский, Толстой, Соловьев, из богословов – архим. Феодор (Бухарев). Современные популярные писатели Бердяев, Булгаков... обычно отстаивают идею религиозной общественности. По своей основной мысли Хомяков не может быть назван одиноким мыслителем, хотя его оригинальность проявилась уже в том, что „он первый у нас дал идеи для этики права“. Особенностью учения старых славянофилов, из которых Хомяков был самым видным теоретиком, было то, что они гово-
—364—
рили не о религии, о христианстве вообще, а о православии, и не о народе или обществе, а именно о русском народе. По Хомякову и другим славянофилам, православие – говоря словами проф. Владимирова (А. С. Хомяков etc.) – „чистое православие должно быть воплощено в самой жизни (русского) парода, в его государстве и учреждениях, в такой же цельности, в какой она живет, запросто, без примесей и ухищрений, в душе и быту богоискательного, простого, русского человека“. Это внесло в этико-социальную теорию местную колоритность: в славянофильском учении нагляднее выступают черты этой теории, подобно тому, как заметнее движения окрашенной воды в некоторых физических опытах. В этом интерес этикосоциального изучения Хомякова.
Богословие Хомякова неразрывно связано с его славянофильством, оставившим ценный след в истории русского самосознания, – и это порождает высокую оценку его богословия. Бердяев в своей книге о Хомякове пишет: „Знаменательно, что в XIX веке величайшим богословом православного Востока был светский писатель Хомяков, как величайшим богословом католического Запада был светский писатель Жозеф де Местр. И Хомяков, и Жозеф де Местр ничего общего не имели с школьным богословствованием, с традиционной богословской схоластикой. Это были прежде всего живые люди, люди живого религиозного опыта. Во всяком случае нужно признать, что славянофилы были первыми самостоятельными русскими богословами, первыми оригинальными православными мыслителями. По ним, а не по школьному богословствованию нашего духовного мира, можно судить о существенном в православии, в них больше было жизни православной России, чем у большей части епископов или профессоров духовных. академий, которые богословствуют по профессии, а не по призванию. Юрий Самарин предложил назвать Хомякова учителем церкви. В этом, конечно, было дружеское преувеличение, но была и доля правды. Со времен старых учителей церкви православный Восток не знает богослова такой силы, как Хомяков“... Подобные отзывы бросают вызов присяжному богословию и заставляют его представителей пересмотреть критически богословскую тео-
—365—
рию Хомякова. И очевидно, здесь остается широкое поле для разногласий, если мы знаем, что Μ. М. Филарет, богословский гений которого никем не оспаривается, писал к архим. Антонию о „суемудрии“ Хомякова.
Недостаток этико-социальной теории, иначе – религиозной теории общественности, бросается в глаза. Говоря в терминах Когена, этот недостаток в том, что ориентирование этики в юриспруденции есть одновременно ориентирование юриспруденции в этике, т. е. религиозно-этическое обоснование социальности есть в то же время социализирование этики, сведение религиозно-этической идеи к социальной условности. В применении к теории Хомякова это означает, что „воплощение православия в самой жизни русского народа, в его государстве и учреждениях“ сопровождается смешением христианской идеи с русским бытом. Это делает возможным вопрос, не заключается ли вся оригинальность богословствования Хомякова в его славянофильстве, в его „косоворотке“? По крайней мере В. С. Соловьев решительно заявил, что „в системе славянофильских воззрений нет законного места религии, как таковой, и если она туда попала, то лишь по недоразумению и, так сказать, с чужим паспортом“.
Намеченные интересы и задачи нашли себе место в рецензируемой работе, которой присущи крупные достоинства.
Содержание сочинения г. Херсонского следующее. В предисловии кратко обозревается литература о Хомякове. В главе первой раскрывается „историко-психологический смысл славянофильства“. Тема второй главы: „методология христианской социальной теории Хомякова“. В главе третьей излагаются „этико-социальные заветы А. С. Хомякова: а) взаимное отношение личности, общества и государства, б) семья и общество“. Наконец, в четвертой главе дается „оценка понятия христианской общественности Хомякова“.
С первой строки до последней сочинение написано безупречным литературным языком. С внутренней стороны оно показывает внимательное, вдумчивое изучение сочинений Хомякова; оно дает изложение его теории выпуклое и ясное, без излишних подробностей; теория Хомякова в нем подвергнута последовательной критике. Основной мотив идеологии Хомякова схвачен верно: „жизнь по идее
—366—
церкви – вот главный лозунг и истории, и философии, и богословия Хомякова; он один и тот же и как историк, и как богослов, и как социолог-моралист, или вернее, социолог моралист и в истории, и в богословских трактатах, и в философии“. Суждения автора о славянофильском учении метки и основательны. По всему видно, что автор приступил к своей работе достаточно подготовленным, с выработанными и установившимися воззрениями по затрагиваемым в ней вопросам. Он становится на верный путь, рассматривая теорию Хомякова „с христианско-этической точки зрения“. Он указывает на „роковое для теории славянофилов смешение методов – религиозного и научно-позитивного“, которое „одинаково должно было невыгодно отозваться и на вере, и на науке. Желание обосновать научно русский общественный строй заводит Хомякова в непроходимые дебри научных измышлений, на основании которых Хомяков совершенно серьезно устанавливает, напр., расовое родство англичан со славянским племенем угличан“... С другой стороны, „за религиозную философию истории он выдает чисто субъективные соображения рационалистического характера. Много в его истории отвлеченно-этических рассуждений, за которыми всегда проглядывает конечная цель санкционировать формы социальной жизни, удовлетворяющие запросам национального русского духа“. У Хомякова „христианство, сначала воплощенное им в православной церкви, настолько перемешалось с вековыми устоями древнерусского быта, что все, противоречащее этим устоям, является для него противным также и христианству. Мы бы, – говорит автор, – затруднились ответить на вопрос, что у Хомякова: христианство ли, в идеальном воплощении православия, дает освящение русскому быту, или наоборот, русская община обусловливает собой православие, – то и другое перемешалось взаимно“. „По Хомякову выходило, что православием мы должны дорожить, как необходимой принадлежностью народной жизни, так же, как мы дорожим своим национальным языком, народными обычаями, нравами; служа народности, оставаясь верными началам русского быта, мы тем самым служим и православию“...
Эти верные суждения автора, может быть, не придутся
—367—
по вкусу „модным феологам“, мечтающим о замене царства Христа „царством Утешителя“. Но до них православному богословию, остающемуся верным учению Христа, мало дела.
Степени кандидата богословия г. Херсонский заслуживает вполне“.
б) Экстраординарного профессора священника П. А. Флоренского:
„„Абсолютное христианское сознание“ – вот основная позиция г. Херсонского. Если добавить сюда, что Хомякову в этом сознании он энергично отказывает, себе же, не страдая очевидно ложной скромностью, усиленно приписывает его, то не трудно понять и задачу его сочинения. А именно, „нашею задачей, – говорит Автор в „предисловии“ к своей работе – было показать, что социальное учение Хомякова не отвечает высоте требований христианской религиозной свободы“ (стр. V–VI). Таким образом, сочинение г. Херсонского, от начала и до конца, сознательно и преднамеренно есть прокурорская речь, и задача ее – не уяснить учение Хомякова, а убедить читателя в предрешенном до всякого исследования осуждении его. Г. Херсонский не изучает Хомякова, и даже до такой степени невнимателен к подлинным его сочинениям, что не заметил основной мысли всего учения Хомякова – о необходимости конкретных форм для воплощения абсолютного начала жизни и, вместо того, чтобы принять или мотивированно отвергнуть эту важнейшую сторону славянофильства, приписал Хомякову простое и наивное абсолютизирование условных форм. Г. Херсонский не только не обсуждает проблемы символа, разумея это слово в широком значении, но даже и не подозревает о существовании ее. Но это значит, что он даже не подошел к тому кругу мыслей, в котором одном только может и должно быть рассматриваемо учение славянофилов, и рассуждения его можно уподобить счету по пальцам, примененному в решении задач высшего анализа. Данное г. Херсонским изложение Хомякова может показаться убедительным разве только тому, кто в глаза не видал Хомякова и других славянофилов, и есть, на самом деле, гладко написанный пасквиль на славянофильство. Составленное под углом зрения „абсолют-
—368—
наго христианства“, подобное „изложение“ проходит мимо действительного смысла Хомяковского учения. Понятно, что, превратив Хомякова в слепого идолопоклонника Руси, как простой исторической данности, г. Херсонский без труда трубит победу. Но для такой победы над, Хомяковым не требовалось даже и того рассмотрения Хомякова, какое находим в разбираемом труде. Если г. Херсонский убежден, что его „свободе“ стеснительна всякая форма, как таковая, как будто им доказан где-нибудь дуализм внутренней свободы и внешней формы; если, действительно, „с точки зрения христианской любви для него (христианина) тесен всякий государственный строй, как бы идеально он не был построен“ (стр. 172); если правда, что „христианин мог бы удовлетворится лишь такими социальными отношениями, при которые не существовало бы ни малейшей принудительности, никаких государственных повинностей, необходимо связанных с господством одних и подчинением других“ (стр. 172–173); если Автору „непонятно“, „как условная форма может быть выражением абсолютного духовного идеала“ (стр. 100), как будто его читатель должен заранее верить, что условное не потому условно, что подчинено безусловному, его образующему, а потому условно, что абсолютно несовместимо с абсолютным, т. е. само есть отрицательное безусловное; если, по г. Херсонскому, христианское учение „никогда не выражается адекватно ни в каких внешне-бытовых формах, учреждениях, моральных предписаниях“ (стр. 132), так что даже Церковь приходится рассматривать „как исторически-бытовое общество“ (стр. 132), и если защита какой бы то ни было определенности внешней ведет Церковь „на путь старообрядческого провинциализма“ стр. 133); если признано г. Херсонским, что „религиозно санкционировать условные формы можно только по недоразумению“ (стр. 134); если он до назойливости часто твердит на протяжении всего сочинения о безразличии христианству семейных, общественных и прочих норм жизни; если привнесение христианских начал в область общественных отношений кажется ему „роковым“ даже для теории славянофилов (стр. 99) и если право „совершенно не подлежит этической христианской оценке“ (стр. 92); если, по г. Херсонскому, „христианский Бог
—369—
не вмешивается в течение природно-исторической жизни“ (стр. 168; как будто это течение есть удел Димиурга или Сатаны!) и т. д.; если, одним словом, вся область конкретной жизни, по его убеждениям, не подчинена высшему духовному началу, миру божественному, а независима от него и даже противоположна ему, то что же мог г. Херсонский, при такой предпосылке, сказать о Хомякове? Конечно – лишь то, что „Хомякову недоставало этой (т. е. Соловьевской и Чаадаевской, как в свой черед Соловьеву и Чаадаеву недоставало этой, т. е. абсолютной, усваиваемой себе г. Херсонским) широты религиозного мировоззрения“ (стр. 72); что Хомяковская (разве не вообще русская и православная?) „идея самодержавия, как проявления народного аскетизма и христианского смирения“ есть идея „мечтательно-фантастическая“ (стр. 75); что „личность низводится им на степень простого средства для выражения заложенного в народном организме духовного содержания“ (стр. 79); что для Хомякова „русский быт – претендует на абсолютное христианское достоинство“ (стр. 93) и т. д. Убеждение Хомякова, что только на почве православия может развиться христианская наука, христианское искусство, христианское право и что западная культура должна разложиться, конечно, вызывает у г. Херсонского патетическое восклицание: „Вот к каким странным претензиям приводит Хомякова смешение национальных и религиозных начал“ (стр. 94). Вообще, Хомяков все путал, все смешивал и не умел различать там, где различение как день ясно г. Херсонскому; происходило же это от недостаточности христианского сознания. Так, „Хомякову недоставало сознания, как и вообще всем славянофилам, той истины, что стихия семейственности совсем не входит в фокус христианского зрения“ (стр. 110); „Хомяков не делает основного различия между христианством и теократической иудейской религией“ (стр. 118); „Хомякову недоставало той высоты христианского сознания, на которой положительная ценность и достоинство личности заключается в свободе духовной от каких бы тο ни было внешне условных форм жизни“ (стр. 118). Мало того; „внесение христианского принципа в ограниченную сферу социальных отношений неизбежно должно приводить к неразрешимой антиномии: аб-
—370—
солютный христианский принцип добра, будучи внесен в чужую сферу условных отношений, приводит к заведомо негодным целям“ (стр. 102). „Нужно сознаться, что в руководстве правом общество достигает более возвышенных целей, чем при пользовании славянофилов христианским принципом“, каковым закрепляются условные формы, делающиеся „тормозом на пути прогресса“ (стр. 104).
Основное, десятки раз повторяющееся у г. Херсонского, возражение Хомякову в том и состоит, что Хомяков, якобы, смешивал христианство с условными формами мирской жизни, от чего происходит, вообще, либо „обмирщение христианства, либо урезывание и стеснение природных форм жизни“ (стр. 22). В конечном счете, в основе Хомяковских воззрений лежит не стремление к истине, а эгоистическая приверженность к своему. Это, по мнению г. Херсонского, выяснилось из развития славянофильского учения „в лице Каткова, Данилевского, Леонтьева и современных нам представителей национализма, которые готовы всегда хвалить и отстаивать все русское не за его хорошее, а потому, что все русское им мило, ибо льстит их национальному самолюбию. Гершензон и по отношению к старым славянофилам применяет эту же мерку национализма“... (стр. 23) (воистину, в споре о православии тут не хватало только г. Гершензона! ср. подобные же ссылки на стр. 30 и 70–71). Это обвинение в смешении, даже почти не видоизменяясь, повторяется столько раз, что после прочтения работы г. Херсонского остается удивляться не тому, что эдакому староверу досталось поделом, а тому, что такой бестолковый помещик, не видевший на своем веку ничего, кроме какого-то Богучарова, удостоился чести быть рассмотренным глазами, аккомодированными не ближе как на бесконечность. Понятно далее, что происходит от Хомяковского смешения. Смешивая христианство с бытом, „Хомяков стесняет свободу христианского духа и низводит христианство до степени социально-моральных предписаний“ (стр. 28). „Желание совместить как-нибудь исторический бытовой уклад жизни с религиозным призванием народа мешает Хомякову объективно взглянуть в лице исторических фактов“ (стр. 38), и он даже договаривается до таких заведомых нелепостей, как учение об особой предраспо-
—371—
ложенности русского характера и быта к приятию христианства (– хотя, заметим в скобках, наиболее естественно предположить, что некоторый характер и некоторый быт более других предрасполагают к принятию христианства, равно как может быть такой характер и такой быт, которые христианству наиболее чужды. Хомяков может быть неправым, говоря именно о русском характере и быте; но надо быть ослепленным фанатиком „абсолютного сознания“, чтобы в принципе видеть тут нелепость –). Между тем, продолжает свои рассуждения г. Херсонский, эти мнимо-христианские свойства народа русского, объясняются проще: набегами кочевников; „двухвековое рабство воспитало в народном характере то смирение, которое ставят в связь с сознательной добродетелью христианского смирения“ (стр. 39), тогда как „христианство, как религия абсолютно духовная, и развиваться скорее бы могло на почве духовной свободы и самостоятельности“ (стр. 39). Как повертывается в руке г. Херсонского перо, чтобы сделать кляксу на одежде родного народа! Но если бы он был прав фактически, то, во-первых, почему он не допускает христиански-воспитательного значения страданий, а, во-вторых, почему „духовная (? разве свобода от татарского ига есть свобода духовная? П. Ф.) свобода и самостоятельность“ могут способствовать развитию христианства, а угнетенность оказывается бездейственной. По смыслу учения о „духовной свободе“ надо было бы сказать, что и угнетение, и самостоятельность равно безразличны для христианского сознания, а не делать снисходительно исключения для последней. Впрочем, ниже мы увидим, что это делается г. Херсонским вовсе не случайно, ибо истинный пафос его – вовсе не притязаемая духовная свобода, о которой, конечно, он и знать ничего не может, а самый обыкновенный индивидуализм и гуманизм, прикрывающий свои настоящие ходы разговорами об абсолютности своих целей. Но возвращаемся к возражениям Хомякову. „Точно также, историческим застоем объясняется и столь задержавшаяся у нас экономическая форма общинного владения, в которой личность боится жить и трудиться за свой страх и за все в ответ ставить мир. Хомякову же, казалось, в этой примитивной экономической форме осуществление высшего хри-
—372—
стианского принципа любви, совмещающего в себе интересы мира и общества“ (стр. 39). Но мало того; Хомяков запутывается и в теоретических построениях. „Роковое для теории славянофилов смешение методов – религиозного и научно-позитивного“ „заводит Хомякова в непроходимые дебри научных измышлений“ (стр. 38), возражать на каковые было бы ниже достоинства „абсолютных христиан“ и даже знакомиться с каковыми г. Херсонский счел для себя, по-видимому, излишним. Он ограничивается заявлением: „Научный метод незаконно сжат религиозными тенденциями и по справедливости возбудит недовольство как со стороны поборников положительной науки, так и ревнителей истинных интересов религии“ (стр. 39); представителем и тех и других в данном случае, очевидно, должно подразумевать самого Автора.
Таковы коренные заблуждения Хомякова. Но если они столь явны, то очевидно, не велика честь открыть и истинный путь, по рецепту: „совсем наоборот“. Если Хомяков все смешивает, то надо все разделять; если „Хомяков стремился к тому, чтобы все формы общественной жизни обосновать на вере“ (стр. 51), то надо, следовательно, стремиться к тому, чтобы все они были обоснованы вне веры. Короче, к слову „христианство“ надо прибавить epitethon ornans „абсолютное“, и затем благополучно забыть о существовании какого бы то ни было христианства. Это то и будет истинная социально-этическая теория. Хомякову надо понять, что какие бы то ни было „формы общественной жизни суть такие групповые соединения людей, которые могут оставаться нейтральными в отношении к интимной религиозной жизни человека“ (стр. 41–42) и что „государство развивается по своим природным законам“ (стр. 61, прим. 1). „Хомяков стремится обосновать формы общественной жизни на христианских началах, игнорируя таким образом путь постепенного самостоятельного развития правил и норм человеческих социальных отношений, и заменяя их новыми путем духовно [? Π. Ф.] совершенным“ (стр. 64). Итак, дело не в свободе христианского сознания, а в свободе жизни от христианских требований. Христианство объявляется абсолютным, чтобы, любезно расшаркавшись пред ним, вывести этого неприятного хозяина жизни
—373—
куда-то в пустоту и зажить независимо от него. Это – давно известная борьба гуманизма против аскетизма, борьба протестующего человека против Церкви, борьба мира – против Бога. Но г. Херсонский хочет еще оправдания своей теории от самого же христианства. „Христианство, – говорит он, – не знает и не проповедует своих более возвышенных социальных форм жизни кроме тех, которые вырабатывает человеческий разум. Оно принесло с собой самое радикальное освобождение [! П. Ф.] природно-естественной жизни от аскетического контроля веры, предоставив человеческому разуму самому устраивать мир“ (стр. 169). „Первое и самое главное природное благо – ощущение жизни, благо животного существования; и оно стоит того, чтобы о нем позаботиться“ (стр. 130). „Христианство не предъявляет общественно-социальной жизни каких-либо новых путей, а предоставляет ей развиваться по своим самобытным началам“ (стр. 170). „В выработке социальных отношений христианин предоставляет полную свободу человеческому разуму“ (стр. 173); „христианство удерживает за собой лишь общее направление социального прогресса, постоянно толкая его вперед и никогда не довольствуясь достигнутыми мерами“ (стр. 174). На заповеди христианского самоотречения пытаться строить жизнь, это значит „стараться задавить гнетом аскетической заповеди самые устои социальных форм, которые могут держаться лишь на начале разумно использованного эгоизма, а не христианского самоотречения“ (стр. 165). „Социальная теория, заложенная на теологическом христианском начале) любви, при своем бесплотном характере неприменима для устроения земных отношений“ (стр. 28). Человеческое общежитие „может существовать в человечестве помимо всякой религии. Но Хомяков стремился к тому, чтобы все формы общественной жизни обосновать на вере. – В этой области никаких сомнений у него не могло быть“ (стр. 51). „Нет уж, если допускать христианский универсальный принцип в социальную жизнь, – восклицает Автор, стараясь привести учение о христианском государстве к нелепости а fortiori, – то последовательнее будет принять не примирительную теорию Соловьева, допускающую компромиссы с житейской условностью, а радикальную точку зрения Тол-
—374—
стого, который, задаваясь той же задачей, что и славянофилы, по отношению к социальной жизни христианского принципа, последовательно пришел к отрицанию самых форм социальной жизни: семьи, государства и всей вообще культуры“ (стр. 153–154). „С внешне формальной стороны евангельская мораль выражается в форме абсолютной заповеди: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В таком абсолютном выражении христианская заповедь теряет всякую применимость к общественно-социальным формам жизни. – Ясно, что строить на такой заповеди социальную жизнь, пытаться делать ее законом общественных отношений, значит вносить в жизнь излишний ригоризм, стараться задавить гнетом аскетической заповеди самые устои социальных форм“ (стр. 165). Последнее значило бы „отягощать социальную жизнь непосильной для нее ношей“ (стр. 166). На этой мысли г. Херсонский настаивает множество раз. Но, чем более настаивает он на этом отрицании христианской общественности и христианского государства, тем настойчивее подымается у читателя вопрос, что же, собственно, думает сам Автор по тем вопросам, за попытку христианского решения, которых он упрекает славянофилов. Неужели ничего? Он требует для общественности и государственности свободы от христианства; но неужели же эта свобода нужна ему лишь вообще, без знания, как надо воспользоваться ею? Если с такой требовательностью он ищет возможности самоопределения, самозаконности, самоутверждения человека, как члена общества и государства, то неужели мысли его не предносится некоторое положительное решение социально-политических вопросов? Г. Херсонский, понятно, не находит нужным разъяснять способы этого решения, как стоящего вне его темы. Но характер упреков его Хомякову достаточно ясно показывает, что предмет его беспокойства – не абсолютность христианства, а нечто такое, ради чего не стоило обсуждать ни Хомякова, ни христианство, тем более – „абсолютное“.
„Хомяков стремится обосновать формы общественной жизни на христианских началах, игнорируя таким образом путь постепенного самостоятельного развития правил и норм человеческих отношений, и заменяя их новым путем духовно совершенным“ (стр. 64). Это „постепенное
—375—
самостоятельное развитие правил и норм человеческих отношений“ должно, по мысли Автора, вести к социализму невнимание „к этому последнему и есть истинная вина Хомякова. Отношение Хомякова к социализму безусловно отрицательное; тем не менее социализм, не как, конечно, мировоззрение, а как экономическая теория более равномерного распределения земных благ и могла бы заслуживать внимания, но только не со стороны Хомякова“ (стр. 95). „Надо же согласиться, – тоном раздражения высказывает Автор мысль, кажущуюся ему самоочевидной – что всякая социальная группа есть ограниченная условная форма общежития, которая может преследовать и интересы лишь чисто земные, временно условные, ограниченные“ (стр. 100). Но если – так, то и рассуждать далее не о чем. „Отрицательное отношение Хомякова и Достоевского к социализму, во имя высших мотивов любви к человечеству, само по себе довольно поучительно“ (стр. 102), как пример того, что „абсолютный христианский принцип добра, будучи внесен в чужую сферу условных отношений, приводит к заведомо негодным целям“ (стр. 102). Отрицание социализма для г. Херсонского есть заведомо негодная цель, последнее слово для доказательства негодности религиозного настроения. Чем же живет сам Автор? Притязаемым ли абсолютным христианством, или верой в „условные отношения“, но только не защищаемые Хомяковым, а некоторые иные, не подчиненные „аскетическому контролю веры“. И не есть ли этот критерий г. Херсонского доказательство того, что речи его о духовной свободе и о высоте христианского сознания, неведомой ранее христианам, – пустые разглагольствования, которыми прикрывается скромная, по твердая, вера в мир сей, в себе замкнутый и себе довлеющий, для духовных сил непроницаемый и противостоящий „христианскому Богу“? „Религиозная мысль древнего мира не могла достигнуть той высоты религиозного полета, на которой дух перестает притягиваться землей и приобретает царственную свободу вне зависимости от внешних форм жизни... Между тем христианство есть совершенно новая [,] высшая ступень религиозная, на которой человек с царственной свободой начинает совершенно безразлично относиться к самым формам условной жизни“
—376—
(стр. 164). Не слишком ли много берет на себя Автор? Царственная свобода есть плод подвига, а не голое притязание, и состоит она не в безразличии к формам жизни, а в силе их одухотворяющей. Мнимое же безразличие проповедуется, обычно, не во имя свободы духа, а во имя свободы падшей и во грехе лежащей плоти. Вот почему, критика Хомякова, данная г. Херсонским и развиваемая вовсе не в применении к Хомякову именно, а вообще применительно ко всякой теории христианского общества, не внушает доверия. Что же касается, собственно, изучения Хомякова, то оно представлено в разбираемом сочинении весьма недостаточно, да Автор, по-видимому, и не ставил таковое своей задачей.
Впрочем, сочинение г. Херсонского написано гладко и, в своем роде, умело; кое-что из литературы, правда мало относящейся к теме, прочитано им; мысль г. Херсонского не отличается глубиной, но упорна в проведении определенного тезиса. Степени кандидата г. Херсонский может быть удостоен“.
48) О сочинении студента Холмогорова Сергея на тему: „Сношения еврейских царей с иностранными дворами и влияние этих сношений на религиозно-нравственную настроенность и на придворную жизнь царей еврейских“.
а) Ординарного профессора Д. И. Введенского:
„Обширное сочинение студента Холмогорова состоит из перечня источников и пособий, краткого введения и девяти глав. Во введении автор замечает о царях, как о лицах, поведение которых имело влияние на религиозную и социальную жизнь евреев. В 1-й главе г. Холмогоров говорит о географическом положении Палестины, благодаря которому евреи находились под постоянным влиянием иноплеменников, прививавших евреям свой культ и свою распущенность. Во 2-й главе говорится о возникновении царской власти и о личности первого царя – Саула, который скоро стал преступником воли Божией и сделал целью всех своих стремлений самую власть – „властвование“, чем „покусился низвести судьбу своего народа из области Божественного ведения в темную область естественной
—377—
борьбы сил“. В главах 3–7-й автор говорит о Давиде, Соломоне, о разделении еврейского царства, об Ахаве и о царях из дома „Омри“. В главах 8–9-й автор говорит об отношении к Ассирии царей иудейских и израильских и о конце этих царств, каковой конец во многом был обусловлен распущенностью царей и князей еврейских.
Чрез все сочинение г. Холмогорова проходит основная мысль о пагубном влиянии иноплеменников на религиозно-нравственную настроенность царей еврейских, а чрез них и чрез их двор и – на жизнь евреев. Это основное положение автор всюду иллюстрирует фактами – и особенно из жизни тех царей, о жизни и деятельности которых сохранились наиболее полные сведения в священных ветхозаветных книгах. Таковы, напр., Давид, Соломон, Ахав.
Имея в виду данные Библии, г. Холмогоров пользуется и данными, заимствованными им у ассириологов, египтологов, иудейских и классических писателей, дающих иногда ценные сведения о народах древнего мира, с царями которых сносились цари народа еврейского. Такие справки сообщают особый интерес работе г. Холмогорова, поскольку вне-библейские свидетельства разъясняют и пополняют общие, но очень точные замечания Библии о богатстве, роскоши и распущенности нравов народов, живших в соседстве с евреями. Много таких интересных справок приводится, например, автором при выяснении особенностей придворной жизни во времена Соломона и при описании богатства и восточной роскоши, всюду замечавшихся во дворце Соломона.
Но давая, в целом, довольно полную иллюстрацию тех ненормальных явлений в религиозной и социальной жизни Израиля, которые обусловливались во многом преклонением еврейских царей пред культом и обычаями иноземных царей, автор допустил в своем сочинении и некоторые неточности.
Так, его категорическое утверждение, что „время замкнутого существования еврейского народа кончается с учреждением монархии“ (стр. 1), не может быть признано правильным. Библия дает ряд указаний на то, что еще во времена судей израильтяне увлекались культом и обы-
—378—
чаями иноплеменников. И самое желание израильтян иметь царя указывает на то, что евреи до времени царей хорошо были знакомы с иноземными обычаями и установлениями – и появление царской власти во времена Самуила в значительной степени обусловливалось примером иноплеменников, имевших царей.
Нельзя признать обоснованным в целом объеме и другое утверждение автора, что цари были „органами божественного воздействия на народ“ (стр. 3). В чем же тогда была особенность пророческого и священнического служения?
Рецензент не может также признать правильной характеристику Саула, как человека „недальновидного“ (стр. 37). Такая характеристика нисколько не определяет настроения царя-богоотступника. Недальновидность может быть извинена; сознательное же противление воле Божией не имеет ничего общего с „недальновидностью“.
Свои справки из области египтологии, напр., по вопросу о походе Сусакима (стр. 197) в Палестину, автор заимствует из Бругша и Ленормана. Но в настоящее время имеется много доступных и самому автору материалов, где предлагаются новейшие данные, которые могли бы способствовать разрешению вопроса относительно похода Сусакима на Палестину.
Под понятие „сношение“ еврейских царей с иноплеменниками автор подводит завоевательные походы на Палестину ассирийских и египетских царей, чем переставляет центр тяжести, трактуя более о воинских подвигах царей-иноплеменников, чем о царях народа еврейского и об их сношениях с иноплеменниками. Это мы должны сказать в особенности о второй половине сочинения автора.
Встречается у г. Холмогорова и несколько неточных выражений. Так, например, он пишет: „истинный Израиль был превращен им (Соломоном) в слабое подражание Египту, в бледное отражение Финикии“ (стр. 162). Едва ли можно превратить народ „в слабое подражание“...
В другом месте, автор пишет: „союзы с языческими монархиями отодвинули древнюю веру на задний план“ (стр. 177).
Для нас странно разграничение „древней веры“, предпо-
—379—
лагающей какую-то новую веру, тогда как у автора идет речь о единой вере в истинного Бога.
Отмечая в сочинении г. Холмогорова указанные недочеты, мы должны сказать, что все они почти не затрагивают существа работы автора, а главным образом обременяют ее излишним балластом, без которого довольно основательное в целом сочинение выигрывало бы в стройности и соразмерности отдельных частей.
Принимая во внимание наличность значительных достоинств работы г. Холмогорова, мы признаем его сочинение хорошей кандидатскою работой“.
б) Экстраординарного профессора священника В. А. Воронцова:
„Сочинение г. Холмогорова полно охватывает предмет, подлежавший его исследованию, и скорее заслуживает упрека в сообщении второстепенных для тематического вопроса подробностей, чем в каких-либо опущениях. Интересный и важный для библейского историка вопрос получил здесь разностороннюю разработку, для каковой нашему автору пришлось перечитать не мало пособий. Общеизвестное положение, что язычники оказывали вредное в религиозно-нравственном отношении влияние на ветхозаветного Израиля, здесь фиксируется на живых примерах из библейской старины. Сообщения о внешних столкновениях евреев с язычниками, хотя бы во времена войн, могут быть оправданы тем соображением, что и неприязненные действия не проходят бесследно для изменения духовного облика сражающихся под взаимным воздействием“.
49) О сочинении студента Щукина Александра на тему: „Преподобный Петр Дамаскин и его аскетические взгляды“.
а) Ректора Академии Епископа Феодора:
„Автор взял для своей работы совершенно не обследованный в научной богословской литературе предмет. И нужно искренно удивляться тому мастерскому выполнению им своей задачи, какое мы видим в его сочинении. Постановкой своей работы он охватил все существенные стороны, которых и должна касаться научная мысль в
—380—
работах подобного рода. Личность преп. Петра Дамаскина, время его жизни, особенно его литературные труды, все это, точно не установленное и не обследованное, г. Щукин тщательно обследует и дает читателю в результате своих изысканий более или менее определенные и приемлемые за наиболее вероятные положения. Очень важным результатом его работы прежде всего нужно считать установление даты жизни преп. Петра Дамаскина, именно ХII-й век, а не VII, VII или другой более ранний; места его рождения и устранение неясностей касательно его личности (см. I-ю главу), в частности, отожествления его с Петром, митрополитом Дамасским, жившим в VIII в., и родственником св. Иоанна Дамаскина. Нужно сказать, что автор этому вопросу о личности преп. Петра Дамаскина посвятил серьезное внимание и это вполне естественно, так как это обосновывало всю его дальнейшую работу. Так же тщательно обследован автором и вопрос о литературных трудах преп. Петра Дамаскина. Этому вопросу он посвящает свою II главу (65–117 стр.) и здесь тщательно перечисляет все известные списки рукописей с творениями преп. Петра Дамаскина, хранящихся в Афонских монастырях, Парижской национальной библиотеке и в нашей Синодальной Московской. В последней автору удалось найти „до сих пор неопубликованное слово Петра Дамаскина „о трех силах души“ в рукописи XV в.“ (96 стр.). Задача дальнейшей работы автора, которую желательно от него иметь по данному вопросу, м. пр. должна выразиться в переводе и напечатании этого слова „о трех силах души“ и в более строгой классификации печатных и рукописных трудов преподобного, находящихся ныне в разных книжных сокровищницах. Напр., у автора является непонятным во II-й гл. отдел о печатных изданиях (74 стр.), где наряду с печатными трудами перечисляются рукописи (см. стр. 79–92–104). Это особенно бросается в глаза при чтении сочинения потому, что вообще-то, автор чрезвычайно точен в своей работе, у него прекрасный, ясный язык, отчетливость и выдержанность в постановке и в уяснении всякого вопроса. И эти прекрасные качества научной работы особенно у него сказались в III-й и IV-й гл., где он излагает сжато, точно и система-
—381—
тично аскетические взгляды преп. Петра Дамаскина. Нам показалось только не достаточно ясным раскрыт вопрос о богоподобии человека по учению Петра Дамаскина (стр. 128), да вопрос о причинах аскетизма автор кажется смешивает с вопросом о цели и задачах его (стр. 172, 185). Впрочем, это очень несущественные недочеты его прекрасного труда, свидетельствующего о способности автора к серьезной научной работе. Степени кандидата богословия он вполне заслуживает “.
б) И. д. доцента иеромонаха Пантелеймона (Успенского):
„Сочинение г. Щукина написано по строгому плану и разделяется на четыре главы. В первой главе автор обозревает западную, греческую и нашу русскую литературу о преп. Петре Дамаскине, устанавливает хронологию его жизни и дает самое жизнеописание св. Отца. История не сохранила нам о Петре Дамаскине почти никаких сведений: нам не только ничего неизвестно о жизни св. Отца, но даже самое время его жизни определяется то 8, то 12 веком. Однако автор пытается найти твердую почву для определения его эпохи, в конкретных чертах изображает политическое и религиозно-нравственное состояние Византийской империи в данную эпоху, старается согласовать данные истории об этой эпохе с данными творений пр. Петра и, наконец, на основании последних главным образом пытается представить жизнь и подвижничество преп. Отца. Некоторые параграфы первой главы (каковы: „Период литературной деятельности с 1157 г.“ и следующие два) представляются для рецензента не необходимыми и даже излишними, так как заключают в себе отчасти повторение того, что сказано в параграфе о подвижничестве преп. Петра.
Вторая глава о литературной деятельности преп. Петра Дамаскина дает обзор его сочинений (поэтому ее лучше было бы назвать: „Сочинения преп. Петра Д.“). Здесь автор указывает рукописные кодексы с сочинениями пр. Петра, существующие в библиотеках Афонских монастырей, в Парижской национальной библиотеке и в нашей Синодальной, излагает историю переводов и печатных изданий творений изучаемого Отца и затем делает пере-
—382—
чень как подлинных, так и подложных сочинений преп. Петра, причем здесь же излагает и общее содержание сочинений, за исключением немногих из них. По словам автора, трудно допустить, чтобы Петр Д. был автором приписываемых ему отрывков о причащении, потому что он не был ученым богословом (стр. 108–109). Для этого, действительно, нет твердых данных, но аргумент автора едва ли является в данном случае веским. Для того, чтобы высказать мысли, заключающиеся в названных отрывках, совсем не требуется быть ученым богословом, и аналогичные мысли о причащении (евхаристии) мы действительно встречаем у некоторых неученых Отцов-аскетов (напр., у Симеона Н. Б.).
3-ю и 4-ю главу сочинения г. Щукина можно назвать второй частью или отделом. Автор излагает в них аскетические взгляды Петра Д. В 3-й главе он дает обоснование и определение аскетизма согласно писаниям преп. Петра, выясняет внутреннюю необходимость аскетизма, анализирует это понятие с разных сторон и в конце концов определяет православный христианский аскетизм, как „усилие воли при содействии благодати к достижению богоподобного совершенства, начертанного жизнью и учением Г. Иисуса Христа“ (стр. 192). Мысли автора по вопросам аскетизма обнаруживают не поверхностный, а вдумчивый взгляд и некоторое понимание дела, что в студенческих работах встречается довольно редко. „ В учении о душе, пишет автор, о составных частях ее и тела преп. Петр Д. находится под влиянием св. Иоанна Дамаскина“ (стр. 128), по вернее было бы сказать – не Иоанна Дамаскина, а вообще отеческой антропологии, лучшим выразителем которой был И. Дамаскин. И далее довольно искусственно автор старается сблизить антропологию последнего с антропологией Петра Д. (особенно стр. 134–135). В 4-й главе автор изображает процесс духовной жизни по твор. преп. Петра, начертывая своего рода „Лествицу“ постепенного восхождения к совершенству. Как в этой, так и в предыдущей главе автор иллюстрирует некоторые мысли Петра Дамаскина выдержками из св. Отцов (Василия Вел., Григория Богосл., Исаака Сир. и др.) и из общих и частных монографий по аскетике. Все это – не худо, но этот побоч-
—383—
ный материал лучше было бы отнести под строку, чтобы самый текст сочинения представлял одно стройное изложение аскетической системы изучаемого Отца.
Присоединяя к сочинению заключение, автор видит у преп. Петра Д. мало оригинальности по сравнению с другими писателями-аскетами и два его главных труда сопоставляет с двумя важнейшими сочинениями ей. Феофана Затворника. Но если бы автор ближе был знаком с аскетическими творениями Отцов, то, быть может, он заметил бы у Петра Д. и некоторые черты оригинальности и самостоятельности, и скорее сопоставил бы его, напр., с И. Лествичником (в учении о семи телесных деланиях) и с Исааком Сириным (в учении о восьми мысленных ведениях), а не с Феофаном-Затворником.
Кроме сделанных замечаний к работе г. Щукина, можно указать еще на некоторые мелкие недостатки в ней. Таковы: неточность перевода некоторых греческих слов и выражений (стр. VII, 61, 100–1); цитируя Никодима Святогорца, автор почему-то везде, вместо ἀγιορείτου пишет ἀγιοπείτου (стр. III, XII, XIV); из Ламброса автор переделал Ламброзо (60–61, 67); некоторые святоотеческие выдержки процитированы из вторых рук; в некоторых местах опущены запятые.
Но несравненно в большей степени работа г. Щукина обладает достоинствами, и довольно крупными. Автор тщательно собрал и изучил все существующее в литературе о преп. Петре Дамаскине. Он умело воспользовался теми скудными данными, какие имеются о личности, времени, происхождении, образовании и подвижничестве прей. Петра. Автор не только просмотрел в разных каталогах рукописи с творениями Петра Д., но две рукописи Синодальной библиотеки (№№ 178 и 421) даже использовал; им не только прекрасно изучен текст переведенных на русский язык творений св. Отца, по переведен (для себя) с рукописей текст двух неизданных сочинений Петра Д. (О хранении заповедей Господних и о 3-х силах души), что видно из довольно обстоятельного обзора содержания этих сочинений. Однако автор имел бы еще большую заслугу, если бы дал в приложении к своей работе текст и перевод этих сочинений преп. Петра. В конце почти каждого параграфа автор делает точные и ясные выводы
—384—
и связывает, таким образом, свое изложение в стройное и последовательное целое. В некоторых случаях автор высказывает собственные соображения и вообще обнаруживает некоторую самостоятельность мысли. Цитация у автора везде отличается тщательностью и точностью. Слог у автора – чистый, литературный, изложение отчетливое, ясное и простое: поэтому работа его читается легко и скоро.
Сочинение г. Щукина не только заслуживает степени кандидата богословия, по и должно быть отмечено, как образец систематичной, аккуратной и вообще серьезной работы“.
Справка: 1) Устава духовных академий:
а) § 164: „При составлении списка по окончании выпускных экзаменов на IV курсе принимаются во внимание успехи студентов за все годы академического образования“.
δ) § 165: „Студенты IV курса, представившие удовлетворительное курсовое сочинение и за все пребывание в Академии не получившие ни одного неудовлетворительного балла, утверждаются в степени кандидата богословия и причисляются: при среднем выводе за все года обучения не менее 4½ к первому разряду, а при среднем выводе не менее 3½ – ко второму“.
в) § 166: „Студенты, оказавшие за время обучения в Академии удовлетворительные или и лучшие успехи, но представившие сочинение, неудовлетворительное для степени кандидата богословия, или вовсе, по уважительной причине, не представившие сочинения, получают звание действительного студента“.
г) § 167: „В случае непредставления студентом IV курса курсового сочинения без уважительной причины, он выпускается из Академии с свидетельством о выслушании им академических наук“.
д) § 168: „Лица, выпущенные из Академии с званием действительного студента по неудовлетворительности курсового сочинения, могут впоследствии получить степень кандидата богословия, если представят соответствующее цели сочинение, вновь написанное или переделанное из прежнего неудовлетворительного. Если яже причиной неполучения кандидатской степени был недостаточный средний балл по устным ответам или письменным работам,
(Продолжение следует)
Жданов А.А. Из лекций по Священному Писанию Ветхого Завета / Под ред. проф. Ирером. Варфоломея // Богословский вестник. 1916. Т. 2. № 7/8. С. 49–64 (4-я пагин.). (Продолжение.)
—49—
ный им во введении в книгу, правильно и однообразно повторяется там, где он делает переход от одного повествования к другому; слова «сделали сыны израилевы злое пред очами Господа и забыли Господа Бога своего и служили Ваалам и Астартам» – составляют неизбежный пролог каждого отдельного рассказа. «Воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки такого-то врага» – это первое, необходимое следствие отступления от Иеговы. Тяжелый гнет рабства всегда возбуждает в народе раскаяние и обращение к Иегове: «и возопили сыны израилевы к Господу». – За этим обыкновенно следует освобождение от рабства тем или другим избранником Божьим. Таким образом, отступление от Иеговы, порабощение, раскаяние и освобождение непрерывно чередуются в истории Судей и наполняют собой все содержание эпохи. Исторический прагматизм, проведенный автором в книге, и общий взгляд на характер деятельности замечательных личностей еврейской истории, подведенных под одно понятие шофетим, характеризуют не столько описываемую им эпоху, сколько его собственный склад мышления, религиозные и политические идеалы современной ему исторической действительности, принадлежавшие новой только что зарождавшейся общественной силе, именно: невиим – пророкам, которые при Самуиле начинают приобретать влияние на народную жизнь и получают прочную организацию (в так называемых пророческих школах).
d) Хронология книги и эпохи Судей
При изъяснении содержания книги Судей особенного внимания толкователя заслуживают, во-первых, хронология книги, во-вторых, многие характеристические факты религиозной жизни народа в эту эпоху, которые стоят в видимом противоречии с установившимися взглядами на историю религиозного развития Израильтян.
Хронологический порядок в расположении событий периода Судей заслуживает особенного внимания. Хронология книги Судей издавна и до настоящего времени продолжает быть предметом оживленных споров между исследователями, и сопоставление ее с хронологическими указаниями
—50—
других книг Ветхого и Нового Завета, касающихся того же периода, порождает множество разнообразных попыток примирения и соглашения противоречивых данных. В новейшее время бесплодность и бездоказательность многих попыток подобного рода побудила даже некоторых представителей критической школы признать всю хронологию книги субъективным измышлением ее писателя. Кроме отдельных и дробных цифровых, указаний самой книги, при определении общей продолжительности всего периода Судей, библейская наука располагает различными несогласными между собой данными: во-первых, в книге Деяний (Деян.13:19–20) Апостол Павел в своей проповеди, обращенной к жителям Антиохии Иисидийской, говорит: «Бог, истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю сию и после сего, около 450 лет давал им Судей до пророка Самуила». В этих словах неясным представляется один только пункт: входят или не входят в общий итог годы деятельности Самуила. Если входят, то число 450 будет приблизительно определять продолжительность всего периода Судей; если не входят, тогда нужно прибавить к этой сумме от 20 до 40 лет деятельности Самуила до вступления на царство Саула, и получится несколько менее 500 лет. Таким образом, по книге Деяний, эпоха Судей должна обнимать собой от 450 до 500 лет с приблизительной точностью. Во-вторых, Иосиф Флавий в 11 книге Древностей Иудейских для всего периода указывает круглую цифру 500 лет, и в этом случае его показание почти совпадает с показанием Ап. Павла.
В-третьих, писатель 3-й книги Царств в 6-й главе сообщает следующую хронологическую дату относительно времени построения храма (3Цар.6:1): «в 480 году по исшествии сынов израилевых из земли Египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зиф, который есть второй месяц, – начал он строить храм Господу». Чтобы определить время деятельности Судей, от 480 лет нужно отнять 40 лет странствования по пустыне, неизвестное число лет управления Иисуса Навина (от 17 до 25, причем эти цифры основаны только на догадках древних и новых историков библейских), неизвестное
—51—
число лет от смерти Иисуса Навина до порабощения Израиля Хусарсафемом, 3 года царствования Соломона, 40 Давида, 40 Саула, т. е. всего около 200 лет, – тогда продолжительность периода Судей сокращается до 280 или 300 лет.
В-четвертых, в 11-й главе книги Судей, Иеффай, чтобы доказать незаконность притязаний царя Аммонитян на за-иорданские области, ссылается на право давности и говорит (Суд.11:26): «Израиль уже живет 300 лет в Есевоне и в зависящих от него городах». Заиорданские области были завоеваны еще при Моисее; следовательно, в эти 300 лет входят годы деятельности Иисуса Навина, его преемников-старейшин до Гофониила, всего около 50 лет по общепринятому счислению, а потому от начала периода Судей до Иеффая прошло около 250 лет. Присоединяя к этому остальные цифровые данные книги, получим общую сумму в 300 лет слишком, maximum в 350 лет. В этом случае книга Судей почти совпадает в своих показаниях с 3-й книгой Царств.
Наконец, в-пятых, если по примеру древних Иудейских и христианских толкователей сложить все числовые данные книги, включив в общий итог годы порабощения, мира и управления каждого Судьи, то они дадут общую сумму 410 лет. Если бы на основании этой цифры мы захотели определить время от исхода из Египта до построения храма, то должны были бы прибавить к ней еще свыше 200 лет, т. е. получить итог свыше 600 лет. Этот результат расходится приблизительно на 200 лет с точным указанием 3-й книги Царств.
Таким образом, общая продолжительность периода Судей по различным хронологическим указаниям колеблется между тремя и пятью столетиями.
В основе хронологических определений ап. Павла и Иосифа Флавия лежит обыкновение позднейших времен Иудейской церкви сводить к одному общему итогу все отдельные цифры, указанные в книге. Этот прием новейшими исследователями библейской хронологии оставлен; они твердо держатся указанного в 3-й книге Царств числа 480 и определяют продолжительность эпохи Судей, согласно также со словами Иеффая, в 300 лет с небольшим. Чтобы согласовать отдельные цифровые данные книги с этим
—52—
общим итогом, одни исследователи поступают так: события, следующие в повествовании книги Судей в непрерывном порядке, разбивают на отдельные группы, соответственно различию географических пунктов, к которым они приурочиваются, и рассматривают их синхронно, т. е. признают их совершавшимися одновременно, но в различных пунктах Палестины. Другие исследователи, для сокращения периода Судей, опускают годы порабощения, утверждая, что они совпадают с годами покоя или с годами управления отдельных Судей. Первый способ заслуживает предпочтение, потому что для него есть некоторые основания в библейском тексте. Напр., в 10-й гл. (Суд.10:7) сказано, что Иегова предал израильтян в руки филистимлян и аммонитян. По географическому положению аммонитяне могли угнетать за-иорданские области, а филистимляне израильтян Ханаана. Поэтому Keil считает современниками с одной стороны Иеффая, Есевона, Елона и Авдона, которые действовали на востоке Палестины против аммонитян, с другой Самсона, Илия и отчасти Самуила, которые боролись на Западе, в Ханаане, с филистимлянами1288.
Но это основание представляется недостаточным, так как после упоминание об Авдоне в конце 12-й главы писатель в 13-й главе начинает повествование о филистимском иге обычными словами: «сыны израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на сорок лет». Кроме того ни откуда не видно, чтобы Есевон, Елон и Авдон действовали против аммонитян, и по месту жительства они принадлежали к обитателям Западной Палестины: Есевон был родом из Вифлеема (или Иудина, или, вероятнее, Завулонова), Елон принадлежал к колену Завулонову, Авдон жил в пределах Ефремова колена. Бунзен в своем известном Bibelwerk’е распространяет синхронизм на более раннюю эпоху и сокращает весь период Судей до 187 лет, но при этом он руководствуется пока еще сомнительными данными египтологии и ассирологии, которые невозможно поставить в параллель с эпохой
—53—
Судей, и, по собственному усмотрению, опускает десятки лет, напр. из 40 лет Гофониила берет только 8, из 80 лет покоя земли при Аоде делает также 8 и пр.1289
Неубедительность и произвол всех доселе представленных попыток примирения привела многих к совершенному отрицанию достоверности и того общего основания, на котором опирается хронология всего периода, т. е. свидетельства 3-й книги Царств о построении храма в 480-й год по исходе из Египта.
Число 480, по Reuss’y и Riehm’у1290, не дает точной хронологической даты, но только приблизительную. Оно, как кратное 40 (12×40), представляет среднюю продолжительность жизни 12-ти последовательных поколений из которых на каждое полагается 40 лет. Откуда же видно, что счет идет по поколениям и число 480 получилось именно таким образом? – Из того, будто бы, что число 40 слишком часто встречается в библейской хронологии, а, следовательно, счет по сорокам был общеупотребителен; указывают на 40 лет странствования по пустыне, 40 лет правления Гофониила, 2×40 Аода, 40 Варака, Гедеона, Илия, Давида, Соломона, ½ 40 Самсона и пр. Но наряду с этими цифрами в книге же Судей встречаются и другие: Авимелех царствовал 3 года, Фола управлял 23, Иаир 22, Иеффай 6, Есевон 7, Елон 10, Авдон 8; годы рабства различным народам также обозначены цифрами 8, 18, 7 и под. В книгах Царств этого рода примеров можно отыскать еще более. В объяснение этого обстоятельства прибегают к предположению, что те места книги Судей, где указан счет по сорокам, заимствованы из одного источника, а где приводятся иные числа, из другого.
Все усилия отрицательной критики поколебать единственный твердый опорный пункт библейской хронологии основаны или на заведомо ложных, или недоказанных предположениях.
Писатель 3-й книги Царств ясно показывает, что приведенное им число 480 не есть число круглое и приблизи-
—54—
тельное – он говорит: «в 480-м году по исшествии сыном Израилевых из земли Египетской, в четвертый год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зиф, который есть второй месяц, начал он строить храм Господень». Это хронологическое указание не оставляет желать большего со стороны точности, и весьма возможно, что год исшествия израильтян во времена Соломона был известен с математической точностью, помимо национальных исторических памятников, не сохранившихся до нашего времени, от египтян, с которыми Соломон поддерживал оживленные сношения и даже вступил в родственную связь, женившись на дочери Фараона.
40 лет, как число, определяющее среднюю продолжительность жизни одного поколения, не соответствует климатическим особенностям Палестины и близких к ней стран, потому что жители юга достигают зрелости в более раннем возрасте, и одно поколение сменяется другим в более краткий промежуток времени. Позднее, напр., в книге пр. Иеремии, поколению указывается 20–25-летний срок существования.
Два мнимо различных счета по сорокам и по другим числам, не кратным сорока, невозможно согласовать с различием первоисточников книги: в одной и той же главе оба счета идут один за другим, напр., в 3-й главе читаем: «служили сыны Израилевы Хусарсафему 8 лет» (Суд.3:8); «покоилась земля при Гофонииле 40 лет» (Суд.3:11); затем, «служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, 18 лет (Суд.3:14); после того при Аоде «покоилась земля 80 лет» (Суд.3:30) и т. д. По различию хронологических указаний пришлось бы разделять одно и то же повествование почти постишно, но в филологических и исторических особенностях книги эта операция не найдет себе никакого подтверждения. Поэтому нет никаких уважительных причин отрицать точность и достоверность хронологической даты в 3-й книге Царств; следует также признать правильным мнение о синхронизме некоторых событий в книге Судей, мнение, лежащее в основе наиболее рациональных попыток соглашения; далее нет оснований сомневаться в точности отдельных хронологических данных книги Судей относительно лет, покоя, порабощения
—55—
и правления Судей. Тем не менее, необходимо отказаться от мысли представить полную, подробную и точную хронологию книги, потому что в самой книге нет никаких данных для определения, какие именно группы событий нужно считать синхронными; от начала до конца книги повествования идет в непрерывной хронологической последовательности. Неясность и запутанность хронологии книги Судей, как кажется, можно удовлетворительно объяснить из условия ее происхождения. Автор при написании книги, как мы видели, пользовался записями или преданиями, возникшими в различных местностях Палестины, – то на севере (повествования о Деворре и Вараке, песнь Деворры), то на востоке, в Галааде (Иеффай), то на юго-западе (о Самсоне), то в центральной Палестине (о Гедеоне) и др. Эти циклы исторических преданий, различных по своему племенному и географическому происхождению, без сомнения, заключали в себе и хронологические данные, которые для каждой местности или группы колен имели свое самостоятельное значение. Писатель, соединяя разрозненные предания отдельных народных групп в одно целое, с известной общей точки зрения, естественно, не имел возможности согласовать хронологические указания отдельных групп между собой, если бы он и хотел это сделать. Но он и не преследовал этой цели, потому что период Судей со всеми событиями служил для него лишь только пояснением – иллюстрацией известных общих идей. Поэтому писатель расположил различные повествовательные группы рядом одна с другой, вследствие чего их отдельные хронологические даты вытянулись в одну прямую и непрерывную линию, которая и оказалась при сопоставлении ее с 3-й книгой Царств более длинной, чем бы следовало.
При распределении содержания книги Судей по отдельным местным циклам, восстановить действительную хронологию событий нельзя, потому, во-первых, что само распределение не может быть выполнено с математическою точностью, во-вторых, потому, что невозможно указать для каждой отдельной группы строго определенные пункты, от которых события одной группы идут параллельно событиям другой.
—56—
По-видимому, и сами священные писатели не придавали особенного значения хронологии книги Судей: в 1-й книге Царств (1Цар.12) в речи Самуила, обращенной к народу, судьи перечисляются в таком порядке: Иероваал, т. е. Гедеон, Варак, Иеффай, Самуил; в послании к Евреям (Евр.11:32) в ином: Гедеон, Варак, Самсон, Иеффай. По книге Судей на первом месте следовало бы поставить Варака, за ним Гедеона, Иеффая и, наконец, Самсона и Самуила.
Таким образом, непрерывную последовательность событий, описанных в книге Судей можно причислить к особенностям в композиции, которые обусловливались, с одной стороны, свойством первоисточников, а с другой – общими историческими взглядами писателя на всю эпоху1291.
e) Из истолкования книги Судей:
1. Предвзятое толкование книги.
Особенным вниманием экзегетов в книге Судей издавна и заслуженно пользуются те факты и явления религиозно-общественной жизни еврейского народа, которые стоят в видимом противоречии с законодательством Пятикнижия, с требованиями общечеловеческой нравственности, и бросают с той или другой стороны темную тень, как на отдельных деятелей этого периода, так и на всю эпоху Судей. Древние иудейские толкователи и христианские – святоотеческого периода, особенно последние, руководствуясь в своих изъяснениях свящ. текста не столько отвлеченными научно-теоретическими соображениями, сколько своим живым, восприимчивым и неподкупным нравственным чувством, умели поставить себя в должные и разумные отношения к фактам и явлениям этой эпохи и дать беспристрастную оценку нравственным качествам и поступкам ее деятелей, по крайней мере, в большинстве случаев там, где направления библейского экзегеса не зависело от ложно понимаемых догматических интересов. Приблизительно с X или XI века, когда быстро пошло вперед раз-
—57—
витие схоластической богословской науки – преимущественно на западе – и толкование Библии было почти вполне подчинено общим и отвлеченным формулам догматики и морали, история Израиля стала мало-помалу получать иную окраску: ее фактическая сторона потеряла свое самостоятельное значение; воспитанные на началах схоластики богословы-экзегеты, приступая к толкованию текста с заимствованными крепкими и строго размеренными рамками, прилагали все свое старание к тому, чтобы каждый исторический факт втиснуть в эти рамки, приладить к ним наиболее удачным образом. Само собой разумеется, не все факты с одинаковою легкостью поддавались этой операции: как всегда бывает при чисто дедуктивном построении истории, материал, заключавшийся в письменных памятниках Ветхого Завета, то там, то здесь своим сложным и разнообразным содержанием полагал непреодолимые препятствия отвлеченному экзегетическому схематизму; чем больше расширялся круг фактов, подвергаемых научному обследованию, тем яснее открывалась для экзегета настоятельная нужда примирения и соглашения их с общими схематическими основоположениями догматики и морали. Главной задачей изъяснения св. Писания сделалось решение вопросов: как примирить, как согласить, как оправдать и пр., и так как количеством примиренных, соглашенных и оправданных мест определялась степень энергии, остроумия и изобретательности экзегета и на этом же утверждалась его научная репутация, то эта задача выполнялась настолько ревностно, что при оценке событий ветхозаветной истории, особенно с нравственной стороны, забыты были здравые и святые основоположения христианской и общечеловеческой морали и взамен их пущены были в ход утонченные и, вместе с тем, натянутые приемы экзегетической иезуитской казуистики. Недостаточно было оправдать и обелить нравственно-неприглядное явление: нужно было его идеализировать и поставить в образец другим; если же нельзя было сделать ни того, ни другого, то, по крайней мере, выставить его как явление извинительное, из преступления сделать ошибку, из крупной погрешности – незначительный недосмотр и т. д. Сильно отразилось это превратное экзегетическое направление и на истолковании книги
—58—
Судей: поступки Аода, который коварно умертвил Еглона, царя Моавитского; Иаили, которая вонзила кол в голову Сисары, воспользовавшегося ее гостеприимством – были признаны достойными всякого подражания; блудные похождения Самсона, введение запрещенного культа Гедеоном – были насколько возможно оправданы и объявлены заслуживающими всевозможного снисхождения. Где библейский текст представляет слишком мало данных для примирительной деятельности, там тщательно изыскивались все окольные пути, чтобы обойти его буквальный смысл и измыслить истолкование переносное и фигуральное или мнимо духовное в противоположность грубому историко-грамматическому (обет Иеффая). В результате явилась почти полная идеализация периода Судей и всех его теократических деятелей. Унаследованная от древних времен экзегетическая тенденция и до сего времени отчасти сохраняет свою силу; и в современных исследованиях нередко, впрочем, уже с нерешительностью и боязливостью, ставятся вопросы: можно ли оправдать поступок Аода? Иаили? как согласить жертвоприношения частных лиц, не левитов, с предписаниями закона Моисеева? и под.
Характеристика периода Судей, с точки зрения общих принципов морали и обрядовых предписаний Закона Моисеева, в новейшее время получила особенно важное значение ввиду ее тесной связи с различными вопросами, касающимися происхождения и истории Божественного Откровения вообще, и, в частности, происхождения Пятикнижия Моисеева. Ученые – отрицатели сверхъестественного Божественного Откровения, начало которому положено в книгах Моисеевых, облюбовали для себя период Судей, как самый удобный пункт, с которого можно производить эскурсии против иудейской и христианской религии. Реакция против схоластической рутины, в начале похвальная и разумная, повела к противоположным крайностям: вместо прежнего стремления все оправдать и обелить возникло прямо противоположное – все обвинить и очернить, доказать, что Израильтяне в эту эпоху, в лице лучших своих представителей, ничем не отличались в религиозно-нравственном отношении от своих соседей Хананеев, а иногда даже стояли ниже их.
—59—
Таким образом, наряду с положительной идеализацией эпохи является отрицательная, одинаково, если не более, пристрастная и тенденциозная. Ее цель – показать, что Откровенный Закон Моисея есть историческая фикция и начало религии Иеговы нужно искать в Ханаане, где сталкивались и взаимно перекрещивались религиозные воззрения различных мелких семитических и крушитских племен.
Мы указали два выдающихся течения в современной экзегетической науке, преимущественно в применении к изучаемой нами книге Судей – идеализацию эпохи в положительном или отрицательном смысле, в том и другом случае одинаково преувеличенную. Нет нужды для характеристики экзегетических приемов того и другого направления делать общий обзор эпохи Судей, что и не входит в объем задачи науки св. Писания; достаточно познакомиться с объяснением некоторых наиболее выдающихся фактов этой эпохи, чтобы видеть крайности того и другого и оценить, в этом случае, превосходство толкования древнеотеческого. С этою целью мы рассмотрим обет Иеффая (гл. 11) и замечание об эфоде Гедеона (гл. 8).
2. Обет Иеффая
Во время войны Галаада с Аммонитянами, Иеффай, отправляясь в поход из Массифы, «дал обет Господу и сказал (Суд.11:30 и далее): если ты предашь Аммонитян в руки мои, то, по возвращении моем с миром от Аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». После полного и блестящего поражения Аммонитян «пришел Иеффай в Массифу в дом свой»; его единственная дочь вышла навстречу к нему с тимпанами и ликами. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «ах, дочь моя! ты сразила меня; и ты в числе нарушителей покоя моего: я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Она сказала ему: отец мой! ты отверз уста твои пред Господом, – и делай со мною то, что произнесли уста твои... Сделай мне только вот что: отпусти меня на два месяца; я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими. Согласие было дано, и по прошествии
—60—
двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обет свой, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иеффая Галадитянина четыре дня в году». По мнению отцов и учителей церкви (Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Ефрема Сирина, Феодорита Кирского, Оригена, бл. Иеронима, бл. Августина и многих других), Иеффай, действительно, согласно данному обету принес дочь свою в жертву всесожжения. То же самое понимание ясно проглядывает в древних переводах LXX и сирском Пешито; в таргуме Ионафана оно высказывается прямо в словах: «да не возносит никто сына своего или дочь свою на всесожжение, как сделал Иеффай, не испросив совета у Финесса священника». По другому мнению, принадлежащему многим позднейшим ученым, Иеффай посвятил дочь свою на служение Богу или при Скинии, или в нарочито для сего устроенном помещении, с обязательством, чтобы она проводила дни свои в посте, молитве и богослужении и сохраняла ненарушимым свое девство до самой смерти1292.
Слова Иеффая: «я отверз уста мои пред Господом (т. е. дал обет) и не могу отречься», – слова его дочери: «ты отверз уста твои пред Господом и делай со мною то, что произнесли уста твои», – наконец, заключительное замечание повествования: «и он совершил над ней обет свой, который дал» показывают, что обет, каков бы он ни был, был выполнен Иеффаем во всей его силе, со строгой буквальной точностью. Поэтому, чтобы судить правильно о характере его исполнения, нужно вникнуть в его буквальный смысл. Иеффай (Суд.11:31) формулирует его, по русскому синодальному переводу, так: «что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Слова «что выйдет», «вознесу сие» дают повод думать, что Иеффай имел в виду принести в жертву первое попавшееся ему навстречу животное, как действительно многие и полагают. Против этого еще древние раввины замечали, что его могли встретить и нечистые животные, как, напр., собака, осел, верблюд, которых не
—61—
позволялось приносить в жертву Иегове. Нельзя разуметь здесь и чистых животных, потому что приношение их в жертву было обычным выражением благодарности, особенно после побед, и потому не могло быть предметом торжественного и всенародного обета в критический момент борьбы за свободу, тем более, что для предводителя всего Галаада телец, овен или козел не представляли пожертвования сколько-нибудь значительного. Такого рода обет был бы оскорбительным для Иеговы и смешным в глазах всего Израиля. Невольно напрашивается мысль о необычайной, человеческой жертве, и она находит себе полное подтверждение в подлиннике. Русское выражение «что выйдет» соответствует еврейскому причастию мужского рода (гайэцэ) выходящий, исходящий, которое совершенно верно передано у LXX-ти «ὁ ἐκπορευόμενος» слав. «исходяй». Равным образом дальнейшее выражение подлинника «выходить кому навстречу», буквально: пойти, чтобы встретить (яца ликра́т) употребляется в св. Писании всегда применительно к людям, а не к животным, напр. ниже в Суд.11:34: «и вот дочь его выходит навстречу ему». Поэтому слова Иеффая правильно следует передать так: «кто выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу и вознесу его (LXX ἀνοίσω αὐτόν) во всесожжение». Русский перевод, следующий в данном случае переводу Лютера, вопреки всем древним переводам и славянскому, носит на себе явное влияние предвзятой экзегетической тенденции.
Таким образом, по прямому буквальному смыслу св. текста, Иеффай имел в виду, именно человеческую жертву и, к его несчастью, этой жертвой оказалась его единственная дочь. Поэтому-то он, как сказано ниже, увидев ее, разодрал одежды свои и воскликнул: «ах, дочь моя! ты сразила меня!» Поэтому и сама несчастная жертва два месяца оплакивала с подругами свое девство, и у девиц израильских установлено было особенное ежегодное чествование ее памяти. Но буквальное толкование признают невозможным и прежде всего приводят следующие соображения.
1) Закон Моисея неоднократно и безусловно запрещает человеческие жертвы, как величайшую мерзость перед лицом Иеговы. Во Второзаконии (Втор.12:31) Моисей говорит
—62—
израильтянам: «Не делай так Господу, Богу твоему, как ханаанские народы; ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим; они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». Иеффай, как представитель теократической власти Иеговы, не мог не знать прямых запрещений закона Моисеева и не мог поступать вопреки им. В 1-ой книге Царств (1Цар.12:11) он ставится наряду со славными Судиями Гедеоном, Вараком и Самуилом и о нем вместе с прочими говорится, что Иегова послал его для спасения Израиля. В книге Иисуса сына Сирахова автор благословляет память всех Судей, которых «сердце не заблуждало и которые не отвращались от Господа» (Сир.46:13). Писатель послания к Евреям равным образом делает похвальный отзыв и об Иеффае; «не достанет мне времени, говорит он, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иеффае, которые верою побеждали царства, творили правду и пр.» (Евр.11:32 и др.). Наконец, по книге Судей, Иеффай действовал под непосредственным влиянием Духа Божия: «и был на Иеффае Дух Господень» сказано в Суд.11:29. Отсюда следует, что Иеффай, муж боговдохновенный, поставляемый св. писателем в образец веры, не мог дать незаконного обета.
Что касается запрещений Закона Моисеева, то их прямое нарушение со стороны многих судей встречается нередко. Вопреки им, Гедеон ввел незаконное богослужение в Офре, Самсон женился на иноплеменнице и ходил к блудницам в Газу. Поэтому вполне естественно предположить, что эти лица или знали закон Моисеев, но не исполняли его, или, что вероятнее, не знали его и потому допускали действия противозаконные. Заповедь Моисея о публичном чтении Второзакония на всенародном праздничном собрании в период Судей не исполнялась, потому что народ не собирался к скинии, и колена вели разобщенную жизнь, соединяясь исключительно для военных предприятий; мало заботились о народном религиозном просвещении и Левиты; в эту смутную эпоху они из-за куска хлеба, из-за годового пропитания готовы были сделаться служителями какого угодно культа: один левит из Вифлеема Иудейского за десять сиклей серебра в год, по-
—63—
гребное одеяние и пропитание согласился жить у Ефремлянина Михи и служить его домашним пенатам (Суд.17:1–13); Ионафан, сын Гереона, сына Манассии (или по древним манускриптам Моисея) с сыновьями отправляли богослужения пред истуканом, поставленным сынами Дана и др. (Суд.18:30–31). Поэтому неудивительно, если многие и из выдающихся представителей народа не знали основных законов Моисеевых.
Похвала Судиям в книге Царств и послании к Евреям, как можно видеть из тех же примеров Самсона и Гедеона, не исключает возможности заблуждений и пороков с их стороны. В послании к Евреям писатель ясно различает проявления веры, свойственные каждой из поименованных им личностей: к Гедеону, Вараку, Самсону и Иеффаю относятся слова 33-го стиха: «верою побеждали царства», чего во всяком случае нельзя отрицать, так как эти лица сражались против врагов во имя и при помощи Иеговы.
Боговдохновенность судей, не имеет такого широкого значения, чтобы на каждое их действие можно было бы смотреть как на внушенное Духом Божьим. Как видно из ясных выражений книги Судей, Дух Божий подавал им силу в особенных исключительных случаях, а не воздействовал на них во все время их жизни. Напр., в повествовании о Самсоне читаем: «пошел Самсон в Фам-нафу... и вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва как козленка» (Суд.14:6). Затем, когда 30 брачных друзей хитростью узнали разрешение Самсоновой загадки и он должен был им по уговору отдать 30 синдонов и 30 перемен одежд, то в это время «сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон и, убив там тридцать человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку» (Суд.14:12–13; Суд.14:19). Или ниже: «сошел на него Дух Господень, и веревки бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы с рук его» (Суд:16:9; Суд16:11). Ясно, что, кроме исключительных чрезвычайных моментов наития Духа Божия, в остальное время своей жизни Судии в этом отношении ничем не отличались от прочих людей.
—64—
Следовательно, указанные соображения не могут иметь решающего значения при истолковании обета Иеффая и других ему подобных явлений; оно должно искать себе твердой опоры в самом тексте повествования. Чтобы найти эту опору, защитники обращаются прежде всего к перетолкованию слов обета в благоприятном для себя смысле и стараются доказать, что Иеффай совсем и не давал обета о принесении человеческой жертвы всесожжения. Правда, Иеффай, говорят, прежде всего, имел в виду, что навстречу к нему выйдет человек, но не исключал и той возможности, что встретится одно из животных; потому он формулировал свой обет применительно к тому и другому случаю: если выйдет человек – будет Господу, если животное – вознесу его во всесожжение. Этот смысл получился бы, если бы вместо «и вознесу» было «или вознесу». Последнее сделать нетрудно: еврейский союз и (ве) иногда действительно имеет значение разделительное, напр., в известном предписании Моисея (Исх.21:17): «кто злословит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти»; буквально с еврейского: «кто злословит отца своего и мать свою», и во многих других местах. Но разделительное значение этому союзу можно придавать только тогда, когда рядом ставятся равносильные понятия, принадлежащие к одному общему роду, чего в данном случае нет. Выражение «будет Господу» к последующему «и вознесу его» относится как общее к частному. «Будет Господу» – общая формула посвящения предмета или лица Иегове; «вознесу его на всесожжение» – частная форма, в которой это посвящение должно найти себе выражение в данном случае. Некто Dereser прибегает к другому исходу: вместо «вознесу его», по его мнению, нужно сказать «вознесу Ему», т. е. Иегове, и следовательно, Иеффай обещал 1) посвятить Богу того, кто выйдет к нему на встречу и, сверх того 2) принести Богу жертву всесожжения1293. Его понимание основано на том, что некоторые еврейские глаголы, требующие прямого дополнения в винительном падеже, переводятся на немецкий язык в соединении с дательным. Но при глаголе «возносить» имя Иеговы (аля) никогда не
(Продолжение следует)
Смирнов И. М. Указатель описаний славяно-русских рукописей отечественных и зарубежных книгохранилищ // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 7/8. С. 1–16 (4-я пагин.). (Начало.)
—3—
Те или другие справки частного характера о существующих «Описаниях» рукописных собраний можно получать в общеизвестных трудах: Иконникова В. С. «Опыт русской историографии», т.1, ч. 1–2; Соболевского А. И. «Лекции по истории русского языка»; Карского Е. Ф. «Очерк славянской кирилловой палеографии», изд. 1-ое; Котляревского А. «Древняя русская письменность». Сборник 2, Отд. Ак. Наук, Бокачева Н. «Описи русских библиотек»; Симони П. «Библиография русская», Энцикл. Словарь Брокгауза-Эфрона, 2-ое изд. (ср. 1-ое, т. IIIа); Перетца В. Н. «Из лекций по методологии истории русской литературы» и др.
Но целесообразно-последовательное применение последних обставлено особыми условиями.
Во-1-х, исчерпывающих сведений указываемые справочники не дают, даже будучи использованы во всей совокупности: частью по устарелости, а главным образом потому, что они и не преследовали подобной цели. След., требуются дополнительные указания, за которыми приходится обращаться или к повременным научным изданиям, в особенности посвященным вопросам славянской филологии; или к Отчетам Библиотек, Музеев, Древлехранилищ, – о научных командировках; или даже к Епархиальным Ведомостям и разного рода Историческим Описаниям монастырей и прочим источникам, где предполагаются какие-либо сведения относительно отдельных рукописей.
Во-2-х, наиболее полные сообщения об Описаниях расположены в хронологическом порядке возникновения последних, но не согласно их топографическому распреде-
—4—
лению или местонахождению книгохранилищ. След. в целях удобства пользования, систематизация в последнем значении имеющегося здесь материала необходима.
Выполнение подобных условий требует, помимо известных знаний, приобретаемых лишь по мере расширения научного опыта, значительной затраты времени и энергии.
Цель составления настоящего Указателя – прийти на помощь лицам, начинающим самостоятельные научные исследования по рукописным источникам, и облегчить, по возможности, пользование рукописными собраниями. Дорогое время, обычно распыляемое ими вновь на побочный, но необходимый процесс составления такого рода справочника для личного употребления, может быть утилизировано на непосредственное выполнение задания.
Составитель далек от мысли, что в его Указателе достигнута законченность сведений по данному предмету. – [Как первый опыт подобного рода, Указатель, возможно, не лишен известных недосмотров]. Но он, по крайней мере, имеет смелость думать, что при наличности предлагаемого справочника, пользование указаниями вышеприведенных пособий по русской библиографии, не всегда и всем в одинаковой степени доступных, может считаться уже излишним.
Содержание Указателя несколько расширяет рамки его титула, В целях библиографических, автор среди указаний на полные Описания рукописей вставил (частью в ремарках, частью на ряду) данные о единичных рукописях, а так же не избегал приводить сведений и о старинных Описях, утративших практическое значение, по сохранивших несомненный научный интерес.
Составитель.
—5—
I. Рукописи отечественных книгохранилищ
1. Александров. Успенский девичий монастырь.
Владимирский сборник, изд. Тихонравовым, М. 1857 г., С. 105–07.
б) Строев П. М. Библиологический словарь, 1882 г.
2. Архангельск. Духовная Семинария.
а) Описание некоторых рукописей, Арханг. Губ. Ведом., 1877 г.
б) Строев П. М. Библиологический словарь, 1882, Указатель.
в) Викторов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России. СПб., 1890 г.
Рецензия. ЖМНПр.. 1890, ч. 271, Сент., Отд. II, с. 272–3.
Бугославский Г. К. Рукописные Евангелия Древлехранилища Архангельского Епарх. Церк.-Археол. Комитета. Архангельск 1904. Арх. Еп. Вед., 1908–4.
3. Вильно. Виленская Публичная Библиотека.
а) Гильтебрандт П. Рукописное отделение Виленской Публичной Библиотеки. Вып. І. I. – Церковно-славянские рукописи. ІІ. – Русские пергаменты. Вильна, 1871 г.
Коялович М. О., ред. ЖМНПр., 1872. ч. 159, Февр., с. 248–52.
б) Добрянский Ф. Н. Описание рукописей Виленской Публичной Библиотеки церковно-славянских и русских. Вильна, 1882 г. (Оп. все 329 №№).
в) Козловский П. Библиографические редкости, хранящиеся в Виленской Публичной б-ке. Вестн. Западн. России, 1870, №3.
г) Добрянский Ф. Путеводитель по Виленской Публичной б-ке. Вильна, 1880 г.
д) О дальнейших поступлениях см. в Отчетах б-ки.
Отчет 1903 г. – Описание рукописей Жирковича А. В., пожертвов. в библиотеку.
—6—
4. Владимир. Церковно-историческое Древлехранилище.
а) Недешев. Краткое описание рукописей Церковно-исторического Древлехранилища при братстве Св. Влаг. Вел. кн. Александра Невского. Вып. I, 1906 г. Владимир.
б) Георгиевский В. Т., Описание рукописей и старопечатных книг церковно-исторического древлехранилища при Братстве Св. Благ. Вел. кн. Александра Невского. Влад. Епарх. Вед., 1888 г., №№ 8 и 9 (не окончено).
Рождественский монастырь.
Тихонравов К. Описание монастыря, Владимир, 1869 года, с. 63–68.
Успенский собор.
Виноградов А. Прот. Опись священным и достопримечательным предметам, хранящимся в особом отделении ризницы Владимирского Кафедрального Успенского собора. Влад. Епарх. Вед., №№ 13 и 14, с. 1–38.
Ризположенская церковь.
Никольский С. Свящ. Древние книги в Ризположенской церкви, а Золотых воротах, во Владимире. Влад. Губ. Вед., 1868, № 13.
Духовная Семинария.
Строев П. М. Библиологический словарь.
5. Вологда. Духовная Семинария.
а) Суворов Н. Пять харатейных рукописей б-ки Вологодской семинарии. Волог. Еп. Вед., 1869 г., № 2.
б) Строев П. Указатель Библиологического Словаря.
в) Шляпкин И.А. Доклад. Протоколы Общ. Люб. Древн. Письмен. за 1892–93 гг. Памятн. Древн. письмен, ХСV, с, 17.
Архиерейская ризница.
Строев П. М. Библиологический словарь.
Софийский собор.
Суворов Н.И. Описание Волог. Соф. кафедр. собора, с 47 прил. М. 1863, с. 75–81.
—7—
Спасо-Прилуцкий монастырь, близ Вологды.
а) Савваитов П. Описание монастыря. Спб. 1844, С 36–38.
б) Викторов А.Е. Описн. Северной России.
6. Волоколамск. Волоколамский Иосифов монастырь.
а) Список рукописям, хранящимся в Волоколамском Иосифовом м-ре, извлеченный из подробного описания оных, сост. Павлом Строевым в декабре 1817 г.
В. Анастасевичем. Отечеств. Зап. 1823 r., янв. с. 123–139; март с. 400–413; июль с. 102–114.
б) Строев П. Описание рукописей монастырей: Волоколамского, Н.-Иерусалим, Саввина-Сторожевского и Пафнутьева-Боровского. Сообщил Арх. Леонид. Спб. 1891.
Рецензия. ЖМНПр, 1891 г. 277, Окт., Отд. II, с. 574.
в) И. К. Опись книг Иосифо-Волоколамского монастыря 1573 г. Чтения ОИДР., 1847, № 7. Смесь, с. 1–16.
г) Невоструев К.И. Рассмотрение книги Хрущева: Иосиф Волоцкий, в «Отчете ο ХII присуждении наград гр. Уварова», СПб. 1870, с. 168–180,–«Библиотека Иосифова Волоколамского м-ря времени самого преп. Иосифа».
7. Воронеж. Губернский Музей.
а) Труды Воронежской Ученой Архивной Комиссии. Вып. 1–11, 1902, 1905 гг.
б) Назаревский А. Отчет о занятиях в Воронежском Губ. Музее. Киевск. Унив. Изв. 1912 г., авг., с. 1–45.
8. Воскресенск. Воскресенский. Новый Иерусалим, монастырь.
а). Арх. Амфилохий. Описание рукописей Воскресенского ставропигиального первоклассного монастыря, писанных на пергаменте и бумаге. Спб. 1859 г., Изв. Ак. Наук, II отд., тт. VII и VIII: отдельно – Москва, 1875 г.
б) Арх. Леонид. Описание славяно-русских рукописей книгохранилища ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого монастыря, и заметки о старопечатных цер.-слав. книгах того же книгохранилища. Чтения ОИДР. 1871, кн. I, С. 1–71.
Бодянский О.М. По поводу описания славяно-русских рукописей Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого м-ря. М. 1870 г.
—8—
в) Арх. Амфилохий. Описание Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки. С приложением снимков. М. 1875.
Срезневский И.И. Отзыв о сочинении Арх. Амфилохия «Описание Воскресенской Новоиерусалимской б-ки“ в «Отчете о 20 присужд. Уваровской награды», 1878 г.
г) Арх. Амфилохий. Снимки с рукописей Воскресенской Новоиерусалимской б-ки, сделанные в 1858–1859 и 1872–1873 гг. М. 1876 г. Литогр. Д. Гаврилова.
д) Строев П. Описание рукописей монастырей Волоколамского, Н.-Иерусалим., сообщ. Арх. Леонид. Спб. 1891 г.
е) Сахаров И.И. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в библиотеке Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Спб. 1842 г.
ж) Арх. Леонид. Историческое описание ставропигиального Воскресенского монастыря. М. 1876, Чтения, 1874–75 гг.
9. Вязники. Благовещенский монастырь.
Строев П.М. Библиологический словарь.
Покровская церковь.
Веселовский К. Свящ. Древнее рукописное Евангелие. Влад. Губ. Вед. 1880 г., № 43.
10. Вятка. Духовная Семинария.
О библиотеке В. C. – см. Прав. Обозр, 1865, № 4, с. 218: 1868, №3, С. 136; 1870, № 3, С. 68.
Строев П.М. Библиологический словарь.
Трифоновский Церковно Археологический Музей.
Каталог памятников церковной и частью народной старины Вятского края, имеющихся в Вятск. Трифоновском Ц.-Арх. Музее. Вятка, 1914, с. 32–3.
Успенский Трифонов монастырь.
Строев П. М. Библиологический словарь.
11. Выговский монастырь. Олонецкой губ., Повенецкого у.
Барсов Е. В. Описание рукописей и книг, хранящихся в Выголексинской библиотеке. Спб. 1874 г. Оттиск из VI вып. Летоп. Археогр. комиссии.
—9—
12. Городецкий Авраамиев, в 10 в. От Чухломы, монастырь.
Прилуцкий. Л. Ф. описание монастыря, СПб, 1861, с 31–57.
13. Екатеринослав.
а) Перетц В. Н. отчет об экскурсии. Семинария Русской филологии в Полтаву и Екатеринослав 1–9 июня 1910 г. Киев, 1910 г. Киев. Унив. Изв., 1911 г., февр.
б) Каталог Екатеринославского Областного музея им. А. Н. Поля.
14. Житомир. Волынское Епархиальное Древлехранилище.
а) Краткое описание предметов древности, пожертвованных в Волынское Епархиальное Древлехранилище по июль 1893 г. Почаев, 1893 (из неофиц. части Волын. Епарх. Вед. за 1893, №№ 29, 30, 31 и 35).
б) Фотинский О. А. Краткое описание памятников древности, поступивших в Волынское Епархиальное Древлехранилище (с 1 июля 1893 г. по 1 августа 1894 г.). Вып. II. ІІочаев, 1894 г. (из неофиц. части Волын. Епарх. Вед. За 1894 г., №№ 30–36).
в) Фотинский О. А. и свящ. Н. М. Бурчак-Абрамович. Краткое описание... от 1 авг. 1894 г. по 1 ноября 1898 г. Вып. III. Почаев, 1899 г. (из неоф. ч. Волын. Епарх. Вед. №№ 11–21).
г) Опись рукописей Волынского Епархиального Древлехранилища старопечатных книг того же книгохранилища. Перетц В. Н. Отчет об экскурсии Сем. Рус. фил. в Житомир 21–26 окт. 1910 г., прилож. Киевск. Унив. Изв. 1911 г. Сент., Okt., Дек.
д) Указатель описанных в Житомире экскурсантами рукописей, там же.
15. Звенигород. Саввино Сторожевский монастырь.
а) Смирнов С. Описание монастыря, М. 1860 г.
б) Строев П. М. Описание рукописей монастырей Саввина-Сторожевского и Пафнутиева-Боровского. Сообщил Арх. Леонид СПБ. 1891 г.
—10—
16. Золотоша. Златоношский красногорский Богословский ж. монастырь.
Прот. Н. Думитрашко. Историко-статистический очерк, Полтава, 1850 г., с. 42–53.
17. Иверский святоезерский богородицкий, на острове Валдайского озера, монастырь.
а) Силин П. М. Историческое описание Иверского монастыря. СПБ. 1885 г., с. 55–59.
б) Арх. Леонид. Акты Иверского Святоозерск. Монастыря V. т. «Русской исторической библиотеки», с. 50–62.
18. Казань. Духовная Академия.
(Порфирьев И. Я.) Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской Духовной Академии, Казань, 1881–98 гг., Вып. I, II и часть III.
Университет.
а) Артемьев А. Исторические рукописи Библиотеки Импер. Казанского Университета. ЖМНПр. 1852 г. № 9, 1854 г., №№ 7–8. 1856 г. №№ 5–6; по смерти вновь изданы Е.Е. Замысловским, СПБ. 1882 г. при VII вып. Летописей Занят. Археогр. Ком. (Опис. 70 рукп.).
б) Артемьев А. Исторические рукописи Импер. Казанского Университета. СПБ. 1857, отт. Из ЖМНПр. 1857, №4.
в) Артемьев А. Описание рукописей, хранящихся в библиотеке Императорского Казанского Университета. СПБ. 1882 г. Летописи Занятий Археографич. Комиссии, вып. VII, с. 1–366, опис. 190 ркп.
г) Майков Л. Н. Алфавитный перечень рукописей, хранящихся в б-ке Имп. Казанского Универс. Летописи Занятий Арх. Ком., VII, с. 367–72.
д) «Отчет Казанского Университета и учебного округа за 17 лет». Казань. 1844 (Часть собрания ркп. Универс., опис. Артемьевым).
е) Список рукописей и редких книг, хранящихся при библиотеке Имп. Казанского Унив., в особом помещении. Казань, 1904 г. Учет. Зап. Казан. Унив. 1904, сент.
Зилантов Успенский монастырь.
Строев П. Библиологический словарь.
—11—
19. Калуга.
Арх. Леонид. Обозрение рукописей и старопечатных книг в книгохранилищах монастырей, городских и сельских церквей Калужской епархии. Чтения ОИДР. 1865, кн. IV, 1–115.
20. Каменец-Подольск.
Прот. Сецинский Е. Музей ІІодольского Церк. Историко-Археологического общества, 2. Опись предметов старины, с. 61–78.
21. Кириллов-Белозерский монастырь.
а) Сахаров И. И. Ведомость рукописным кирнлловской книгохранительницы до российской истории относящимся книгам, с показанием №№, под коими в книгохранительнице состоят. М. 1842 r.; из Русского Вестника, №№ 11–12. (Реестр 1785 г. о 216 ркп.).
б) Обзор кирилловской книгохранительницы и замечательных рукописей, см. Шевырев С. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. М. 1850 r., ч. ІI, с. 14–52. ЖМНПр. 1850, т. LXVIII.
в) Арх. Варлаам. Описание Сборника XV столетия Кирилло-Белозерского м-ря. СІІБ. 1858 г.; Учен. Записки II Отд. Акад. Наук, V кп., отд. III, с. 1–66.
г) Арх. Варлаам. Обозрение рукописей собственной библиотеки преп. Кирилла Белозерского. Составлено 28 марта. М. 1860 г.; из Чтений ОИДР, 1860, кн. II, с. 1–69.
д) Никольский Н. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленное в конце XV века. СІІБ. 1897. Изд. Общ. Люб. Древн. Письм. № СХIII.
е) Викторов A. Е. Описи... Северной России.
22. Кириллов Новоезерский монастырь, в 30 верстах от Белозерска.
а) Строев П. Библиологический словарь.
б) Викторов A. Е. Описи... Северной России.
23. Киев. Духовная Академия.
а) Петров Н. И. Описание рукописей Церковно-археологического Музея при Киевской Духовной Академии. Труды
—12—
Киев. Дух. Акад. 1874 – 78 гг. и отд. Киев І-й в. 1875 г., II в. 1877, III в. 1879.
б) Описание книг и рукописей, пожертвованных в Киевскую Духовную Академию E. В. Барсовым. Отчеты Церковно-Археологического Общества, Тр. К. Д. Ак. 1868, т.II, с. 355–376 (краткий инвентарный каталог).
в) Березин В. Описание рукописей Почаевской Лавры, хранящихся в библиотеке Музея при Киевской Духовной Академии Тр. К. Д. А. 1881, № 7 – 9 и отд. К. 1884 г.
г) Описание рукописей, находящихся в библиотеке Киевской Академии. Вестн. Евр. 1830, ч. 173, №№ 17 и 18, с. 138–144.
д) Перечень рукописей и книг А. Н. Муравьева. Известия Церк.-Археол. Общества при К. Д. Ак. 1879 г., с. 37–52.
е) Перечень рукописей Антония Шокотова. Известия за 1880 г.
ж) Срезневский И. И. О глаголических рукописях, хранящихся в Киев. Дух. Академии, Труды Киев. Арх. съезда, т. II.
з) Дмитриевский. Описание рукописей и книг, поступивших в Церковно-Археологический Музей при Киев. Акад. из Нежинской греч. Михаила – Архангельской церкви. Тр. К. Д. Ак. 1885, № 4 и след.
и) Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве. Вып. I, М. 1891; вып. II, М. 1897: вып. III, М. 1904. Чтения ОИДР. 1892, I – III; 1897, I–II; 1904, I и IV.
к) Крыжановский Г. Рукописные Евангелия киевских Книгохранилищ. Исследование языка и сравнит. характер. текста. Киев, 1889.
л) Обзор рукописей Михайловского Златоверхого м-ря. ЖМНПр.,1853, ч. 77, с. 26–7.
Александровская Гимназия.
Яворский Ю. Описание рукописей Импер. Александровской Киев. гимназии, 1913 г.
Общество Нестора Летописца.
Маслов С. Описание рукописей Историч. Общества Heстора Летописца Киев 1908 г. Чтения в Ист. Общ. Нест. Лет., І909, кн. XXI, в. I.
—13—
Университет.
Маслов С. И. Обзор рукописей библиотеки Импер. Университета Св. Владимира Киев 1910 г.
Яворский Ю. А. Два замечательных карпато-русских сборника XVIII в. принадл. Универс. Св. Владимира Киевск. Унив. Извест., 1910, Янв., 1–64; Февр. 65–95.
24. Козельская Введенская Оптина путынь.
Историческое описание, изд. 3, 1876 г., с. 244–67.
25. Колязин. Троицкий монастырь.
а) Лебедев А. Описание монастыря. Ярославль. 1867. с. 91–98.
б) Викторов А. Е. Описи... Северной России.
26. Kострома. Ипатьевский монастырь.
а) Миловидов И. В. Содержание рукописей, хранящихся в Архиве Ипатьевского монастыря, вып. I–II, Кострома 1887–88 гг.
б) Островский И. Описание монастыря. Кострома, 1870 г., с. 95–106.
в) Строев П. М. Библиологический словарь.
Богоявленский монастырь.
а) Баженов И. Сорок два старинных сборника Костром. Богоявленского м-ря. Костромская Старина. Сборник, издаваемый Костром. Губерн. Ученою Архивною Комиссией. Вып. IV, Кострома, 1897, с. 68–118.
б) Строев П. М. Библиологический словарь.
Херсонский. Сведения о некоторых памятниках старины. Костромская Старина. Сборник, издаваемый Костромской Ученой Архив. Ком. В. I. Кострома, 1890 г.
27. Любеч. Черн. губ. Антониев монастырь.
Милорадович гр. Описание монастыря, с. 16–79.
28. Макариев желтоводский монастырь, в 60-ти верстах от Н.-Новгорода.
Строев П. Библиологический словарь.
—14—
29. Макарьевский Унжекский, Костромской губ., монастырь.
Херсонский И. Описание старинных рукописей, хранящихся в Архиве Макарьевско-Унженского монастыря. Кострома 1887 г.
30. Минск.
Снитко А. Описание рукописного отдела и старопечатных книг библиотеки Минского Церк. Историко-Археологического Комитета. Вып. I. 1909 г.
31. Москва. Исторический Музей.
а) Яцимирский А. И. Опись старинных славянских и русских рукописей собрания II. И. Щукина. Вып. I–IІ. М. 1896–97 г.
Рец. ЖМНПр., 1896 г., ч. 307, Сент., Отд. II, с. 168–9.
б) Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. Вып. I. М. 1888, Вып. II. М. 1892, Вып. III, Сергиев Посад, 1892, Вып. IV, Сергиев Посад 1897, Вып. V 1906, Вып, VI 1907.
Рец. Л. М. ЖМНПр. 1892 г. ч. 282, июль, Отд. II, с. 204–218.
Отчет за 1909 г.: – Коллекции Вахрамеева, Забелина, Соколова.
В прочих Отчетах – небольшие поступления.
Публичный и Румянцевский Музей.
а) Востоков А. Х. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПБ. 1842 (478 №№ ркп.).
б) Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского, описанные самим составителем и бывшим владельцем собрания. С приложением очерка собрания рукописей В. М. Ундольского в полном составе, написан A. Е. Викторовым. М. 1870.
в) Ключевский В.О. Рукописная библиотека В. М. Ундольского (рецензия). Прав. Обозр. 1870, № 5, с. 872–894.
Рец. ЖМНПр. 1870 г., ч. 149, Май, Отд. II, с. 220–23.
г) Викторов А. Е. Каталог славяно-русских рукописей, приобретенных M. И. М. в 1868 г. после Д. В. Пискарева. М. 1871.
д) Викторов А. Е. Собрание рукописей В. И. Григоровича. М. 1879.
е) Кочубинский А. А. Рукописи В. И. Григоровича. Варшава, 1880.
—15—
ж) Викторов А. Е. Собрание рукописей И. Д. Беляева. М. 1881.
з) Викторов А. Е. Собрание рукописей И. И. Севастьянова. М. 1881.
и) Георгиевский Г. И. Рукописи. Собрание H. С. Тихонравова. М. 1913
к) Георгиевский Г. И. Рукописи. Собрание Н. С. Большакова. Изд. Акад. Наук, СІІБ. 1915.
Назаревский A. А. Рецензии в Русск. Филол. Вестн.1915 г., № 3, с. 191–7.
Отчеты: – 1-й до 1864 г. – Собрания гр. С. С. Ланского, А. С. Норова, Т. Ф. Большакова и др.
Востоков А. описание рукописных и печатных книг словенских, принадлежащих д.с.с. А. С. Норову. СПБ. 1836; из IX кн. ЖМНИр, 1836 г. (= 18 ркп.)
1864 г. – Собрания Большакова и I Гимназии.
1865 г. – Коллекция С. В. Ешевского, грам. и акты Муханова.
1867 – 69 г. – Недодан. Ркп. Норова; ркп. Д. В. Пискарева, А. Н. Хитрово, кн. Вл. Ф. Одоевского и др.
1870–72 г. – Рукописи Н. И. Попова, И. Я. Лукашевича.
1873–75 г. – Рукописи И. И. Севастьянова, И. Д. Беляева и др.
1876–78 г. – Рукописи В. И. Григоровича, Олонецкой Д. Семинарии и др.
1879–82 г. – Рукописи А. Н. Попова, Н. И. Дурова, А. Сукаладзева.
1883–85 г. – Рукописи Ф. И. Буслаева.
1886–88 г. – Коллекция Я. П. Гарелина.
1889–91 г. – Отдельные поступления.
1892–94 г. – Собрание рукописей, приобр. от румынских книготорговцев бр. Шарага.
1896–98 г. – отдельные поступления.
1899 г. – Собрание Н. Протасова.
1904 г. – Собрание H. С. Тихонравова.
В прочих Отчетах – небольшие поступления.
Синодальная Библиотека.
а) А. Горский и К. И. Невоструев. Описание сла-
—16—
вянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. М. Отд. I. Священное Писание, 1855 г. Отд. II. Писания Св. Отцев. Ч. I, 1857 г. Ч. 2, 1858 г. Ч. 3, 1862 г. Отд, III. Книги богослужебные. Ч. I, 1869 г.
б) И. И. Срезненский и А. Ф. Бычков. Отчет о первом присуждении Ломоносовской премии. Спб. 1868. Прилож. «Список рукописей Синодальной б-ки по новому счету», а также Указатель писателей и книг ко всем 5 т. Описания (Рецензия). Сборник Статей Ак. Наук, II Отд., т. 7, №1; Записки Акад. Наук, 1868 г., т. ХIII, кн. 2, с. 145–300.
в) И. Куприянов – рецензия на 1-й т. описания. ЖМНПр. 1856, №3 с. 86–98.
г) Бессонов П. Описание славянских рукописей Москов. Синод. Б-ки М. 1856. Из Рус. Беседы, кн. II (рецензия на 1 Отд. Описания Горского и Невоструева).
д) Смирнов-Платонов Г. свящ. Опис. слав. рук. Моек. Синод. Б-ки. Отд. п. М. 1860, из Прав. Обозр.,1860, № 6.
е) К. И. Невоструев. Рассмотрение рецензий, явившихся на Описание рукоп. Синод. Б-ки. Сборн. Отд. р. яз. и Слов. 1870 г. т. VII, № 1.
ж) Витошинский Е. М. Указатель именной и предметный к труду A. В. Горского и К. И. Невоструева: «Описание славянских рукописей M. С. Б-ки», Из Варшав. Унив. Известий за 1914 г.
з) Архим. Савва. Указатель для обозрения Московской Патриаршей (ныне Синодальной) библиотеки. М. 1855 г. 3 изд. М. 1858.
и) Викторов А. Е. Алфавитный указатель Славянских рукописей Моск. Синодальной б-ки. М. 1858 г. (краткое перечисление ркп.).
к) Буслаев Ф. И. Палеографические и филологические материалы для истории письмен славянских, собранные из XV рукоп. Моск. Синод. Б-ки, с прилож. 22 литогр. снимков. – «Материалы для истории письмен» М. 1855 г.
л) Срезненский И. И. Материалы для сравнительного словаря и грамматики. Спб., 1856 г., т. III, с. 501–571 (Дополн. к труду Буслаева).
м) Палеографические снимки с греческих и славянских рукописей Моск. Синод. Б-ки VI–XVII ст., изд. Саввы, еп. Можайского. М. 1863 г.
н) Ундольский В. М. Описание славянских рукописей
(Продолжение следует)
* * *
См. Бог. Вест. Июнь 1916 г.
С этими рассуждениями Д.А. Хилкова о Церкви нелишним считаем сопоставить некоторые мысли о том же предмете А.С. Хомякова: „… Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати… Церковь одна… Только в отношении к человеку можно признавать раздел Церкви на видимую и невидимую… Церковь видимая, или земная, (видимая, однако, только верующему) имеет в себе пребывающего Христа и благодать Духа Святого во всей их жизненной полноте, но не в полноте их проявлений; ибо творит и ведает не вполне, а сколько Богу угодно… Так как Церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершение всей Церкви, которым Господь назначил явиться при конечном суде всего творения, то она творит и ведает только в своих пределах, не судя остальному человечеству… и только признавая отлученными, т. е. не принадлежащими ей, тех, которые от нее сами отлучаются. Остальное же человечество, или чуждое Церкви, или связанное с нею узами, которые Бог не изволил ей открыть, предоставляет она суду великого дня. Церковь земная судит только себе, по благодати Духа и по свободе, дарованной ей чрез Христа, призывая и все остальное человечество к единству и к усыновлению Божиему во Христе; но над не слышащими ее призыва не произносит приговора, зная повеление своего Спасителя и Главы: „не судить чужому рабу“. М. Н.
Впоследствии Д. А–ч изменил свой взгляд на Илиодора, что видно из его письма к Я. И. К–чу от 30 марта 1914 г. См. „Письма князя Д. А. Хилкова“, вып. I, стр. 85. Μ. Η.
Эти, равно как и последующие, рассуждения князя Д. А. Хилкова отражают на себе его тогдашнее увлечение оригенизмом, от которого он впоследствии постепенно отрешался. Эти дуалистические воззрения в корне противоречат христианскому миропониманию. М. Н.
По-видимому, и здесь проскальзывает оригенистическое учение о перевоплощении. М. Н.
К сожалению, дальнейшее рассуждение князя, опять в духе дуализма, и есть та, „отсебятина“, от которой он предостерегает других. М. Н.
Сказанию о незримом Граде Китеже и уяснению его религиозного смысла посвящена моя книга: «Церковь невидимого града. Сказание о граде Китеже». М. 1914 г. К-во «Путь».
О ласке Церкви есть примечательные заметки в последних книгах В. В. Розанова «Уединенное» и «Опавшие листья».
Его письма печатаются в «Богосл. Вестн.» за 1915–16 г.»; отдельно «Письма кн. Д.А. Хилкова. Вып. 1. Изд. Религиозно-филос. Библ. М. 1915 г.
См. Бог. Вестн. Июнь 1916 г.
Мы можем неопределенное количество рассматривать как целое, не имея нужды конструировать его целостность посредством измерения, т.е. через последовательный синтез его частей, так как границы уже определяют его законченность, отрезая всякое приращение.
Понятие целостности в данном случае есть ничто иное, как представление законченного синтеза частей целого, так как, не имея возможности в данном случае извлечь это понятие из созерцания целого, мы можем по крайней мере, охватить его только через синтез частей до завершения бесконечности.
Пространство есть просто форма внешнего воззрения (формальное воззрение), недействительный предмет, который может быть созерцаем вне. Пространство прежде всех вещей, которые его определяют (наполняют или ограничивают) или сообразно своей форме дают эмпирическое воззрение, именуемое абсолютным пространством, есть ничто иное, как простая возможность внешних явлений, поскольку они или существуют в себе или могут быть присоединяемы к данным явлениям. Таким образом, эмпирическое созерцание не есть совокупность явлений и пространства (ощущения и пустого созерцания). Одно не есть коррелат синтеза другого, но они только соединены в одном и том же эмпирическом созерцании, как материя и его форма. Если хотят одно из этих двух поставить вне другого (пространство вне его явлений), то из этого возникают всякого рода пустые определения, которые однако, не суть возможные восприятия; например, движение или покой мира в бесконечном пустом пространстве, определение никогда не могущего быть воспринятым взаимоотношения обоих и таким образом оказывающегося лишь предикатом простой мысленной вещи.
Kant`s Kritik der reinen Verunft (herausgegeben von Erdman). 1884. S.S. 314–317, 320–323. Бог. Вест. №№ 7–8. 1916.
Лаппаран, Наука и апологетика, стр. 15–19.
Б.А. Тураев, проф. истории Древнего Востока. Ч. I. СПб. 1913, стр. 6–7. См. его же Записку о древностях Вана и сопредельных местностей. Записки восточн. отдела Императ. Русского Археологического Общества, т. XXII.
См., например, предисловие в «Кратком очерке истории отношений между Ассиро-вавилонией и евреями». М.М. Петрово-Солово. СПб. 1895 г.
Общий обзор работ, относящихся к истории «Древнего Востока» на западе имеется у проф. Б.А. Тураева. История Древнего Востока ч. 1. Ор. cit. стр. 10–52. См. также печатавшиеся в Богосл. Вестнике за 1914 г. статьи проф. Е. Кагарова: «Прошлое и настоящее Египтологии».
Работы М.Б. Никольского и А.А. Ивановского.
Издание студенческого издательского Комитета при Историко-филолог. факультете Петроградского университета.
Например, И.М. Волков, А.Л. Коцтовский, В.В. Струве, В.П. Ершов, Т.Н. Бороздина и др.
Издавший этот памятник и давший перевод его в «Delegation en Perse. Memoires.., t. IV. Textes elamites – semitiques». Paris. 1902.
Op. cit. p. II. Cp. Законы Хаммураби перев. И.Μ. Волкова, стр. 79–80.
Так, например, 2-я статья говорит о том, что обвиняемый в чародействе «должен пойти к реке». По оригиналу здесь говорится не просто о реке, а о божественной реке – о «реке – бог» (ilu Nȧram) и, несомненно, о Евфрате (у Ungnad’a: Stromgott). Переводчик не решается, однако, внести в текст памятника выражение «к богу – реке», хотя и делает со свойственной ему тщательностью попутное замечание о его отступлении от подлинника.
Указание на иностранную литературу, относящуюся к указанному вопросу, имеется в рассматриваемом труде П.М. Волкова, главным образом, в примечаниях к введению.
Мы имеем в виду небольшую, но довольно обстоятельную работу проф. В.Ф. Иваницкого: «иудейско-арамейские папирусы с острова Элефантины и их значение для науки Ветхого Завета». Киев. 1914 г.
Стр. 46.
«Иудейско-арамейские папирусы»... Ор. cit. Стр. 48–55.
«Рассказ египтянина Сивухета и образцы египетских документальных автобиографий». Стр. 5.
«Загадочное происхождение христианского нимба, – говорит Гринейзен (Погребальные пелены египто-эллинистической композиции. Из собрания В.С. Голенищева 4229, 4301, 4280. Памятники Музея изящных Искусств имени Императора Александра III в Москве. Вып. III. Текст. Москва. 1913 г.), – становится вполне ясным посвящённым в Египетскую мифологию: в недре солнечного диска бога Ра, в огненной солнечной барке находился рай египтянина. «Царь возносился к небу, принимая форму солнечного диска» и всякий смертный, посвящённый в мистический обряд Осириса, воплощался в солнце подобно Осирису, и появлялся затем пред народом с головой, окружённой лучами подобно солнцу – Ра: ad iustar solis... Свету противополагалась тьма. Свет – это рай; тьма – ад. Солнце – свет является синонимом плодородия, процветания, воскресения воплотившихся в Осирисе. Эта основная мораль культа Осириса, в первые столетия христианской эры, явилась опасной соперницей новой христианской догмы... Весь мир, восклицает Тертуллиан, клянётся теперь солнцем (Osiris-apis). После этой предварительной заметки станет вполне понятным, почему голова лица, перешедшего в небесные сферы, окружалась в греко-римский период и в христианской иконографии ореолом света» и т. д.
В последнее время появилось и немало переводных трудов западных ориенталистов.
Ср. Христ. Чтение, 1911 г. июль-август, стр. 831–858, сентябрь, стрр. 1008–1023 и Труды Киев. Дух. Академии 1914 г., апрель, стрр. 585–601, июль-август, стрр. 496–532, ноябрь, стрр. 336–360 и 1915 г., январь, стрр. 75–117. Ср. также Визант. Времен, т. XIX. (1912 гл. отд. II. стрр. 55–146.
E. Schicartz. Busstufen und Katechumenatsklassen. Strassburg, 1911. S. 39. Anm. 2.
L. Duchesne, Le faux concile de Cologne (346) в Revue de l'histoire ecclesiastique t. III. 1902. pp. 16–29.
P. Ambrosius (Söder) in Melton. Die erste Kirchenversammking auf deutsehen Boden в Studien und Mitthellungen aus dem Benedictiner – und dem Cistercienser-Orden 1883. Heft. II. SS. 293–305, H. III. SS. 67–81. H. IV. SS. 344–354. 1884. Heft. 1, SS. 83–98.
Was er plante, lӓst sich nicht erraten.
S. 371. Der Sache nach dies improvisierto Concil der vom Kaiser in die Wege geleiteten Entscheidung in kühner, um nicht zu sagen unversehämter Weise vergriff.
Der Gegenzug des Kaisers bleib nicht aus.
Ср. Визант. Врем. т. XIX, Отд. II, стр. 142–143.
Ср. К вопросу об Антиохийском соборе. I, стрр. 114–115 (Труды Киевской Духовной Академии. 1915 г. январь, стрр. 105–106).
Schwartz. VII, 311 і. Ср. К вопр. об ант. соб. I, 20 (Труды Киев. Дух. Акад. 1914, июль-август, стр. 504), прим. 1.
О Павлине см. мою статью: «Павлин и Зинон, епископы Тирские» в Визант. Временнике т. XX (1913 г.). Отд. I, стрр. 1–56, 117–188.
По сообщению Афанасия в., hist arian. ad monachos n. 4. Св. Евстафий был низложен евсевианами за то, что ненавидел арианскую ересь и не принимал мудрствующих по-ариански. А когда он был низложен, евсевиане не только приняли в церковное общение тех лиц, которых он не принимал за их нечестие в клир, но и многих из них поставили епископами. Из них Афанасий Великий называет Леонтия-скопца, епископа Антиохийского, и предшественника его Стефана, Георгия Лаодикийского, Феодосия Трипольского [καὶ ὁ γενόμενος ἐν Τριπόλει Θεοδόσιος: значит к тому времени, когда Афанасий в – еще при жизни Леонтия Антиохийского, ὁ νῦν ἐν Ἀντιοχείᾳ, – писал свою «историю ариан к монахам», этого Феодосия, поставленного евсевианами на место Елланика, уже не было в живых], Евдоксия Германикийского и Евстафия Севастийского. Возможно; что некоторые из этих лиц были включены в клир еще Павлином, но исключены из него «за нечестие» Св. Евстафием, и это подало повод к обвинениям против него. А, с другой стороны, возможно, что и Павлин поступал аналогично с Евстафием: не допускал в клир лиц антиарианского образа мыслей, а может быть прямо отлучал их, как «савеллиан», от церковного общения.
Ср. Христ. Чт. 1911, сент., стр. 1023 (Ант. Соб. 324 г. стр. 43) и Визант. Врем. т. XIX (1912), Отд. II, стр. 112 (К вопр. об Ант. соб. III, 58). и т. XX Отд. I, стр. 153–156 (Павлин и Зинон, стр. 93–96).
Ср. Труды Киев. Дух. Ак. 1914 г. Нояб. 351–355 (К вопросу об Антиох. соб. I, 75–79) и далее под f.
Стр. 75–19 (Труды Киев. Дух. Акад. 1914, нояб. 351–355).
В DG II,4 231,1 сам Гарнак не оспаривает той возможности, что в основе никейского символа лежит не кесарийский, а какой-нибудь другой местный символ (и, следовательно, Евсевий лгал перед своей паствой): при сходстве восточных символов между собой такую гипотезу нельзя опровергнуть. Но я согласен с Гарнаком, что такая гипотеза тем не менее очень невероятна: нет повода подозревать Евсевия во лжи, и помимо того такая гипотеза, раз не имеется в виду какой-либо определенный символ и не дана его детальная сверка с никейским символом, способная убедить, что и этот символ мог быть положен в основу никейского с таким же, если не с большим правом, как символ Евсевия кесарийского, есть «апелляция к неизвестному».
Athail. de synodis. n. 24: Καὶ Θεοφρόνιος δέ τις ἐπίσκοπος Τυάνων συνθεὶς καὶ αὐτὸς ἐξέθετο τὴν πίστιν ταύτιν ἔμπροσθεν τῶν πάντων, ἢ καὶ πάντες ὑπέγραψαν, ἀποδεξάμενοι τὴν τοῦ ἀνθρώπου πίστιν.
DС Н4 229, 3: Damit kann unmöglich das Symbol des Eusebius von Cäsarea gemeint sein, denn dieser bemerkt (1. с. I, u) ausdrücklich nach Mittheilung seines Symbols, dass es im Wesentlichen angenommem worden ist.
Schwartz, VII, 364: eine grob entstellte Schilderung der Scene in den Euseb von Cäsarea seine Credo vorlegte.
Zeitschrift für KG. XVII, 554 y E. Seeberg, S. 207.
Soсr. I, 23; Sozom. II, 18.
Е.Seeberg. Die Synode vuii Antioclven ini Jahre 324 25. 1913. Berlin., SS. 207, 213, 217. Ср. B.В. Болотов. Лекции по истории древней церкви. IV, стр. 33–34.
В.В. Болотов. Лекции IV (Христ. Чтение. 1913 г., июль-август), стр. 33–31: «Вероятно в этот момент» (когда выяснилось, что «одними библейскими терминами отстранить арианство невозможно») «выступил с предложением посредства человека умевший «заставить замолчать тем, которые говорили наилучшим образом». Есть основание полагать, что лицо это было Евсевий Кесарийский. Воззрения его были тем опаснее, что совпадали с воззрениями Константина, который в «то время не был даже оглашенным».
Е. Seeberg. SS. 213–214. Бог. Вест. №№ 7–8. 1916.
Св. Евстафий после приведенных выше слов продолжает (Thrdt 1. 8, 3) οἱ δ’ Ἀρειομανῖται (значит τινὲς – не ариоманиты). δείσαντες μή πη ἄρα τοσαύτης ἐν ταὐτῷ συνόδου συγκεκροτημένης ἐξοστρακισθεῖεν, ἀναθεματίζουσι μὲν προπηδήσαντες τὸ ἀπηγορευμένον δόγμα, συμφώνοις γράμμασιν ὑπογράψαντες αὐτοχειρί.
Thdrt, I, 8, 4–5: τῶν δὲ προεδριῶν διὰ πλείστης ὅσης περιδρομῆς κρατήσαντες δέον αὐτοὺς ὑπόπτωσιν λαμβάνειν, τότε μὲν λεληθότων, τότε δὲ προφανῶς τὰς ἀποψηφισθείσας πρεσβεύουσι δόξας, διαφόροις ἐπιβουλεύοντες τοῖς ἐλέγχοις. βουλόμενοι δὲ παγιῶσαι τὰ ζιζανιώδη φυτουργήματα, δεδοίκασι τοὺς ἐπιγνώμονας, ἐκκλίνουσι τοὺς ἐφόρους καὶ ταύτῃ τοὺς τῆς εὐσεβείας κήρυκας ἐκπολεμοῦσιν. οὐχ οὕτως δὲ πιστεύομεν ὡς ἀνθρώπους ἀθέους δύνασθαι κρατῆσαι πώποτε τοῦ θείον. κἂν γάρ πάλιν ἰσχύσωσι πάλιν ἡττηθήσονται, κατὰ τὸν σεμνόφονον προφήτην Ἡσαΐαν (Исх.8:9).
S. 406: aber darf man bel dieser Verlegenheitsauskunft beruhinen.
R. Seeberg. DС II1 2 (Lpz. 1910) S. 35. Anm. (вслед за Нoll’ем); R.Seeberg, SS. 155–156. Ср. у меня. К вопросу об Антиох. соб. I, 80–81, III 82 (– Виз. Врем. XLX, 136, а не 55, как ошибочно стоит в I, 80.
Aber diese Auskunft ist haltlos.
И.И. Докукин. Вечный Календарь Православной Церкви в таблицах. Для исторических, судебных и семейных справок. Рязань. 1914. Ц. 25 коп. Продается в книжных магазинах г. Рязани и Москвы и у автора (Рязань, 1-я гимназия). Ред.
Т. I. кн. I, стр. XIV.
XVI+866+XIII+1422+866+VIII+VI+XVII+306=1788 стр.
Т. I. кн. I, стр. 1.
Т. I. кн. I, стр. XIV.
Id. стр. XV.
Т. I. кн. I, стр. XVI.
Н. А. Бердяев. А. С. Хомяков, Μ. 1912 (В серии «Русские мыслители», издаваемой книгоиздательством «Путь»), стр. 42.
Т. I. кн. I, стр. IX.
Т. I, кн. I, стр. VIII–IX.
Т. I, кн. I, стр. 35–49.
См. напр. его доклад «Авторитет в вопросах веры» («Бог. В.») и книгу «Римский духовный Цезаризм»...
Упомянутая выше книга И. А. Бердяева, по некоторым заданиям своим («Хомяков и мы»), более подходит к труду того типа, в котором нуждается наше время. Но, к сожалению, данная книга, по своему не лишенная остроты мысли, и не вполне церковна и не достаточно.
Св. Ириней Лионский, – Против ересей, IV, 185.
«Полное собрание сочинений А. С. Хомякова», т. 2, изд. 5-e. М. 1907 г., стр. 14, § 8.
Ср. Id. стр. 131, прим. 3.
Id. стр. 128–132.
Id. стр. 131–132.
Id. стр. 131, прим. 3.
E. J. Kimmel, – Monumenta fidei Ecclesiae Orientalis. Jenae, 1850. Pars I, pp. 456–463. – Русский перевод исповедания патриарха Досифея см. в «Костромских Епархиальных Ведомостях», г. VIII, 1894 г.. №№ 18 и 19, часть неофициальная.
«Костромские Епарх. Ведомости», г. VIII, 1894 г., №№ 16 и 17, часть неофициальная. – См. также собрание грамот Вселенских патриархов, изданное Св. Синодом в 1846 г.
Член XVII-й приведен по переводу в издании Св. Синода.
Исповедание патр. Досифея чл. XVII.
Kioimel, – Monumenta fidei eccl. Orient. Paris. I, p. 462.
Миниа. Месяц Иануарий. ац҃д, л. и҃.
Архиеп. Антоний (Храповицкий), – Собрание лекций и статей по пастырскому богословию. Издание «Религиозно-Философской Библиотеки», М., 1909, стр. 18.
Стр. XIV.
Стр. XIV.
Общий Гербовник Дворянских родов Всероссийской Империи, начатый с 1797 г. Ч. шестая 22. I отд. – Тут же и рисунок.
Укажем также, что у гр. А. Бобринского, в его исследовании: «Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи», Ч. I, стр. 620, отмечены трое Хомяковых, убитых в 1812–13 годах.
Из московской жизни сороковых годов. Дневник Елисаветы Ивановны Поповой. Спб. 1911, Введение, стр. XII–XIII.
Id. стр. XIII.
Id. стр. XIII.
Письмо Гилярова к князю Шаховскому («Русский Архив». 1889 г. Т. 3. стр. 267). – То же – в письме к И. Ф. Романову («Сборник сочинений Н. И. Гилярова-Платонова. Т. I, стр. VII).
«Дневник В. С. Аксаковой» 19 Апр. 1855 г., стр. 112, – Цитату из Дневника и подбор относящихся сюда свидетельств можно прочесть в статье Ф. К. Андреева «Московская Духовная Академия и славянофилы» («Богосл. Вестн.» № 10–12. Т. 3. 1915 г., стр. 599–601, и отд. от. Сергиев Посад, 1915 г., стр. 45–47).
«Русский архив». 1889 г., Т. 3. стр. 267–269.
«Полн. собр. соч. А. С. X-ва». Т. 4. 1900, М., стр. 8–89.
Id. стр. 92–93.
Id. стр. 94–96.
Id. стр. 96–97.
Id. стр. 102–103.
Id. стр. 102.
Id. стр. 99–100.
Id. стр. 101.
Id. стр. 305–418.
Id. стр. 116–292.
Id. стр. 98.
Id. стр. 103.
Id. стр. 103.
Id. стр. 103.
Id. стр. 107.
Id. стр. 106.
Id. стр. 103.
Id. стр. 58.
Id. стр. 108.
Id. стр. 108.
Id. стр. 109–112.
Id. стр. 293–302.
Id. стр. 419.
Т. III, М., 1700, стр. 474–481.
Id. стр. 459–468.
Id. стр. 454–457.
Id. стр. 469–471.
Id. стр. 474.
Id. стр. 475–477.
Отрывок из записок в Ю. Ф. Самарина. (Сообщено баронессою Э. Ф. Раден). («Татевский Сборник» С. А. Рачинского. Спб. 1899).
П. И. Бартенев, – Из записной книжки «Русского Архива» («Русский Архив», 1908, кн. II, стр. 167).
«Русский Архив», 1915 г., 6, стр. 130–131, год 53-й – Курсив автора.
R. – На заре крестьянской свободы («Русская Старина», 1898 г., март, т. 93, стр. 486).
«Русский Архив». кн. 3-я. стр. 565–566. Анонимно.
«Русский Архив», 1890, кн. 3, стр. 363. Анонимно.
Записки Дм. Н. Свербеева. Μ., 1899, т. I, стр. VIII, предисловие Д. X.
Письмо было напечатано и за Границей и в России («Полярная Звезда» на 1862 г., 1, 1861, кн. VII, вып. 1, стр. 66–71, «Общество пропаганды 1849 г.», Лейпциг, 1875 г., стр. 71–79; «Северный Вестник» 1896 г., № 1. «Петрашевцы», изд. Саблина, стр. 37–40, перепеч. из «Полярной Звезды»), но с пропусками и неточностями. В «Голосе Минувшего», 1915 г., № 12, декабрь, стр. 62–65, часть его напечатана вновь в исправленном виде В. И. Семевским в его статье о петрашевцах. Заимствую текст именно оттуда, равно как и вышеуказанные сведения.
«Голос Мшившего», там же, стр. 63.
Там же, стр. 64.
Куда она ездила по случаю смерти Императора Николая Павловича.
Воспоминании протоиерея И. И. Назарова («Русская Старина». 1901, Т. 106, стр. 57).
«Фельдмаршал Паскевич в Крымскую войну» (перев. из Jahrbücher f. d. deutsche Armее u. Marine, за 1874 г., № 35 и 36). Перов. и прим. Н. Шильдера. В примечании показано, что содержание «Видения» передано неточно («Русская Старина», 1875, кн. 13. стр. 608–609).
Барсуков, – Жизнь и труды Погодина, Т. IX, стр. 37.
А. Кирпичников, – Между славянофилами и западниками («Русская Старина», 1898 г., Декабрь, Т. 96, стр. 570).
А. И. Кирпичников, – Между славянофилами и западниками («Русская Старина», Т. 96, 1898 г., ноябрь, стр. 317, прим. 2 к пред. стр., письмо от 12 ноября 1831 г.
Там же. стр. 327. Письмо от I (13) Ноября 1838 г., из Москвы.
Там же, стр. 327.
Там же, декабрь, стр. 571, прим. к пред. стр.
«Русская Старина», 1891 г., Т. 71, стр. 269, «Дневник гр. П. А. Валуева».
«Русская Старина», Т. 67, стр. 211.
Письма Е. А. Баратынского к И. П. Киреевскому, № 34 («Татевский Сборник» Е. А. Рачинского. СПБ. 1899 г., стр. 44).
Id., № 36. стр. 46.
Id., стр. 98.
Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799–1826), М., 1899. Т. 2-й. стр. 308.
Id., стр. 309–310.
Id. Т. 2, стр. 98.
«Русский Архив» 1808 г. – «Записки». Т. 2. стр. 397–404.
А. В. Никитенко. Моя повесть о самом себе и о том «чему свидетель в жизни был». Записки и Дневник (1804–1877 г.) Т. I. стр. 221.
Id. Т. I, стр. 404.
Id. Т. I, стр. 409.
Id. Т. 2, стр. 470.
Id. Т. I, стр. 10–11.
Строй речи и орфография – автора.
Keil und Delitzsch. Biblischer Commentar über das AT, 2 Th., В. I, ss. 180 181 (Leipzig, 1863).
Bunsen. Vollständiges Bibelwerk für die Gemeinde. SS. ССХХХIII–CCXXXIV и далее синхронист. табл. (Leipzig, l858).
Об этом в Alt. Richter Real-Encyclopädie Herzog’a, В. 12. S. 774.
Lange. Theologisch-homiletisches Bibelwerk, В. 5, SS. 14–16 (Bielefeld, 1865).
Reinke. Beiträge zur Erklärung des A. T., B. I (Munster, 1851). s. 433.
Reinke. Beiträge… B. I, ss. 469–470.
