Оглавление
Часть первая. «К вере призваны мы все, братия…»
Благодарение
На пороге собственной старости понимаешь, как много Господь дал тебе встреч с теми, кто прожил отпущенное им время жизни на земле достойно. Образы их все настойчивее оживают в памяти. И, пожалуй, настало время рассказать о том, что было дано. К тому же слишком много людей, не сговариваясь, в последнее время говорят: «Ты встретила в своей жизни столько замечательных людей, что просто обязана рассказать о них». Об их опыте «совершенной радости», об их умении оставаться людьми в любых обстоятельствах.
Заранее предупреждаю читателей, что беллетристом я не являюсь и сочинять не умею, так как по основной своей профессии я — литературовед, пространные описания — не мой конек, привычнее анализировать и обобщать. Потому в книжке почти нет рассказов с диалогами, а есть портреты людей на фоне эпохи и попытка понять, что мы потеряли, а что удалось сохранить из того, что нам дали наши дорогие бабушки, учителя и родители. Пусть эта книжка будет данью благодарности всем тем, кому она посвящена — моей «жертвой вечерней».
Доченька, сынок, внученька, сестренка
Наше детство пришлось на середину 50-х — начало 60-х годов прошлого века. Время самое советское. И хорошего, и плохого, как и во все времена, было в нашей жизни столько, сколько Господь предопределил каждому пережить. Но одно доброе чувство, которое нам привили в то время, является несомненной драгоценностью. Нас учили уважать старших и сопереживать стареньким. В нашей школе на Васильевском острове были созданы «тимуровские команды». И мы — их члены — должны были найти себе кого-то одинокого, больного и беспомощного и помогать ему.
В нашем переулке, самом узком из всех существующих в городе на Неве, носящем имя И. Е. Репина (а мы его называли «собачий переулок», потому что там гуляли с собаками), неизменно на одном месте, в одно и то же время, у круглого мусорного бачка стояла бабушка. Такая, каких теперь и не увидишь — в старом потертом пальтишке, замотанная в клетчатый платок, в валенках с галошами, и так — в любое время года. Вот ее-то я и выбрала. По своему небольшому детскому церковному опыту я знала, что если человек все время стоит на одном месте, то, значит, ему надо подать милостыньку. И вот, стесняясь, неуклюже положила я свою монетку на мусорный бачок, у которого стояла бабушка. И услышала то обращение, что потом не раз слышала от незнакомых людей, и что так оживотворяло душу: «Внученька! (потом было: «Доченька!») А мне ничего не нужно, у меня все есть!» Бабушка рассказала мне, что у нее есть семья и она не брошена, а стоит она тут, потому что ноги не дают ей далеко ходить, и так она «дышит воздухом» в одно и то же время, ненадолго покидая свою квартиру.
Потом я нашла себе другую бабушку, которой пробовала помогать, а на самом деле скорее она меня опекала, угощала, веселила.
Но вот почему-то та вторая бабушка, которую за мной «закрепили» тимуровцы, не запомнилась. Не помню даже, как она выглядела. А образ бабушки, замотанной в платок, так и стоит перед глазами до сих пор. Теперь думаю: может, она не посмела мне сказать правду о том, как она живет? Может, у нее действительно никого не было или была она обижена своими домашними, ведь почему-то трепетало детское сердце всякий раз, когда я видела ее скорбную фигурку с палочкой?
А может быть, ее образ живет в памяти потому, что она принадлежала к тому удивительному миру русских людей, когда все чувствовали родственную связь друг с другом — и потому старшие к младшим иначе и не обращались, как «доченька», «сынок», «внученька». Мы так уже не можем, да и поколение наших родителей уже так не могло чувствовать.
И за это первое благодарение: мы застали еще тех, кто носил в себе чувство народного родства и дал нам почувствовать себя частицей большой семьи. Несмотря ни на что — ни на ложь идеологии, ни на пустозвонство обязательных школьных и институтских дисциплин, ни на пустоту мещанства.
Эта интонация особой нежности, обращенной к чужому, незнакомому человеку, когда трудно и одиноко, звучит в душе: «Доченька! Внученька!»
* * *
На всю жизнь запомнилось, как однажды от незнакомого своего сверстника я услышала: «Сестренка!» И случилось это в ситуации совершенно неожиданной и опасной.
В юности все мы дерзновенны. Случилось мне в 17 лет путешествовать в одиночку автостопом по святыням центральной России. Так я побывала в Угличе, Ярославле, Ростове Великом, Переяславле-Залесском, Троице-Сергиевой Лавре (и, кстати, там в храмах везде слышала это родное: «Внученька! Доченька!»). В юности важно было пережить это драгоценное чувство — куда бы ты ни приехал, в любой незнакомый город, найди православный храм, и там тебя примут, как родную. И накормят, и ночевать оставят добрые прихожане. Заботу простых людей обо мне — желторотом птенце — во время того путешествия никогда не забуду. И не только в бытовых вещах, а и в духовных. Например, в Троице-Сергиевой Лавре во время очень долгого вечернего богослужения в трапезном храме ко мне подошла одна маленькая старушка со словами: «Доченька, ты уж посиди, мы-то привычные, закаленные, а тебе посидеть нужно».
Но там же, в Лавре, во время моей первой самостоятельной паломнической поездки я была испытана и научена смирению. В книжно-иконописную лавку стояла большая очередь туристов, и я к ним пристроилась. И вот, когда я только вступила на порог лавки, монах, стоявший там на послушании, обрушился, обращаясь именно ко мне, с гневной речью: «Вот ездят сюда неверующие, а зачем? Что вам здесь нужно?» Женщины-туристки в брюках и с непокрытыми головами стали смотреть на меня с легкой усмешкой, а я в смущении про себя говорила: «Но я ведь не такая!» Может быть, то, что я тогда ничего не сказала в ответ и вслух не стала оправдываться, и спасло меня в тот момент, когда я услышала драгоценное слово: «Сестренка!» Как говорил покойный Патриарх Пимен, которого мы очень любили и почитали: «В Царствие Небесное можно попасть только путем смирения».
Это было уже на обратном пути странствований по центральной России. Из Ярославля в Рыбинск я отправилась на последней электричке. Было уже около полуночи, в вагоне я ехала совсем одна, когда на каком-то полустанке в него вошла группа подвыпивших подростков. Увидев меня, они сразу же направились к той лавке, на которой я сидела, расселись с двух сторон и начали шумно «приставать». Наверное, в тот раз я впервые узнала, что такое горячая молитва к Богу. Повторяя про себя слова Иисусовой молитвы, я старалась спокойно и весело отвечать на грубые шутки. Приближалась следующая станция, и я в ужасе услышала: «Пойдешь с нами!» Они поднялись, и вдруг самый старший из них похлопал меня по плечу и сказал: «Дай Бог тебе здоровья, сестренка!» И они с шумом выскочили на платформу, а поезд помчался дальше. Благодарю того парня, что спас меня. Так же как благодарю всех тех, кто пригревал меня во время поездок-паломничеств и учил уму-разуму на всю жизнь.
Как стать верующим?
«Верю, что не все у нас пропащие люди, у всех есть душа, только у одних посветлее, а у других потемнее, все знают — есть Бог. Но кто-то хочет к Нему идти, а кто-то не хочет, кого-то лень одолевает, кого-то помыслы дурные, а кто-то и не знает как — суета кругом мирская. Я прошу вас, батюшка, напишите, как быть, подскажите, а я с ближними поделюсь, и радость у нас будет одна, общая», — такие письма получали, как узнала я, работая журналистом в 1990-е годы, многие настоятели монастырей, да и просто мирские батюшки.
«Как стать верующим, подскажите? Я хочу верить, но не получается. Где ее взять, эту самую веру?» — этот вопрос задавали и сейчас задают многие русские люди. И мы — те, кто уже в ограде церковной, — не должны прятаться от наших собратьев за этой оградой, мы должны помогать им, заботясь о том, чтобы самим не быть верующими только по названию.
Обретение веры — это тайна, таинство веры совершается в душе человеческой незримо и с каждым по-своему. Но кое-что можно сказать и о внешних проявлениях обращения.
Господь судил автору этих строк не раз быть свидетелем того, как человек из не верующего в Господа Иисуса Христа, из не приемлющего Церковь становился горячо верующим и церковным человеком. Поговорить же хочется о нашей зависимости от времени, в которое живем.
* * *
Ложь советской идеологии вызывала в нас протест. В 1960–70-е годы молодежь искала нечто, что можно ей противопоставить. Одни приходили к вере. Другие боролись хиппованием, диссидентством, начинали увлекаться наркотиками, алкоголем, а кто-то экзотическими религиями и философией. Нас, верующих церковно молодых людей, было тогда совсем немного. Даже в таком большом городе, как Питер, мы почти все знали друг друга, хотя бы в лицо. А те, кто ходил в один храм, непременно знакомились и становились друзьями.
Сейчас с некоторой ностальгией вспоминаются те времена — тогда не было моды на Церковь (она пришла позднее, теперь, слава Богу, ушла). Молитвенники и Священное Писание мы доставали с трудом, а за их ксерокопирование люди попадали в лагеря и психушки. А тех, кого идеологические работники видели в храме, исключали из институтов, не давали диплом, вызывали в парткомы на месте работы для «пропесочивания». Все это давало нашей вере крепость: если нас преследуют, значит, мы выбрали правильный путь. Так что двадцать, тридцать и сорок лет назад верующими становиться было и труднее (с точки зрения внешней), и гораздо легче (с точки зрения психологии).
Но одновременно происходили обращения людей к вере не в силу сопротивления лжи, а в силу «природы вещей», это было продолжением их праведной жизни. Люди эти жили добротой, правдой изначально — таково было их воспитание, таковы были и есть их души. Детство же и юность протекали в общем атеистическом безразличии. И когда их близкие друзья становились верующими христианами, начинали ходить в церковь — они долго не принимали этого. Им казалось, что и без веры, и без Церкви можно быть «порядочным человеком» — это была тогда высшая оценка добродетели. К тому же, как на грех, заходя в церковь, они натыкались на «шипящих старушек» — блюстительниц церковного порядка. И встречи эти возвращали их в мир высоких образов классической литературы, стихов, романтики, в котором они привыкли жить. Но Господь не оставляет людей, подобных сотнику Корнилию, Он незримо призывает их — через сновидения, чудеса, молитвы усопших праведных предков. Он не хочет, чтобы их доброта была бесплодной. Одна из не названных, но описанных выше девушек — ныне монахиня, другая стала матушкой, женой священника, третья — редактор православного издательства. Теперь они светят людям добротой Христовой, и их вера — живая, органичная, в ней нет никакой натужности, несоответствия слова и дела. За этих людей, за всех нас молились, звали нас в Церковь наши деды и прадеды.
Но приходилось видеть и обратное — это происходило при обращении к вере людей еврейской крови. Накануне крещения (я дважды была свидетельницей этого) они в ужасе говорили: «Я чувствую, что сейчас предаю предков. Как я встречусь со своим дедушкой?» Одна из этих женщин, крестившаяся в возрасте 43-х лет, ощутила великую силу первой благодати. Она с удивлением обнаруживала, что у нее сам собой стал меняться образ мыслей, отношение к людям. Но вскоре она уже была на грани отречения от принятого крещения. Умер ее отец — некрещеный еврей, бывший политработник. И в ней поднялась буря: «Я должна выбрать: с вами я, христианами, или с отцом. Я его предала».
Борения эти не оставляют крестившихся евреев иногда на долгие годы, а может быть, и на всю жизнь. Когда в Пюхтицах у опытного духовника я спросила: «Как к этому относиться?» — он ответил: «Это один из признаков последних времен — обращение евреев ко Христу. Бог их призывает. Но сатана за них борется с особенной злостью».
Знаю я и об обращениях к вере во время войны в Афганистане. Немало афганцев приходилось видеть в монастырях. Мы, их сверстники, смотрели на этих ребят с особым почитанием: их вера родилась в огне, в «огненном испытании».
Все описанное мною — события более чем тридцатилетней давности. Повторюсь: те времена вспоминаются с ностальгией. Было великое целомудрие в том, что нам приходилось в школе, в университете, на работе скрывать, что мы — верующие. Вера не была для нас ни афишей, ни рекламой, как бывает порой сейчас.
* * *
Во все времена к вере приходят, потому что Бог призывает. Можно сказать: подталкивает в Церковь, ко крещению. Но по-разному приходят в Церковь в разные эпохи. Есть свои особенности и у дня сегодняшнего. Отличен он от времен моей юности.
Молодым, в силу их влечения к самоутверждению в том, что не приемлется большинством, к тому, что гонимо, уверовать сейчас труднее, чем было нам. Я уже не говорю о молодых «новых русских» — христианская этика никак не вписывается в законы их бытия, она им противоположна. Но вот что интересно: Господь призывает сейчас многих стариков. Удивительно наблюдать обращения тех, кто еще 20 лет назад смеялся над верой и называл себя «сознательным атеистом». И опять загадка: почему кто-то из них приходит в Церковь и становится горячим исповедником у себя в семье, в квартире, в деревне; а кто-то так и не может переступить порог храма? И нельзя сказать, что существует строгая зависимость между прожитой жизнью и верой пожилых. Тут тем более убеждаешься, что вера — это дар свыше, необъяснимый разумом. Вспоминается, как подросшая крестница спрашивала меня: «А как вы с мамой сделали, что я во все Таинства верю? У нас в гимназии ребята не верят, а я почему-то верю». Ум подростка впервые столкнулся с тем, с чем сталкиваемся все мы — живет в нас «сокровенный сердца человек», глубже, чем все наши мысли и чувства.
Приходилось наблюдать также, что дар веры часто посылается людям накануне серьезных испытаний. Да и каждый из нас, людей верующих, переживал это необыкновенное состояние, когда вдруг на фоне привычной теплохладности посетит душу горячая, живая вера и великий покой. А вслед за этим приходят какие-то серьезные испытания.
Но бывает и так: человек жаждет веры, но она не дается. Святые отцы в таком случае советуют: делай добрые дела, старайся не грешить и молись, проси «неведомого Бога», чтобы Он тебя услышал и дал почувствовать, «что Он есть». О даровании веры в ответ на такое упование написано немало воспоминаний. Перечень их занял бы не одну страницу.
Вернусь к письмам, которые люди пишут в монастыри. Читая их, ощущаешь, что многие из наших соотечественников «томимы духовной жаждой». Люди просят и молят: «Дайте наставление, чтобы душа моя не металась… Посоветуйте, как молиться, чтобы мои дети уверовали… Я не знаю правил, научите… В вере ничего не понимаю, как мне быть?..» Надеемся и верим, что Господь всех, кто ищет Его, кто хочет стать верующим, не оставит. «Приидем к нему и обитель у него сотворим», — сказано о таинстве веры в Писании. Можно ли сказать лучше?
В этой книге я буду рассказывать о своем пути к вере и в вере, может быть, кому-то это пойдет на пользу. И прошу прощения за вынужденную нескромность и «яканье».
Обретение веры
За Божий дар веры нужно более всего благодарить. С годами отчетливо понимаешь, что это — главное сокровище в жизни. И его нужно оберегать, боясь потерять, потому что тогда жизнь потеряет смысл. Как написал апостол Павел в Послании к Колоссянам, «посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением» (2, 6–7).
До сих пор помню обостренное юношеское чувство — мне было тогда 15 лет: «Все, что я вижу, все несправедливости, безобразия в жизни не могут составлять ее суть, все дурные поступки мои и окружающих не могут определять человека полностью. Но где же свет? Где правда? Где они — другие люди и другой мир?» И вот именно тогда на одной старой даче в Вырице, куда мы приехали с родителями в гости, мне попали в руки два старинных тома «Житий святых» (красивое издание, в настоящих кожаных переплетах с золотым тиснением). Удивительно, — видимо, что-то уж очень горело во мне тогда, — но мне подарили эти два тома! И, приехав домой, я стала их читать. Так впервые прочла житие моей святой — мученицы Людмилы, и многие другие жития святых. Я читала эти книги с таким увлечением, какого не вызывала прежде ни одна книга в жизни, потому что во вдохновенных словах святителя Димитрия Ростовского обретала именно тот мир, который искала и к которому стремилась всегда моя душа, пусть и бессознательно.
Теперь я живу неподалеку от Вырицы и постоянно благодарю прп. Серафима за те отроческие дни, которые определили всю мою жизнь. Ведь тогда я впервые (после долгого перерыва в восемь лет) сознательно вошла в его «приходской храм» (так он называл церковь Казанской иконы Божией Матери) и поклонилась могилке «доброго дедушки Серафима» (так назвали старца хозяева той дачи, где мы жили). И после этого стала постоянно ходить в храм и молиться дома.
А потом Господь послал встречу с теми, кого я называю «мои святые». Не ругайте меня, братья-православные! Вот, например, старец Косьма1 в келии своей имел всю стену, увешанную фотографиями тех подвижников, кого он знал лично, и, приглашая к себе гостей, говорил: «Посмотрите на моих святых!» А апостол Павел в своих Посланиях всех христиан называл святыми…
Через общение с «моими бабушками», которым, собственно, и посвящена вся эта книга, образы святых становились особенно близкими. Мы вместе с бабушками ходили в храм, и из своих скудных пенсий они выделяли денежку на свечечки преподобному Серафиму, преподобному Сергию, святителю Николаю, Иоанну Крестителю, Иоанну воину. От них я впервые узнала эти имена и была свидетельницей такого живого отношения к святым, которое говорило о настоящей вере в жизнь вечную. Бабушки приучили к ежедневному чтению житий — в юности два раза по кругу мне удалось прочесть весь корпус житий Димитрия Ростовского в двенадцати томах. Сейчас я удивляюсь — откуда у меня было столько времени? А ведь это была ранняя молодость, когда много других интересов! Значит, зачем-то было нужно, чтобы Бог давал мне такую святую жажду. О себе теперешней я уже этого сказать не могу — не получается постоянно читать жития. Хотя до сих пор любимым чтением остаются книги о подвижниках. Стараюсь не пропустить ни одного нового издания о старцах, о новомучениках. Теперь прежде всего занимают и волнуют рассказы о жизни наших современников. О тех, кто созидает свою святость именно в условиях нашего времени.
К святости невозможно привыкнуть, святость всегда неожиданна. Людям нецерковным приходится слышать много отрицательного о нашей Церкви, о ее людях, да и сами мы — те, кто называет себя «воцерковленным человеком», — не являемся примерами для подражания. И у тех, кто наблюдает нас со стороны, закономерно возникает вопрос: так чего же стоит эта вера, если христиане таковы — невежественны, слабы, трусливы, агрессивны и одновременно, порой, живут по принципу приспособленчества? На этот вопрос есть один ответ: не смотрите на нас, посмотрите на наших святых. Они были, есть и будут в Церкви. И они — лучшее доказательство и ее святости, и нашего право-славия — правильности нашей веры. Так что, если хотите, книга эта — апологетическая.1 Хотя апологетика эта не высокого богословского свойства, а приспособленная к современному уровню «газетного сознания». Впрочем, мне этот уровень только и доступен.
Мои наставницы
Благодарю Бога за то, что дал мне встретиться со Святой Русью, с благородной Россией не в книгах только, но и в общении с живыми хранительницами традиций этой дивной отшедшей страны. Они учили, наставляли без слов, они просто жили, и их человеческие облики были законченными, гармонично прекрасными образами христианского подвижничества.
Теперь понимаю, что эти образы, эти примеры помогли пережить самое трудное время во всей нашей народной жизни. Я вспоминала бабушек особенно часто в те дни, которые называли «временем Перестройки». Думала о том, что во многом начало 1990-х годов напоминало то, которое пережили они. «Умирает Россия», — так говорили о переломе, происшедшем в истории нашей Родины после 1917 года. Но началось это умирание, или, вернее, предательство, гораздо раньше. «Мы старый мир разрушим до основанья» — таким был лозунг всего XX века. То, что происходило в 1990-е годы, можно назвать теми же словами, только, пожалуй, убрав слово «старый».
Все чаще вспоминались тогда слова моего учителя, профессора Дмитрия Евгеньевича Максимова: «Чувствую себя ископаемым». Бывало так: иногда идешь по улице, едешь в метро, заходишь в магазин и даже в гости к старым знакомым — и вдруг чувствуешь себя выпавшим из этого века, из общих правил игры. Пытаясь ответить на вопрос: как правильно поступать, как по-христиански жить в этом стремительно меняющемся мире, я всегда вспоминала именно бабушек. Они своими судьбами наглядно показали, как надо жить в эпоху «распада времен» и перестройки системы ценностей во всем обществе. Как оставаться самим собой, но и не быть презирающим «весь погибающий мир» гордостным «избранником». Бабушки на деле выполнили пастырский завет святого Патриарха Тихона (Беллавина): «Умереть не трудно, надо научиться жить в это время».
Попытаюсь в кратких словах передать хранящиеся в памяти светлые образы моих бабушек. Хотя все они были очень разными, с разными характерами, профессиями, но всех их объединяло то, что можно назвать духовной культурой. Это было сочетание старинного благородства, дворянского воспитания и естественной простоты, открытости, внимания к людям. И в самом преклонном возрасте до дня кончины их не оставляло горение духа, у них были очень личностные отношения с Богом. Поэтому рядом с ними люди согревались. Людей их круга можно было безошибочно определить даже среди многих верующих. Я бы сказала, они изливали особый «аромат Православия», который, как говорил апостол, для кого-то «благоухание жизни», а для кого-то дыхание смерти. Может быть, это было связано с тем, что все мои бабушки прошли через подвиг исповедничества веры, многие из них принадлежали к гонимой Церкви, которую когда-то называли «иосифлянской». А теперь, когда на Архиерейском Соборе 2000 года совершалась канонизация святых, оказалось, что из среды «иосифлян» вышло очень много новомучеников. Все они, мои названные бабушки, были подругами юности. И так, познакомившись с одной из них, я обрела сразу же семь наставниц, советчиц и, дерзаю сказать, друзей. Дружество было основой их отношений с людьми. И всякий, кто попадал в их круг, приобщался к этому дружескому кружку. Меня всегда поражало, как они, пережившие годы «большого террора», знавшие предательство и наушничество, «униженные и оскорбленные» советской системой, продолжали так доброжелательно и приветливо относиться к людям, не быть подозрительными, настороженными, а наоборот — очень доверчивыми. Они не делили людей на верующих и неверующих, своих и чужих. Они не чувствовали себя отделенными от мира, в том числе, например, от своих соседей по коммунальным квартирам.
И еще — они были очень молодыми! Мне, в мои тогдашние 18 лет, казалось, что бабушки моложе всех моих сверстников. И мне было с ними гораздо интереснее, чем со сверстниками. Я до сих пор вспоминаю как самую счастливую новогоднюю ночь в моей жизни — ту, которую я провела вдвоем с бабой Паней (Параскевой Васильевной Аксеновой), рассматривая старинные фотографии из альбома и слушая ее рассказы о запечатленных на фотографиях князьях Волконских, о детстве и юности, которые прошли в их доме. Было там и множество фотографий так называемых простых людей: поваров, кухарок, дворников, сестер милосердия, солдат. И в ту ночь я сделала для себя открытие: какие лица были у людей дореволюционной России, какая печать благородства и одновременно личностной неповторимости!
Что отличает молодую душу от старой? Старикам обычно ни до чего нет дела, на многое в жизни они уже не в силах отзываться из-за душевной усталости, из-за различных недугов, из-за пережитых жизненных тягот. Но в моих бабушках потрясала бодрость духа при великой телесной немощи: одна из них была прикована к постели уже много лет, многие передвигались на костылях или с палочкой, две были слепы. Но душевной усталости, уныния, сосредоточенности на болячках не было и в помине! Был, наоборот, великий интерес к жизни, желание узнавать новое, жажда общения. В то время, когда мы познакомились, я училась в Университете, и каждый день приходила к ним наполненная какими-то новыми сведениями. С каким интересом они расспрашивали меня о тех спецкурсах русской литературы, которые нам читали! С радостью вспоминали стихи, оставшиеся в памяти с ранней юности, вместе со мной готовы были перечитывать Владимира Соловьева, Достоевского, Флоренского. Прежде всего это относилось к матушке Анне — Анне Васильевне Куракиной (Кошкиной). Она сама писала стихи, и не только много читала всю жизнь, но и делала многочисленные выписки из книг, собирала вырезки из газет и журналов и очень многих людей укрепляла в несении жизненного креста, посылая письма с этими драгоценными по тем временам (ведь духовных книг не было) выписками.
Бабушки никогда не изображали из себя «многоопытных стариц», которые могут поучать с высоты своего духовного опыта. Они держали себя со всеми на равных. И я на себе постоянно испытывала это великое любящее равенство. Известный во всем мире астроном, профессор, матушка Елена (Казимирчак-Полонская) однажды сказала мне (ей тогда было 90, а мне 20 с небольшим): «Давай перейдем с тобой на «ты», я первая начну, ведь мы друзья». Она же, как и другие мои так много пережившие бабушки, могла даже сказать: «Давай посоветуемся, как лучше поступить». В их дружеском кружке вообще не чувствовался «возрастной ценз». Главное было: подбодрить, утешить, развеселить каждого, кто в этом нуждается… Улыбчивость, шутливость — все это было так естественно для бабушек и так ободряюще действовало. Однажды я от них услышала такое научение: если можешь сделать доброе дело — сделай, если не можешь — скажи слово доброе, если же сказать не можешь, то хотя бы улыбнись человеку.
Хотя во всех проявлениях в бабушках не было чрезмерности, они не «перегибали палку», им был присущ дух мерности в сочетании с «красотой внутреннего человека». Активность в практической жизни сочеталась с незримой, невыпячиваемой работой преобразования собственной души. Однажды, когда я спросила бабу Паню Аксенову, чего она добилась в духовной жизни за долгие годы, она ответила: «Ты знаешь, мне уже не приходят в голову хульные и плохие мысли о людях». Я тогда подумала: «И всего-то!» А теперь понимаю, как это много, какая это высота — освободиться от помыслов, это значит — победить страсти, которые порождают эти помыслы. Бабушки вообще не вели велеречивых разговоров, не говорили «о духовном совершенствовании», не цитировали святых отцов, хотя в их коммунальных квартирках чудом сохранились дореволюционные издания «Добротолюбия» и собрания сочинений великих богословов. Они говорили только о том, что было рождено их собственным опытом, и потому говорили о великом очень просто, а если и цитировали святых отцов, то прежде всего в письмах. Главным письмоводителем была Раиса Васильевна Куракина — тетрадки с ее дивным каллиграфическим почерком (таким он у нее оставался до глубокой старос-ти) хранятся у меня как память о тех незабвенных годах, когда рукописные книги с поучениями подвижников заменяли нам печатные.
Переписка, которую вели мои бабушки, поражала своими объемами. Мне часто приходилось писать письма под диктовку. Это всегда были слова утешения и перевода (при помощи слов из Священного Писания и отцов) любой жизненной ситуации из плана житейского на уровень Вечности. Не забывалось и денежное вспомоществование нуждающимся: из своих жалких пенсий каждый месяц они выделяли копеечку. Собирали для тех старых друзей, кто совсем уж бедствовал, голодал. Так, ежемесячно я обходила всех моих бабушек и собирала «пенсию для Аси» — их общей подруги юности Анны Сергеевны Иговской, которая в годы репрессий была выслана в Казахстан и бедствовала с крохотной государственной пенсией в далекой Караганде. Обязательно подавали церковным нищим, причем всех их знали по именам и знали жизненную драму каждого. Помню, как они убивались, жалели, когда на крестном ходе на Пасху погиб безногий Володя, который просил милостыню у Князь-Владимирского собора. Оплакивали его, как родного! Часть пенсии обязательно уходила на подкормку голубей и дворовых кошек. В день получения пенсии десятина откладывалась на храм Божий, на свечечки, на записочки. Часто мне приходилось писать поминальные записки под диктовку, и о каждом поминаемом человеке я слышала долгие, полные любви рассказы. Церковное поминовение не было для бабушек формальностью, это было проявление живой связи с усопшими. «Роднитесь с небесными жителями!» — любила повторять мне одна из бабушек — Анна Васильевна Куракина. И в числе родных, поминаемых в записках, были не только люди, которых бабушки знали по жизни, но и еще не прославленные в то время св. прав. Иоанн и блж. Ксения, все оптинские старцы.
Духовная свобода моих бабушек всегда поражала, но было понятно, что внутренним законом их жизни является послушание. Так, по послушанию исполнялось то немалое молитвенное правило каждого дня, которое несколько десятилетий назад дал покойный духовный отец. По послушанию одна из матушек никогда не принимала лекарств. Когда ей в бессознательном состоянии все же дали лекарства, они ей не только не помогли, но повредили и ускорили смертный исход. Бабушки по послушанию держали пост на вкушение мяса и соблюдали пост понедельника. По любви ко Господу и послушанию они причащались два раза в месяц. По послушанию ежедневно прочитывались главы из Евангелия и Апостола, перечитывалось всю жизнь пятитомное «Добротолюбие».
Но вся эта аскетическая строгость не была заметна, как бывает это у современных неофитов. Я узнала о ней только потому, что в последние дни их земной жизни мне пришлось за бабушками ухаживать, и я увидела распорядок их келейной жизни. При этом меня они не наставляли обязательно подражать им, а говорили, что всему свое время, все должно быть естественным для определенного возраста. И действительно, все, что они делали, выглядело так, что верилось — они живут по потребностям души, делают то, чего просит их душа, а не играют спектакль, как это часто бывает с нами, когда мы стараемся казаться лучше, чем мы есть на самом деле.
Удивительным было их отношение к болезням. Более всего меня это поражало в сестрах Барышевых — слепой Вере Ивановне и глухой Надежде Ивановне. Свои недуги (не врожденные, а посланные как испытание в ранней юности) они сделали поводом для «умножения любви». Друг для друга они были «дорогой половинкой» — одна для другой глаза, другая для нее уши. И глядя на них, можно было учиться тому, что значит «жить душа в душу». Особенно поражала Вера Ивановна — она, слепая, умудрялась потрясающе готовить: печь пироги и печенье, делать салаты, и все было так вкусно, потому что приготовлялось с молитвой. А еще она очень много читала: каждую неделю ей привозили новые книги по системе Брайля, а также бобины с магнитофонными записями. Иногда и я читала ей вслух и удивлялась ее глубоким замечаниям-комментариям.
Подлинно христианское отношение к болезням у бабушек привело к «непостыдной кончине живота», я была свидетельницей перехода в Вечность многих из них. Как при жизни они более всего заботились не о теле (как у многих из нас, современных христиан, увлеченных «правильным питанием» и пр.), а о душе. Они боролись до последней минуты, боролись за сохранение памяти Божией и во время тяжких физических страданий, боролись за благодарение Богу в те минуты, когда скручивала боль и силы оставляли. Могу сказать, что Бог дал мне быть свидетельницей торжества духа над плотью — и это был итог всей жизни. Потом, провожая в последний путь своих близких, я такого уже никогда больше не видела…
Если коротко попытаться ответить на вопрос, что же помогало бабушкам пережить годы «великого перелома», то достаточно ограничиться одним словом «церковность». Они жили церковным календарем, а значит, среди этого суетного многомятежного мира жили Вечностью. Многие из них, пока позволяли силы, каждый день старались ходить в храм. Старались и дома молитвенно почитать тех святых, память которых праздновалась в тот или иной день, любили читать переписанные собственноручно акафисты и каноны.
Пожалуй, самым ярким выражением гармонии внутреннего и внешнего была у бабушек их изумительная, литературно правильная речь. Сейчас так говорить не умеют. О чем бы они ни рассказывали, всегда слушать их было радостно и поучительно. А сейчас это вспоминается с ностальгией; когда кругом звучит «новояз», когда даже на научных конференциях и официальных собраниях люди позволяют себе разговаривать на жаргоне, переживаешь острое ощущение: как будто бы со времени отшествия моих бабушек прошло не тридцать лет, а целый век…
Но «нет нам пути унывать», — ведь у нас есть такой утешающий образ наших бабушек, которые, можно сказать, за один день проснулись в другой стране, и из своей дворянской дореволюционной жизни сразу же шагнули в мир с матросской матерщиной, нэпманским торгашеством и насаждением ненависти ко всему русскому. Бабушки учили тому, что на жизнь жаловаться нельзя, надо видеть то хорошее, что есть, и благодарить, а то Бог отнимет и то, что имеешь. Нужно так себя настраивать, чтобы научиться видеть в каждой ситуации положительное, а не отрицательное; как потом я прочла в книге великого греческого старца Паисия, «принимать благой помысел обо всем». И тогда наше время не будет нам казаться самым страшным из всех времен в истории человечества.
Среди моих наставниц хочу назвать не прозвучавшие в тексте имена Марии Михайловны Солодовниковой (келейницы владыки Мануила (Лемешевского)), Татьяны Николаевны Алимовой (профессора геологии, отошедшей ко Господу в возрасте 96 лет), Людмилы Николаевны Мандрыкиной (подруги и исследовательницы творчества Анны Ахматовой), Елизаветы Тихоновны Минчук, духовного чада прп. Серафима Вырицкого. И тех, чьи фамилии мне были неизвестны (их я навещала не так часто, но и эти короткие встречи памятны как соприкосновение с «вечной Россией»): Татьяна Ивановна и Мария Ивановна с Суворовского проспекта, Надежда Александровна с улицы Бакунина, Ольга Иосифовна с Чернышевской, сестры Вероника Петровна и Ксения Петровна с Колокольной, Инна Александровна с улицы Писарева.
Да, именно так, с названиями улиц, в памяти остались эти дорогие бабушки. Потому что сам приход в их квартиры, наполненные старинными вещами, — где, казалось, время обрело запах, — был для меня реальным путешествием в другой, отшедший мир старой России.
О христианском братстве
Все мои бабушки были членами православных братств, и все описанные выше «характерологические особенности» их были результатом воспитания в живых православных общинах. Потому они так и отличались от «обычных православных», которые зачастую в храме — одни, а вне его — совсем другие.
«Свобода, равенство, братство» — провозглашали революционеры на протяжении столетий, но еще Федор Михайлович Достоевский написал: «Для того чтобы было братство, нужны братья». И мы знаем, что самым страшным знамением революции в России была именно братоубийственная война. Недаром первый убийца брата своего — Каин — был в это время провозглашен героем-титаном, достойным подражания. И вот в те же годы из уст людей, также принадлежащих к поколению детей начала XX века, начинает звучать: «братья и сестры». И объединения их получают названия «братств».
Эти люди стараются воплотить христианскую веру в жизни, чтобы она из «храмовой» стала мировой, то есть направленной на просвещение и спасение не только тех, кто в храме, но и тех, кто, может быть, даже еще и воюет против всего святого. В деятельности своей братства руководствовались простыми правилами: «Помощь Церкви как денежная, так и личным трудом; служение ближним путем оказания медицинской, моральной и материальной помощи; занятие с детьми по Закону Божьему; помощь заключенным». Для тех же из «братчиков», кто избрал для себя монашеский путь спасения, определялось житие «общинкой» с более строгими правилами: «Ходить в храм по возможности ежедневно; присутствовать неуклонно на совместной домашней молитве; аккуратно выполнять свое личное правило, как молитвенное, так и библейское; говорить только необходимое; между собой хранить мир и дружбу, относясь друг к другу терпимо, благожелательно и услужливо; без благословения духовника не предпринимать ничего серьезного».
Самым большим и наиболее активным братством, как в Петербурге, так и из всех существовавших по стране, было Александро-Невское братство. Организовалось оно в 1919 году и просуществовало до 1932 года. В братство входили в основном люди образованные, интеллигентные, которые в условиях «воинствующего атеизма» своим долгом считали отстаивать христианство как мировоззрение, как источник глубокого знания и высокой культуры. Поэтому руководители братства братья Егоровы — архимандрит Гурий и иеромонах Лев — организовали на его основе Высшие богословские курсы, а также два «монашеских кружка», в которых основательно изучалась православная аскетика. Многие их членов братства стали тайными монахами, а впоследствии — исповедниками Христовыми и новомучениками. Одна из моих бабушек — Анна Васильевна Куракина (Кошкина) — состояла в этом братстве, а также окончила Богословские курсы при Лавре. Она мне и рассказала о жизни братчиков Лавры.
Цели братства его руководители определяли следующим образом: «1. Возрождение церковного богослужебного устава; 2. борьба с торгашеством в Церкви; 3. реформа пения (отказ от светского исполнения по партиям), пение всего народа церковного; 4. просветительская работа среди детей и молодежи; 5. помощь больным и заключенным». В отличие от других православных братств, которые возникли в Петербурге в революционные годы, в Александро-Невское в основном входила просвещенная интеллигенция, поэтому одним из основных направлений работы были организация курсов лекций и открытие Богословско-пастырского училища, а потом и Высших богословских курсов.
Матушка Анна Куракина попала в братство по приглашению его руководителя архимандрита Гурия (Егорова). Однажды во время елеопомазания в Лавре он предложил ей прийти к нему для духовной беседы. А потом, когда она в удивлении спрашивала, почему именно ее он призвал стать участницей рискованного для того времени дела, он ей ответил: «Рыбак рыбака видит издалека». И действительно, Анна Васильевна была духовно горящим человеком. До самой смерти она была источником утешения и силы для очень многих людей, никогда не погрязала в «бытовом существовании», даже серьезно болея и десятилетия не выходя из дома, не унывала, а через переписку общалась с десятками людей со всей страны. Многие из них были духовными чадами архимандрита Гурия (Егорова).
Отец Гурий (Егоров) постоянно читал лекции для «братчиков» и преподавал в Богословском училище. Кроме того, он был руководителем «монашеского кружка» св. Иоанна Лествичника, где намеревавшиеся принять монашество читали и разбирали «Лествицу» и другие аскетические труды, а также делали до-клады по истории монашества.
Александро-Невское братство было «братством» не только по наименованию, но и по жизни. Более того, отец Гурий благословлял своих духовных чад, склонных к монашеству, на то, чтобы жить общинкой — в одной квартире, имея общее хозяйство и кошелек (почти все члены общинок где-то трудись в миру), а главное — вместе выполняя молитвенное правило.
Власти очень скоро поняли, что Александро-Невское братство является реальной силой, которая противостоит их намерению внедрить повсюду обновленческое «прогрессивное духовенство», и поэтому руководителей братства арестовывают именно в те дни, когда начинается «обновленческий поход» против Церкви. Отец Гурий был сослан на три года в Туркестан, освобожден в марте 1925 года, и, по пути домой заехав в Москву, он попал на похороны Святейшего Патриарха Тихона (с которым он был лично хорошо знаком) и был уставщиком на чине погребения.
По возвращении в город на Неве отец Гурий опять стал активно заниматься делами Александро-Невского братства, а также был назначен благочинным монастырей Ленинградской епархии и настоятелем Киновии Лавры. За четыре свободных года, которые провел отец Гурий в северной столице, он привлек к участию к «братской работе» еще немало молодых людей и продолжал точно так же созидать «церковное строение», как и до арестов.
Что более всего удивляет в деятельности всего Александро-Невского братства: эти люди, несмотря на то что они постоянно находились под угрозой ареста и даже смерти, не теряли общения друг с другом. Казалось бы — гораздо проще было бы затаиться, «спасаться в одиночку», никаким просветительством не заниматься, а думать только о собственном благополучии. И вот, несмотря на то что буквально «земля горела у них под ногами», они 14 лет кряду хранили ту общность, которая именовалась «Александро-Невским братством». И автор этих строк — кому Господь дал счастье встретить в ранней юности духовных чад владыки Гурия — может свидетельствовать, что уже в глубокой старости те из «братчиков», которые выжили в годы гонений, продолжали хранить особый дух деятельного и одновременно просвещенного христианства, привитый им их наставниками. Старались они хранить верность братским правилам, до самой кончины морально и материально поддерживали друг друга, то есть пронесли свои братские отношения через всю жизнь, упрочив их в горниле испытаний.
Другое, не менее активное братство в городе на Неве возглавлял епископ Мануил (Лемешевский). Это братство не было таким интеллектуально высоким, как Александро-Невское, но объединяло неутомимых тружеников. Они вместе со своим духовным отцом явились тем оплотом Православия в северной столице, благодаря которому удалось победить усилившееся обновленчество в 1920-е годы. В это братство входили почти все мои бабушки-подвижницы. Их послушанием было навещать больных и ухаживать за ними, носить передачи заключенным, заниматься с детьми на дому Законом Божиим. По сути дела они исполняли то служение, которое в древности осуществляли женщины, посвященные в сан диаконисс.
Таким образом, опыт наших дедов и прадедов подтвердил из века в век повторяющийся закон: выстоять, противостать злу в одиночку очень трудно, необходимо сплочение, братство. Так спасались первохристиане во время гонений, так спасались в годы коммунистического террора, так будет и во времена антихриста. Когда афонского старца Паисия († l994) спросили: «Как выживать, как спасться от мирового зла в последние времена?» — он ответил, что только дружеская сплоченность, взаимопомощь, настоящая общинная брат-ская жизнь может спасти человека.
Хотя те, кому реально, а не в воображении пришлось испытать, что такое общинная жизнь, — кто, например, пожил хотя бы недельку на послушании в монастыре, — знает, как это непросто. Можно сказать, это особая благодать — воспринимать тех, кто тебя окружает на общих работах, на трапезе, в гостевой спальне не как мешающих твоему одиночеству, твоей внутренней сосредоточенности, не как чужих людей, а как братьев и сестер. Но если это происходит — сколько даров ты тогда обретаешь! Ты вдруг начинаешь видеть свою страшную самовлюбленность, эгоизм, нетерпимость, желание все делать так, как только тебе приятно, не считаясь с интересами других людей. Именно жизнь в братстве раскрывает человеку, каков он есть на самом деле.
И потому наши святые так поощряли жизнь общежительную и так боялись преждевременного отшельничества. И если мы просмотрим жития и жизнеописания наших подвижников, мы обнаружим, что в большинстве своем, за редкими исключениями, они спасались «с братией вкупе».
Это теперь заново приходится открывать эту истину многим новообращенным христианам. Некоторые воспринимают Православие наподобие восточной медитативной практики. Уединиться, молиться, предаваться созерцаниям — таким по преимуществу они представляют себе монашеское делание, да и вообще христианскую жизнь. А то, что первое испытание, которому подвергается трудник в монастыре — это тесное общение с очень разными и незнакомыми людьми, — это для неофитов, а тем более для неверующих людей, неведомо.
Молитва — это делание внутреннее, и тут возможны ошибки и обольщения. А вот когда тебе каждый день, а иногда кажется, что каждую минуту, сама ситуация напоминает, что ты — ничто, что ты ничего не умеешь, что ты страшно ленивый, спорливый, суетный — тут не ошибешься. Но если не смалодушничаешь, не убежишь, и хватит у тебя мужества посмотреть правде в лицо, то скажешь сам себе: «Куда там мне думать о высоких подвигах, надо научиться хотя бы пораньше вставать, поменьше есть и быть поприветливее с людьми». А потом, даст Бог, поживешь-поживешь так лет несколько в скромном взгляде на свою особу, и поймешь: подвижничество и святость складываются из мелочей, из обыденной жизни. Подвижничество — однокоренное слово с «движением», и совершается оно постепенно, незаметно. И святыми становятся постепенно, негромко.
Протоиерей Александр Козлов
Более четверти века прошло со дня смерти отца Александра, но и сейчас он, как будто во плоти, стоит пред глазами и пристально вглядывается в мою душу. Так было всегда: во время богослужения, когда батюшка выходил из алтаря на возгласы, он внимательно осматривал прихожан, и казалось, что видит он тебя насквозь. Да и не казалось вовсе, а так и было на самом деле, в этом не раз приходилось убеждаться за несколько лет духовничества батюшки. Отцу Александру был дан дар прозорливости и рассудительности — он мог разрешить сложные житейские обстоятельства одним словом, несколькими словами определить течение жизни на многие годы.
Начало 1970-х годов для молодых людей, которые пришли в Церковь, было временем поисков и хождения в потемках. Отец Александр для очень многих стал тем человеком, который определил основной жизненный выбор. Многие из этих молодых людей стали священно-служителями. Надеюсь, что настанет время, и они расскажут о батюшке новым поколениям верующих людей. Я же отдаю свой дочерний долг отцу Александру в этих кратких заметках. Не обо всем, конечно, можно написать открыто, но важные вехи запечатлеть необходимо.
Так как я пишу личные воспоминания, то постараюсь быть последовательной.
Уже первая встреча с батюшкой проявила его прозорливость и потрясла на всю жизнь, до сих пор не могу вспоминать об этом без волнения.
Крестили меня во младенчестве, потом родители лет до пяти водили в храм ко Причастию, а потом мы уехали из центра на окраину города, где не было храма, и моя детская церковность на этом угасла. Но когда в 17 лет Господь ощутимо призвал в церковь, мне очень захотелось найти тот храм, куда меня водили в детстве. Все это совершалось втайне от родителей, потому я не спрашивала у них, что это был за храм, а стала искать сама, постепенно объездив все действующие храмы города (тогда, в начале 1970-х годов, их было совсем немного). И вот когда я вошла в Князь-Владимирский собор и увидела витраж со Спасителем в алтаре, то сердце молвило: «Вот — он, храм моего младенчества!»
Так и стояла я у самых входных дверей храма, застигнутая детским воспоминанием или даже переживанием тайны храмового пространства, незримого присутствия высшей силы, и вдруг из алтаря вышел священник исполинского роста (отец Александр имел рост Петра Великого — 2 метра с лишним), с неповторимым абрисом лица, обрамленным кудрявой шапкой волос, с прозрачными внимательными глазами. Он через людей прошел прямо ко мне, одиноко стоящей в конце храма, и сказал: «Ну вот, наконец ты и пришла! Как хорошо». В это время в храме шло Причастие, и я спросила: «А мне можно подойти?» — «Нет, приходи исповедоваться, тогда будет можно». Развернулся и опять ушел в алтарь. А я стояла и думала: «Почему он так сказал, как будто давно меня ждал, разве он меня знает?» Потом оказалось (по воспоминаниям моих родственников), что, вероятно, батюшка меня и крестил в этом храме, рядом с которым мы жили в то время, в сквере напротив которого прошло все мое колясочное младенчество и раннее детство. Так что батюшка действительно меня раньше знал.
Так спустя много лет после того первого «знакомства» я стала прихожанкой Князь-Владимирского собора. Но вот что удивительно: на исповедь я в первое время старалась попасть не к отцу Александру, а к пожилому отцу Владимиру, который мне, по моему неофитству, очень приглянулся за «каноническую внешность»: был он седовласым старцем и очень строгим. Вскоре я познакомилась с «моими бабушками» — незабвенными исповедницами Христовыми, которые были духовными чадами отца Александра. Знакомство это превратилось в настоящую дружбу — я провожала бабушек из храма, навещала их дома. И они мне говорили о том, что много видели в жизни священников, но отец Александр, по их мнению, наделен особыми духовными дарами, которые сближают его с оптинскими старцами, а их мои бабушки очень почитали. Но заканчивали они свои рассказы всегда одинаково: «Но ты смотри, тебе больше по душе отец Владимир, так ходи к нему».
И все-таки однажды, провожая мою дорогую Параскеву Васильевну Аксенову на раннюю службу, я попала на исповедь к отцу Александру, и после того уже не могла отойти от него до самой его кончины.
Батюшка давал удивительное чувство защищенности, отцовства. Благословляя, он имел обыкновение класть руку на голову чада, а на исповеди часто приобнимал за плечи. Благодатную тяжесть его громадно-богатырской отцовской длани на своей голове я до сих пор помню. Помню как знак той прежней детской радости — наконец-то у меня есть духовный отец! И с ним ничто не страшно, он всегда поможет и подскажет, как нужно поступить.
Но я не могу сказать, что была хорошим чадом, бывало и так, что сама совершала какие-то решительные шаги, а потом приходила к батюшке: «Благословите!» Он отвечал: «Это как один послушник сшил себе рясу и пришел к старцу: «Благословите носить». Дело-то уже сделано, ну пусть будет так, но не торопись опять менять на старое». И торопилась. Всю жизнь торопилась куда-то.
А батюшка был воплощением спокойствия, неторопливости. Матушка его рассказывала, как однажды на даче он сел в лодку, в которой не оказалось весел, и его понесло быстрым течением, так он даже кричать не стал, на помощь не звал, спокойно плыл по течению, пока ему не помогли.
Батюшка был великим молитвенником, потому и был таким внимательным, сосредоточенным и спокойным, что постоянно творил тайную молитву. О молитве он больше всего говорил на проповеди перед исповедью, благословлял духовных чад по возможности молиться Иисусовой молитвой по четкам. Он говорил: «С молитвой и в большом городе можно жить, как в пустыне». Так он сам и жил. Помню встречи с ним вне церкви, когда он приходил на дом причащать «моих бабушек». Он и в городе выглядел как «человек не от мира сего», как древний пророк: когда шел по улице в своем белом холщовом костюме с развевающимися кудрявыми волосами, — прохожие невольно оборачивались.
В батюшке не было ни капли сентиментальности: «Ну что, мать, как ты тут?» — довольно строго спрашивал он моих неходячих бабушек, и для них это было лучше всякого ласкового привета. Они знали, что любовь необязательно должна выражаться в ласкательности. Навсегда я запомнила картину немногословного проявления любви батюшки к своим чадам. Вот он выходит из алтаря, и к нему устремляются прихожане: бабушки с палочками, согбенные, старенькие. А батюшка, оглядывая их всех, так трогательно говорит: «Вот оно — Хрис-тово воинство». Он видел не внешнее, а внутреннее, ведь все эти бабушки, пронесшие веру через «безбожные пятилетки», действительно были воинами.
Батюшка был очень немногословен, припомнить какие-то его длинные речи, наставления, поучения мне не удается. Да их и не было. Были только отдельные фразы, которые давали направление на всю жизнь. Так, например, на вопрос, нужно ли заниматься наукой, он ответил: «Да, нужно занимать ум чем-то серьезным, чтобы всякая ерунда в голову не лезла». Батюшка вообще придавал большое значение чтению, благословлял читать прежде всего труды епископа Игнатия (Брянчанинова) и жития святых, а потом, по традиции, как в Оптиной учили: авва Дорофей, прп. Иоанн Лествичник, прп. Исаак Сирин. В продаже таких книг тогда не было, но у бабушек сохранились эти сокровища духовные, и они ими щедро делились. Кроме книг, много было тетрадок, в которые были переписаны прежде всего поучения оптинских старцев, их письма, воспоминания о них. Отец Александр также очень почитал оптинских подвижников и постоянно цитировал их высказывания на проповедях. От него впервые я услышала крылатые выражения (которым, увы, так и не получается следовать в жизни): «Где просто, там Ангелов со сто»; «Как жить? Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение».
Можно сказать, что отец Александр дал «оптинское направление» на всю жизнь. Уже после его кончины, но верю, что батюшкиными молитвами, установилась прочная связь с Оптиной пустынью: в командировки туда удавалось ездить не один раз в год, несколько лет приходилось читать лекции об оптинских старцах на разных площадках, издавать книги об Оптиной, работать в архивах над оптинской темой.
До сих пор в жизни поддерживает именно «оптинский дух». Когда-то прочитанные в тетрадках, а теперь появившиеся в различных изданиях наставления старцев до сих пор остаются самым насущным духовным чтением.
Теперь я понимаю, что в этом и есть духовничество — дать направление на жизнь. В моем случае — счастье заниматься профессионально тем, что тебе душевно дорого.
И еще теперь понимаю, что сам батюшка был старцем, он хранил оптинскую традицию, когда многие монастыри были закрыты, старцы забыты, и передавал ее нам. Батюшка вообще, можно сказать, был «оптинского духа», в нем не было никакого «спиритуализма», отвлеченности, в нем удивительно сочеталась житейская мудрость и молитвенность. При этом батюшка был очень немногословен. И говорил по существу. Я помню, как была потрясена одна интеллигентная дама (она сама с покаянием потом об этом рассказывала), когда она пришла к батюшке с возвышенными «духовными разговорами», а он стал ей задавать «элементарные вопросы», но привел ее к пониманию того, что она живет блудно, и нужно прежде всего разобраться в этом, а не летать по страницам «Добротолюбия». Батюшка был прозорлив, и многие пережили это удивительное чувство рядом с ним — когда «человек видит тебя насквозь» и скрывать от него что-либо бесполезно. Многие убеждались, что батюшке было открыто и будущее многих из его духовных чад; так, кого-то он заранее приготовил к скорбям, или уберег от греховных поступков, или заставил увидеть те промахи, которых человек не замечал, а они могли привести к страшным последствиям. «Не летать по земле, не предаваться мечтам, а быть внимательными ко всему, что совершается здесь и сейчас», — этому учил добрый пастырь. Удивительно, что при этом ему удавалось находить общий язык и с «Христовым воинством» — так он называл слепых, глухих, хромых старушек, и с «младенцами во Христе», и с молодыми людьми из неверующих семей, которые только-только переступали порог храма.
В поведении, в проповедях отца Александра никогда не чувствовалось стесненности, хотя он сам говорил, что всегда видит, кто стоит среди молящихся как «проверяющий». Да и в знаменитый питерский «Большой дом» его вызывали неоднократно. Крайнее неудовольствие властей и уполномоченных по делам религии вызывало то, что многие его духовные чада становились священниками, и кроме того, для «блюстителей советской идеологии» не было тайной, что батюшкины духовные чада не только в церкви друг другу «братья и сестры», но и в жизни. Это главное, чему учил отец Александр, — нужно помогать друг другу кто чем может. Часто он благословлял и на конкретные послушания (так сказать, «прикреплял» молодых прихожан к стареньким, — молодые набирались у старших мудрости, а старушки получали физическую помощь). Так вокруг отца складывалась настоящая семья, связанная общей жизнью, а не только стоянием рядом друг с другом в церкви на богослужении.
Слово батюшки было «с силой» — от него все становилось на свои места: когда я не раз приходила к нему, по-детски удивляясь (на мой взгляд, вопиющим) грехам и несправедливостям, он всегда говорил: «Это не твое дело, не обращай внимания. На себя смотри». А однажды сказал, как умудренный жизнью человек: «Да, по-человечески-то понять можно. По-человечески они обычным образом поступают, а вот по-христиански надо бы по-другому…» Но еще добавлял, что не надо требовать от людей пути совершенства: «Как Господь сказал богатому юноше: «Если хочешь быть совершенным, пойди и продай все имение свое и отдай нищим». Совершенными могут быть немногие». Так же как о себе он не давал мечтать, так и не давал впадать в уныние: бывало, придешь и с ужасом говоришь о том, что ты натворила, а он спокойно отнесется, как к детской шалости, неразумности, которая со временем минует. И наоборот, гордыню по поводу различных «достижений» он умерял фразой: «Ни ума у нас нет, ни красоты — чем же гордиться?»
Вообще батюшка умел «за ногу стащить с небес» неумеренно и глупо рвущихся «во святые». Так, он с очень большой осторожностью благословлял на выбор монашеского пути, говорил, что одежда — не главное, иноком — иным по отношению к миру сему — можно и нужно быть всякому христианину. Таким был он сам: человек семейный, вырастивший трех дочерей и дождавшийся внуков — он всегда производил «иноческое впечатление», потому что «внимал себе». Да и в монастырь в то время было попасть непросто, особенно если родители этому противились. Вообще батюшка не благословлял идти «против рожна», хотя порой и отпускал на свою волю, предупреждая, что тебя ждет, если ты поступишь так, как тебе кажется верным. Расплачиваться за такие «подвиги не по разуму» приходилось годами, но это был реальный жизненный урок. Но зато когда удавалось по-настоящему сломать себя и поступить так, как советовал батюшка, то со временем открывалось, от каких бед уберег тебя этот совет.
Батюшка был очень больным человеком с детства, после серьезного обморожения в лесу. Однажды одна из прихожанок сказала, что видела его во сне в терновом венце — и поняла, что это были его болезни. Он был больным, но не был немощным, и брал на себя грехи своих чад, а еще и заботился о них — о том, чтобы была взаимовыручка, поддержка. Меня, например, неоднократно посылал к разным бабушкам, с тем чтобы им в чем-то помочь. Он помнил о каждой, кто из них какую имеет нужду.
Батюшка вообще всегда учил конкретности, трезвости: в семье, с друзьями, на работе, в учебе, в болезни, в радости, — и главное: всегда и везде с живой (можно и нужно своими словами) молитвой к Богу Живому. Много говорил он своим чадам и об Иисусовой молитве. Для тех лет все это было редкостью, все обстоятельства способствовали тому, чтобы священники были только «требоисполнителями».
По различным высказываниям отца Александра можно утверждать, что он заранее знал время своей кончины. Уходя из храма после последнего своего служения, он как-то особенно прощался со всеми. Благословляя одну из своих духовных дочерей, положил руку ей на голову и сказал: «Вот теперь и все». И повторил: «Вот и все».
Скончался протоирей Александр Козлов 14 апреля 1987 года. Похороны состоялись в Страстной Четверг, но на девятый день поминание дорогого батюшки уже слилось с пасхальным ликованием. На могильном кресте на Ковалевском кладбище выбиты слова: «Да будет Его святая воля», — это последнее завещание всем нам — любящим и помнящим его духовным чадам.
К этому краткому поучению с креста, которое он оставим близким, добавим и более пространное завещание батюшки, справедливое для всех христиан: «Пастырем добрым должен стать каждый христианин. Есть у него своего рода овцы: добрые силы и наклонности души. Их нужно «пасти», то есть воспитывать в правилах Закона Божия на пажити заветов Евангельских, управлять ими на пути жизни, направлять всегда к одной цели — к истине и к добру. Что за волк, угрожающий овцам? Это диавол, ищущий себе добычи в душе христианской, стремящийся расхитить овец нашей души, истребить в ней все доброе и святое. А страж — это Ангел Хранитель, который стоит у внутренних дверей души и стережет, дабы не вошел в нее лукавый враг и не выкрал дары Духа Святого. И христианин должен быть именно пастырем души своей — добрым, мудрым, почтительным и бдительным, он должен на тучных пажитях учения христианского пасти и воспитывать силы души своей, развивая в ней все доброе, чистое, святое».
Любушка
Одна из самых значительных встреч в моей жизни — и она была не единственной, более десяти раз (не считала — может, и более двадцати?) я побывала в Сусанино — была встреча с блаженной Любушкой.
«Странница Любовь» или «старица Любовь» — так пишут теперь ее имя в поминальных записках, а при жизни мы все называли ее просто Любушкой. Собрано, написано и опубликовано ныне ее жизнеописание, но все равно — тайна святости остается тайной. Как в советское время слабая и одинокая женщина смогла стать воистину «столпом Православия» — той, вокруг которой спасались тысячи? Как стала она незаменимой советчицей не только для простых людей, но и для иерархов? Почему кончина ее была такой мучительной и столько несправедливости перенесла она в конце жизни? Эти вопросы, думается, на земле так и останутся без ответа.
Для меня же лично, как и для тысяч людей, приезжавших к ней в Сусанино, навсегда в памяти останется свет, лившийся из ее глаз. Когда я взглянула в ее глаза в первый раз, слезы сами полились — из ее земных очей смотрело Небо. От нее проистекала любовь, смирение, сострадание. Не нужно было никаких рассказов о ее прозорливости и других духовных дарах, нужно было только увидеть ее согбенную фигурку, убогую одежду, мешки с хлебом и эти глаза, чтобы почувствовать — да, это святость. Вот что такое — святой человек. И за что нам такой дар — встреча с настоящей святостью? От близких Любушки я узнала ее многотрудную биографию и записала по горячим следам. Потом эта статья была опубликована в газете «Православный Санкт-Петербург» и переиздавалась в книгах. Приведу ее здесь целиком.
Блаженная Любушка родилась 17 сентября 1912 года в крестьянской семье Лазаревых близ Сухиничей, то есть недалеко от Оптиной пустыни. Пяти лет Любушка осиротела — умерла ее мать, а скоро и отца забрали.
Любушка была очень красивой девушкой, ее окружало множество женихов, тетушка, которая взяла сирот на воспитание, хотела выдать ее замуж. Но будущая старица не приняла такой судьбы и уехала в Ленинград к брату, поступила работать на «Красный треугольник» калошницей — во вредный цех. Вскоре заболела туберкулезом, пришлось перейти на должность кастелянши на склад. Здесь ее стали принуждать обманывать, делать приписки. Осталась без работы, возникли проблемы с братом…
И началась жизнь странническая. Без прописки, без дома — и это в 50-е годы, когда за малейшее нарушение паспортного режима грозила тюрьма. Ночевала где придется, часто в лесу, под открытым небом. Странница обошла многие святые места России, была даже у отшельников гор Кавказских. Но всегда, на всех путях странствий возвращалась она в Вырицу — к старцу Серафиму (сначала к живому, потом — на могилку).
Благословение на подвиг юродства Христа ради Любушка получила от блаженной старицы Марии, жившей в Никольском соборе. Предвидя свою кончину, блаженная Мария передала свое служение Любушке, сказав при этом: «Она великая». Так странница поселилась сначала в Вырице, а потом, когда семья ее хозяйки Лукии Ивановны переехала в дом в Сусанино, она перебралась туда вместе с ними. И наименование Сусанино стало для людей с разных концов земли так же значимо, как название святых мест.
Мне приходилось приезжать к Любушке часто, привозить паломников, иногда иностранцев, за что она дала мне прозвище — «переводчица». Но вот прошло время, и теперь я понимаю, что это было прозорливым наименованием моего труда вообще — вот уже 30 лет мне приходится (и устно — на лекциях и экскурсиях, и письменно — в статьях и книгах) пересказывать мысли, слова людей прошлого, то есть по сути дела быть как бы переводчицей — часто с высокого языка переводить на разговорный, доступный большинству (и мне самой).
Особенно памятной поездкой к Любушке было сопровождение протоигумена Горы Афонской в 1992 году. При встрече и прощании батюшка просил записать его имя для молитвенной памяти и дважды услышал потрясший его ответ: «Не надо писать. Я знаю отца Афанасия». Это «знаю» было произнесено с тем выражением, с каким она не раз говорила об отдаленных от нее не только расстоянием, но и временем молитвенниках. Так, она беседовала со святыми на иконах в сусанинском храме во имя Казанской иконы Божией Матери и дома в своем «святом уголке». Родителям одного больного мальчика, посылая их в монастырь на Карповку, она сказала: «Забери из больницы и иди к отцу Иоанну, мы с ним вместе молиться будем».
Матушка видела все духовным взором. Недаром она спрашивала у приходящих к ней: «А где ты живешь? А в каком районе? А на какой улице?» И было ощущение, что она видит все обстоятельства жизни человека, видит место, где он живет. Так, я была свидетельницей удивительного устроения судьбы человека Любушкой. Моя подруга О. поехала к Любушке по просьбе сестры, которая собиралась продавать квартиру в Москве и эмигрировать в Америку. О. должна была спросить Любушку, нужно ли ей это делать. Услышала привычное: «А ты где живешь?» А потом потрясшие ее слова: «Ей в Америку не надо, тебе надо. Тебе там будет хорошо». На следующий день О. играла в своем оркестре концерт вместе с приехавшими на гастроли американцами, старик-импресарио (выходец из России) после концерта подошел к О.: «Я хочу вас пригласить на стажировку в Америку. Я вышлю вам приглашение и билет». Она отнеслась к этим словам как к проявлению мимолетных эмоций, но буквально через неделю или через две ей позвонили и сообщили, что привезли приглашение и билет до Нью-Йорка. О. опять поехала к Любушке и опять услышала: «Поезжай в Америку. Тебе там будет хорошо. Только отслужи молебен святителю Николаю в Никольском соборе». О. исполнила наставление и, когда пришла в американское консульство, все прошло «как по маслу»: ей дали визу сразу на полгода, в то время как другие одинокие женщины вообще получали «от ворот поворот». Я, конечно, не могу тут до конца рассказывать об обстоятельствах ее жизни, но спасти ее, духовно спасти, могло только бегство из города. В Америке же все сложилось как ни у кого — она поселилась в городе Наяке, где живут исключительно русские эмигранты — преимущественно первой волны. А приютило ее семейство Волконских. И стала она петь в церковном хоре — по сути дела вернулась в оставленную ею в России Церковь. А потом устроилась на работу по специальности, что тоже крайняя редкость для эмигрантов, и счастливо вышла замуж.
Вместе с О. мы однажды присутствовали при Любушкиной молитве дома, когда О. ждала ответа на вопрос о своей судьбе. Это было умилительно и страшно. Любушка брала принесенный ей хлеб, откусывала от него кусочки и, плача, по-детски простыми словами молилась о приносящих. Потом остатки этого хлеба она брала с собой к сусанинскому храму и кормила им птиц. Молитвы эти она совершала не только днем, но, по свидетельству живших с ней, и ночью, не позволяя себе не только прилечь, но и присесть. Можно сказать — это был подвиг столпничества, который Любушка творила долгие годы, после того как перестала странствовать.
Наряду с особым заступничеством старицы можно говорить и о сокровенном знании ею грозных судеб Божиих. Она немало говорила об испытаниях, которые ждут петербуржцев (потом оказалось, что по молитвам Любушки мы избежали возможной аварии на АЭС, подобной Чернобольской). А накануне трагедии в Оптиной пустыни (убийства монахов в 1993 году) один из братии монастыря, постоянно получавший письма с угрозами о расправе, спросил ее, что его ждет, и услышал в ответ: «Убьют, но только не тебя».
Матушке были открыты изменения воли Божией. Так, она могла на протяжении нескольких лет говорить: «Как хорошо, что у тебя нет детей. Время такое сейчас — в вере воспитать ребенка очень трудно». Но услышав об ожидании ребенка, захлопала в ладоши и воскликнула: «Слава Богу! Слава Богу! Он будет хороший!» — определив тем самым и пол будущего ребенка. Вообще такое детское определение из уст Любушки приходилось слышать не раз: «Отец Иннокентий хороший. Владыка хороший. Матушка хорошая. Там хорошо». Но приходилось слышать и обличения.
В домике часто собиралось много народа, дальние оставались ночевать. При этом у человека не спрашивали никаких свидетельств о благонадежности — матушка все прозревала. Однажды в потоке обычного многолюдства приехали две женщины, вошли в избушку, и тут же услышали: «А вы из Большого дома?» (так у нас в Питере называли КГБ). Вместо ответа одна другой в потрясении сказала: «Она — святая».
Разговаривая с человеком, Любушка часто «писала по руке» — водила пальчиком по ладошке и, как бы считывая то, что там написано, отвечала — иногда понятными словами, иногда загадочно, а часто — видимо, зная, что человек все равно не выполнит сказанное: «Как хотите. Делайте как хотите». Так она отвечала и хоть раз «проколовшимся» — тем, кто не исполнял ее благословения и опять приходил за советом.
Ее благословение обычно соединялось с указанием на того святого, которому надо особенно молиться, отслужить молебен, прочитать акафист, чтобы исполнилось просимое. Любушка говорила о том, что надо почаще ставить свечи, говорила об этом как об очень важном деле. Да и вообще людям, которые приходили к ней с запутанными семейными или служебными проблемами, советовала всегда просто: «Читайте молитвы дома. Учите детей молиться». И на самом деле в жизни этих людей не хватало основы, все остальные проблемы были только «приложением».
Блаженная старица Любовь отошла ко Господу 11 сентября 1997 года и похоронена в Вышнем Волочке в Казанском женском монастыре, где она подвизалась последнее время своей страннической жизни.
Коротко, мало я рассказала о блаженной старице, потому что ограничилась только личными воспоминаниями или тем, что мне рассказывала ее «сокелейница» — матушка Лукия. Но дело не в словах, а в силе духовной, которая до сих пор изливается на душу при поминании дорогого имени странницы Любови.
Матушка Алипия
Еще одну блаженную старицу сподобил Господь встретить во время многочисленных паломничеств по святым местам — это была киевская старица Алипия.
В середине 80-х годов две киевлянки услышали от старца Кирилла Троице-Сергиевой Лавры: «Зачем вы приехали ко мне, когда у вас в Голосееве, в Киеве, пламенеет такой столп!» Матушка Алипия принадлежит к подвижникам благочестия скорбного периода в истории нашего отечества, когда глубина подвига верных заключалась в сердце их. Она в молчании несла свой крест, но то, что нужно нам знать о ее многотрудной жизни, о ее подвигах, она открыла. Сколько подвигов несла она: подвиг молитвы — с детства читала Псалтирь, до глубокой старости знала почти все псалмы наизусть; подвиг странничества — пешком прошла многие святые места; подвиг исповедничества — десять лет тюремного заключения за веру православную; подвиг столпничества — жила в дупле дерева; и, как венец — подвиг юродства во Христе. Дух Божий созидал в ней нового человека, и он утверждался великими дарованиями: у матушки был дар прозрения чужих мыслей, дар откровения о происходившем вдали и о будущем, дар исцеления.
* * *
Матушка Алипия была уроженкой Мордовии, родители ее — Тихон и Васса Авдеевы. В Святом Крещении наречена она была Агафией.
В семь лет осталась круглой сиротой. Такая кроха, а сама по родителям Псалтирь читала. С этих пора началась ее странническая доля. В грохоте века сего расслышала она тихий голос: «Иди дорогами земными к Небесному пути». Многие святыни посетила тогда странница Агафия, многих угодников Божиих повидала. А особенно полюбила святыни киевские — великую Лавру, третий удел Божией Матери на земле. Лютые гонения обрушились в это время на нашу землю. «Хлебной житницей и житницей священномучеников» названа Украина в «Акафисте мученикам Российским». На юге, «под Одессами», как говорила мать Алипия, пришлось пострадать и ей. Ее бросили в камеру к уголовникам. Она сказала им: «Не подходите!» — и стала горячо молиться. И никто не посмел к ней приблизиться. Охранник прильнул к глазку и замер: стоит арестантка, крестится, а над головой у нее ореол.
В застенках томилось много священников. Их брали на мученье без возврата. Осталось трое: старик-протоиерей, его сын и Агафия. «Утром нас не будет в живых, отслужим о себе панихиду». — «И обо мне», — попросила матушка. «Ты уйдешь», — утешил священник.
В той тюрьме существовала пытка под названием «машинка». Жертву вводили в комнату с двумя дверями. Одна вела на волю, другая в подвал, предстояло правильно выбрать.
Неизвестно, одолела ли матушка испытание, толкнула ли счастливую дверь, но очутилась она на свободе. «Разрешителем от уз» матушка почитала апостола Петра и особо почитала его всю жизнь.
Незадолго до Великой Отечественной войны пришла странница Агафия в богоспасаемый град Киев. Киевляне рассказывали мне, что люди помнили, как во время оккупации она многих из концлагеря вывела. Маленькая, незаметная, могла она проникнуть туда, куда другому вход был бы закрыт.
Во время войны Печерскую святыню вернули Русской Православной Церкви, и архимандрит Кронид облек рабу Божию Агафию в малую схиму с именем Алипия в честь первого русского иконописца. Она всю жизнь сохраняла приверженность отцам Печерским: «Я — лаврская монахиня».
Духовный отец благословил матушку подвизаться в дупле дерева по примеру древних подвижников. У подошвы ближних пещер стоял гигантский дуб, в котором отныне поселилась матушка Алипия. Претерпевая в древесной пещерке голод и холод ради Христа, протянула она живую ниточку к Святой Руси. Ничего своего она не имела. Приходил отец Кронид, приносил сухарей в мантии. Высыплет у дупла и уйдет — строгий был, поблажек не давал. Если трудно, благословлял читать сорок раз «Живый в помощи».
«Как засыплет снегом — холодно, зуб на зуб не попадает, — вспоминала матушка. — Пойдешь к монахам, какой даст хлебца, а какой и выгонит». В сильные морозы ее пускал в сенцы схиигумен Агапит. «Согрелась? Теперь спасайся иди», — и она уходила. Когда архимандрит Кронид почил о Господе, схимонах Дамиан благословил матушку переселиться поближе к людям.
Мать Алипия поселилась в земляной пещерке, жила на подаяние. И вот опять ее забрали в тюрьму. Памятью об этом узилище остался беззубый рот и согбенная спина. Выпустили матушку, когда уже разогнали твердыню Печерскую. Мать Алипия поселились на Демиевке (в тихом районе Киева, где была незакрытая церковь Воздвижения Креста Господня). Мальчишки дразнили ее, швыряли камнями, она же все терпела и молилась. А потом по благословению свыше перебралась в Голосеевский лес. Располагается он на окраине Киева, устроены были здесь лаврские скиты — пустыньки. Эти места освящены именами старца-девицы Досифея, благословившего на монашество преподобного Серафима, блаженных Паисия и Феофила. Здесь подвизался утешительный старец иеромонах Алексий (Шепелев), а также иеросхимонах Парфений Киевский. Поселилась матушка в заброшенном полуразрушенном домике и жила там до самой смерти, не имея ни прописки, ни паспорта. Милиция неоднократно пыталась «разо-браться» с матушкой, но Господь хранил ее, и выселить ее из Голосеева не удалось.
В это время матушка Алипия вышла на служение людям в подвиге юродства. Ходила она в плюшевой кофточке, в детском капоре или в шапке-ушанке, на спине таскала мешок с песком, а на груди — большую связку ключей: грехи духовных чад, которые матушка брала на себя, вешая в знак этого новый ключик.
Матушка спасала свой город, молитвенно ограждала его от пагубы, обходила, как крестный ход совершала. Перед чернобыльским взрывом она несколько дней кричала: «Отец, не надо огонь. Отец, зачем огонь? Тушите ради животных, ради малых детей». Поливала водичкой: «Девки, земля горит». Падала на запад и молилась: «Матерь Божия, избавь нас от газа».
Не она ли была тем праведником, ради которого Господь уберег Киев от радиационного облака, определив ему иное направление? Незадолго до чернобыльской катастрофы матушка Алипия стала предлагать к столу кагор с пепси-колой. Знаменитые голосеевские застолья (на улице стояли дощатые столы, ежедневно собиравшие по десять-пятнадцать человек) стали как бы защитой от разлитой в воздухе пагубы. Все угощенье у голосеевской подвижницы было намоленное. Для старицы было важно, кто принес кушанье, чьи руки прикасались к пище, через чье сердце прошло приношение. Принимала она не у всех. «Вам надо подровняться духом», — бывало, скажет матушка, опустится на коленочки, пропоет свои сильным голосом «Верую», «Отче наш», «Помилуй мя, Боже». Прекрестит стол: «Кушайте», а сама ложится на скамейку, отдыхает. Порции благословляла огромные, и все надо было непременно съесть. «Сколько осилишь, настолько я смогу тебе помочь», — и люди с тяжелейшими болезнями исцелялись у ее стола.
Всех принимала матушка: блудников, лжецов, разбойников, только лукавых обличала, лукавства не переносила. Она схватывала даже тень мысли. Это мы и на себе испытали, когда были у матушки. Рассказывала мне одна женщина, которая с нами пришла к матушке Алипии. Шла она к матушке вместе с «мужем-подвижником» с мыслью: спросить у матушки, не отпустить ли его в монастырь, тем паче что детей у них не было. Не смогла она при людях задать этот вопрос, но все время о нем думала. И вот стали уходить, и каждого матушка спрашивает его имя. Вот и муж ее подходит и называет имя свое: «Сергий». А матушка его поправила: «Не Сергий ты, а Сергей». И добавила: «Мужчина», то есть не монах. Таким образом та женщина получила ответ на не заданный ею вопрос.
Еще один рассказ вспоминаю: приехала к матушке жена священника, которая всю жизнь и еще до замужества мечтала о монастыре, теперь, когда все ее дети выросли (и трое из них уже стали священниками), мысли о монастыре к ней опять вернулись. И вот она поехала в Киев, чтобы спросить об этом матушку Алипию. Когда они с дочерью пришли в Голосеевскую пустыньку и вошли во двор, они увидели во дворе домика дремлющую матушку Алипию. Стали дожидаться, когда она проснется. Долго ждали, решили уже уходить, и вот, когда они уже подошли к воротам, старица вдруг вскочила, преградила путь своим гостям, а перед той, которая выбирала для себя новый путь жизни, опустила длинную жердь на ворота — это был безмолвный ответ на ее вопрошание: нет ей пути в монастырь. Хотя столько людей получили от матушки Алипии благословение на монашество, а сестры Флоровского монастыря по очереди проводили у нее в хибарке целые дни, и матушка называла их «родственнички».
Предсказания матушка давала в притчах, в юродивых поступках, а иногда и явно, просто, без иносказаний — как кому спасительнее. Как-то в разгар застолья послала одну монахиню в овраг со свечкой читать Псалтирь. Потом обнаружилось: в тот самый час ее брата чуть не убили. Пришла за советом монахиня, до того подвизавшаяся в Горненской обители, возвращаться ли обратно? «Ты здесь выше будешь», — не благословила матушка. Сейчас она настоятельница одного из старинных русских монастырей. Раба Божия Ольга, врач-психиатр, впервые попала к матушке. Хозяйка указала ей, где сесть, сама вышла. Вдруг на Ольгу закричали: «Как она смеет?» Оказывается, села на матушкино место. Испугалась, встала. Вернувшись со двора, матушка Алипия строго сказала: «Почему стоишь, садись, где тебе сказано». Все поняли, что такова матушкина воля. Сейчас сия раба Божия подвизается в Иерусалиме, в Горненской обители.
Одна женщина-певчая пришла к матушке со своим женихом, и все время, пока они сидели за столом, матушка указывала на них рукой и приговаривала: «А девочка мальчика отпевает, а девочка мальчика отпевает». В скором временем он утонул у нее на глазах, и она действительно пела по нему панихиду. А когда мы с этой женщиной, моей подругой, поехали к матушке Алипии, она из-за тяжелых воспоминаний не захотела к ней войти, а осталась стоять далеко за калиткой. И когда мы уходили и благословлялись у матушки, она вдруг спросила: «А где еще один?» А потом добавила: «Ничего, он свой. Побегает-побегает и придет». Женщина та была киевлянкой, а мы все — приезжие.
Ушли мы тогда от матушки с караваями хлеба, насыщенные обильной трапезой. Так щедро поделилась с нами благодатию святая старица.
Так и запомнилась на всю жизнь матушка Алипия — маленькая, худенькая, хрупкая, как птичка, в детской зимней шапочке с завязанными ушками, окруженная животными, с которыми она разговаривала, которых жалела. Матушкины котики и цыплята все были какие-то хворые, заморенные, хилые, — с гнойничками, с сухими лапками. «Почему звери у вас такие больные?» — однажды спросили матушку. — «Люди блудно живут, кровосмешение делают, все отражается на тварях земных».
Незадолго до кончины у матушки Алипии появилось двенадцать котят. Слепые, лежали они в коробочке, потом стали подрастать, уходили по одному. Матушка каждый раз радовалась: «Ушел, ушел!» Наконец сказала: «Почти все на свободе». Остался последний, самый сильный, больше всех к матушке льнувший. После кончины старицы он возлег ей на грудь, вытянулся и умер.
В год тысячелетия Крещения Руси, 1988-й, отошла ко Господу блаженная старица схимонахиня Алипия. Как-то она обронила, что хоронить ее будет Флоровский монастырь. Так оно и вышло. После первых литий, панихид повезли в обитель, где соборно отпели в храме. Погребение состоялось 2 ноября. «Как первый снег пойдет, так меня и похороните». И действительно, в тот день закружились первые снежинки. По благословению настоятельницы Флоровского монастыря игумении Антонии многотрудное тело 90-летней старицы Алипии погребли на Флоровском участке Лесного кладбища.
Всероссийский батюшка
О святом человеке сказано в Евангелии, что потекут от него источники воды живой и не иссякнут. Воплощение этих слов в жизни наблюдали современники во дни «всероссийского батюшки» — святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжаем наблюдать это поистине величайшее явление и мы. С каждым годом открываются нам в облике кронштадтского пастыря все новые и новые грани.
Опыт живой веры, изложенный праведником в его книге «Моя жизнь во Христе», уникален. Помнится, как 20–30 лет назад мы, тогда еще совсем юные христиане, впервые прочитывали краткие строчки из дневника протоиерея Иоанна Сергиева. Это было великое потрясение: как можно человеческим языком выразить тончайшие духовные переживания, как можно о глубочайшем и таинственном богословии говорить так просто и конкретно? Книга «Моя жизнь во Христе» в дореволюционном издании была страшным раритетом: мы передавали ее друг другу, делали из нее многочисленные выписки и хранили эти записные книжки как драгоценность. Потом были паломничества на Карповку и молитвенные стояния у гранитного фундамента с вырезанным на нем крестом. Когда в Питер приезжали москвичи, обязательно прямо с поезда шли «к батюшке» — так просто тогда называли великого праведного Иоанна. На всю жизнь запомнилось такое паломничество с ныне покойным архимандритом Иннокентием (Просвирниным).
Нас тогда пустили в подвал, где был склад, и мы долго стояли у кирпичной стены, которой был заложен проход в усыпальницу. А потом вдруг нам принесли найденную в одной из бывших келий старинную икону Божией Матери. Ощущение было как от вести, поданной нам молитвенником за Землю Русскую.
Также запомнилось пешее паломничество на Карповку с внуком отца Павла Флоренского — игуменом Андроником (Трубачевым). Я выбрала для этого паломничества самый краткий путь, и в узком пустынном переулке совсем пьяненькая женщина, увидев батюшку (а он и в советское время всегда ходил в подряснике), ринулась к нему наперерез и уперлась рукой в живот. Мы насторожились… И вдруг она сложила руки и произнесла: «Батюшка, благослови, чтобы я не пила». — «Иди к отцу Иоанну, помолись, проси его об этом, не меня». Она не знала, кто это…
Да и мы тогда даже и представить не могли, что в скором времени на Карповке будет монастырь, и что богодухновенные слова батюшки мы будем читать не переписанными в тетрадки, а изданными в прекрасном оформлении. И акафист мы будем читать не келейно, а соборно, в храме, да и вообще не поминальные записочки начинать именем протоиерея Иоанна Сергиева, а к нему обращаться словами церковной молитвы. Низкий поклон нашим бабушкам, что они пронесли через все годы гонений любовь и почитание св. прав. Иоанна. Низкий поклон им за то, что они сохраняли молитвенную связь с великим праведником, сохраняли его портреты, книги, даже личные вещи в то время, когда это грозило «тюрьмой и следствием», — ведь у отца Иоанна в советское время был статус «черносотенца, мракобеса и монархиста». А для наших бабушек его имя было воплощением Святой Руси, той страны, «которую мы потеряли» и память о которой убивали в народе многие десятилетия.
Незабываем и день прославления св. прав. Иоанна. Сколько народу собралось тогда на Карповке! И какое духовное торжество переживали все мы, когда в первый раз был пропет тропарь и прочитана молитва св. прав. Иоанну со вставленными в нее вдохновенными словами из дневника: «Имя Тебе — Любовь: не отвергни меня, заблуждающегося. Имя Тебе — Сила: укрепи меня, изнемогающего и падающего. Имя Тебе — Свет: просвети душу мою, омраченную житейскими страстями. Имя Тебе — Мир: умири мятущуюся душу мою. Имя Тебе — Милость: не переставай миловать меня».
И вот во время пения тропаря произошло то, о чем знают лишь немногие: помост, на котором стояло духовенство, стал проседать, и было опасение, что он может рухнуть, но, несколько накренившись, он остановился в своем падении. Что значило сие знамение — толковать можно по-разному. Одно несомненно: св. прав. Иоанн засвидетельствовал свое присутствие среди нас в тот день.
Запомнилось и начало ремонта на Карповке. Теперь уже понимаешь, что это было великой привилегией — прийти на святое место и очищать его от «мерзости запустения». Работа была тяжелая и очень грязная: разбивали кирпичную кладку, и потом этот мусор на носилках и в ведрах выносили на улицу. Но какая была радость от общего труда и оттого, что наконец открывается доступ в усыпальницу! С особым подъемом участвовали мы в первых крестных ходах вокруг здания. Ведь тогда произошло чудо — в бывшем монастырском здании на Карповке располагалось двенадцать различных организаций, и все их надо было выселить, всем найти новое пристанище, — и совершилось это в очень короткий срок. Позднее Бог дал мне познакомиться с человеком, трудами которого все это произошло. Ей обязательно когда-нибудь посвятят целую книгу, ведь благодаря ее стараниям была открыта и часовня блаженной Ксении на Смоленке, возобновились богослужения в нескольких храмах Санкт-Петербурга, был построен новый храм в честь св.прав Иоанна Кронштадтского. Здесь же мы скажем несколько благодарных слов о Наталье Александровне Лукиной — современной подвижнице и борце. Господь дал ей особую любовь к св. прав. Иоанну Кронштадтскому, а так как она человек живой и бесстрашный (бывшая альпинистка), то она решилась проявить свою любовь делом. Она писала письма к Святейшему Патриарху Алексию с просьбой ходатайствовать перед властями о возвращении монастыря, собрав под обращением сотни подписей. Такие же письма она сама относила представителям городских властей и отвозила в Москву в различные властные инстанции, дошла до самого М.С.Горбачева. Она постоянно бередила православную общественность города, организовывала молитвенные стояния у стен обители. И все это, надо отметить, без фанатизма, без особых эмоций, трезво, по-деловому, по-бойцовски. Такая она и сейчас, когда возраст уже подбирается к восьмидесяти. Теперь она пытается возвести «Дом радости» для стариков и детей на Вороньей горе. Помогай ей Господь!
А на Карповке, когда здание было передано Церкви и стало подворьем любимого питерцами Пюхтицкого монастыря, нас ждали новые и новые радостные обретения: восстановление храмов и усыпальницы, обновление иконы Покрова Божией Матери, появление новых благодатных икон и святынь со Святой Земли, праздничные торжества с посещением монастыря Святейшим Патриархом Алексием.
Но до сих пор «сокровенный сердца человек» стремится к тому, чтобы прийти на Карповку в простой немноголюдный день, тихонечко постоять у гробницы «нашего батюшки» и поцеловать крестик на гранитной стене на улице. До сих пор, хотя монастырь и расположен в центре Петербурга, каждая поездка туда воспринимается как паломничество, как нерядовое духовное событие.
В нашем городе теперь появилось еще одно место, где особо почитают св. прав. Иоанна — Леушинское подворье на ул. Некрасова, д. 31. Отец Иоанн очень любил Леушинский монастырь, с игуменьей которого его связывала многолетняя духовная дружба. Игуменье Таисии принадлежат одни из самых проникновенных воспоминаний о ее великом духовном отце. В Кронштадте теперь есть место, где тоже можно почтить память св. прав. Иоанна. Воссоздана его квартира, та, в которой он прожил не один десяток лет и где он скончался. Квартира-храм, здесь когда-то совершалась Божественная литургия, и надеемся, будет совершаться опять.
Эти два памятных места св. прав. Иоанна Кронштадтского связаны с человеком, имя которого обязательно нужно помянуть на страницах этой книги. Протоиерей Геннадий Беловолов — ныне настоятель храма св. Иоанна Богослова бывшего Леушинского подворья, а в то время, когда мы с ним только познакомились — научный сотрудник музея Ф. М. Достоевского. Благодаря ему музей в те годы — начало 1980-х — стал настоящим православным просветительским центром города. В его небольшом уютном зале постоянно проходили вечера, концерты, конференции, просмотры фильмов на православную тематику. Сама я по приглашению будущего батюшки (а он и тогда уже выглядел как батюшка) прочла в музее курс лекций об оптинских старцах. Мы были благодарны отцу Геннадию за то, что, когда в 1980 году открылся в Санкт-Петербурге мемориальный музей А. А. Блока (я стала его сотрудником), у нас был пример для подражания и оправдание перед начальством, когда мы стали составлять наши программы духовного просвещения: «Такое уже есть в музее Ф. М. Достоевского». Да и вообще отец Геннадий Беловолов стоял во главе многих просветительских духовных начинаний в нашем городе. Все помнят организованные им ежегодные концерты в Большом драматическом театре, помнят его многочисленные экскурсии по памятным местам, связанным с жизнью святых, знаменитые леушинские стояния на берегу Рыбинского водохранилища.
И сейчас храм Леушинского подворья — это большой просветительский центр. Помогай Бог отцу Геннадию в его просветительской работе, которая и сейчас не менее необходима, чем в 1980-е годы, «на заре нашей юности».
Отец Иннокентий (Просвирнин), Клавдия Георгиевна Петруненкова и блаженная бабушка Мария
Три имени, вынесенные в название этой главы, были для меня объединены тем, что с отцом Иннокентием меня познакомила (очно) Клавдия Георгиевна, и она же (заочно, после кончины подвижницы) познакомила меня с «бабушкой Марией», образ которой так же прочно вошел в душу, как и образы «моих бабушек». Клавдия Георгиевна была уникальным человеком — она всех знала в православном мире, и казалось, что ее тоже все знают. Попробуйте, спросите тех, кто уже был постоянным прихожанином питерских и московских храмов в 1980-е годы: «Знал ты Клавдию Георгиевну?» — и он обязательно ответит утвердительно. Особенно если он был прихожанином питерского кафедрального Никольского собора.
Клавдия Георгиевна была мощной женщиной. И внешне она была такой, да и внутренне, как показали последний год ее жизни и кончина, была гигантом.
Начну с рассказа о блаженной Марии Маковкиной, с которой Клавдия Георгиевна долгие годы прожила в одной квартире, а потом была ее связной — с ее поручениями ездила в Москву к святейшему Патриарху Алексию I (Симанскому), которого старица хорошо знала. Вот этот рассказ.
Молодой девушкой, только что окончившей фельдшерские курсы в Москве, Мария Павловна Маковкина поехала к знаменитому на всю Россию «утешительному старцу» — Варнаве в Гефсиманский скит близ Троице-Сергиевой Лавры. Эта поездка предопределила всю ее жизнь. Келейник старца специально вышел из домика, для того чтобы из многочисленного люда пригласить именно ее, стоящую в очереди последней.
Два часа продолжалась беседа с прозорливым старцем, за время которой, по рассказам матушки Марии, была предсказана вся ее жизнь, — все исполнилось именно таким образом, как открыл ей отец Варнава.
По его благословению она начала работу в Санкт-Петербурге в Императорском госпитале, где во время войны близко соприкасалась с Великими княжнами и Государыней Императрицей Александрой Феодоровной. Любовь и почтение к Царственным Мученикам она сохраняла до конца своих дней, хотя и не любила об этом говорить. И вообще она была молчалива, сокровенна.
Первые десятилетия после революции ее дарования скрывались за врачеванием физических недугов людей. Потом Мария Павловна ушла на пенсию, какое-то время просто была ревностной прихожанкой Никольского собора, но люди стали замечать ее удивительную мудрость и прозорливость. Во время блокады под сводами Никольского собора она стала сомолитвенницей в ночных бдениях митрополита Ленинградского Алексия (Симанского).
Клавдия Георгиевна была свидетельницей того, с каким уважением к ней относился Патриарх Алексий, а в Печорах она однажды услышала от одного из вернувшихся в Россию валаамских старцев: «Мать Мария — это столп, на котором держится весь город и все вокруг».
По молитвам «бабушки Марии» люди спасались от преследований, от смерти, от тяжелых недугов и житейских ошибок. Особо напряженной была ее молитва — по свидетельству Клавдии Георгиевны — после кончины Святейшего Патриарха Алексия I. Она отказалась от пищи, и молитва ее была непрерывной дни и ночи. Это было настоящее столпничество. После избрания Святейшего Патриарха Пимена она облегченно вздохнула и сказала знаменательные слова: «Слава Богу, верующего выбрали. Он верующий». Да, времена были такие, что у кормила Церкви происками властей вполне мог встать и неверующий человек!
Десять лет прожила матушка Мария при Никольском соборе. Многие священники нашего города, которые в то время служили в соборе, вспоминают, сколько полезных советов она им дала, как она молилась, как принимала и утешала людей.
Похороны схимонахини Марии (скончалась она в 1971 году 87-и лет от роду) были «Торжеством Православия» — тысячи людей пришли поклониться праху своей заступницы и просить ее предстательства на небесах.
Похоронена схимонахиня Мария на Шуваловском кладбище на окраине Санкт-Петербурга, неподалеку от храма св. блгв. кн. Александра Невского, вместе со своей сестрой схимонахиней Марфой.
Перед смертью матушка Мария передала свое старческое служение блаженной Любушке.
К блаженной Любушке Клавдия Георгиевна возила очень многих людей, в том числе и меня, за что я ей особенно благодарна. И с отцом Иннокентием (Просвирниным), как я уже написала, меня познакомила также Клавдия Георгиевна. А сама она его узнала благодаря своему духовнику — митрополиту Николаю (Ярушевичу), о котором она не переставала говорить при каждой нашей встрече.
Жила Клавдия Георгиевна в самом центре города — на Садовой улице, в двух шагах от Невского проспекта, потому все приезжавшие к ней москвичи отдыхали в ее приветливой комнатке и гостевали на большой кухне. Но сопровождать их по городу она не могла — страдала диабетом, который придал ей «неудобоносимую» тучность, и ноги уже плохо слушались. Поэтому однажды она попросила меня сопровождать отца Иннокентия на Карповку, к блаженной Ксении и вообще по городу. Потом происходило это не один раз, а приезжая в Москву, я обязательно посещала отца Иннокентия, его заставленный от пола до потолка книгами и коробками с негативами кабинет в Издательском совете Патриархии на Погодинской улице. Долгие годы батюшка был заместителем редактора Издательского отдела Патриархии, а по сути дела главным руководителем всего издательского дела Церкви (потому что никаких частных издательств тогда не существовало).
С отцом Иннокентием меня особенно сблизило то, что он, как и некоторые мои бабушки, знал и почитал прп. старца Севастьяна Карагандинского, а также особо почитал оптинских старцев. Как я потом узнала, он один из первых в советское время защитил диссертацию об Оптиной пустыни и опубликовал оптинские материалы в периодике. Теперь, когда прошло уже 18 лет со дня кончины батюшки и выпущены книги исследований и воспоминаний о нем, я понимаю, с каким большим человеком дана мне была возможность многочисленных встреч. И неловко даже, что отняла у него попусту много времени — и в Москве, и во время его приездов в Питер, и во время неожиданных встреч в Оптиной, и при совместной поездке в Италию на Оптинскую конференцию.
Вот что я узнала о батюшке из посмертных публикаций.
Отец Иннокентий родился 5 мая 1940 года в Омске в верующей православной семье. С десятилетнего возраста начал прислуживать в Омском кафедральном соборе — был алтарником, а затем иподиаконом сначала у епископа Венедикта (Пляскина; † 1976), позже — у епископа Вениамина (Повицкого; † 1976). В 1958 году поступил во второй класс Московской духовной семинарии. Через год после поступления Анатолий был призван в армию, служил в зенитных войсках в Азербайджане. После армии он вернулся в семинарию и окончил ее в 1964 году. В 1963 году Председатель Издательского отдела Московского Патриархата епископ Волоколамский Питирим пригласил Анатолия работать в редакцию «Журнала Московской Патриархии», Этой работе будущий священноинок отдал 30 лет. Он был историком Церкви в лучшем смысле этого слова. Отец Иннокентий воспринял идею русской святости, идею особого значения святых в истории Церкви через Василия Осиповича Ключевского, а также митрополита Московского Макария (Булгакова) и архиепископа Харьковского Филарета (Гумилевского), полагавших, что история Церкви — это история ее святости, это история ее святых. Эту идею отец Иннокентий последовательно проводил в Московской духовной семинарии и академии, где он работал преподавателем, а затем доцентом. Диапазон научной и общественной работы отца Иннокентия был весьма широк. Он активно участвовал в деятельности ряда фондов, комитетов, комиссий и, в частности, был членом Археографической комиссии Академии наук СССР (ныне Российская Академия наук.). Его постоянно приглашали на различные конференции, симпозиумы, диспуты, как в нашей стране, так и за ее пределами.
Меня лично отец Иннокентий привлек к работе над одним, увы, неосуществившимся проектом — он хотел издать книгу об активной общественной деятельности Церкви во время Великой Отечественной войны. Пришлось поработать над этой темой в питерских архивах, но самое главное — благодаря отцу Иннокентию я познакомилась с еще целой плеядой «моих бабушек», записывая их рассказы (не только в Питере, но и в других городах, а также и в монастырях) о том, что им пришлось пережить во время войны.
При встрече с батюшкой я была еще очень молода, и теперь только понимаю: в общении с ним я получила верные ориентиры в понимании того, что происходило и происходит в нашей Церкви на протяжении веков, и главное — получила урок деликатного отношения к людям. Как сказал отец Иннокентий, когда мы с ним ходили в гости к моему учителю — профессору Дмитрию Евгеньевичу Максимову, и я настаивала на том, что после более чем полувекового перерыва ему надо причаститься: «Нельзя с сапогами лезть в чужую душу». Такую же деликатность отец Иннокентий проявил и по отношению к матушке Елене (Казимирчак-Полонской), когда мы навещали ее дома после случившейся с ней трагедии — полной потери зрения. Он учил не винить того, кто неосознанно явился виновником этой беды, но и матушку не призывал к «ложному смирению».
Так же деликатно вел себя отец Иннокентий, посетив музей Блока, в котором я тогда работала, воздав должное уважение великому поэту, не подвергая критике его заблуждения, а признавая талант и провидческий дар. Так, поэму «Двенадцать» он назвал «апокалипсисом революции», религиозным взглядом на события 1917 года. А позднее подарил мне с дарственной надписью раритетное издание поэмы Андрея Белого о революции — «Христос воскресе!»
Отец Иннокентий был разносторонним ученым, общественным деятелем, фотографом, собирателем рукописей, редактором и издателем, но прежде всего он был монахом и молитвенником. Днем он работал, а по ночам почти не спал, молясь за тех людей, которые были записаны в его объемный синодик (я видела эту большую, наверное, не менее 500 страниц объемом, записную книжку, в которой разноцветными закладками были отмечены «группы людей по молитвенным нуждам»). Мне приходилось быть на богослужениях, которые совершал отец Иннокентий в домовом храме Издательского совета, и хочу сказать, что такой углубленной молитвы, пожалуй, никогда в своей жизни не видела. Рядом с батюшкой тогда действительно возникало чувство, что он — инок, принадлежит полностью к иному миру. Взгляд его лучащихся голубых глаз в такие моменты становился провозвестником о том, что возглашается в начале Божественной литургии: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа».
По-христиански безупречно вел себя отец Иннокентий и при последнем жизненном испытании, приведшем к преждевременной кончине. В ночь на 1 апреля 1993 года в настоятельском корпусе Иосифо-Волоцкого монастыря, где он был казначеем, на него напали двое уголовников, жестоко избили, связали телефонным проводом руки. Решив, что отец Иннокентий потерял сознание, преступники вышли в соседнюю комнату, стали рыться в бумагах. Отец Иннокентий очень волновался за послушников обители, так как подумал, что это нападение на монастырь. Ценой неимоверных усилий ему удалось освободиться и выпрыгнуть со второго этажа на бетонную отмостку. В результате тяжелая травма позвоночника, перелом ноги, бесчисленные раны на теле, надолго приковавшие отца Иннокентия к постели. Подражая прп. Серафиму Саровскому, когда его истязателей арестовали, отец Иннокентий написал отказ от возбуждения уголовного дела.
Между тем потрясения последних лет (а было это и непонятное увольнение из Издательского отдела, и разбирательство с долговыми обязательствами, которые накопились после издания «Геннадиевской Библии», и выселение из Троице-Сергиевой Лавры) подорвали и без того слабое здоровье отца Иннокентия. Он вышел на покой, был принят в Московский Новоспасский ставропигиальный монастырь, ставший местом его упокоения. Архимандрит Иннокентий скоропостижно скончался от острого сердечного приступа 12 июля 1994 года, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Похоронен у алтаря храма в Новоспасском монастыре, могилка посещается многими благочестивыми паломниками. Так и после смерти он миссионерствует.
Как правильно сказал о батюшке один из крупных ученых нашего времени, великое видится на расстоянии. И можно полагать, что в грядущие времена станет еще заметнее и роль отца Иннокентия в становлении плодотворного научного сотрудничества священнослужителей и ученых, работающих в государственных учреждениях, и масштаб его личной научной деятельности. А другой его соработник выразил чувства, которые испытывали все мы, обращаясь к отцу Иннокентию не только как к ученому, но и как к духоносному человеку: «Советы его воспринимались как чистое дуновение, как освежающий глоток чистой воды, ибо это были советы истинного монаха и пастыря и светлой души человека». Лучше не скажешь. Благодарная память об архимандрите Иннокентии, которого по справедливости можно назвать мучеником и исповедником нашего времени, сохранится в сердцах всех, кто его знал.
А Клавдия Георгиевна Петруненкова перед смертью приняла монашеский постриг с сохранением имени. Так Господь призрел на самоотверженные труды всей ее жизни. И упокоилась она в монастыре — Свято-Елеазаровском на Псковщине.
О любимых святых
Название этой главки может показаться странным, между тем для каждого церковного человека оно прозрачно, понятно. Если мы действительно живем церковной жизнью, а не время от времени заходим в церковь, то мы знаем своих любимых святых. Тех, к кому мы чаще всего прибегаем за помощью, тех, чье присутствие мы в своей жизни ощущаем.
Как это происходит? Прежде всего это связано с тем, какой храм мы посещаем, где мы постоянно молимся по воскресным дням, где служит наш духовник. Небесные покровители этого храма (те, кому посвящены престолы, или те, чьи почитаемые иконы есть в храме) волей-неволей становятся особо нам близкими. Их имена постоянно звучат на литиях, на молебнах, на отпустах.
В обязанность каждого христианина входит почитание того святого, имя которого ты носишь. В утреннее молитвенное правило входит обязательная молитва к небесному покровителю. В домашнем киоте должны быть иконы святых — Ангелов Хранителей дома сего. Некоторые носят на груди медальончики с иконками своих святых. В прежние времена специально заказывали именные иконы, на которых были изображены небесные покровители — те святые, имена которых носили все члены семейства.
Но особенная любовь к тому или иному святому может возникнуть и не «по месту жительства» или по храму, а через других людей. Почитание святых вообще нередко передается именно от человека к человеку. Так, автору этих строк в совсем юном возрасте Господь послал встречу с бывшими членами православных братств 1920-х годов. Все они очень почитали оптинских старцев. Тетрадки с выписками из писем и поучений старцев, редкие сохранившиеся дореволюционные издания были их главным чтением. Через это чтение они привили особое почитание к оптинским старцам и мне. Это было задолго до канонизации старцев. Монастырь тогда еще не был открыт, но я все равно стала ездить туда каждое лето. В нем располагалось тракторное ПТУ и жили местные жители. В скиту был музей. Экскурсоводы из Москвы и Тулы рассказывали о великих русских писателях, приезжавших в Оптину, вслух недоумевая, что же их сюда привлекало.
Не было тогда и монастырского кладбища, только стараниями местного священника — отца Леонтия из Прысков, деревни, которая находится неподалеку от обители — рядом с абсидой Введенского собора из цемента был вылит крест. Потом я приезжала в Оптину в пору «междуцарствия», когда ПТУ уже выехало на лето. Как тогда тихо было в монастыре! И — теперь это уже совсем невозможно представить — можно было часами просидеть на травке в скиту и ни души не встретить. Но присутствие старцев всегда чувствовалось. Поэтому так и тянуло на эту землю, даже когда не было монастыря.
Господь сподобил меня присутствовать и на незабываемых первых литургиях в башне, в надвратном храме Владимирской иконы Божией Матери. Братия тогда была совсем юная, и дух мальчишеской дружбы ощущался даже во время совершения службы. И так из года в год каждое лето я приезжала в Оптину. А потом Господь послал еще и больший дар — потрудиться во славу старцев на писательской ниве и сделать в Питере выставку «Оптина пустынь и русская культура», прочесть в разных многолюдных аудиториях несколько курсов лекций о старцах. В это время я бывала в обители почти каждый месяц. Многих из братии уже знала в лицо, поэтому, когда пришло известие об убиении иеромонаха Василия, инока Трофима и инока Ферапонта на Пасху 1993 года, для меня это было событие личной жизни: убили моих братьев. Реакции на это сатанинское деяние были различны. Меня тогда попросили написать статью в газету, хочется воспроизвести ее в книге как исторический документ, потому что выражала я не свои эмоции, а то, что пережили почти все «оптинцы», разбросанные по разным городам и весям.
«Оптинские отцы и братия призывают нас внимательнее и глубже взглянуть на события пасхальной ночи в святой обители. В проявившемся общем стремлении сосредоточиться на политической, националистической подоплеке случившегося — наша беспомощность перед реальностями мира духовного. И мы начинаем думать, что от опасности можно защититься вооруженной охраной, физическим сопротивлением. «Аще не Господь сохранит град всуе бде стрегий» (Пс. 126).
В происшедшем в Оптиной нам воочию было явлено то, о чем православная Россия знала на протяжении веков: человек, отвергший Бога, может стать проводником сил зла, всего лишь оболочкой, действующим роботом. Вдумайтесь в слова, неоднократно произнесенные убийцей: «Жалко ребят. Они мне не враги. Я знаю, что теперь им хорошо. Но голос мне говорил: Ты должен это сделать, иначе мы проиграем!»
Мир назовет это просто психической болезнью, невменяемостью. Мир будет также жалеть убиенных. Но разве так смотрели на жизнь и смерть христиане? Разве они жалели мучеников? Разве сетовали по поводу преждевременной смерти своих собратьев? Нет, они радовались. Они поздравляли друг друга и говорили: «Сподобился мученической кончины». Считалось, что мученическую смерть нужно заслужить, что это знак особой богоизбранности, признания праведности жизни человека.
Звучит это сейчас дико, негуманно. Но у веры иные законы, чем у земного разума. Об этом над свежей могилой говорил оптинский отец Мелхиседек: «Мы потеряли людей, а приобрели Ангелов на небе, потеряли монахов, а приобрели новомучеников, молитвами которых будут покрываться люди русские».
Об этом же говорили и другие отцы в дни прощания с братьями. Также откликнулись святые православные сердца в разных концах России на достигшее их известие: «Бог помиловал Оптину. Избранники Божии, они теперь в Вечной Пасхе. Оптина обрела особых заступников и молитвенников у Престола Божия».
Вспоминали братья о сокровенном желании отца Василия, высказанном однажды вслух: «Хотел бы умереть на Пасху под колокольный звон». Вспоминали и, как в древности, в первые века христианства, собирали мученическую кровь и как великую святыню передавали освященную ею землю паломникам, со словами: «Христос воскресе!»
Оптинские старцы еще в XIX столетии говорили о том, что все происходящее в их обители имеет значение символическое, прообразовательное для всей России. Несомненно, так это и сейчас. Силы ада не перестают, и никогда на земле не перестанут воевать с Церковью. Но мы должны знать, что победить зло может только дух Христов, если речь идет о победе вечной, а не временной. Победа эта в пасхальную ночь была одержана. И даже от убийцы мы услышали: «Я знаю, что они в раю».
И значит, нам не надо страшиться, не надо сгущать тьму несдержанных эмоций, негодования, возмущения. Надо только помнить, что Господь долготерпелив и многомилостив. Но если мы — народ русский — не вернемся к Нему как Отцу, Творцу и Хозяину нашей жизни, то злая сила может овладеть нашей волей (как это уже было в русской истории), и начнется самоистребление.
Когда смущенные и испуганные известием о насильственном убиении Императора Александра II паломники пришли к старцу Амвросию с опасением, что же теперь будет в России, он ответил: «Жив Бог и живы души наши»».
Все написанное в этой статье сбылось. И то событие, которое произошло в Оптиной, стало прообразом наступления тех сил, которые стараются повсюду «править бал». Но и победа братьев, новомучеников, тоже стала очевидной. Сколько свидетельств мы имеем об их помощи людям! Тысячи людей со всего света приезжают в монас-тырь, для того чтобы постоять у трех крестов «трех богатырей духовных», как их назвала одна монахиня.
В одной из своих старых статей я писала о моей первой поездке на поклон к убиенным братиям, и сейчас могу повторить те же слова. «Все мы стоим перед этими могилами, как перед своей совестью, как пред Божиим вопрошанием: как ты живешь? Можешь ли ты по жизни твоей быть названным христианином, да и просто человеком? Единственное, первое прошение, которое изливается из сердца здесь: «Простите нас, отцы и братия»».
Как и с другими паломниками, со мной в Оптиной случалось немало чудесных событий.
Ярче всего запомнился такой случай. В музее А. Блока, где я тогда работала, мы, его верующие сотрудники, одни из первых в советское время постоянно делали выставки на духовные темы. Мною была подготовлена выставка, посвященная Оптиной пустыни, часть экспонатов я получила из монастыря. После того как закончилась выставка, я привезла драгоценные документы и рисунки в монастырь и оставила их в канцелярии, и… они потерялись. Сказали мне об этом после того, как я в очередной раз (через месяц или через два) приехала в Оптину. Стали везде искать, множество раз смотрели на том месте, где я их оставила… как в воду кануло все. А там были подлинные рисунки начала ХХ века, сделанные перед закрытием монастыря, и их нужно было возвращать владельцам. Я была в отчаянии, но тогда еще не понимала, что расплачиваюсь за гордыню, — делала выставку, водила экскурсии, писала статьи, читала лекции, выступала по радио, делала записи для телевидения (за всем этим звучит: «Я, Я, Я»).
Но вот появилась в храме новая икона прп. Амвросия. Необычная и ставшая навсегда любимейшей. Это иконописное воспроизведение известной фотографии старца. Старец изображен в полный рост, опирается на палочку. Как только подошла я к иконе, сами собой слова внутри зазвучали: «Батюшка, помоги мне найти вещи, хоть палочкой меня побей, как ты бил нерадивых и гордых послушников, только помоги». И вот — выхожу из храма, а мне навстречу идет монах-секретарь: «Нашлись ваши экспонаты». — «Где?» — «Да там, куда вы их положили». — «Мы же столько раз там смотрели, и ничего не было!»
Старцы оптинские вообще очень любвеобильные, много приходилось слышать рассказов о том, как в наше время они помогали в очень серьезных проблемах людям. И люди платили и платят им великой любовью. Для многих православных именно оптинские старцы — любимые святые. И надо сказать, что здесь действует поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Так или иначе, конечно, преодолевая свою греховность, оптинские поклонники стремятся стяжать оптинский дух сердечного Православия — «простоты без пестроты».
Мои бабушки открыли для меня и наследника оптинского старчества в советское время, теперь он прославлен «иже во святых» — прп. Севастиан Карагандинский. Его они знали лично, окормлялись у него, а мне дали воспоминания, которые я в нескольких экземплярах размножила на машинке и давала читать друзьям. Теперь все эти воспоминания изданы. А тогда для нас чтение скромных машинописных листочков было такой радостью, таким откровением: «Так вот что значит старчество! Это — безграничная любовь, восприятие в свою душу всего человека, со всеми его нуждами, скорбями и радостями. И все это не умирает и светит нам из мира иного».
Таким же даром свыше было откровение о преподобном Силуане Афонском. Впервые его записки мы в 1970-е годы так же читали в машинописи, переписывали в тетрадки. У меня до сих пор они целы. Потом Господь послал встречу с паломниками к ученику преподобного — старцу Софронию (Сахарову). Зазвучали с аудиокассет «Беседы» старца Софрония, в которых было немало свидетельств о прп. Силуане — мы их слушали ежедневно, писали старцу Софронию письма (он скончался в 1993 году), открывалось величие преподобного Силуана, и он тоже стал любимым святым.
Конечно, все мы особенно почитаем прп. Серафима Саровского и прп. Серафима Вырицкого.
Хочется в кратких строках вспомнить о торжествах прославления святых, которые стали для нас важнейшими событиями внутренней жизни. Имею в виду прославление прп. Серафима Вырицкого в 2000 году и празднование столетия со дня прославления прп. Серафима Саровского в 2003 году. И то и другое событие дали с особой силой пережить, что такое народная соборность, что такое общая молитва. И в Вырице в 2000 году, и в Дивееве в 2003 году было огромное стечение паломников, и все были настолько воодушевлены, объединены единым переживанием, что в нашей жизни тогда еще раз повторилось особое переживание полноты жизни (теперь только понимаю, что это и есть настоящее счастье), которое переживали во время прославления блаженной Ксении на Смоленском кладбище, св. прав. Иоанна на Карповке и Царственных Страстотерпцев в Москве.
Наше время принесло нам дар откровения о любви к России, ко всем нам святых Царственных Страстотерпцев. А когда они не были прославлены, пришлось начинать учиться любви к ним. Вспоминается первая большая выставка, посвященная Царской Семье, которую организовало общество «Радонеж» и привезло в Санкт-Петербург. Я тогда принимала участие в размещении этой выставки в Музее этнографии народов СССР. Но очень мучилась вопросом: о них здесь говорят как о святых, а были ли они таковыми? И вот иконописец Виктор Саулкин, с которым нас сблизила любовь к Оптиной пустыни (ныне известный ведущий радио «Радонеж»), сказал мне: «Умом этого не понять, а ты молись, и Господь даст любовь». И действительно, на этой выставке, где были отслужены первые молебны Царственным Мученикам (в таком чине они уже были прославлены Русской Православной Церковью за рубежом), началось публичное почитание Царской Семьи, которое потом упрочилось благодаря многочисленным публикациям 1990-х годов и завершилось прославлением в нашей Церкви в 2000 году.
Чтить святых, самых близких к нам по времени, — новомучеников российских — наш святой долг. В каждой епархии, храме, монастыре открылись сведения о новомучениках и исповедниках, и к ним мы теперь приникаем с благоговением, стыдом и надеждой.
И меня Господь сподобил написать краткое житие одного из них — священномученика Павла Гайдая. Узнала я о нем от своего духовника — тогда иеромонаха, ныне архиепископа Лукиана (Куценко). Образ отца Павла, рассказы о нем стали главным примером живой веры для нашего батюшки с самого раннего детства. Подвизался отец Павел в Одессе. От духовника я получила записи одесских старожилов с воспоминаниями о священномученике, в них смутно указывалось, что арестован он был в Санкт-Петербурге, и тогда я решила сделать объявление на радио «Православный Санкт-Петербург». Случилось невероятное: откликнулись духовные чада отца Павла, у которых в доме он служил тайные литургии, где и был арестован. Вспоминаю, какое волнение мы испытали с батюшкой, когда вошли в ту квартиру, где столько было связано с жизнью священномученика. Где все было так, как при его жизни, и нетронутым в стороне стоял стол, на котором совершалась литургия. Оказалось, что отец Павел был иосифлянином, так же как и некоторые мои бабушки. Так для меня замкнулся круг. Когда я об этом узнала, я как будто получила весточку от моих уже отошедших в вечность наставниц. Да еще оказалось, что те две сестры, которые принимали нас в «конспиративной иосифлянской квартире», знали лично моих бабушек.
Напомню, что эта глава посвящена «любимым святым». Православным не нужно говорить об особенной привязанности нашей к свт. Николаю, прп. Сергию, св. целителю Пантелеимону, св. блгв. князю Александру Невскому, св. блж. Ксении, св. прав. Иоанну Кронштадтскому. Кто-то скажет: «Ну, у вас все любимые. Сколько имен вы уже назвали». Но возьмите святцы — там сотни сотен имен, но мы почему-то выбираем десяток святых, и их имена поминаем постоянно, а других в лучшем случае поминаем только в дни их памяти. А без нескольких святых мы просто не представляем своей жизни.
Я позволила себе поделиться с читателями признаниями о моих любимых святых, — да не осудят меня церковные люди за нескромность, но эту книгу я пишу в основном не для них, а для тех, кто только подходит к порогу Церкви. Закончу свои признания именем, которое особенно дорого мне — преподобного Александра Свирского. В Свято-Троицком Александра Свирского монастыре мне довелось милостью Божией провести немало времени, так как здесь я исполняла послушание пресс-секретаря, водила экскурсии, писала о преподобном Александре статьи и книги.
Мощи тайнозрителя Святой Троицы сохранились в полном нетлении, поэтому молитва к нему особая. Ты видишь его святую плоть, он присутствует пред тобой въяве. И в церковной молитве, которая возносится перед мощами, мы слышим утешительные, но одновременно и взыскующие слова: «В день Страшного Суда услышим от тебе похвальный оный глас: Се аз и дети, яже дал ми еси, Боже!» Преподобный Александр действительно берет под свой омофор людей, которых, видимо, сам избрал в чада. Хотя страшно думать об этом, но на моих глазах за семь лет люди в его монастырь приходили и уходили, не могли тут удержаться. А кто-то прилепился душою и уже жизни не представляет себе без этого монастыря. Хотя дело, конечно, не в стенах. Теперь нам не приходится бывать в монастыре так часто, как прежде, и это очень грустно. Но когда приходят такие мысли, то я вспоминаю, как двадцать лет назад с горечью покидала Оптину пустынь — знала, что обстоятельства не позволят мне теперь бывать в монастыре так часто, как раньше, и оставаться подолгу. С этими грустными мыслями, глядя на убегающий за окнами автобуса вид монастыря, я открыла книгу писем прп. Амвросия и прочла там: «Я всегда с тобою, где бы ты ни была, вижу тебя и слышу». Это относится к любому святому, к его святому попечению о нас, грешных, если только мы стремимся к нему сердцем.
Часть вторая. Во узах со Христом
О святых последних времен
Наверное, вы заметили, что постоянно на страницах этой книги встречаются размышления об одном: как человек становится святым. Как постепенно возрастает в нем святое устроение души, ума и воли в условиях разных эпох. Особенно важно нам понять, как происходило это возрастание во времена не столь отдаленные — в «годину лютых гонений», которая дала нам сонмы новомучеников и исповедников. Трафаретные сухие жития тут нам не помогут. Понять изнутри происходившее в те годы помогут только «свидетельские показания» — воспоминания очевидцев.
Хочу поделиться с вами потрясением от вышедшей в конце 1990-х годов малым тиражом книги Дмитрия Дудко «Наивные сочинения». В книге собраны стихи и рассказы, написанные в 40–50-е годы будущим известным гонимым священником отцом Димитрием.
В ней мы и находим ответ на вопрос: как в лихолетье «простые советские люди» становились исповедниками Христовыми. Краткий ответ на этот вопрос звучит в эпиграфе ко всей книге: «»Наивный мальчик, разве ты не видишь, что делается в мире? Остановись, иначе тебя смоет набежавшей волной, и ты погибнешь». — «Нет, и смотреть не хочу. Пока не загрязнена душа, пока бьется чистое сердце, с Богом дерзаю». Из разговора».
Пространно об этом говорится в повестях и рассказах, герой которых — советский молодой человек, прошедший через страшные муки тюрем и лагерей — выстрадал веру. Вот как об этом сказано в повести «Проклятое молчание»: «Дорогие мама и папенька! Пишу вам из далекой Сибири, но не ужасайтесь этому. Я здесь, в холодных снегах, нашел то, чего не мог вовек найти в теплых парках нашего города: я стал верующим человеком… наши страдания не имеют никакого смысла, если мы не веруем в Бога, а веруя, мы всему даем смысл, ведь это так просто и так мудро сказано. Страдая, мы побеждаем врага… Не веруем — и к чему тогда наши муки? А мук столько в жизни. Вы можете представить, сколько здесь заключенных! Но Бог из хаоса нашей бессмыслицы строит осмысленное знание, в страданиях Он убеляет наши одежды, чтоб мы в светлых одеждах явились в Царство Небесное…»
Да, эти люди — новомученики и исповедники российские — пришли к святости через великие страдания. И творя их память, мы должны помнить о найденной вместе со священническим крестом записке, пришедшей к нам из 40-х годов: «Готовьтесь. Вам выпадут более страшные времена. Помоги Господи!»
Господь сподобил на протяжении пяти лет быть другом (так они меня называли) пяти исповедников Христовых, о которых расскажу отдельно.
Монахиня Елена (Казимирчак-Полонская)
«О действии благодати Божией в современном мире» — так назвала свою автобиографическую книгу монахиня Елена (Казимирчак-Полонская), а ее издатели справедливо добавили подзаголовок «Записки православного миссионера» и так же справедливо включили ее в серию «Мученики и исповедники XX века». Для всех, кому выпало счастье быть знакомым с матушкой Еленой, она была проводником в мир исповедничества Христова, исповедничества всей жизни (а не только порой вынужденного, неосознанного исповедничества революционного и военного времени). Сознательное, почти ежедневное исповедничество монахини Елены, как об этом свидетельствуют воспоминания, совершалось действием благодати Божией, но и личным подвигом. Мы — ученики и друзья матушки Елены, которые были свидетелями подвижничества последних десяти-пятнадцати лет ее земного странствования, понимали, что подъять этот последний подвиг она могла только потому, что вся ее жизнь была самоотречением.
Родилась Елена Ивановна Полонская в 1902 году на Волыни. Уже в раннем детстве и юношестве она проявила незаурядные способности, причем в разных областях знания — ей прекрасно давались овладение языками и точные науки. Семья не была религиозной, и потому именно «действием благодати Божией в современном мире» можно объяснить то, что юная Елена, при всей успешности своих научных занятий, красивой внешности и материальной благоустроенности, стала мучаться вопросом о смысле земного бытия. И, не находя ответа на путях рационального знания, она однажды в молитвенном порыве обратилась к Небесам: «Во имя чего дана жизнь?» И тогда произошло чудесное явление, которое предопределило всю ее дальнейшую судьбу.
В момент душевного смятения Елена находилась в большом парке фамильного имения Полонских. И вдруг… несказанно преобразилось все вокруг: деревья, кусты, цветы, вода в озере, облака на небе. В один миг она увидела преображенную красоту земли и почувствовала в этом ответ, который потом выразила в строчках псалма: «Небеса да поведают славу Божию, творение руку Его возвещает твердь» (она любила их повторять, когда рассказывала о своих астрономических исследованиях).
Тогда, в момент богоявления в Волынском парке, было принято решение, что отныне все научные занятия будут посвящены доказательству бытия Божия через премудрое устроение мира.
Монахиня Елена была трижды профессором — пожалуй, единственный случай в мировой истории. Диплом доктора философии она получила в Варшавском университете, доктором физико-математических наук и доктором астрономических наук она стала уже в России. Таким образом, вся ее жизнь была исполнением обещания, которое она дала Богу в юности, в момент благодатного озарения в Волынском парке: служить Ему «всею крепостию, всем умом и помышлением».
Но нас — тех, кто лично знал монахиню Елену, потрясала в первую очередь не ее эрудиция и научное новаторство (ей принадлежало множество астрономических открытий, за что она была награждена престижной премией имени Ф. А. Бредихина, ее именем была названа звезда), а сердечная широта, житейская практичность, удивительная цельность. Это было настоящее чудо — притом что матушка всю жизнь была ученым-теоретиком, она никогда не была отвлеченным «кабинетным человеком». Ради сострадания ближнему (и дальнему) матушка была готова оставить любимое дело, науку, исследования, готова была даже жизнью пожертвовать.
И такой она была от юности. Когда Елена Полонская еще училась в Львовском университете, для того чтобы спасти родовое поместье, она оставляет успешную учебу и возвращается в родные пенаты. Ей, совсем еще молодой девушке, удалось в короткий срок привести в порядок запущенное хозяйство, правильно оформить деловые бумаги, спасти от уничтожения парк и сад с реликтовыми сортами деревьев и кустарников, а также уникальное по своей чистоте озеро, в котором водились ценные породы рыб. Каким-то образом Елене удалось рассчитаться по векселям — и родовое имение, создававшееся веками, было спасено.
Недаром, когда на Волынь придет советская власть, местные крестьяне не только не тронут свою хозяйку, но еще и просить ее будут, чтобы она их не оставляла.
Удивительные примеры самопожертвования матушки Елены мы находим в ее военных воспоминаниях. Она в прямом смысле слова спасла жизнь многим своим коллегам-астрономам в обстановке гестаповской облавы и повальных обысков. Разыскивая свою больную мать, она добровольно приходит в один из польских концентрационных лагерей, а потом чудесным образом (при помощи лагерного врача) покидает его. Помогая людям, Елена постоянно рискует потерять своего единственного сына Сереженьку, потому что, уходя в странствования, из которых могла не вернуться, она оставляла пятилетнего ребенка одного на несколько дней.
Нас (тех, кто впервые услышал эти воспоминания из уст матушки, а не прочитал в книге) всегда поражал один чудесный случай спасения от верной смерти. Во время польского восстания в Варшаве матушка была арестована и приведена на расстрел. Дула пяти винтовок были уже нацелены на нее в упор. И тут, по ее воспоминаниям, она «взмолилась Богу, и Он дал ей слово». Она обратилась к солдатам, на пряжках у которых было написано «С нами Бог», как к христианам, напомнила им о том, что их дома ждут дети, матери, жены и сестры. И ни один из них не выстрелил! Ей крикнули: «Беги!» — и вернули ее сыну, которого она вскоре, уже в советской России, потеряет…
Эта боль не отпускала матушку до конца дней. На ее рабочем столе стоял портрет красивого мальчика на велосипеде, а на стенке висела фотография маленького мученика с подписью: «Сереженька в гробу».
Почему и зачем Елена Ивановна вернулась в Россию? Кто-то это объяснял обычной эмигрантской наивностью: Советы предложили всем желающим возвратиться на родину, и, движимые ностальгией, русские люди ринулись в недра ГУЛАГа. Но Елена Ивановна не была наивной, она всегда была человеком идеи, ею всегда двигали высшие цели. Невольно оказавшись за границей — после Брестcкого мира Волынь отошла к Польше, — она всегда сострадала своей плененной Родине. И больше всего она страдала оттого, что у молодого поколения отобрали веру и прививают им дикий атеистический взгляд на Божий мир.
Она решила ехать в Россию на «подпольную религиозную работу» и получила на это благословение духовника — протоиерея Сергия Булгакова. Тому, кто возразит, что это и было верхом наивности, скажем, что матушке это удалось! На протяжении десятилетий она вела домашние занятия с молодежью, многие из ее учеников стали священниками, монахами. И вела свои домашние семинары матушка уже после того, как испытала на себе ненависть карательных органов к инакомыслящим (она была арестована в 1952 году). Это было свидетельством высоты ее духа — люди, прошедшие ГУЛАГ или соприкоснувшиеся с его кровожадным дыханием через судьбы своих родных и друзей, в основном были очень осторожны и старались не привлекать внимание скорых на расправу «органов». Матушка была дерзновенна (это ее любимое слово: «Человек в молитве должен быть дерзновенным, в жизни должен быть дерзновенным»). И это несмотря на выпавшие на ее долю тяжелейшие испытания: во время войны пропал без вести муж; потом умер сын (умирал мучительно от инфекционной болезни, которая привела к слепоте); в то время, когда Елена Ивановна терпела тюремные измывательства, умерла мать; тюремные мытарства отняли у нее здоровье (в медкарте значились тринадцать хронических заболеваний); много лет Елена Ивановна мыкалась без жилья, меняла место работы… Можно сказать, что она шла по земле путем Иова. И так же как он, несмотря ни на что, прославляла Бога! И так же как он, претерпела (особенно в последние годы) непонимание, одиночество.
Матушка приняла постриг уже после того, как ушла на пенсию — после 70-ти лет оставила работу в Институте теоретической астрономии АН, для того чтобы выполнить огромный переводческий труд по просьбе питерской Духовной академии.
При постриге, по благословению нынешнего Святейшего Патриарха Алексия, Елене Ивановне Казимирчак-Полонской было оставлено прежнее имя, тем самым подтверждалось, что жизнью своей она была уже подготовлена к «небесному чину»: по сути она давно уже была «инокиней в миру».
Непонятость и одиночество — самый тяжелый, теперь уже монашеский крест, который понесла матушка, — выразились в первый же год после пострига в том, что назначенный (незнакомый с ней прежде) духовник и мать-восприемница (монахиня из «простых бабушек») стали требовать, чтобы она оставила свои научные занятия, чтение лекций (тех, что она читала студентам Духовных школ), работу над статьями и домашние занятия с молодежью, а посвятила себя исключительно посту и молитве. Результатом нервного стресса, который пережила матушка из-за этих прещений, стала <…> полная слепота.
«Сила Моя в немощи совершается» — в действии этого духовного закона убеждались все, кто был свидетелем ежедневного подвига матушки последних лет ее жизни. Она продолжала не только по-прежнему трудиться как ученый — писала статьи, читала лекции (благословение на этот труд она десятилетие назад получила от митрополита и от ректора Духовных школ), но и, теперь уже легально, продолжала вести встречи с людьми: собрала и официально оформила общину прп. Сергия Радонежского, занималась с врачами готовившейся к открытию епархиальной больницы Ксении Блаженной, организовывала помощь (силами общины) одиноким и больным старым людям, продолжала заботиться о своей приемной дочери.
Чем больше времени проходит со дня кончины матушки Елены — она отошла ко Господу 30 августа 1992 года — тем яснее становится: с нами рядом жила святая, исповедница Христова. Нам подчас было непонятно ее дерзновение, кто-то даже упрекал ее в отсутствии смирения… Но теперь стало очевидным, что матушка находилась в совершенно ином духовном возрасте, чем большинство окружавших ее людей — она была старицей, а от нее требовали «духовного младенчества». Она давно уже вкушала твердую пищу, а тем, кто кормился молочком, это казалось «неправильным устроением», даже гордыней.
Любимое слово матушки было — «ответственность», она не уставала повторять, что христианин должен быть ответственным: ответственным за свои слова, за дела, за поступки, даже за мысли. И тогда, в конце концов, это ответственное, взрослое отношение к жизни превращается в служение. Идеалом такого служения для матушки был святой благоверный князь Александр Невский.
Ему она посвятила одну из самых вдохновенных своих статей, которая сначала была прочитана как лекция студентам Духовной академии. Прошло уже немало времени с тех пор, но и сейчас, когда с кем-нибудь из священников вспоминаешь матушку Елену, они говорят: «Да, я слышал ее лекцию об Александре Невском, это было новое, живое слово».
Глубина постижения подвига благоверного князя была дана матушке за то, что она в какой-то степени повторила его подвиг: она прожила в католическом окружении большую часть своей жизни, в католичестве (Ватикан в наше время очень поощряет научные занятия) ей могла бы открыться широкая дорога, а монахиня-ученый с мировым именем наверняка обрела бы там широкую известность, славу. Но матушка выбрала «поклон перед ханом» — поехала в Советский Союз, сдавала для «кандидатского минимума» экзамен по марксизму-ленинизму, работала в советском вузе, общалась с «первым отделом» по поводу своих иностранных коллег, и т. д., и т. п.
Именно так мать Елена понимала смирение. Не «опущенные глаза, платочек и смиреннословие», а принятие существующих условий жизни, обстоятельств, которые посылает Господь. И мудрое, ответственное поведение в соответствии с той или иной ситуацией (когда надо — молчать, когда надо — говорить; когда надо — сражаться, а когда надо — кланяться).
Даже в предсмертном бреду матушка продолжала говорить о св. Александре Невском (говорить с ним?), до последнего издыхания она вела битву со своей физической немощью (последний год была почти обездвижена), и при этом все так же была заботлива по отношению к другим людям. Как завещание нам она оставила слова, которые повторяла, уходя из земной жизни: «Выше! Выше!»
Могила матушки на высокой горе у Пулковской обсерватории. На маленьком «астрономическом кладбище» всегда хорошо — здесь особая тишина, которая приподнимает душу от суеты, над снующими под горой машинами, огромными коробками новых заводов и супермаркетов, огромным мегаполисом, простирающимся в долине. Хорошо прийти сюда «в минуту жизни трудную», здесь мир входит в сердце незримым потоком, страсти умиряются, тишина без слов учит тому, что в жизни есть высота и глубина, — и потому «все перемелется, только правда останется».
Так с годами правда о монахине Елене (Казимирчак-Полонской) начинает светить все большему количеству людей. Теперь ее почитают не только те, кто знал ее лично, но и многочисленные читатели ее книг. Для многих они действительно стали миссионерским словом, откровением о том, как «действует благодать Божия в современном мире», о том, как она ведет человека — «выше, выше!»
Протоиерей Иоанн Конюхов
«Христианство — религия радости» — так учат нас отцы. Но так редко мы встречаем в жизни людей, которые подтверждают эту истину, тех, кто несет радость людям, уже осиян, освящен, в конце концов — свят. Это начинаешь понимать с особой ясностью, когда человек уходит. «До встречи в Царствии Небесном», — сказал мне на смертном одре, в последние минуты своей жизни, приснопоминаемый протоиерей Иоанн Конюхов. И я надеюсь на эту встречу по его молитвам. А сейчас хочу передать то, что он мне рассказал о себе и своем пути к радости.
Отец Иоанн родился на Украине в семье потомков Гоголя, родители с детства прививали ему любовь к музыке, к искусству, к родной земле. Совсем уже старенький батюшка (а дожил он до 93-х лет) с умилением произносил слова «мамочка», «папочка» и говорил, что от них он получил все самое главное для своей жизни в миру. Окончив школу, Ваня Конюхов поехал в Москву, твердо уверенный в том, что его земное назначение — священство. В столице он получил сразу два образования: богословское (Семинария уже была закрыта, и он учился в Богословском институте) и театральное (!) — чтеца-декламатора. Жил все московские годы Иван Конюхов у знаменитого чтеца Петра Яхонтова, тот ему стал вторым отцом и другом. В 1934 году отец Иоанн был рукоположен во священство. Первым местом его служения стал храм Христа Спасителя. Отсюда его и «взяли». 11 лет провел батюшка в самых северных лагерях ГУЛАГа. Когда мы с ним познакомились (батюшке тогда было уже 88 лет), я спросила: «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно, спасибо лагерю», — был ответ батюшки. И весь он светился радостью, говоря эти слова. «Да-да, лагерь мне дал закалку на всю жизнь, спасибо ему за это», — повторил батюшка.
Я ждала, что, как обычно — в то время на нас обрушился вал ГУЛАГовской литературы, — отец Иоанн начнет мне рассказывать про всякие ужасы, которые уже не вмещает душа. А он сказал: «В лагере было много хорошего». И открыл, откуда у него взялись силы пережить все, что выпало на его арестантскую долю, и не сломаться, не впасть в уныние.
Господь сразу же после ареста послал ему дивную встречу. На Лубянке, когда он вошел в огромную переполненную народом камеру, его встретило гнетущее уныние сокамерников, один из них — поэт Павел Васильев — рыдал навзрыд. Совсем еще молодого отца Иоанна охватило смятение: «Как же он сможет перенести все, что его ждет?» И тут подошел к нему человек со светящимися глазами и сказал всего лишь одну фразу: «Радуйся! Всегда радуйся, только радость тебя спасет!» Он не назвал своего имени, только благословил батюшку, сказав, что он архиерей.
В скором времени отца Иоанна перевели в Бутырку. И когда его втолкнули в переполненную камеру, также погруженную во всеобщее уныние, он радостно приветствовал всех: «Привет, братцы, не унывайте!» Архиерейское благословение получило силу действия. Действительно, только радость спасла и спасала отца Иоанна и в тюрьмах, и на пересылочных пунктах (где Господь послал ему еще несколько знаменательных встреч со ссыльными архиереями и священниками), и на Колыме. Отец Иоанн показывал на карте место своей ссылки — эта самая крайняя точка на северо-востоке страны называется бухта Амбарчик. Здесь по колено в ледяной воде таскал тяжелые бревна все 11 лет исповедник Христов — и радовался.
Эта радость не раз спасала его от неминуемой смерти. Особенно памятным был год, когда его назначили бригадиром сорока убийц-рецидивистов. До этого одного за другим всех бригадиров убивали, и начальство не случайно послало к ним «попа», надеясь так от него избавиться. И произошло чудо. Они его полюбили. «Как вам это удалось?» — спрашивала я. «Надо любить человека. Постараться в каждом человеке увидеть хорошее, даже в преступнике», — отвечал отец Иоанн. А потом рассказал о том ключе, который он нашел к душам этих несчастных. Во-первых, он добровольно делился с ними всеми посылками. Во-вторых, используя свой чтецкий дар, постоянно читал им стихи и прозу. И в конце концов создал из них театральную труппу! В то время в лагерях было «взято направление на культпросвет» и разрешено было открывать лагерные театры.
Отец Иоанн выбрал для постановки «Моцарта и Сальери» Пушкина. В этой «маленькой трагедии» Пушкин в кратких чертах показывает психологию преступления, показывает, как страсть, овладевшая человеком, превращает его в преступника. В лагерном театре на репетициях отцу Иоанну удавалось рассказать обо всем этом «актерам», когда они читали вместе Пушкина. А были они, как уже сказано, в основном уголовники, и многие из них — убийцы. Многие из «актеров» впоследствии тайно приняли от отца Иоанна Святое Крещение. Крестил он их, как рассказывал автору этих строк, — снегом. Многих погибших в этом лагере батюшка тайно отпел. Имена их были вписаны потом в его большой памянник, и он молился о них до самой своей кончины.
Не однажды, попадая в барак к зэкам, он был принят как «человек Божий», «батя». Особенно запомнился отцу Иоанну страшный уголовник, гроза всей лагерной шпаны по кличке Москва. Он почему-то привязался к батюшке с первого дня его появления в уголовном бараке и никому не давал его в обиду.
В раннем детстве отец будущего исповедника сказал: «Иоанн у нас будет мучеником» (это говорит о том, что отец у него был непростой человек, ведь сказано это было еще в спокойную пору жизни). Четыре брата батюшки погибли на войне, один заживо сгорел в танке. «Мучениками оказались они, — говорил отец Иоанн, — а я счастлив — я был в тюрьме. Счастлив, что был на Колыме».
И рассказывает про одну мимолетную встречу, которая, так же как и встреча на Лубянке, многое предопределила в жизни. Отца Иоанна послали пилить дрова, его напарником оказался человек с удивительно ясными, проникновенными глазами. Он сразу же задал вопрос батюшке (естественно, обритому и в арестантской одежде): «Вы священник?» — «Да». — «А я — архиерей. Давайте я вас благословлю, перед тем как начнем работать». И во время работы владыка сказал путеводные слова молодому священнику: «Радуйтесь, что вы в лагере. Радуйтесь, что Господь убрал вас из мира. У вас есть возможность не участвовать во зле».
Поэтому, когда отец Иоанн вернулся в мир и встретил священника, по доносу которого был посажен (он это знал достоверно, видел документы в деле), у него не было на него никакого зла, он был даже ему благодарен, что его руками он был исхищен из «злого обстояния».
В 1950-е годы над исповедником Христовым опять нависла тень очередного ареста. «Хрущевская оттепель» для Церкви обернулась лютой зимой — храмы и монастыри повсеместно закрывали. Священников опять отправляли в лагеря.
А батюшка и в это время проявлял необыкновенную смелость. Так, он по ночам тайно причащал детей и «представителей интеллигенции» (преподавателей, врачей, ученых, высоких чиновников), которые не могли появиться в церкви среди бела дня. Об этом мне рассказывала монахиня Елена (Казимирчак-Полонская), которая в это время жила и работала в Херсоне, где служил отец Иоанн. Решено было его арестовать, но произошло настоящее чудо.
Батюшка направлялся на теплоходе из Херсона в Одессу (в Одессе он преподавал в Духовной семинарии), его попутчиком оказался удивительно словоохотливый человек. Всю дорогу они говорили «за жизнь». В конце пути разговорчивый попутчик сознался, что он — агент КГБ и послан для того, чтобы арестовать отца Иоанна, но их беседа так перевернула ему душу, что он посоветовал батюшке немедленно скрыться и больше не показываться в Херсоне. В то время такой способ срабатывал: человека обычно не искали, если не удавалось его арестовать «по месту жительства».
Так отец Иоанн оказался в Туле, где и служил до последних дней в храме 12-ти апостолов. Когда мы с ним познакомились, я была поражена тем, что 80-летний старец без машины, без всякой посторонней помощи не только ежедневно ездит в храм на богослужения, но и ходит по требам — исповедует и причащает немощных старушек, поддерживает болящих. «Всегда радуйтесь» — этому завету отец Иоанн был верен до конца. И, надо сказать, сетовал на то, что молодые почти не умеют радоваться. Он был прав, говоря, что и в церковной жизни люди предпочитают тлеть, а не гореть, что «все идет на тормозах», что все даже в церковной жизни остается на уровне привычек.
Да, им — людям старого поколения, исповедникам Христовым — трудно было рядом с нами. И до сих пор чувствую вину перед всеми ними. Они сохранили для нас веру, сохранили Церковь, а мы — не очень-то достойные наследники. Пусть хотя бы эти покаянные слова и память о них будут проявлением нашего благодарения тем, кто «всегда радовался».
Скончался батюшка в 1997 году. Навсегда в памяти останется последний телефонный разговор с ним. Батюшка был уже на смертном одре и сказал мне на прощанье: «До встречи в Царствии Небесном». И эти слова прозвучали так естественно и обнадеживающе.
Анна Сергеевна Иговская
В начале книги я уже сказала, что была связной между моими бабушками и ежемесячно собирала с них пожертвования для пересылки по почте «пенсии для Аси» — Анны Сергеевны Иговской, которая жила в далекой Караганде. Мы с ней вступили в многолетнюю переписку, благодаря которой она стала для меня не менее родной, чем все мои бабушки, с которыми я встречалась лично. Ася (а она просила так себя называть, без всяких отчеств) рассказала мне о своей жизни, полной лишений с первых ее дней. Крайняя болезненность в детстве и юности, блокадные испытания в молодости, лагерные мытарства, жизнь среди чуждых по духу (вернее, по уровню воспитания и образования) людей в Караганде.
Потом Ася прислала мне 12 общих тетрадей, заполненных каллиграфическим почерком художницы-иконописицы: «Воспоминания духовной дочери прп. Серафима Вырицкого инокини Анны (Иговской)». На самом деле это не были просто воспоминания о прошедшей жизни, а была «генеральная исповедь». Особенно потрясли (и потрясают сейчас) страницы, на которых рассказано о первых днях эвакуации на уральской земле и о лагерной жизни. Не буду их пересказывать, а приведу здесь отрывки из воспоминаний.
«На первых порах мне было очень трудно жить одной среди людей совсем другого склада, чем мое общество на родине. Господь, видя мое безропотное страдание, послал мне утешительный сон. Вижу, будто у дороги, где я иду, сидит старец, на вид нищий. Я во сне почему-то считаю его Сергием: не то угодником Божиим, не то своим покойным отцом Сергеем Петровичем. Старичок предлагает мне купить носки, такие славные, белые, шерстяные, и отдает их всего за 20 копеек. Я во сне взяла эти носки и проснулась утешенная. С тех пор я стала веселее и смелее ходить среди деревенских людей и обращаться с ними. Стала посещать и дальние деревни. Меня везде принимали как слугу Господню, ведь я не только рисовала по избам, но читала Псалтирь, акафисты и рассказывала крестьянам понятное для них из моего умственного и духовного багажа. Однажды вечерело. Взглянув в окно избы Феодоры, я увидела на западе, над лесом, алую, как бы из свежей крови звезду; она, на глазах поднимаясь над лесным массивом, тут же стала спускаться и скрылась. И вдруг я поняла, что это — знамение, это муки и кровь, проливаемая за Уралом, и с той минуты не забывала о войне. Между прочим, о злодеяниях фашистов и о «лагерях смерти» я узнала только впоследствии, уже сама будучи в лагерях.
Настроение у меня было до высшей степени тяжелое — в Ленинграде такого и тени не было. Голод, вши, беспросветная внутренняя тоска. Чувства мои ко Господу совсем остыли. Я катилась вниз. Помню, ночевала в Усть-Оше на печке, не зная, куда податься; везде голод, голод, голод. И тоска без Церкви. Из Усть-Оши я пошла в Кондрашино, в надежде, что эвакуированные, живущие там две семьи, может быть, меня накормят. Это были две женщины, не из интеллигенции, но развитые и имеющие много вещей для продажи. У обеих были дети: у одной два мальчика, у другой — две девочки. Меня действительно покормили, уже не помню чем, и я была оставлена ночевать. <…> Стояла морозная ночь. Утром я проснулась вся окоченевшая. Бацилла тифа взяла меня в страшный плен. Долго перебивалась я на ногах, дней десять, хотя чувствовала себя как в тумане, как будто кто-то во мне поселился и этот туман давит на голову. В Великую Среду меня пригласили на Страстные дни и Пасху в соседское село.
Стояла весна. Пасха в 1943 году была, насколько я помню, 21 апреля. Я шла как в чаду. У меня был термометр, но я ни разу за эти дни не померила температуру. У хозяйки Паны я сразу легла и ничего не могла есть, хотя она, ожидая меня, наготовила всего постного. Так, в полузабытьи, я провела на постели Среду. В Великий Четверг утром я, употребляя сверхвозможные усилия, поднялась, раскрыла Новый Завет и хотела читать 12 Евангелий, чего, собственно говоря, и ждала от меня Пана, прочла полстраницы и более не смогла. «Мне плохо, Пана, — сказала я, — у меня, вероятно, сильный жар». Пана помогла мне надеть пальто, боты и шапку и вывела на улицу, желая проводить меня к Феодоре. У Паны был сынок лет пяти, оставить меня у себя она не могла. Но и идти я не смогла. Тогда Пана, молодая сильная женщина, взяла меня на руки и на руках перенесла меня через лед реки Айова на наш берег. Каково было Феодоре увидеть свою квартирантку в таком виде! Когда я села, вернее, была посажена, и сняла боты (чулки спустились), то увидела у себя на ногах пятна тифозной сыпи, которую когда-то видела на больных. Вскоре я потеряла сознание. Лежала в «избе» — по нашему понятию, на кухне. Очнулась я в первый день Пасхи. Никаких сил не было не только встать, но и приподняться.
Так 21 день и пролежала без матраца, на каких-то тряпках, без всякой врачебной помощи и пищи. Голод кругом был ужасный. Спасала меня одна Феодора, которая дважды в день давала мне по полкружечки супа из крапивы, чуть забеленного молоком (у нее была корова). Я готова была сцарапывать со стены известку и есть — такого в городе святого Петра я не знала. Вот тогда я и начала просить милостыню под окнами. Приподнимусь на одной руке, а другой постучу в стекло окошка. Почти ни у кого ничего не было, но мой отчаянный вид вызывал такое чувство, что кто-то дал мне лепешку, кто-то горсть каких-то зерен, которые я сварила, доползя, уже совершенно изнемогшая, до хаты Феодоры. Несколько дней таким образом ползая по улице под окнами, я что-то добывала, а потом Господь вернул мне возможность вставать на ноги, и передвигаться стало полегче.
Однажды я сидела у часовни и просила Николая Угодника, чтобы он спас меня от гибели. В этот момент мимо часовни проезжал военный в форме МВД. Он спросил меня, кто я такая, почему плачу. Я объяснила, что эвакуированная, родители и брат умерли, одна-одинешенька на свете, сижу от слабости после тифа и прошу угодника Божия о помощи, больше мне просить некого. Товарищ Садовский, такая была его фамилия, попросил меня постараться дойти до Знаменки: «Там я все устрою, вы получите помощь». С горем пополам добралась я до указанного села, где получила три килограмма муки и 250 грамм сливочного масла. Масло меня и спасло: ко мне вернулась возможность рисовать. Через 3–4 дня я опять пошла с кисточкой и красками, с Новым Заветом и маленькой Псалтирью в заплечном мешке по деревням и селам Знаменского района…
<…> В день Казанской иконы Божией Матери нас этапировали в ближайший лагерь — Атаку, километров 15–18 от Тары, вверх по Иртышу, на другом берегу его. Ослабленная до крайности тюремным заключением, я с трудом могла идти. Подушку мою и одеяло несли две из идущих с нами девчат; не знаю уж, за что их посадили, хорошие лица у них, да и у многих, были… День был очень холодный. Я была в рваных валенках. Я ступала ногами, попадая дырами подошв прямо по застывшей ледяной земле. Под конец пути подошвы совсем отлетели. Последние 3–4 км девчонки вели меня под руки. Я уже не могла двигать ногами, сердце останавливалось. Стиснув зубы, я висела на руках тащивших меня девчат. Нос у меня скоро потерял чувствительность. Чулок с левой ноги спустился, ветер леденил колено. Но руки уже так застыли, что я не могла поднять и подтянуть чулок. Почти в бессознательном состоянии дошла я до деревни. Когда мы на ночлег вошли в избу… Нет слов, все ужаснулись! Нос мой представлял из себя красный колпак, а колено, огромное, багровое, раздувшееся, попав в тепло, сразу лопнуло и из него потекла жидкость. Сделались три раны — посредине колена и две по бокам. Всю ночь я не спала от страшной боли, но не стонала. И злобы на моих мучителей у меня не было, я им прощала все. Ведь они творили в неведении, искренно считая меня… врагом народа! Вскоре нос мой почернел, и долго-долго этот черный колпачок сидел на нем. Потом, месяца через два, отвалился, и нос мой стал с тех пор гораздо тоньше… Меня судила выездная сессия областного суда как опасную преступницу, и прокурор, молодая женщина, у которой летом я рисовала портрет с ее дочери, девчурки лет трех, требовала расстрела…
Дорога в безвестный край в теплушках была бы не так тяжела (в них были печки), если бы нас чаще кормили. Еду давали один раз в сутки. Я изнемогла. К концу пути у меня снова открылась ленинградская цинга. После Новосибирска мы узнали, что нас везут на ст. Большой Невер, за Читу, а далее, через Саянский хребет, вглубь Якутии мы уже поедем на автомашинах. Около ст. Иркутск наш состав очень долго стоял на путях, ночью. И вот под утро, во сне, глубокое озеро, очень большое (это я, очевидно, видела озеро Байкал), а по нему плывет плот с парусом. Правит плотом, стоя впереди, в облачении, наш Ладожский епископ, владыка Иннокентий (Тихонов), в то время, как я узнала впоследствии, уже умерший в лагерях. На плоту много его духовных детей и вообще верующего народа. В бодрственном состоянии я неясно представляла себе внешность владыки, а тут, во сне, он предстал как живой, со своими бездонными, как Байкал, голубыми очами.
<…> Неумолимое отношение ко мне начальника, полная невозможность даже на подсобной работе выполнять хотя бы половину требуемого от меня! На меня легла тяжесть, еще не бывалая в жизни. Ходьба с бригадой, вставанье в 4 часа утра. Есть так рано, замирая от желания спать, я не могла, и шла на разрез натощак. В полдень туда привозили суп и кашу. Работали 10 часов. «Звон поверок и шум лагерей не забыть нам, наверно, вовеки…» Невозможность выполнять норму грозила тем, что я попаду в карцер, где не топили. Какое изнеможение, какие мученья голода, когда кусок хлеба, который я получала, был ничем при такой трате сил и почти постоянном лишении сна, так как две смены, жившие в одном бараке, не давали спать одна другой. Меня выгнали на разрез в самые лютые февральские морозы, температура падала до 65–66 градусов ниже нуля.
Ночная смена. Как были страшны эти длинные, казавшиеся бесконечными якутские ночи, когда камни в горах трескаются от мороза! Обогреваться в домик-сарай, где топилась железная печка, кроме обеда пускают один раз в смену за десять часов! А держать, хотя бы для виду (ударять ею я не могла, так как тяжела), кирку в руках уже нет сил! Бросаешь ее, огромную «кайлу», и только ходишь-ходишь по трапам (деревянным настилам) безостановочно, чтоб не замерзнуть насмерть, да смотришь туда, в черное, как смола, небо, где звезды, кажется, висят над нами совсем близко — огромные и безжалостные. Но я не роптала, а только два раза за этот страшный февраль попросила смиренно смерти-избавительницы!.. Несколько раз меня посылали в лес на работу.
В ОЛП-1 была необыкновенная встреча Пасхи Христовой, в тот год совпавшей с 1 мая. В субботу мы еще ходили работать, а ночью… О, страшная ночь — в наш женский барак с 11 часов вечера забрались «урки» из мужского барака и насиловали женщин, по своему выбору, кого они хотели. Господи, какой это был ужас. Пикнуть никто не смел, у преступников были ножи, они предупредили: кто зашумит, пощады не будет. Я, конечно, была не из выбранных и, содрогаясь от жалости к насилуемым — они тоже молчали, видя перед собой нож, — пела в уме Великую пасхальную утреню и чувствовала Пасху не менее сильно, чем некогда в переполненных храмах Петрова града. Утолив похоть, урки ушли, а я уснула, как дитя, сон у меня в то время был крепкий и сладкий. Начальство встречало 1 мая, и в бараки надзиратели не зашли ни разу…»
Восемь лет провела исповедница Христова в страшном лагерном мире. Вышла на свободу в 1953 году, а потом, сжалившись, забрала из психиатрической больницы художника-солагерника, который уже при жизни на поселении в сибирской деревеньке пытался ее убить, а потом в приступе умопомрачения зарезался… Так закончились лагерные испытания, о которых она вспоминала с благодарностью — «Господь сподобил».
Скончалась инокиня Анна в Караганде в 1994 году. Помяни ее, Господи, во Царствии Твоем!
Алла Александровна Андреева
Моя память по непонятным причинам хранит более всего не факты, а образы. Прежде всего образы дорогих отшедших людей. И к Алле Александровне Андреевой это относится особо. Может быть, потому, что она была очень красива до глубокой старости. И в гармоническом единстве (что не всегда бывает даже у святых людей) пребывали красота ее души и необычная внешняя красота. «Женщина с лицом звезды летящей», — сказала о ней одна современная поэтесса. Очень точно.
Я встретила Аллу Александровну в непростое для нее время — тогда начали активно публиковать наследие ее мужа, мистического поэта Даниила Андреева, и появилось немало последователей и «продолжателей учения» автора «Розы мира». Алле Александровне пришлось бороться с адептами зарождавшейся секты, которые очень старались привлечь ее на свою сторону. Всем им она непреклонно заявляла, что Даниил был православным христианином, исповедовался и причащался в Православной Церкви, ушел, напутствуемый ее Таинствами. А в области мысли он вполне мог заблуждаться, так как был прежде всего поэтом, и не нужно его художественные образы превращать в догматы. «Розу мира» она упорно называла романом или «вторым томом собрания сочинений», в котором главное — стихи.
Не раз я сама была свидетельницей таких строгих «отповедей» Аллы Александровны, которые звучали на вечерах памяти Даниила Андреева, где она прекрасно читала стихи своего супруга.
Благодарю за то, что мне не раз приходилось бывать дома у Аллы Александровны (и не раз с ночевкой) — в квартире на Брюсовом переулке, в доме у дивного храма Воскресения Словущего. Окна квартиры выходили на башни и купола храмов Кремля, и это было так вдохновляюще. Так и остался во мне образ вечно молодой Аллы Александровны, «озвученный» малоизвестными стихами Александра Блока, которые называются «Утро в Кремле»:
Упоительно встать в ранний час,
Легкий след на песке увидать,
Упоительно вспомнить тебя,
Что со мною ты, прелесть моя,
Я люблю тебя, панна моя,
Беззаботная юность моя,
И прозрачная нежность Кремля
В это утро, как прелесть твоя.
Алла Александровна действительно была легкая, как ветерок, какая-то прозрачная, вечно юная, и ее называли панной… в лагере, где она провела восемь лет.
Уже после трагической кончины Аллы Александровны — она отошла ко Господу в 2005 г., в 90-летнем возрасте (жила в полной слепоте одна в квартире и не могла выйти из нее, когда случился пожар) — я узнала, что обо всей своей многотрудной и вдохновенной жизни она рассказала в воспоминаниях «Плавание к Небесному Кремлю». Оказывается, для нее, как и для Даниила Андреева, Кремль был символом русской святости, символом «небесного синклита спасенных».
В воспоминаниях меня больше всего потрясли страницы, на которых рассказывается о лагерных годах и происходит осмысление всего, что было пережито. Настоящий христианский опыт преображенного страдания. В наших беседах Алла Александровна не любила касаться этой темы, и вот теперь в книге я нашла в разговоре о Гулаге такое четкое определение его смысла и причин для многих пострадавших: «Все они были представителями того, что сейчас с восторженным придыханием называют Серебряным веком. Я не хочу ни одного недоброго слова сказать об этих людях, так любимых Даниилом. Но через них чувствую тот тонкий ядовитый аромат, которого сейчас не ощущают в столь превозносимом Серебряном веке. Да, этот век дал нам удивительные цветы — великих поэтов и художников, но дурманящий запах неверности, расшатывания глубоких устоев, по-своему обаятельная, болезненно прекрасная недостоверность — все это тоже вплелось в трагедию революции, а платила за все это — Россия. И — мистически — правильна, справедлива была наша личная расплата собственной жизнью в лагерях и тюрьмах. Расшатывать устои нельзя, нельзя играть с отравой, а этого хватало в Серебряном веке».
Это, так сказать, «объяснение отрицательной причины страдания», а вот «положительное объяснение»: «…русские пострадали больше всех. Трагедия отличается от несчастья величием и ощущением масштаба, а масштаб — это тоже ценность. Хочу повторить, что страдания такого масштаба Господь посылает только тогда, когда знает, что народ эти страдания вынесет и выйдет к Господу. Больше выходить не к кому».
Рассказ Аллы Александровны о лагерной жизни потрясает тем, что она благодарит Бога за перенесенные иногда просто запредельные испытания (холод, голод, болезни, издевательства, всяческое попрание человеческого достоинства): «Человеком меня сделал лагерь. До лагеря я была просто красивая дура».
«Тюрьма и лагерь — говорит она, — оказались огромным душевным и духовным богатством». А еще предостерегает нас, много рассуждающих об этом времени «от ветра головы своей»: «Трагизм того времени невозможно разложить по полочкам, раскрасить черно-белыми красками». И даже такие слова говорит о следователях и подследственных: «И даже теперь, поняв, какую непростительную ошибку я совершила, я не могу полностью отделить «нас» от «них». Мы — разные части одной огромной национальной трагедии России».
Алла Александровна говорит о том, что тот, кто не прошел Гулаг, не может понять, что это было, словами объяснить это невозможно. Но она делится с нами драгоценным откровением, которое позволяет понять, почему выстоявшие узники смогли сохранить свою душу, не стать «лагерной пылью», а остаться людьми: «…шла внутренняя, скорее подсознательная, работа — подготовка души к принятию этого страшного пути, посланного Богом. Не испытания, не наказания — в наказующего Господа я не верю. Верю в посылающего то, что надо принять: иди, тебе поручено. Никакой логики, никакого рассуждения об этом не было. Боюсь, что этих качеств и вообще у меня нет. Что-то созидающее происходит внутри раздавленной личности, собирая ее заново… Гораздо важнее и интереснее: каким образом совершенно разломанный на куски человек вновь собирается, словно по частям, в человека целого, хотя и другого, чем был до катастрофы. Конечно, не сам человек собирается — Господь его собирает. Только Божья рука может поднять нас и вывести из всего этого ужаса, из того страшного, что было пережито в тюрьме».
Как образ всего святого, что было и есть в русском народе, Алла Александровна сохранила в памяти краткую встречу с простой верующей женщиной, которая так ярко запечатлелась на страницах воспоминаний: «Как-то я иду из жилой зоны в производственную, а там посередине был небольшой холмик. На нем она стоит прямо-прямо, как свечка, а ниже за забором видны бескрайние леса. По-моему, было начало осени, и леса чуть-чуть начинали отливать золотом. Она увидала меня боковым зрением и позвала взволнованно:
— Аллочка, иди сюда! Иди скорей!
Я подошла, а она говорит:
— Ты чувствуешь, как ладаном пахнет оттуда? Батюшка Серафим в этих лесах спасался. Господи! Какие же мы счастливые! Господь нас привел сюда, в эти леса, где батюшка Серафим с нами.
Не знаю, кому еще можно поклониться в этой жизни так, как этой женщине. Ни злобы, ни ненависти, ни уныния в ней не было. Это и есть тот русский народ, которого до сих пор не видят и не понимают. Я видела его там. И никогда не забуду».
И мы, прочитавшие воспоминания Аллы Александровны, а тем, кто их не читал, очень советую прочесть, никогда не забудем не только лагерные страницы ее повествования, но прежде всего рассказ о великом опыте любви, которую дал ей Господь и из которой она сотворила чудо полного самоотвержения и мужества. В начале этого очерка я писала, что Алла Александровна была похожа на легкий ветерок или листик, летящий по ветру (такое у нее было домашнее имя — Листик), но она еще была человеком великого мужества. Это выразилось особенно в последние годы жизни ее мужа, которого она считала непризнанным гением: когда она настойчиво ездила по тюрьмам и прокуратурам с требованием отпустить умирающего человека из узилища; когда она с еле живым мужем «на руках» скиталась по съемным и дружеским недолгим приютам; когда она сама, заболев раком, как бы и не обратила на это внимания, потому что нужно было думать не о себе, а о муже; когда она перепечатывала горы рукописей на машинке и довела их до публикации; когда добилась того, чтобы похоронить Даниила на Новодевичьем кладбище рядом с матерью.
Я забыла сказать о том, что во время моих гостеваний в квартире Аллы Александровны меня потрясли ее картины, развешенные по стенам всех комнат. Это были монгольские пейзажи. В них не было ничего от «легкого ветерка». Теперь я понимаю, что в них воплотилась мужественная основа души их автора. Тот же мужественный взгляд воплощен и в циклах работ, посвященных Воркуте, полярному Уралу. Алле Александровне близка была «суровая одухотворенность севера, которой лишен юг», как она сама писала.
Свои воспоминания «Плавание к Небесному Кремлю» Алла Александровна закончила словами: «…вспоминаю все, но не помню ничего плохого. Я помню все светлое, глубокое и прекрасное, что видела за свою уже очень долгую жизнь». Земное «плавание» это закончилось 29 апреля 2005 года. И мы верим, что корабль под парусами не затонул, а вошел в Небесную страну, вошел сквозь радугу, художественно изображенную А. А. Андреевой в ее эскизе к «Сказанию о невидимом граде Китеже».
Теодор Адамович Шумовский
Пройдя ГУЛАГ, он не только сохранил старую русскую культуру, но и обрел веру. «Я не только верю, я знаю Бога», — такую фразу обронил один мой знакомый, с которым я встретилась в Пскове. «Это я говорю не о себе, а повторяю слова отца, — уточнил он. — В них — опыт его жизни».
Когда в Питере я позвонила академику-востоковеду Теодору Адамовичу Шумовскому, то с замиранием сердца услышала в трубке интонации, присущие только старшему поколению «аристократов духа».
— Да, я готов встретиться, только нужно посмотреть расписание. Эту неделю очень занят, будьте так любезны, позвоните, пожалуйста, на следующей неделе.
Теодору Адамовичу в то время было уже 94 года, и меня очень удивила его загруженность. Когда через неделю я пришла к нему в гости, он поразил меня не только словесной галантностью, но и старинными манерами. Едва удерживая равновесие, на двух костылях, он намеревался «принять у дамы пальто»…
Первым делом я спросила, откуда у него родилось то мироощущение, которое старец Силуан Афонский называл началом богопознания: «Я не только верю в Бога, я знаю Бога». И он ответил: «Да, уже после первого ареста я начал анализировать все, что со мной произошло. И ясно увидел все свои ошибки и прегрешения, начиная с детства, мне открылся смысл всего происходившего со мной. И я увидел разумность всех событий. Так я узнал Бога. Ведь можно верить или не верить. Можно сомневаться. Можно от чего-то смутиться и потерять веру, как бывает. А тут пришло твердое убеждение: «Бог есть. Он всем управляет. Это непреложная истина, она не зависит от моей веры или неверия. Так есть»».
Потом Теодор Адамович рассказал мне о своей жизни до лагеря. «Родители мои — чистокровные поляки, но во время Первой мировой войны им пришлось покинуть родину и поселиться в Азербайджане. В древнем городе Шамаха (тут Теодор Адамович прочел знаменитые пушкинские строчки из «Сказки о золотом петушке» и добавил, что о шамаханской царице писал и Афанасий Никитин в «Хождении за три моря») прошло мое детство, здесь определилось мое жизненное призвание. Город, история которого измеряется тысячелетним сроком, был окружен четырьмя старинными кладбищами. Мы, мальчишки, любили рассматривать витиеватую вязь на камне. Очень хотелось понять, что значат эти надписи. Кроме того, мне была интересна древняя арабская культура, следы которой можно было увидеть в Шамахе. Так я решил стать востоковедом, хотя, конечно, и слова-то такого тогда не знал. По окончании школы меня отправили в Москву к тетушке, родственником которой был влиятельный человек. Она мне сказала: «Ты что, хочешь стать языковедом? Дорогой мой, это допотопно. Ты будешь инженером. Инженеры хорошо зарабатывают. Я тебя устрою». И действительно, устроила меня сначала в один технический институт, откуда я сразу же сбежал, потом в другой, куда я не пошел, а в третьем — горном — мне все-таки пришлось проучиться один год. Нас направили на практику на шахту. И там произошел такой случай. Спустился я в забой на глубину 600 метров, долблю уголек, и вдруг меня пронзает мысль: мне нужно кому-то написать, кто мне укажет, где, в каком учебном заведении я смогу изучать древние языки.
Тогда на слуху было имя академика Н. Я. Марра. И я написал ему по-юношески восторженное, очень длинное письмо. И он мне ответил, перечислил нужные институты. Я выбрал Ленинградский историко-лингвистический институт, успешно поступил, но через год уже стал учеником замечательного ученого-арабиста, академика Крачковского — перевелся на историко-филологический факультет Госуниверситета. Тогда уже определилась сфера моих научных занятий — я расшифровывал древние арабские лоции (морские карты). На эту тему я защитил кандидатскую, а потом и докторскую диссертации. Но в самом конце пятого курса я был арестован».
В разговоре на лагерную тему меня больше всего потрясла феноменальная память Теодора Адамовича. Он помнил все даты: дни ареста, освобождения, пересмотра приговора. Хотя, может быть, у всех лагерников особая память на тюремные даты? Но точно уж не у всех есть такая способность, как у Теодора Адамовича, бесстрастно говорить о причине ареста и видеть во всем происходящем следствие действия человеческих страстей и неумолимость законов исторического развития, а не случайность, как считали многие люди, разделившие судьбу Шумовского. Продолжим рассказ от первого лица, записанный в свое время на диктофон.
«Меня оставляли на кафедре по окончании Университета, так как я был ближайшим учеником академика И. Ю. Крачковского. Вместе со мной учился один студент, который мечтал остаться в аспирантуре. Он решил убрать конкурента, написал на меня донос. И в декабре 1938 года я был арестован. Следователи соорудили дело «Молодежной партии прогрессистов». По этому делу также проходил Лев Гумилев, ему приписывали руководство нашей «партией». Анна Андреевна Ахматова хлопотала в Кремле, нас выпустили на время. Чтобы работать по специальности, иметь возможность написать и защитить кандидатскую диссертацию, пришлось мне отправиться в Новгородскую область в город Боровичи. Там меня приняли в Институт повышения квалификации учителей на должность методиста по преподаванию иностранных языков. И там я был во второй раз арестован.
В лагере старался использовать малейшую возможность для пополнения языковедческого багажа. Составил словарик на русском языке и, общаясь в лагере с представителями разных национальностей, просил заполнить этот словарик на их языке. Особенно запомнилось общение с местоблюстителем Грузинского Патриарха, он много со мной занимался грузинским. А еще впечатлила встреча с испанцем Палайо — он обучал меня языку, читая испанских поэтов. Кстати, историк Лев Гумилев относился к этим занятиям довольно-таки пренебрежительно, ронял с каким-то даже высокомерием: «Это все филология». Хотя он должен был знать, что эти две науки взаимодополняют друг друга — недаром в Университете был историко-филологический факультет.
В лагере я, как и мой друг Лев Гумилев, продолжал обдумывать свою докторскую диссертацию. Погружался в тот мир.
В лагере освоил двадцать специальностей. В основном чернорабочих, но была и одна «благородная» — я усиленно штудировал медицинские книги, когда меня назначили ответственным за оказание первой медицинской помощи. Всерьез думал, что если меня не отпустят из Сибири, то буду работать фельдшером в окрестных деревнях. Вообще жизнь в лагере многому научила. Поначалу я содержался в лагере строгого режима. Это значит — одно письмо в полгода и из барака после работы не выходить. Но после 1953 года появилось облегчение. Нам разрешили выходные дни — тогда можно было пойти погулять в тайгу без конвоя. И вот однажды мы с другом зашли в глухую тайгу. И вдруг видим — лагерь. Пустой, никого нет, ворота открыты. Мы прошлись по дорожкам, забрались на сторожевые башни. Это было удивительное чувство свободы, сложно это передать…
Вообще главное, что я получил в лагере, — благодарность Богу за то, что позволил мне все вынести. В 1956 году я получил разрешение вернуться к свободной жизни. Сначала поехал к своим в Азербайджан, а потом в Питер. Это тоже одно из Божьих чудес — меня взяли на работу в Институт востоковедения, где я и проработал несколько десятков лет, до выхода на пенсию. Хотя был и опасный момент: в 1958 году меня вызвали в паспортный стол, и его начальник заявил: «В 24 часа покинуть Ленинград!» Я пришел к директору института академику И. Орбели, все ему рассказал. Он сказал мне только одно слово: «Хорошо». С этим «хорошо» я и ушел. Утром следующего дня он мне объявил: «Я вчера был у начальника Ленинградской городской милиции. Подарил ему вашу книгу. Он просил меня передать вам: Его никогда никто больше не тронет. Ленинградская милиция знает, кого трогать«».
При первой же нашей встрече выяснилось, что Теодор написал большую книгу воспоминаний, почти тысяча страниц, сам ее отпечатал, и передал нам для ознакомления. Отрывок из книги «Свет с востока», содержащий свидетельства о лагерных испытаниях, приведем ниже.
У «Всех скорбящих Радости»
«Каждое слово хранит в себе тайну своего происхождения. Она продолжает оставаться тайной, пока мы не любопытны, пока пользуемся словами по привычке, переданной нам старшим поколением, не вглядываясь в их собственное лицо».
Так думал я в один из февральских дней 1938 года, шагая по камере в ленинградском доме предварительного заключения. Спереди и сзади меня размеренно, как часы, двигались другие арестанты: одни вполголоса переговаривались, другие, опустив голову, предавались раздумьям — о семье ли, оставшейся без кормильца, о своем ли неясном будущем. Стоял тот поздний утренний час, когда призрачная утеха от кружки кипятка с куском черного хлеба уже давно растаяла, а обеденной баланды еще не несут, и заключенные коротают время в хождении кругом посреди камеры, один за другим, пара за парой. Шаг следует за шагом, минута за минутой. Пущены в ход часы арестантского срока…
Я, студент последнего курса Университета, арестованный за четыре месяца до защиты диплома, озабоченно думал: вот мне пришлось провести в тюрьме целых две недели; это, в конце концов, еще не так много: если завтра-послезавтра выпустят, можно быстро наверстать упущенное, написать и защитить диплом в намеченный срок, в июне, а осенью поступить в аспирантуру. Я живо представлял себе радость встреч с учителями, товарищами и древними арабскими рукописями. Но освобождение не приходило.
Мы, арестанты, находимся на бывшей ул. Шпалерной в камере № 23 ленинградского дома предварительного заключения, сокращенно ДПЗ. Три буквы остряки за решеткой растолковывают по-своему: «дом пролетарской закалки», «домой пойти забудь». Невдалеке от нашей «внутренней тюрьмы» квартал замыкает старинная церковь Всех скорбящих Радость. На месте ее когда-то стоял деревянный дворец Натальи Алексеевны, любимой сестры Петра I, но напротив двенадцатью окнами выходили на Первую линию покои злосчастного Царевича Алексея, умерщвленного отцом, а дальше по той же стороне возвышались палаты казненного тогда же в новорожденном Петербурге адмирала Кикина. А незадолго перед моим арестом электромонтер, пришедший чинить проводку, рассказывал: «Иду по Шпалерке мимо НКВД и вдруг вижу — оттуда, из окна верхнего этажа, выбросился человек. Он умирал на моих глазах в луже крови на тротуаре».
А старинные кованые ворота распахиваются и смыкаются, вбирая в тюремный дом новых и новых узников. Да, недаром возникло на малоприметном старом углу название «Всех скорбящих Радость»…
Память сохранила мельчайшие подробности ареста. В три часа ночи с 10 на 11 февраля 1938 года раздался стук в дверь комнаты № 75 общежития на Петроградской стороне. Вспыхнул свет, вошли двое в шинелях, спросили паспорт. «Одевайтесь, поедете с нами». Рядом с покидаемой койкой на столе помещались мои книги из университетской библиотеки, книги, приобретенные в букинистических лавках, бумаги, рукописи. Чтобы проверить весь этот скарб увозимого студента, охранникам понадобились четыре часа. Составленную мной по-арабски цветную карту средневекового мусульманского государства взяли с собой — подозрительная самоделка, к ней присоединили письма покойной матери. В семь часов утра черная «маруся» помчала меня в стражу мимо Петропавловской крепости, через Неву, мимо Летнего сада. Тяжелые ворота раскрылись… Вспомнилась терцина Данте:
Пройдя меня, вступают в скорбный град,
Где лоно полнят вечные печали,
Где павших душ ряды объемлет ад…
…Впервые за 25-летнюю жизнь ко мне вплотную приблизились мертвящие глаза человеческой лжи — и некуда было деться. Да нет, пусть лучше убьют за эти придуманные преступления, но клеветать на себя… нет, невозможно, нельзя. В камере я втиснулся под нары, лег среди вповалку простертых тел. Внезапно из-под пола раздался протяжный стон, за ним другой, затем послышались вопли. Сосед, старый крестьянин, приподнялся, опершись о пол левой рукой, правой перекрестился:
— Опять…
— Что опять? — спросил я.
— Пытают… — голос его дрогнул. Ужас пробежал по мне.
— Пытают?! Кого?
— Вот тебе и «кого». Таких, как мы с тобой. Чтоб сознавались, чтоб кляли себя, значит…
Он рухнул на свое место, закрыл пальцами уши. Вопли продолжались, порой их перекрывала яростная брань палачей.
Филимонов продолжал вызывать меня, требовал «признаний». Я все еще держался, но вопли из пыточных камер не выходили из головы. Постепенно сочиненный следователем протокол приобретал стройность и завершенность. Оказалось, что в «молодежное крыло партии прогрессистов» вместе со мной входили Ника (Николай) Ерехович и студент исторического факультета университета Лева (Лев) Гумилев. Все-таки я еще пока держался. И — дивно устроен человеческий мозг! — несмотря на остроту моего положения, на униженное существование — или именно поэтому? — каждый день приходили ко мне новые мысли, связанные с филологией. Я не мог записать мыслей, примеров, доводов, являвшихся мне, — иметь карандаш и бумагу подследственным запрещалось — и повторял все про себя, чтобы не забыть… <…> 4 декабря 1938 года «столыпинский» вагон с решетками на окнах доставил нас в Медвежьегорск, к самому северному краю Онежского озера. Всех спустили в трюм баржи, как в средние века поступали работорговцы с невольниками, вывозимыми из Африки. Мы с Левой Гумилевым поместились в углу у продольной балки.
Назавтра этап, разделенный на три бригады, погнали к знакомому причалу на работы. Так и пошли дни: утреннее плавание туда, вечернее — обратно; распиловка двуручной пилой, на пару с Левой. <…>
Лагерные дни шли однообразно: работа; беспокойный ночной сон, всегда казавшийся коротким; мечущийся по двору начальник нашего заведения, армянин, часто выкрикивавший свое решение провинившемуся: «В КУР» — камеру усиленного режима, то есть карцер, — других слов от него никто не слышал. По вечерам была другая жизнь. Я раздобыл карандаш, а бумага — вот она: обратная сторона копии приговора военного трибунала, выданной мне после свершения правосудия. Приговор отменили, но копия осталась. Лампочка туск-ло освещает барак; низко склонясь над потрескавшимся от старости столом, я записываю то из тюремных филологических размышлений, что сохранила память. Первым ложится на бумагу пришедшее ко мне раньше других сравнение «гром» с арабским «ра’д» в том же значении. За ним… Еще и это… Да, чуть не забыл, вот… Примеры всемирного родства языков — такие, внешние, всегда на виду, а вот эти глубоко скрыты под напластованиями… Я работал с радостью и ужасом, как хорошо, что запомнились эти сложные выкладки, но… бумага уже кончается, ее чистое поле сокращается, подобно шагреневой коже. Конечно, потом можно перевернуть лист и писать между строками приговора. Но и та сторона не беспредельна. Ну, пока пиши мельче, как можно мельче, там видно будет.
Потом было еще одно следствие, одиночная камера в «Крестах» и новый приговор 26 июля сего 1939 года «за антигосударственную агитацию и антисоветскую деятельность» к пяти годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях». На сей раз этап отправился в Воркутинские лагеря. Семь лет испытаний и новых открытий.
1943 год прошел в напряженной работе. Я восстановил по памяти все свои лингвистические записи — те, которые украли у меня на раскурку уголовники на Беломорканале, и те, которые я спас от обыска в Котласе, но не мог спасти от следующего тления. И появились новые стихи и переводы…
20 января 1944 года дежурный охранник открыл передо мной проходную, подозрительно оглядел с головы до ног. Прочел и перечитал справку об освобождении. Потом открыл вторую дверь — на улицу, и я вышел, крепко держа сундучок, подаренный мне товарищами в зоне. На дне сундучка лежали тетради с записями. Но впереди еще были годы испытаний…
* * *
Впоследствии Теодор Адамович Шумовский стал известным в мире арабистом, основателем новой отрасли филологии — ороксологии, то есть восточно-западной филологии. Только обладающий такой эрудицией человек, как Теодор Адамович, изучивший и изучающий непрерывно в свои 94 года около 20 языков различных языковых групп, мог прийти к созданию столь сложной дисциплины. Ороксология включает в себя сравнительный лингвистический разбор слов из языков, традиционно признанных неродственными. Изыскания Т. А. Шумовского, начатые им еще в лагерные годы, приводят к несомненному выводу о существовании праязыка, то есть к выводу о достоверности библейского сказания о Вавилонском столпотворении и разделении языков.
Умер Теодор Адамович в Петербурге 28 февраля 2012 года на 100-м году жизни. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища, рядом со своим учителем академиком И. Ю. Крачковским.
Протоиерей Петр Белавский и протоиерей Владимир Каменский
С исповедниками Христовыми, пока еще не прославленными Русской Православной Церковью, но почитаемыми многими верующим — отцом Петром Белавским и отцом Владимиром Каменским, лично мне встретиться не пришлось. Но многолетнее общение с их духовными чадами стало такой встречей, потому о дорогих сердцу батюшках-исповедниках также хочу рассказать в этой части книги.
Отец Петр был духовником преподобномученицы Марии Гатчинской, и потому когда в газете «Православный Санкт-Петербург» я начала вести рубрику о новомучениках российских и захотела написать о матушке, то через «моих бабушек» узнала, что в Петербурге, недалеко от Казанского собора, живут сестры Белавские и «они мне все расскажут». Одна из первых публикаций в нашей стране о блаженной Марии появилась благодаря той первой встрече в старинной квартире, где до сих пор все сохраняется нетронутым со дня отшествия в мир иной отца Петра Белавского († 1983). При первой же встрече я получила от сестер и скопировала замечательное письмо, которое под диктовку старицы-страдалицы Марии было написано батюшке на Соловки. Приведу отрывки:
«…Посмотри на прекрасное небо: сейчас оно чистое и голубое, но вот появляются огромные белые облака, точно белоснежные глыбы льда прикрепились к небесному своду. Вот и это меняется белыми барашками. И вдруг появляются черные тучи с медным отливом, довольно скоро они сгущаются. В природе темно, у всего живого мира делается тревожное состояние — туча давит на мозг и сжимает сердце. Но вот поднялся ветер, грянул гром и полил обильный дождь; небо прояснилось, выглянуло солнышко, воздух очистился, повеяло приятной свежестью, все оживилось и человек воспрянул духом… Не то ли самое испытываешь ты, родной, и все, и я не исключение, когда после пролитых горячих слез очистится наше сердце и становится легко, легко? О, как много милости у Всемогущего. Счастье и вас не оставило и на севере. Счастье в том, что вы живете среди природы. Природа — это родная мать, которая воспитывает нас, утешает и радует. Дух дышит везде, и не было ни одного дня, чтобы не вспомнили тебя…»
«Тоска есть крест душевный, посылается она в помощь кающимся, которые не умеют раскаяться, то есть после покаяния снова впадают в прежние грехи… А потому только два лекарства лечат это порой крайне тяжкое духовное страдание.
Надо или научиться раскаиваться и приносить плоды покаяния, или со смирением, кротостью, терпением и великой благодарностью Господу нести этот крест духовный — тоску свою, памятуя, что несение этого креста вменяется Господом за плод покаяния… А ведь какое это великое утешение — сознавать, что тоска твоя есть неосознанный плод покаяния, подсознательное самонаказание за отсутствие требуемых плодов… От мысли этой в умиление прийти надо, и тогда тоска постепенно растает и истинные плоды покаяния зачнутся…»
Отец Петр Белавский был родом из соседнего с Гатчиной поселка Тайцы. Теперь это один поселок, а раньше было два — Тайцы и Александровка. Вот в Александровке и служил дед отца Петра по матери — отец Димитрий Шишов, затем отец — священник Иоанн Белавский. И сам отец Петр поначалу служил в Александровке, пока не был назначен в Тайцы, в храм святителя Алексия, митрополита Московского. Жена отца Петра — Ксения Васильевна Бондырева, дочь священника. На брак их благословил священномученик Вениамин Петроградский. В 1929 году отец Петр был арестован и осужден на пять лет. Сидел со священномучеником архиепископом Иларионом (Троицким). На Соловках, на острове Анзер, где была самая душегубка, ему удалось сохранить молитвослов и серебряный складень, которым его благословила преподобномученица Мария Гатчинская. Этот складень до сих пор хранится у сестер Белавских, дочерей отца Петра. Однажды духовенство доверило отцу Петру совершить Великое освящение воды, и он совершил его ночью на одной из вышек в кружке, потом принес воду в барак.
Беломорканал… Новгород… В 1937-м — новый арест по обвинению… в подготовке взрыва Новгородского Кремля, святой Софии Новгородской! Через несколько лет дело закрыли, отец Петр был выпущен, поселился в Пестове Новгородской области. Работал он на гражданской работе, а служил дома, приходили только самые доверенные люди. На войну отец Петр не был взят по состоянию здоровья. После войны семья переехала в Гатчину — поближе к родине, да и дочери выросли, нужно было дать им образование. В Гатчине ему предложили служить в Павловском соборе. Вскоре он становится настоятелем собора и восстанавливает его после военной разрухи. Но когда в Гатчину начинают приезжать туристы, отца Петра убирают на ее глухую окраину — в Мариенбург. Двадцать один год отец Петр прослужил в Мариенбурге, и еще семь лет — уже на покое. При его настоятельстве был отреставрирован мариенбургский храм. А самое главное — была налажена церковная, духовная жизнь. Отец Петр часто служил. Он не говорил проповедей, но обладал таким молитвенным даром, что люди уже не нуждались в проповеди. Нужно было только видеть, как он служит, молится… В его молитвенности и было проповедничество. К отцу Петру приезжало очень много людей. Приезжали, потому что знали: батюшка не сдаст. Те, кто опасался преследований советской власти, молились в пономарках. Здесь батюшка исповедовал их… Любил приезжать к отцу Петру митрополит Пимен (будущий Патриарх). Однажды даже на свой день Ангела уехал в Мариенбург. Вместе служили, потом пили чай… Приезжали к отцу Петру митрополиты Питирим (Нечаев), Никодим (Ротов), Антоний (Мельников). С архиепископом Мелитоном (Соловьевым), который был викарным архиереем, у отца Петра сложились дружеские отношения. Скончался отец Петр Белавский 30 марта 1983 года, уже на покое, и был погребен рядом с матушкой († 1979) у алтаря Покровского храма.
В 2010 году настоятель этого храма протоиерей Анатолий попросил меня подготовить к изданию книгу об отце Петре. Так я опять попала к сестрам Белавским — Ксении Петровне и Александре Петровне. Я уже не думала, что в XXI веке опять встречусь с «моими бабушками». Оказалось, что еще жив «святой остаток» — люди, сохранившие стародавние устои жизни. И не только в квартире у Казанского все осталось нетронутым, но и в церковном домике в Мариенбурге в неприкосновенности сохраненной осталась небольшая комнатка, где жили отец Петр с матушкой Ксенией.
Здесь я услышала о еще одном исповеднике Христовом, о котором вскоре также пришлось писать книгу, собирать материалы и даже получить следственное дело из архива Большого дома. Отец Владимир Каменский был другом отца Петра.
Протоирей Владимир Каменский родился 5 января 1897 года. Владимир выучил семь языков, увлекался философией. С 1905 года Владимир приступил к занятиям в Тенишевском коммерческом училище, находившемся в Санкт-Петербурге, которое окончил в 1914 году. С 1915 года Владимир Андреевич обучался в Политехническом институте, а также на философском отделении историко-филологического факультета Университета, где изучал филологию, философию. Главным делом в юности были занятия философией и одновременно ученичество у одного из самых философических русских художников — К. Петрова-Водкина. В 1917 году Владимир оказался на военной службе на турецком фронте и столкнулся с горем и страданиями людей. Служил он в артиллерии.
После тяжелой болезни он восстановился в Университете, и в 1923 году окончил философское отделение, в 1935 году получил степень кандидата исторических наук, а в 1940 году подготовил докторскую диссертацию, но был арестован, и ею воспользовалось другое лицо.
Владимир Андреевич преподавал в Военно-морском училище, с 1928 году работал в Русском музее и в архиве Шереметьевского дворца, сотрудничал с академиком В. И. Вернадским. Он написал трехтомную монографию об истории уральских заводов и металлургии.
Владимир Каменский был ученым, философом, поэтом и проповедником Православия. Он писал:
Жизнь — светотень.
И ночь и день
в душе. И день —
тем он светлее,
чем ночь темней.
Его мысли и чувства не пресмыкались по земле.
В 1940 году Владимир Андреевич был арестован. Работая в архивах, он старался по благословлению старца сохранять святыни, привозимые из разных храмов для хранения или уничтожения. Ему удалось найти и сохранить личные вещи преподобного Серафима Саровского, подаренные им семье Шереметьевых (подрясник и скуфейку). Пытался спасти несколько Евангелий на иностранных языках. Кто-то донес, и он со своим архивным начальником был арестован. Тот позже погиб на Соловках.
Обвинения обычные: шпион, организатор подпольного монастыря «Келья». Под протоколом допроса отец Владимир написал: «Виновным не признаю, работал честно и преступлений не совершал».
Летом 1941 года его отправили в Воркутинские лагеря на лесоповал. По слабости здоровья не выполнял норму и получал 300 г хлеба вместо 700. Заболел цингой, отнялись ноги. Случилось, что в лагерь прибыла комиссия с проверкой, и его, находящегося в бессознательном состоянии, спрятали в чулане с грязным бельем, но комиссия обнаружила и пригрозила начальнику наказанием, если погибнет.
В местном лазарете сделали операцию опытные хирурги из заключенных, а повторную операцию пришлось проводить без наркоза. Отец Владимир сам держал во время операции ногу, которую удалось сохранить, но она стала сохнуть, и он хромал. По ходатайству врача он три года пробыл в лазарете. В заключении батюшка написал поэму на бересте, но кто-то ее сжег.
После освобождения был вновь арестован, в результате в общей сложности он провел в лагерях 15 лет. На лагерное испытание отец Владимир не роптал и называл это «духовной академией».
После освобождения он не стал добиваться реабилитации и восстановления на работе, а остался в тех местах, построил избу и жил в лесу.
Отец Владимир писал в 1949 году:
Не жалей ни о чем,
что прошло
в этой жизни ущербно-текучей,
что прольется сама,
не оставив следа,
как поток неумолчно-гремучий.
Однажды он увидел во сне мать: подавая ему священнические одежды, она сказала: «Отец тобою недоволен». Владимир понял, что надо стать священником. Но когда он вернулся домой, ему негде было жить. Бывшая жена не пустила в дом, где раньше жили его умершие родители. Полгода бывший лагерник жил на вокзале, в его судьбе приняла участие раба Божия Анна — проводница, которая разрешала ездить на поездах, чтобы хоть там согреться. Наконец он попал к дальним родственникам во Всеволожске, где стал жить как слуга.
Владимир Андреевич не искал для себя пастырства. Ходил в храм, и однажды священник предложил читать по-славянски. Так он стал псаломщиком Свято-Троицкого храма. Позже с ним познакомился митрополит Григорий (Чуков) и благословил принять священный сан. После трехмесячной подготовки он был рукоположен весной 1956 года в сан диакона, а 4 марта — во иерея. Служить он стал в том же храме.
К нему начали ездить из Ленинграда, пригородов, в том числе целыми семьями, останавливаясь у прихожан или у старосты.
Отец Владимир к каждому воскресенью и празднику писал проповеди и посылал чадам духовным. Они собирались вместе у кого-то дома, читали и вместе молились. Это напоминало времена первых христиан, учитывая усиление гонений властями.
Батюшка был дерзновенным — рискуя лишиться регистрации, устраивал запрещенные крестные ходы, не регистрировал крещения и отпевания, учил молодежь молиться. Посещал гонимых священников.
Настоятель храма опасался, что усердие отца Владимира может навредить. Продолжительное время отцу Владимиру настоятель не разрешал служить самостоятельно, ему позволялось быть лишь сослужащим.
Начиная с 1963 года стали часто меняться места служения, его отправляли то на дальние приходы, то временно командировали в центральные городские храмы. Временно ему пришлось служить в поселке Динамо, на станции Антропшино, на Охте, в Александро-Невской Лавре, в Спасо-Преображенском соборе, в селе Петрова Горка Лужского района, в Казанской церкви Вырицы. Целью этих переводов было намерение разлучить батюшку с преданной ему паствой, но духовные чада все равно не оставляли своего отца.
Однако все эти переезды тяжело отразились на и без того подорванном здоровье батюшки: в январе 1964 года он перенес на ногах воспаление легких, что дало осложнение на сердце. После отпуска по лечению в марте 1964 года отец Владимир получает назначение в Свято-Димитриевский храм в Коломягах. Этот храм стал последним его приходом. Вскоре, в сентябре 1966 года, батюшка был назначен митрополитом Никодимом духовником Ленинградской епархии и Духовной академии. «Мы преподаем теорию, а вы будете воспитывать духовность», — сказал митрополит. Батюшка не поехал жить при Академии и, начав новое служение, продолжал службы на приходе. Возвращаясь после исповеди студентов домой, он всю ночь но коленях слезно молился, повторяя имена исповедников. Семинаристов поражало, что отец Владимир никогда не унывал и старался пробудить в них «духовный ум».
Батюшка любил детей, и в этом была какая-то тайна. Многодетная прихожанка Мария рассказывала: «Когда приходили с детками, то он в подрясье приносил много гостинцев и еще огромный бидон молока. Дети прыгали от радости». Он называл пятилетнего ребенка «мой друг», «моя подружка», а они его — «дедушка», «родимый».
Его богопредстояние не ограничивалось служением в храме, он видел и чувствовал Бога везде — и в большом храме природы, и в каждой человеческой душе. О том, как любил батюшка людей, свидетельствуют памянники, которые он вычитывал перед храмом: приезжал рано и часами ходил вокруг, вычитывая все имена. Молился по семьям, вместе за живых и усопших. Усопших больше, чем живых.
Скончался отец Владимир 28 июля 1969 года, в день своего небесного покровителя князя Владимира. Перед кончиной успел передать свою исповедь духовнику и другу отцу Петру Белавскому. Похоронен отец Владимир на Шуваловском кладбище. На кресте надпись: «Пастырь и ученый философ в мiру».
О дружбе
«Братья и сестры» — так традиционно мы именуем друг друга. Но чаще всего это братство исчезает за стенами храма, не существует в обыденной жизни человека. И мы даже не задумываемся об этом, не осознаем, чего мы себя лишаем.
Еще древними было сказано: «Брат от брата укрепляем, яко град тверд». Сколько гимнов дружбе мы находим на страницах Ветхого Завета! А в Новом Завете братские (дружеские) взаимоотношения — основа Церкви и спасения. «Я не называю вас рабами, а друзьями», — сказал верующим в Него Господь. Святые отцы новозаветный опыт выразили одной фразой: «От ближнего, от брата — жизнь и смерть человека, то есть погибель или спасение».
В XX веке — веке «коллективизма», «масс-культуры» — братство, дружба стали великой редкостью. Одиночество в толпе — расхожий образ нашей жизни. К сожалению, этот образ применим не только к светским, но и ко многим церковным людям. Давайте порассуждаем, отчего это происходит?
Мы все — дети своей эпохи. Эпохи, когда все направлено на то, чтобы люди относились друг к другу как к вещам, как к социальным единицам. Вступив в XXI век, человек человеку становится прежде всего не «другом, товарищем и братом», а покупателем и продавцом, пассажиром, обслугой, «банковским счетом», «инвентарным номером». А то ли еще будет? В Россию семимильными шагами вступает явление, о котором еще в 50-е годы писал американский психолог и философ Эрих Фромм: «Сегодня человек стоит перед самым главным выбором: это выбор не между капитализмом и коммунизмом, а между роботизмом и человечностью. В прошлом опасность состояла в том, что люди могут стать рабами. Опасность будущего в том, что люди могут стать роботами».
Мир, в котором мы живем, становится все более перевернутым. И мы, сами того не замечая, являемся христианами только по имени или только в храме. В реальной жизни все труднее и труднее быть христианином. Приходится сознаваться в этом. Проявляется эта внежизненность нашего христианства в первую очередь в отношениях между людьми: в лучшем случае ныне обходятся «ритуальной вежливостью» делового стиля, за которой чаще всего скрываются ложь и обман, а в худшем, более распространенном, преобладают грубость, жестокость, неприкрытые эгоистические интересы и конфликты, конфликты, конфликты… И мы живем как бы в гипнозе этой общей атмосферы. И подчас даже не подозреваем о том, что церковность, воцерковление предполагает обретение человеком такого опыта отношения к людям и к миру, которого у него не было прежде. Нельзя ограничиться только новым отношением к себе — покаянием, сетованием, принятием откровений…
Не будем строить иллюзий — мы не сможем ко всем и каждому относиться как к брату и другу. Но если нет ни одного человека, о котором ты можешь сказать: «Господи, благодарю Тебя, что Ты мне послал такого друга», — это тревожный симптом, заставляющий задуматься над вопросом: «В чем мое христианство?» Пожалуй, всем нам стоит почаще спрашивать себя: «Есть ли у меня в жизни, а не в теории, реальные братья и сестры? Познал ли я на опыте народную мудрость — друг познается в беде? Был ли я сам таким другом?» А если нет — стремиться к этому, молиться об этом. В прежние времена существовал «чин братотворения» — люди чувствовали необходимость призывания благодати Божией на их личные сердечные и духовные взаимоотношения. Святым отцом Иоанном Кассианом был написан специальный труд «О дружестве». И ныне, думается, каждый, кто обрел друзей, может засвидетельствовать: настоящая дружба родилась по действию Божия откровения о другом человеке. Иногда даже помнишь тот момент, когда тебе вдруг внезапно открылась глубина человека, ты почувствовал его внутреннюю сущность. Удивительно, что эти моменты необязательно бывают связаны с разговорами по душам, вообще со словесным выражением человека. Если допустимо такое сравнение, эти моменты подобны малой, личной Пятидесятнице, когда дано тебе говорить на языке другой личности, и он тебя понимает, и ты понимаешь его. Но далее наступает ответственное и трудное время искушений, потому что понимание, данное благодатью, отходит, оно не может пребывать вечно. Необходим подвиг, никакие отношения не донести до конца без благодати и без подвига.
И слишком часто повторяется ситуация, когда кажется, что друг твой все делает не так, говорит не так, думает неправильно. И на смену добрым чувствам приходит смущение, а потом и раздражение, а за ним — гнев, спор, ссоры. Многие дружбы на этом кончаются. И долго еще могут внутри воевать помыслы: «Зачем он мне это сказал, и я ему еще скажу то и то, и если бы он не хотел оскорбить меня, он не сказал бы этого, а я непременно оскорблю его». Последняя фраза выписана из аввы Дорофея, она описывает утрату дружеских, братских отношений. У древнего учителя смирения мы находим совет, как избежать «пожара вражды»: «Отсекайте страсти, пока они еще молоды… иное дело — вырвать малую былинку, и иное — искоренить большое дерево», то есть надо стараться не поддаваться смущающим нас помыслам против брата. Святые отцы, кроме того, советуют обсуждать вместе смущающую ситуацию. Самое опасное — свидетельствуют они — замкнуться в себе, чрезмерно доверять своим мнениям, делать заключения только на основе личного опыта.
Конечно, в идеале — все мнения, смущающие помыслы, трудные жизненные дилеммы надо разрешать с духовником. Но не всегда это возможно. Поэтому и советуют святые отцы избегать (особенно новоначальным, а таковы все мы) стремления к физическому и духовному уединению. «Купножитие» — идеал не только монашества, но и всякого христианина. В первоапостольские времена у христиан и все имущество было общим. От нас этого не требуется. Но вот единство в деле спасения необходимо. А ведь так редко мы способны сказать: «Брат, скажи, прав я или нет? Меня что-то смущает… Друг, прости меня, я что-то тебя (имя рек) не понимаю, почему ты так поступил… Дорогой, извини, но, думаю, тебя заносит не туда, слишком ты мудришь».
Человеческие отношения сложны, не следует их упрощать (что делают иногда православные журналисты), но все-таки можно попытаться коротко определить, чем христианская дружба, братство, любовь отличаются от языческой.
Она должна быть правдивой, подлинной, избегать человекоугодия, потакания пороку. Но одновременно она не должна быть по-сектантски взвинченной, искусственной, подчеркнутой. Настоящая христианская дружба — это дружба о Господе. Иногда она требует и жестокого отречения. Как сказано Спасителем, «если рука или глаз соблазняют тебя, вырви и брось их». По толкованию святых отцов, эти слова относятся именно к порочной дружбе.
Отбросим поучения, обратимся к конкретным примерам из церковной истории. Без преувеличения можно сказать, что апостолы были друзьями. Господь недаром посылал их на проповедь по двое. Среди святых отцов первых веков многие были связаны дружескими узами — Василий Великий и Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Григорий Назианзин, Варсонофий Великий и Иоанн Пророк, Кирилл и Мефодий. Яркими, живыми историями о дружбе полны страницы книг «Луг духовный», «Лавсаик», различных Отечников. В житиях русских святых мы видим, что среди сонма учеников у преподобных отцов были особенно близкие им духовно, те, кого они называли друзьями. Здесь уместно вспомнить этимологию. «Друг» — «другой я». Об этом прекрасно написал в 1913 году отец Павел Флоренский: «Московская церковная дружба — лучшее, что есть у нас… Все свободны, и все связаны, все по-своему, и все — как другие… Вас удивляет отсутствие зависти. Но ведь у нас друг к другу не может быть зависти, ибо почти все работаем сообща… и дело каждого — не чужое дело, не дело соперника, которое «чем хуже, тем лучше», а мое дело, отчасти и мое. В совершенстве его заинтересованы все. Поэтому естественно, что каждому хочется вплести в это гнездо хоть одну и свою соломинку, исправить хоть одну ошибку в корректуре или чем-нибудь помочь».
Речь в процитированном письме идет о частном случае — издании журнала «Богословский вестник». Но обратим внимание на важную мысль: всякая совместная работа, в том числе физический труд, может быть надежным фундаментом для дружбы.
Зримый образ дружбы в нашу трагическую эпоху — семья последнего Императора Николая II. И взрослые, и дети в этой семье — все были друг для друга — друзья. Это подтверждают появившиеся в последнее время публикации их писем друг к другу и дневников.
Дружба, братство созидаются молитвой. Общей молитвой и молитвой друг за друга. «Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них» — сказано Господом о молитве (Мф. 18:20). Замечательный обычай, помнится, существовал когда-то в одном маленьком сплоченном питерском приходе. Настоятель после каждого богослужения обращался к прихожанам со словами: «Прошу всех помолиться за брата (имя рек) или сестру, она больна или путешествует, или находится в трудных обстоятельствах». В данном случае «брат и сестра» говорилось не по традиции, а выражало реальные отношения между людьми. Да, почаще бы нам просить друг друга: «Помолись обо мне». И чтобы не сухим формализмом звучало: «Спасибо. Вашими молитвами у нас все хорошо».
Старец Силуан Афонский писал: «Самая большая благодать дается за любовь к брату».
Часть третья. «Несвятые святые» наших дней
В заголовке этой части использовано название книги архимандрита Тихона (Шевкунова) как наиболее полно отражающее суть явления: мы говорим о людях еще не прославленных, но для нас — святых.
О канонизации святых
Прославление святого Церковью — канонизация — происходит определенным порядком. Традиционно канонизация святых в Русской Православной Церкви совершается на основании народного почитания, которое часто начинается еще при жизни и не угасает, но разрастается после праведной кончины. Почитанию способствуют чудотворения, проистекавшие от подвижников, а также подтвержденный временем дух прозорливости. В XX веке в России основанием для канонизации повсеместно становится исповеднический подвиг в «годину лютых гонений» и мученическая кончина за Христа.
Специальная комиссия по канонизации при Священном Синоде собирает материалы о подвижниках, и потом либо на специальном заседании, либо на Архиерейском или Поместном Соборе выносит решение о прославлении того или иного святого. Пишутся иконы, богослужебные тексты, акафисты, каноны, пишутся пространные и краткие жития — и все это предоставляется народу.
Если же этого не происходит, то есть если никто на уровне епархий не позаботится о том, чтобы собрать сведения о подвижнике и послать их в комиссию, то канонизация может так никогда и не произойти, либо может произойти спустя много лет или даже столетий, когда народное почитание неизбежно приведет к официальному прославлению святого.
Но митрополит Сурожский Антоний (Блум) замечательно сказал: «Я думаю, в том только дело святости, чтобы человек был свидетелем о вечных ценностях, о вечной жизни, о Боге. Кто-то так и не будет канонизирован Церковью по каким-то техническим или историческим причинам. Ведь сейчас надо бы канонизировать тысячи тысяч людей, не только новомучеников, но и таких, какие ничем себя драматически не проявили, но стояли в такой чистоте души, в такой чистоте веры и нравственности… Всех невозможно канонизировать. Но я бы сказал (может быть, кто-то это воспримет и «не так»), что не в канонизации дело. Миллионы людей Бог принял в Свои объятия с любовью, с благоговением за то, чем они были на земле, они и неканонизированные могут нам служить примером на земле, тогда как некоторые канонизированные принадлежат к эпохе нам чуждой, перестали быть для нас маяками в жизни».
В этих словах, может быть, в слишком резкой форме, выражен тот пафос, с которым написана вся эта книга — нам важно иметь «своих святых», тех, кого мы знали при жизни, или же тех, кого знали наши близкие, наши родители или деды, о ком они нам рассказали не по книжкам, а по личным воспоминаниям. Может быть, эти люди не творили чудеса, не были прозорливцами, но через них являлись свет, добро и мудрость — божественные качества. А значит, на них почивал Дух Святой, и святость — по определению Церкви — от Святого Духа, а не только от усилий человека. Хотя, конечно, эти люди, которых мы почитаем, перед которыми преклоняемся, боролись за те дары, которые через них проявлялись в мире. Они боролись с собственными слабостями, боролись с тем, что жизнь их постоянно искушала, соблазняла на то, чтобы слукавить, солгать, смалодушествовать и т. д. Победа над самим собой — это самая трудная победа, и за это мы ублажаем всех святых. А если эти победы происходили на наших глазах, то для нас они особенно поучительны.
Завершим эту главку словами приснопоминаемого владыки Антония; они должны вдохновить нас на то, чтобы ценить тех, кто рядом с нами, видеть в благородстве душ наших близких — отблески святости.
«Наш долг — погружаться в опыт и мысль Церкви в прошлом и быть открытыми на современность, потому что Бог современен всякой человеческой исторической эпохе. И для того чтобы строить Царство Небесное, не надо оглядываться в прошлое, — надо вместе с Богом всматриваться в настоящее и вместе с Богом строить из того, что есть — настоящее, которое вырастет в будущее».
Убиенные оптинские братия и другие подвижники
Преподобный Силуан Афонский в своих «Записках» говорит о том, что пока земля еще может рождать святых, она не погибнет, а как только перестанет, то наступит конец мира.
Это значит, что и в наше время, которое на языке богословских терминов называют «апостасийным», то есть временем массового отступления от Бога, есть святые — раз Господь еще милует нас и народ русский еще не стерт с лица земли. Только часто, как и во все времена, мы не умеем распознавать святых. Они, может быть, живут рядом с нами, а мы их не видим. Более того, осуждаем их, не понимаем их поступков, слов и образа жизни в целом. Потому что мы — сухие ветви, мы живем во времена духовной сухости. А святые — живые, зеленеющие ветви, у них другое устроение. Или как на все времена сказал апостол Павел: человек душевный, а тем более плотской, не может понять духовного человека.
Дух дышит, где хочет — потому проявления святых бывают необычны, неожиданны. Мы ждем привычных форм. Мы ждем того, про что читали в книжках. Мы усвоили, как должен вести себя преподобный, как должен вести себя исповедник, святитель и все другие чины святых. Мы очень хорошо усвоили, как и что должен говорить святой. Мы видим его на пьедестале, и нам никак не увидеть его рядом с нами, за общей трапезой, в путешествии и даже в храме на молитве. Потому что мы умствуем, а святые — живут. Хотя при этом они могут быть и очень учеными людьми.
Господь милостив — Он указал нам на явное проявление святости среди наших современников. Чтобы мы задумались — какие они, святые наших дней?
Расскажу о собственном опыте. Я лично знала убиенных оптинских иноков. И, как и почти все общавшиеся с ними, не видела святости. Более того, один из них — Трофим — казался мне слишком уж общительным для монаха и слишком жизнерадостным. Помню, как однажды я приехала в монастырь, выхожу на машины с тяжелыми сумками, а он мимо идет: «Давайте я вам донесу». — «Нет, спасибо». А про себя думаю: «Он монах, зачем такое стремление к другому человеку?» Потом оказалось, что он всем так кидается помогать и всегда старается подбодрить человека. Но и это, казалось мне, не должно быть свойственно монаху. Ведь, как мы себе представляем, монах должен быть само0углубленным, сосредоточенным. Глаза в землю, тихая поступь (а Трофим «летал»), и всегда молчит, только молится.
А вот брат Ферапонт внешне как раз был таким. И это тоже не устраивало: «Что он такой гордый? Его спрашиваешь, а он не отвечает. Или скажет «да» или «нет» — и все».
Отец Василий тоже дары всегда скрывал. Люди видели только внешнее, удивлялись его богатырскому сложению, дару проповедничества, необычной биографии. И только когда после смерти братьев стали собираться воспоминания о них — свидетельства современников, то из всей этой мозаики составилась явная картина святости. Каждый из них служил Богу, жил ради Бога и умер как свидетель Христовой истины. Братья оптинские еще не прославлены Церковью, не канонизированы.
Автор этих строк была свидетельницей знаменательного спора вокруг жизнеописаний новомучеников оптинских — иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта. Московская журналистка Нина Александровна Павлова, обосновавшись в конце 1980-х годов в деревне рядом с Оптинским монастырем, собрала множество воспоминаний местных жителей, паломников, трудников, иноков обители об убиенных братиях. Причем в этих воспоминаниях она стремилась сохранить языковые особенности рассказчиков (в том числе и деревенских бабушек, и паломников-студентов, и бывших людей богемы). Получилось очень живо и интересно. Это был не только соборный рассказ о мучениках Христовых, это был портрет поколения. Но в монастыре такую работу не одобрили и попросили все переписать «по канону». Она не смогла это сделать (не журналистское это дело). Такие жизнеописания были потом написаны другим человеком (и не случайно по традиции они остались безымянными) и изданы. Потом вышла из печати, правда, сильно отредактированная, «собирательская работа» Н. Павловой под названием «Пасха Красная».
И все встало на свои места, оказалось, что имеют право на существование и та и другая редакция. Просто в одной из них все упорядочено, и убрана, может быть, и вправду непривычная для житийного жанра реалистичность, а другая читается как увлекательнейшая повесть, при этом с невымышленными героями.
Так же как и оптинские братия, ждет официального церковного прославления почитаемый многими новый мученик Христов — Евгений Родионов. Мы даже не можем по-настоящему осознать, какой это нам дар от Бога: жива его мать, она о нем может рассказать, живы его одноклассники и соседи. И что они говорят о святости этого свидетеля о Кресте перед лицом изуверов? Они говорят, что он был тихий, скромный, ничем особенным не выделялся. Никакими особенными талантами, и даже особенно церковным человеком не был.
Еще один не прославленный, но Богом засвидетельствованный мученик — брат Иосиф Муньос или монах Амвросий. При жизни он сам был как бы заслонен тем подвигом, который совершал: он был служителем Божией Матери, иконы Ее мироточивой Иверской. И вот, опять-таки после кончины его, мы узнаем, что не случайно именно его — чистого телом и душой девственника — избрала Божия Матерь на это служение. Мы узнаем, что в своей страннической жизни он всегда был и оставался монах — и молился за сотни сотен людей, с которыми встречался на пути своих странствований.
Отец Серафим Роуз… Изданная книга его жизнеописания «Не от мира сего» являет нам черты святости, показывает, что такое Господне служение в наши дни: дар соединения личного подвига и миссионерского проповедничества, дар обретения единственного нужного для современных людей слова.
Приснопоминаемый, народом чтимый митрополит Иоанн (Снычев). Мы видели в нем старца, видели ученого историка Церкви, а он вдруг стал гражданским деятелем. Он впервые от лица Церкви заговорил о духовной самобытности России, о необходимости хранить ее как сокровище, врученное Богом. Он действительно вышел на «битву за Россию» — так называлась его первая патриотическая книга. А ведь нельзя сказать, что он был правильно понят своими современниками, что сейчас даже его сугубые почитатели правильно его понимают. Чаще встречается другое явление — его именем прикрываются…
Это уже особая тема — святой и его ученики. Да, из житий мы знаем о сонме учеников у наших преподобных отцов, о «золотой цепи святости», когда от духовного отца к чадам переходило «помазание от Духа Святого». Но ведь существует и другое явление, и в последние времена оно, увы, очень распространено: ученики извращают то, чему их учил отец духовный. Все доводят до крайности, и таким образом превращают в полную противоположность. Исторический пример: спор «иосифлян» и «нестяжателей». Преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский жили в одно время, шли к святости различными путями, но понимали, что каждый идет к Богу. Ученики же образ подвижничества каждого из них решили возвести в Абсолют. Так начался спор: нужно ли монахам участвовать в жизни общества и спасительно влиять (этим своим участием) на исторический процесс, или подвижник должен только молиться за людей — и тем самым тоже менять ход истории? Спор этот длится веками. А между тем сами преподобные Иосиф и Нил не спорили друг с другом — они знали, что Господь доверил им разное служение.
Мы не понимаем святость, не видим святости и потому, что мы плотяны, и потому, что все измеряем своей меркой. А святой человек, для того чтобы пробудить нас от духовной спячки, может намеренно нас шокировать, может привести в замешательство. В наше время святость неизбежно растворена юродством. И именно юродство больше всего может потрясти современных людей. Особенно молодых. Однажды в монастыре я случайно услышала разговор «тинэйджеров» о Христе. «Какой же Он Бог, раз дал Себя распять?» — «А представляешь, Он все заранее знал». — «Заранее знал — и не убежал, и ничего не сделал, чтобы с Ним такого не было?» Вот это юродство, неподвластность законам мира сего и может более всего потрясти молодых. А наше занудство, наше занудное представление даже о том, что такое духовная свобода, которую дает святость, может только отвратить.
Потому и думаешь иногда: эти ребята, которых мы называем «мытарями и грешниками» (и, увы, многие из них действительно в юном возрасте уже вкусили такую бездну разврата, о которой и говорить не хочется), может быть, смогут услышать слово нового святого лучше, чем мы — благочестивые прихожане. Может быть, именно они смогут увидеть святость там, где мы увидим только отступление от общепринятых норм и правил…
Митрополит Иоанн (Снычев)
В ноябре 1995 года — сразу после кончины митрополита Иоанна — в газете «Православный Санкт-Петербург» была напечатана статья автора этих строк, которая до сих не утратила своей актуальности, потому что, когда уходит праведный человек, мы еще очень долго пытаемся осознать, кем он был. Статья 1995 года называлась «Старец».
* * *
Когда верующие Санкт-Петербурга узнали о назначении к нам в город митрополита Иоанна (Снычева), многие старые люди — те, кто давно знал владыку как духовного сына митрополита Мануила (Лемешевского) — говорили: «Какое счастье! Это не только владыка, это старец».
Все пять лет служения владыки в нашем городе паломники из Питера, посещавшие остров Залит старца Николая, старцев Псково-Печерского монастыря и Троице-Сергиевой Лавры — слышали: «Что вы едете к нам? У вас есть свой старец — владыка Иоанн». В Пюхтицах я однажды услышала такое определение: «Такого владыки больше нет у нас в Церкви. Он — старец».
Памятны первые дни служения митрополита Иоанна в городе на Неве.
Даже внешний вид владыки, его обращение с людьми, его особые, сосредоточенные на внутренней молитве богослужения и проповеди сразу дали почувствовать — это воистину благостный старец. А те, кому Бог дал личное общение с ним, могут рассказать, как молитва святителя, его советы помогали выбраться из трудных житейских обстоятельств. Двери его приемной и даже врата резиденции на Каменном острове были постоянно открыты, он принимал самых разных людей с разными нуждами. В заботе о людях он совершено забывал себя. Болезнь его требовала соблюдения режима, выполнения медицинских процедур, постоянного приема лекарств, но владыка не считался с этим, думая только о том, как помочь обращавшимся к нему за помощью.
А от самарских его прихожан (в Самаре митрополит Иоанн прослужил почти полвека) я слышала, что, когда он был еще крепче физически и не так загружен официальными делами, как у нас в епархии, он даже сам исповедовал в храме (дело невиданное для архиереев!), читал каноны святым в будние дни, а во время праздника любил петь вместе с хором. Говоря проповеди, владыка всегда беседовал с народом. Он не просто нравоучительствовал, он обращался с вопросами, с обличениями, подбадривал, утешал. И так было всегда, даже тогда, когда перед ним стояла тысячная паства.
Приснопоминаемый владыка Иоанн с юности жил в гуще народной. Вот как он сам пишет о начале своего служения, о поездках по епархии вместе с преосвященным Мануилом: «Пригородные поезда курсировали в ночное время… А чего только не увидишь и не услышишь в таких поездках. Люди всякой масти, с котомками и корзинами за плечами. Набьются в вагон — пройти невозможно. Табачный дым так и вьется кольцом, а мат словно горох из стручка сыпется…»
Да, святитель из собственного жизненного опыта, а не из статей и епархиальных отчетов знал о бедственном духовном состоянии русского народа. Недаром еще в юности именно его посылал преосвященный митрополит Мануил умиротворять «взбунтовавшихся прихожан», и всегда с ним, еще совсем молодым иеромонахом, обсуждал насущные проблемы церковной жизни.
Так болезнование за людей, за Отечество наше, за Церковь было основным настроением или состоянием владыки Иоанна уже в юности, а потом — и на всю жизнь. Это болезнование запечатлелось в книгах, в шеститомнике его трудов. И недаром после его кончины все тома, а также отдельные книги уже неоднократно переиздавались. Значит, слово это востребовано людьми, необходимо им. Но читать книги митрополита Иоанна нужно с особым вниманием. Ведь главное в них — это не факты, которые там представлены, а отношение к ним. Во всяком повествовании о России дня сегодняшнего и об историческом прошлом звучит один призыв — покаяться, не мстить, не пылать возмущением, не сеять смуту, учиться внутреннему противостоянию злу и молиться. Если мы услышим сердцем завет почившего архиерея-старца — это будет лучшая дань его светлой памяти.
* * *
На этом кончалась статья, написанная в 1995 году, газета каждый год готовила и готовит номер, посвященный памяти приснопоминаемого старца, и вот два года спустя, в 1997 году, автор этих строк продолжила ту же тему.
* * *
Опубликованная ко второй годовщине памяти митрополита Иоанна книга писем к его духовным чадам «Да не смущается сердце ваше» — свидетельство его старческого служения. Почему мы опять говорим о старчестве? Потому что в письмах мы постоянно находим свидетельства того, что духовное окормление иеромонаха, потом игумена, а потом и владыки Иоанна проходило на уровне откровения помыслов. Он был воистину врач духовный, который при помощи Божией определял диагноз и помогал бороться с болезнями души и вызванными ими дурными поступками. Он боялся заслонить собою Христа, потому окормлял своих «деток» с удивительной осторожностью, чтобы не смутить, не обидеть немощные души. И даже испрашивал у них прощения, снисхождения! Он не требовал неукоснительного исполнения своей воли, а после молитвы слушал, «как располагается сердце» — и так давал благословение или запрещение. Этот принцип советования он называл Христовым, потому что «ни Христос, ни Его последователи ни к чему не принуждали, а только советовали». Главное, к чему стремился духовник — это помочь человеку познать волю Божию о нем, и научал без ропота и смущения нести возложенный жизненный крест. Все это и есть суть старческого служения. При гармонической цельности того направления, по которому он вел и воспитывал свою духовную семью, он видел особенности каждого человека, вызванные складом характера и житейскими обстоятельствами. Но всегда как высшее благо на разных путях служения он ставил благо Церкви. В своих письмах владыка оставил завещание, справедливое по отношению к каждому из нас.
«Так сострадать Церкви, как ты сострадаешь, крайне опасно. Твое сострадание зиждется не на любви, а на осуждении, а это ведет к отступлению от Церкви и к созданию общества вне Христа, к тому, к чему пришли многие сектанты. Что получилось бы, если бы и другие верующие поступали так, как хочешь поступать ты? Получилось бы, что все храмы совершенно опустели бы, и церковное общество разделилось бы.
Я не хвалю и не одобряю отрицательное в священнослужителях, но тем не менее не хочу ради их немощей раздирать хитон Христов».
В 2010 году мне дана была особая радость — издать отдельной книгой дневниковые записи митрополита Иоанна, и в них я опять нашла «привет от моих бабушек», в дневнике много записей об их общем духовнике — митрополите Мануиле (Лемешевском), с которым они не утрачивали связь до конца дней.
Старец Николай Гурьянов
В 1990-е годы, когда очень многие люди стали ездить к старцу Николаю на остров с личными вопросами, я поехала к нему как корреспондент газеты. Личных вопросов у меня, казалось, не было. Но все, что я увидела и услышала в тот день, — что и как говорил старец людям, — было поучительным.
Я, как и подобает журналисту, стала настойчиво расспрашивать батюшку о его жизни. А он сказал: «Да пусть тебе отец Иоанн Миронов расскажет, он все про меня знает». Я спросила: «И напечатать можно будет?» «Печатайте», — ответил отец Николай. Вскоре в газете «Православный Санкт-Петербург» была напечатана статья под названием «Жизнь старца». Отец Иоанн, давний духовный друг старца Николая, не только рассказал все, что знал о батюшке, но и дал нам редкие фотографии для публикации. Статья была перепечатана многими периодическими православными изданиями, потому что это был первый последовательный рассказ о жизни старца. Потом я написала еще три статьи о старце Николае. После одной из них, посвященной его книге «Слово жизни», я получила с острова от батюшки благословение — иконочки и книгу.
Впоследствии Бог дал записать воспоминания о старце Николае разных людей, составить его жизнеописание и издать отдельной книгой. Эта книга оказалась очень востребованной читателями. Верую, что это произошло по благословению старца, данному при первой встрече: «Печатать благословляю».
Навсегда в памяти останется пристальный взгляд батюшки. Было очень холодно, я сняла рукавицы: «Возьмите, ведь так холодно». Но он не взял: «Вам самим надо отогреться». И долго пристально смотрел мне в душу, отогревая ее.
А мою первую статью, которую читал и благословил сам отец Николай, я и помещаю в эту книгу.
* * *
Отец Николай Гурьянов родом из-под Гдова. Родился он 24 мая 1909 года в верующей благочестивой семье. Отец его был регентом в Михайло-Архангель-ском храме села Кобылье Городище. С детства будущий старец прислуживал в алтаре. Самой важной встречей была встреча с будущим священномучеником Вениамином Петроградским — Коля носил во время архиерейского богослужения его посох. И сам он потом стал пастырем, наставником очень многих людей. А владыка тогда сказал маленькому Коле, обняв его: «Какой ты счастливый, что с Господом…»
В 1928 году Николай Гурьянов окончил два курса Гатчинского педагогического техникума. Позднее он окончил этот техникум, а также Агрономическое училище, учился на литературном факультете Университета им. М. Н. Покровского. Недолго учительствовал, служил псаломщиком.
Батюшка не любил рассказывать о годах гонений и испытаний. Он был арестован в 1930 году. Прошел этапы, лагеря, ссылки. Во время тяжких испытаний батюшка встретил множество подвижников, истинных светильников веры православной, пример которых повлиял на всю его жизнь. Отец Николай сочинил духовное песнопение с названием «В тридцатые годы», которое имеет подзаголовок «Автобиография», в нем говорится о двух ссылках, о тюрьмах и лагерях. Заканчивается стихотворение молитвой:
Прошу, Святая Дева,
В несении Креста,
Для славы Божьей Церкви
Спаси, спаси меня!
Слова эти пророчески сбылись — через крест служения людям отец Николай явил собой славу нашей Церкви.
Начало пастырского служения отца Николая совпало с тяжелыми испытаниями нашей страны — Великой Отечественной войной. В сан диакона он был рукоположен 8 февраля 1942 года высокопреосвященнейшим митрополитом Сергием (Воскресенским). А 15 февраля того же года митрополит Сергий рукоположил его во иерея. Первым местом его служения стал Свято-Троицкий монастырь в Риге. Оттуда на короткий срок отец Николай был переведен в Вильнюсский Свято-Духов монастырь, а с конца 1943 по 1958 год он был настоятелем храма в честь святителя Николая в селе Гегобросты Паневежисского благочиния Литовской ССР.
В Риге отец Николай был пострижен в рясофор, и всегда вел строгую подвижническую жизнь. В католическом и лютеранском окружении жилось, конечно, нелегко, но батюшка покрывал все любовью.
Однажды произошел такой случай. Приехал к отцу Николаю его давний духовный друг. Только сели за стол, вдруг в окно стучат, милостыню просят. Батюшка им что-то подал, пригласил чайку попить. Друг ему потом говорит: «Какие же это нищие — с золотыми зубами?..» А он ласково: «Я знаю. Это местный ксендз послал их разведать, кто ко мне приехал, о чем разговаривают…» Батюшка улыбнулся, никого не осудив. Частенько окружали его хитрые люди (до самого конца жизни), а он покорял всех простотой.
Любовью и простотой своей спас батюшка от за-крытия Никольский храм. Пришли к нему из НКВД решительно настроенные люди и говорят: «Поступили сведения, что вы против колхозов выступаете, паству против советской власти агитируете». Здесь нужно упомянуть, что отец Николай всегда любил все живое. У него на кухне свила гнездо ласточка, и он ее оберегал. Так вот, показал отец Николай на ласточку и отвечает: «Как я могу препятствовать такому серьезному делу, когда даже малую пташку не могу тронуть? Ваше дело — государственное, мое — духовное». И такое эти простые слова возымели действие, что ушли они успокоенные и храм не тронули.
Суровую отшельническую жизнь вел батюшка в пустыньке почти 15 лет.
В это время он еще и заочно учился в питерской Семинарии, и потом с любовью, приезжая в город на Неве, посещал родные для него стены.
В 1958 году отец Николай был переведен на служение в Псковскую епархию. Мамочка его — Екатерина Стефановна, с которой вместе он прожил всю свою жизнь, соскучилась по родным псковским местам и стала проситься на родину. В день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября 1958 года, отец Николай служил первый раз литургию в храме, с которым будет связано почти 50 лет его жизни — храме святителя Николая на острове Залит.
После переезда отца Николая на остров Залит ему пришлось немало потрудиться физически. Господь даровал ему золотые руки, и он все делал сам — и крышу на храме железом покрывал, и стены красил, и полы ремонтировал, обновлял убранство храма. Конечно, у него были и помощники (в первую очередь — мамочка), но очень многое он все равно любил делать самостоятельно.
Есть в храме святителя Николая на Залите почитаемый чудотворный образ Божией Матери «Благодатное Небо». Празднование ему установлено в день Смоленской иконы Божией Матери — 10 августа. В тяжелые смутные времена с этой иконы была похищена серебряная риза, и отец Николай сразу, как приехал на остров, постарался одеть образ Божией Матери в подобающую порфиру. Игумения Тавифа из Свято-Духовского монастыря в Вильнюсе вышила ризу Богоматери на голубом бархате. Сколько слез радости и боли сопровождали эту работу матушки игумении, знает, наверное, только Хозяйка ризы. В 1960 году после двухлетнего труда риза была надета на икону.
Особым подвигом отца Николая было озеленение острова. Батюшка с материка привозил деревца и высаживал их. Чтобы они прижились, нужно было огромное количество воды. В день отцу Николаю приходилось носить по сто и больше ведер. Все деревца прижились, и сейчас, уже выросшие, радуют зеленой листвой.
На острове, как и прежде в Гегобростах, старец не оставлял своего подвига — он почти не спал: днем служил и работал, а ночью молился. Сам отец Николай духовно питался от старцев всю жизнь, он не был самочинником. Когда был молодой, часто ездил в Печоры, в Почаев, в Киев, в Прибалтику. Особо он почитал старца Гавриила Псково-Елеазаровского и прп. Симеона Псково-Печерского. И чад своих батюшка всегда (по личному опыту молодости) обязательно благословлял на паломничества к святыням: «Это все в сердце останется. В трудную минуту вспомнишь и утешишься».
Батюшка всегда много читал, призывая всех к вдумчивому, умному чтению, благословлял получать хорошее светское образование. Лучшим подарком для него всегда была книга. Но больше всего он любил духовное пение. В любую свободную минутку батюшка садился за фисгармонию и сочинял духовные канты для простого народа. Сколько среди них вызывающих слезы, живящих душу:
Господи, помилуй,
Господи, прости,
Помоги мне, Боже,
Крест мой донести…
Я же слаб душою,
Телом тоже слаб.
Помоги мне, Боже.
Я — Твой верный раб…
Народ начал посещать остров Залит, паломничать к батюшке Николаю как к старцу с начала 70-х годов. Люди стали узнавать о батюшке и потянулись к нему: ведь пообщавшись с ним, нельзя было его не полюбить. Он всего себя отдавал Богу и людям. Духовными чадами батюшки стали многие священники, монахи и миряне, а также игумены и игуменьи многих древних и вновь открывшихся монастырей. Все они жили под покровом молитв старца.
Это чувство многих и многих духовных чад старца прекрасно выразил отец Роман (Матюшин), которого батюшка очень любил, и знаю, что даже просил защищать от нападок на него.
Скажи, отец, как мне спасаться,
Какой дорогою пойти?
От юных лет не пресмыкаться,
Не лукомудрствовать в пути.
Не закопти икону Божью,
Стараясь не отстать от всех,
Гордыней, мелочностью, ложью, —
Все это — непотребный грех.
Старец Николай отошел ко Господу 24 августа 2002 года, с каждым годом почитание его в верующем народе все более и более возрастает.
Отец Василий Ермаков
Отца Василия Ермакова в последние годы его жизни и служения на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге многие почитали за старца. Ехали к нему издалека, не только из разных городов и весей России, но и из-за рубежа. Особенно много внимания отец Василий уделял военным, опекал родственников погибших на подводной лодке Курск. После кончины батюшки († 2007) изданы воспоминания о нем, в которых мы находим множество свидетельств о прозорливости отца Василия, о его мудрости и любви. Изданы книги, в которых подробно рассказывается о непростом жизненном пути батюшки — безбожном голодном детстве, немецкой оккупации и работе по захоронению трупов на окраине родного города Болхова, об «угоне» за пределы России, о счастливом возвращении, об учебе в Духовной академии и семинарии, дружбе со Святейшим Патриархом Алексием II, о приходской жизни, ее сложностях, о духовном окормлении тысяч людей.
Я не была духовным чадом батюшки, хотя многое в моей жизни сложилось (и верю, что и складывается) благодаря его любви и его молитве, потому что после встреч с ним многое менялось в лучшую сторону.
Приходила я к нему все время по делу — взять очередное интервью, записать воспоминания или проповеди; могла с его разрешения позвонить ему домой и задать какой-то, чаще всего не личный, но общий вопрос, опять-таки для того, чтобы опубликовать его ответ. Но во время всех этих профессиональных дел происходило настоящее чудо встречи — встречи с живой душой батюшки. И незаметно для самой себя я усваивала его образ мыслей, его стиль. Позднее мне пришлось даже написать статью о его стиле.
Отрывок из нее хочу привести здесь, потому что батюшка ее читал и одобрил.
* * *
У отца Василия Ермакова живое, некнижное чувство русского народа. Вчитайтесь, вслушайтесь, всмотритесь в видеозаписи — батюшка постоянно говорит об одном — о бедах и радостях народа русского. Самое употребительное слово в его лексиконе — это «русский». Самый частый призыв: «Россию надо любить». И можно сказать, это особая харизма батюшки. Потому что, как сам признается: «Полвека слежу за своими мыслями, когда готовлюсь к проповеди». Следить можно только за тем, что тебе посылается. А посылается самое насущное сейчас — слово о непреходящей ценности того, что поэт определил словами «здесь русский дух, здесь Русью пахнет».
За десятилетия близкого, непосредственного общения с народом у батюшки выработался особый язык, я бы сказала, особый стиль изложения мыслей. Ни на кого не похожий. Позволю себе сделать небольшой «филологический разбор» разговорного, теперь уже перенесенного на бумагу в различных изданиях, стиля отца Василия Ермакова.
Во-первых: батюшка любит парадоксы. И любит с первой же фразы «ошарашить» слушателя или собеседника. Его проповедь может начаться, например, такими словами: «Мы, люди земли — очень низкопробные создания». А дальше, когда человеческая гордость и так уже сражена, звучат слова совсем уж болезненно правдивые: «В чем заключается наша низкопробность? Да в том, что мы очень любим пресмыкаться перед людьми, заискивать и угождать им». И дальше все — в таком же нелицеприятном духе. Уже с называнием имен — Ленина, Тухачевского, Елены Боннер, некоторых депутатов Государственной Думы. На парадоксе, доведенном иногда до неприличия, равного юродству, строятся все проповеди батюшки. Часто слушатель следует за мыслью отца Василия и привычно выстраивает логический ряд — представляет, что он скажет дальше. А он говорит совсем не то, что от него ждали. В уже цитированной проповеди он сначала обличает тех, кто разваливает страну, а потом вдруг восклицает: «Почему мы ищем зло вне себя: виноват президент, виноват губернатор, виноваты все другие…» Если читать проповеди отца Василия, пользуясь ин-струментом обычной логики, они могут показаться сгуст-ком противоречий. Но в том-то и дело — мудрость никогда не бывает одномерной, она зависит от времени, места, личности слушателя (а если их много, то нужно умудриться сказать так, чтобы было понятно всем).
Во-вторых: отец Василий в изобилии пользуется сленговыми словами. В его проповеди может прозвучать и «лох», и «лохотронщик», и «раздолбать», и «облапошить» или «кинуть», и «крутые», «мужичье», «бабье». Некоторые люди (и автор этих строк в их числе) частенько, слушая или читая проповеди отца Василия, удивляются: «Зачем он так? И что это за стиль такой, разве так можно говорить с амвона?» Ответ лично для меня родился в сравнении — когда я услышала молодых батюшек, которые начали говорить проповеди «под отца Василия», стало ясно — это свойство его личности. Он так может. А вот когда кто-то начинает подражать, получается ужасно — грубо и даже глупо. Юродствование наживается, ему нельзя подражать, это не актерство.
В-третьих: отец Василий действительно не проповедует, а беседует с народом, поэтому пользуется общедоступным языком. По ходу беседы он и вопросы задает, так делали, кстати, приснопамятный владыка Иоанн (Снычев), архимандрит Павел (Груздев), отец Василий Лесняк, отец Александр Козлов, отец Николай Кузьмин, такие проповеди-беседы проводит и отец Иоанн Миронов. При этом и тот и другой особо почитаемые питерской паствой батюшки обращаются к стоящим перед ними по имени: «Ну вот, Миша это знает. Скажи им, Миша». «Ну что, Пелагея, ты поняла? Все поняла, что я сказал?»
В-четвертых, проповеди отца Василия — это не толкование на Евангелие, как в большинстве случаев бывает в храме (и это нормально, традиционно), а наоборот, приложение Евангелия к современной жизни. При этом открывается, что именно в евангельском благовестии и содержится «житейская правда или правда жизни», по словам отца Василия. Батюшка, говоря об этом сам, как будто поражается: «Смотрите, как перекликается Евангелие с сегодняшней нашей жизнью. Возьму в пример только одно наше российское бытие».
В-пятых (и это следует из предыдущей фразы с «как будто»): батюшка явно излагает людям наболевшее — и у него самого, и у людей — но при этом он говорит подчас неожиданные вещи. Неожиданные, может быть, и для него самого. То есть, еще раз повторю, обычной логики в речах батюшки искать не приходится, это логика вдохновения, то есть непредсказуемая. Правила гомилетики при этом попираются, но слово доходит прямо до сердца, а не действует только на ум, как бывает подчас при слушании безукоризненно построенных проповедей.
В-шестых, все названные «речевые приемы» отца Василия призваны разбудить слушателя. Заставить встрепенуться от сна духовного, посмотреть по сторонам, увидеть не только свое «Я», но и общую народную жизнь, почувствовать свою ответственность за то, как протекает эта общая жизнь.
Пожалуй, пора остановить эту «филологическую штудию», но я уверена, что для будущих поколений и интересно, и нужно будет не просто прочесть «письменное наследие протоиерея Василия Ермакова», но попытаться понять, что же он хотел донести до своих слушателей и какие приемы в этом делании он использовал, чему у него можно поучиться, а что недоступно для повторения.
Кидали отца Василия с прихода на приход, «загнали», как казалось тем, кто это делал, в труднодоступное для прихожан место — на Серафимовское кладбище, — а народ всюду шел за ним. И куда бы его ни перемещали, собирались чада вокруг своего отца и пастыря. Думаешь иногда: «Все-таки чем же притягивает к себе людей отец Василий? Ведь он не гладит по головке, не говорит ласковых слов. Он, наоборот, может даже обозвать, по плечу постучать, за нос подергать, и прочее». А дело не в этом внешнем образе действий, а в результате — чего добивается батюшка, так тесно общаясь с народом? Он вкладывает в человека бодрость духа. А то можно утешить, пока человек рядом с тобой стоит, он поплакал, беду свою высказал и успокоился. Пришел домой, а там все без перемен — та же беда, а утешать уже некому, и опять уныние охватывает. Потому отец Василий, вместо того чтобы утешать, подвигает человека к тому, чтобы не сдаваться, действовать. И молиться. Самому молиться, не надеяться только на молитву других людей. Когда человеку совсем уж плохо (таков психологический закон), если начнешь над ним причитать: «Бедненький ты мой!» — он совсем расквасится. А если ты его как следует растормошишь, да еще поможешь дойти до сознания, что «Бог сверх меры креста не дает» — и этот крест дан либо как воздаяние за собственные страсти, либо во очищение и как путь к смирению и совершенствованию духовному, — тогда у человека появляется перспектива. Отец Василий умеет вывести из зацикленности на себе, на ситуации, помогает почувствовать ход жизни, ее движение, и поверить, что оно благо. Вот поэтому и идут к нему люди.
Хотя, надо сказать, долго пребывать рядом с батюшкой нелегко. Потому что привыкнуть к нему невозможно, что называется, «найти тон общения», который будет действовать годами. Потому что он постоянно, как говорили в 70-е, «эпатирует публику», то есть говорит и делает что-то такое, как уже было написано выше, что выводит из спячки духовной. Вот, казалось бы, уже все привыкли — батюшка «дал установки», научил чему-то, направил, а он вдруг одним словом все это разбивает. И надо учиться по-новому, надо опять меняться, перестраиваться.
А ведь что греха таить — мы, люди церковные, часто воспринимаем храм как «тихую пристань». Никто нас не учил, искали мы истину, наконец, нашли ее в Церкви и успокоились — все, пришли, дальше идти никуда не нужно, можно и отдохнуть. И вот отец Василий — один из тех, кто не дает отдыхать, не дает успокаиваться. Все время тормошит, будоражит ум и чувства. Заставляет самостоятельно думать и контролировать свои чувства. Кто-то не выдерживает такого «режима духовной жизни» и отходит от батюшки.
Обещала я в начале статьи не превозносить батюшку, но все-таки одно соображение, которое пришло мне во время писания этой статьи, выскажу. Да, батюшка воплотил в себе все лучшие черты послевоенного священства, да, в его служении немало сходства с ныне здравствующими его ровесниками — отцом Иоанном Мироновым, отцом Михаилом Сечейко, с покойными отцом Евгением Ефимовым, отцом Анатолием Малининым, отцом Николаем Кузьминым, со священниками его возраста из других епархий. Но можно сказать, что протоиерея Василия Ермакова отличало особое дерзновение. Он имел дерзновение делать обобщения. Думать не только о своем приходе, не только о своих духовных чадах (очень многочисленных), он имел дерзновение думать обо всем народе, обо всей Церкви. Он имел дерзновение обличать и высказывать опасения. Он вообще имел дерзновение не отсиживаться, не отмалчиваться, а, как сам он говорит, «резать правду-матку». Приведу некоторые примеры из интервью с батюшкой.
«…К сожалению, многие из приходящих ныне в Церковь думать не умеют. Они приходят и сразу: «Мне надо. Я хочу. И т. д.». А я говорю им: «Подумайте, подумайте, потому что сразу дать ответ очень сложно». Я могу его дать, но они его не поймут. Требуется время, то есть надо воцерковиться и побыть вместе с нами — вот это и означает «думать». Бывает, что люди неправильно понимают мои слова или обижаются. Ну, я переделаю слова, подумаю, как переделать. На самом деле люди часто обижаются, что я не говорю того, что им хотелось бы услышать в свою пользу, для себя. Но ведь мне-то виднее по моему долголетнему опыту. Мне легче направить их, чем они думают. Как духовник я общих советов стараюсь не давать. У меня один девиз: ходи в церковь, помолись, а что неясно, спроси отдельно, я все разъясню, потому что у каждого свои духовные болячки. Врач не дает же общих советов. А если человек не спрашивает у духовника, это дело его, так он сам хочет. Он сам и в ответе. Куда это приводит, мы знаем: к гордости, к такому состоянию, когда человек решает, что он достиг уже совершенства и чувствует вседозволенность. Сейчас людей надо воспитывать, воспитывать терпеливо, воспитывать много лет в частной беседе».
Батюшка говорит о простых вещах, но именно от них зависит, по какому пути пойдет Церковь, вернее, новое поколение людей, вошедшее в нее недавно. Либо по пути внешней обрядовости, либо мы все-таки постараемся не повторять ошибок прошлого и от внешнего пойдем к внутреннему. И тут, опять-таки, все очень просто.
«Мое первое дело — научить молиться, — говорит отец Василий. — Чтобы у людей был молитвослов. Чтобы они, идя два раза в месяц или хоть один раз в месяц причащаться, почитали правило. Я учу их, чтобы они читали днем — вечером некогда, мирская суета и усталость дают о себе знать. А больше ни епитимий, ничего я на них не налагаю, потому что в этот безумный-безумный век надо дать человеку возможность оглянуться, прочувствовать и ощутить благодать причащения, с молитвой».
Духовные чада отца Василия знают, что это «самая больная тема» батюшки была — неблагоговейное отношение к Таинствам, бездумное, безответственное отношение к дарам Церкви. «Люди даже креститься правильно не умеют», — сокрушался батюшка.
Каждый год отец Василий совершал паломнические поездки. Ездил по стране, посещал монастыри и храмы.
«Увы, по моим наблюдениям, где бы я ни был, а я был и во Владимире, Таллине и других городах, не было народного покаяния. К сожалению, слова не дошли до сознания русских людей. Успокоенные временным благополучием, заботами о хлебе насущном, они не хотят познавать свое прошлое, почему и за что произо-шли эти жестокие катаклизмы на Русской земле. Почему легко и свободно русские православные люди отдали свою веру? И потом нас 75 лет гнали, обманывали, у нас отнимали веру. Но малая частица людей, верных Православию, все-таки осталась. Наши молитвы дошли до Бога, и вся эта система рухнула в одночасье. Думать о прошлом надо и покаянно просить у Бога прощения за содеянное. Увы, это еще не дошло до сознания».
Батюшка обладал удивительно бойцовским, наступательным духом. Приходилось удивляться, что в таком преклонном возрасте он беспрестанно находился в движении, как бы обходил дозором Русскую землю. Откликался на все, что происходило в стране, потому не говорил заученных фраз. «Народ не должен быть игрушкой в чьих-либо руках» — таким было твердое убеждение батюшки и боль его.
Можно без преувеличения сказать, что отец Василий многие годы боролся за то, чтобы люди «не были игрушками», а были, как он говорил, «отточенными христианами» — теми, кто понимает, что вера — это наша главная ценность, что ее нужно бояться потерять (а произойти это может незаметно, путем серии подмен), и что хранить веру помогает память и почтение к старшему поколению. А почтение предполагает научение. Главное, чему нам нужно учиться у старших — не унывать. Даже когда совсем тяжело, даже когда наступят самые страшные испытания.
«И поэтому, когда наступят тяжелые времена, пускай нас это не пугает. Мы должны твердо знать, как «Отче наш», что Господь наш Иисус Христос не оставит нас в трудную минуту. Быть ближе к храму — это наш долг, православных людей. Молить Господа даровать нам душевную крепость, чтобы Он просветил наше сердце, дабы понять происходящее в мире… Не надо смущаться происходящими событиями мирового масштаба».
«Если тебя оскорбляют, не нужно склонять голову. Нужно с чувством внутренней правоты, без гнева отстаивать свою веру, не давать попирать тот Образ Божий, который заложен Господом в каждого человека. И родители должны помогать в этом своим детям».
«Живи молитвой, живи Таинствами, живи благодатию Божией — и тогда ничто тебя не смутит, даже если весь мир отвернется от Христа, тебе не нужны будут никакие слова в защиту веры и Церкви, потому что это — твоя жизнь, ты знаешь о святости Церкви не доказательствами ума, а опытом».
«Нельзя «идти войной на епископский сан», как когда-то сказал Сергею Нилусу старец Варсонофий Оптинский, «а не то вас накажет Пресвятая Богородица!» Священников, а тем более архиереев, вообще не могут судить мирские люди, они не знают и не понимают их тяжелейшего креста. Обличать и обновлять Церковь нельзя, вы научитесь в старой молиться. Да в этом ничего нового и нет. В 20-х мы это уже проходили…»
Вот такими короткими наставлениями батюшки я закончу эту главу. И еще хочу поблагодарить Бога за то, что уже после кончины батюшки мне выпала честь редактировать книгу его проповедей. И это было продолжением общения с ним.
Конечно, то, что я написала о дорогом батюшке, всего лишь наброски, в меру моего слабого разумения составленные. В завершение скажу, что отец Василий всегда оставался для меня загадкой — сколько бы о нем ни писали, сколько бы он сам о себе ни рассказывал, ощущение загадочности оставалось и остается.
Протоиерей Василией Ермаков отошел ко Господу 3 февраля 2007 года, похоронен неподалеку от родного храма прп. Серафима Саровского. Паломничество на могилку увеличивается с годами, все больше людей через публикации, фильмы узнают о батюшке, любовь которого не иссякает и за гробом.
Святость — от святыни (о. Валентин Мордасов)
Эта глава — мое запоздалое покаяние перед отшедшим ко Господу протоиереем Валентином Мордасовым — любимым и почитаемым многими и при жизни, и после кончины батюшкой.
Много лет назад с группой паломников я сподобилась впервые побывать у псковских святынь. И так мы попали в Камно — село, где он служил.
И вот теперь каюсь в том, что не поняла я тогда образа юродствования старца. Смутили меня колонны бутылок с освященным маслом, груды освященного чая. Да и сам батюшка, всех паломников награждающий этими дарами и с улыбкой, скороговоркой обращающийся к нам.
Книжная гордыня все это не воспринимала — слишком все простецкое, да слишком деревенское. И поучение он мне лично сказал тоже простецкое: «Вот ты пишешь о святости. А знаешь, от чего святость? — От святыни». Не коснулись моего сердца тогда эти слова. Мы тогда увлекались книгами о «внутреннем христианстве», о старцах-пустынниках, которые жили где-нибудь в Фиваиде или за Иорданом, и никаких святынь у них не было, только их циновки и рубища. Нравилось нам тогда вообще «высоко парить», разбирать всякие спорные мнения, отстаивать свою интеллектуальную правоту. Куда там было понять такое простое поучение: «Святость — от святыни».
И только когда началась простая жизнь на послушании в монастыре, рядом со святыней — нетленными мощами преподобного Александра, когда каждое утро начиналось с прикладывания к святыне и помазания освященным елеем — тогда открылось, как незримо меняется состояние души. Приобщение к святыне питает душу благодатью.
А потом я встретилась с духовным сыном отца Валентина, псковским писателем Игорем Смолькиным. И рада, что хоть немножко «реабилитировалась» перед памятью батюшки — издала труд Игоря об отце Валентине в журнале «Православный летописец Санкт-Петербурга», редактором которого являюсь вот уже 18 лет, а потом подготовила к изданию книгу, посвященную псковскому старцу из Камно.
По этому труду проследим вехи жизненного пути протоиерея Валентина Мордасова. Родился он 10 марта 1930 года в деревне Хмелевка Оленинского района Калининской области. Детские и юношеские годы провел в Ленинграде. Отец, Анатолий Сергеевич Мордасов, работал мастером на Кировском заводе, мама, Надежда Ивановна, была медработником.
Можно предположить, что временем его духовного пробуждения стала Великая Отечественная война, которая для миллионов русских людей разграничила историю на «до» и «после» — до и после войны. Для жителей же Ленинграда это разделение вылилось в более конкретную форму — до и после блокады. Нет точных сведений о том, как провел отец Валентин эти трагические 900 дней, но очевидно, что вся их неимоверная тяжесть не миновала его плеч.
В 1947 году, по окончании семилетней неполной средней школы, по настоянию родителей он определился в Машиностроительный техникум и в 1950 году получил специальность киномеханика III категории. Вскоре он поступил в Ленинградскую духовную семинарию.
Сохранились свидетельства, что в эти годы Валентин Мордасов встречался с великим духоносным старцем Серафимом Вырицким, духовную любовь к которому он пронес через всю свою жизнь.
Через два года после поступления в Семинарию он переводится на заочное отделение, и после рукоположения (29 августа 1953 года) в сан иерея назначается настоятелем Митрофаниевской церкви с. Лосицы Псковской области. А в конце ноября 1953 года становится также священником Дубягского прихода, в 1954-м — еще и Спасо-Преображенской церкви с. Прибуж Псковской области. 17 сентября 1954 года в Гдовский округ поступает указ о назначении священника Валентина Мордасова настоятелем Спасо-Преображенской церкви с. Прибуж с одновременным служением в Введенской церкви погоста Дубяги. В 1958 году принимается решение облегчить положение отца Валентина и подписывается указ об его освобождении от обязанностей «входящего» священника Введенской церкви с. Дубяги. 25 июля 1959 года отец Валентин получает указ о назначении его настоятелем Никольской церкви города Порхова, к обязанностям коего немедленно и приступает. Впрочем, ненадолго: 12 декабря 1960 года указом правящего архиерея он перемещен настоятелем на другой порховский приход — в Иоанно-Предтеченскую церковь, где и останется на долгих 20 лет. А Никольская крепостная церковь города Порхова «ликвидирована» согласно постановлению Порховского райисполкома.
В 1983 году протоиерей Валентин Анатольевич Мордасов освобождается от служения в Иоанно-Предтеченской церкви г. Порхова и по просьбе прихожан и церковного совета назначается настоятелем к Рождества-Богородицкой Церкви пос. Старый Изборск Печорского района Псковской области.
Проповеди его всегда были направлены на смирение, исправление жизни. У батюшки была очень хорошая духовная библиотека. Он много читал и постепенно приобрел обширнейшие познания. Это помогало ему отвечать на самые сложные вопросы духовной жизни, что было особенно ценно в то время, когда даже самую простую духовную книжицу достать было просто невозможно. На основе многочисленных выписок из творений святых отцов протоиерей Валентин составил более десятка тематических подборок, которые в наше время постоянно переиздаются отдельными книгами.
С конца 1984 до начала 1986 года отец Валентин исполнял обязанности настоятеля храма Рождества Христова в селе Бельское Псковского района. Храм был запущен и нуждался в ремонте. В феврале 1986 года отец Валентин становится настоятелем храма св. вмч. Георгия Победоносца на погосте Камно. К нему приезжали за духовным советом из разных городов и весей, тогда его стали почитать как благодатного старца.
В начале лета 1998 года отец Валентин сильно занемог. Болезнь батюшки была недолгой, он угас буквально на глазах, не успев никому стать в тягость по немощи своей. Утром в воскресенье 19 июля 1998 года отец Валентин почил о Господе.
Слово благодарственное
Чем больше проходит времени со дня отшествия в мир иной отца Виктора Грозовского, тем все более ярким и живым становится его образ в благодарной памяти. Не знаю, отчего это происходит, — но такое вообще-то часто бывает при долгом общении со всяким человеком. Сначала ты воспринимаешь его достаточно размыто, а со временем, когда лучше узнаешь, он становится единственным и неповторимым. Открывается тайна личности.
И то, что отца Виктора внутренним зрением я теперь вижу все более и более ярко, смею надеяться, означает, что общение наше продолжается. Батюшка был таким сердечным, таким родным человеком при земной жизни, и, конечно же, не перестал им быть и после ухода.
Воспоминания предполагают хронологичность повествования и исповедальность. Я постараюсь эти правила соблюсти, но за исповедальность готова извиниться. Кто-то может сказать: «Это все слишком личное, только к тебе относится, так что оставь это при себе». Но я не соглашусь: в том, как батюшка относился ко мне, выражался его характер в целом, его «стиль жизни», я бы сказала. Потому простите за слишком личные нотки в воспоминаниях.
В 1980 году, через год после окончания Университета, я стала сотрудницей музея А. Блока. Это был юбилейный год — 100-летие со дня рождения поэта. Человеком в это время я была уже церковным, хотя страдающим оттого, что не умела вполне гармонично совместить веру и культуру (как и многие неофиты в то время) и очень от этого мучилась. Часто порывалась, по примеру Льва Толстого, «объявить сапоги выше Шекспира», то есть проявить этакое доморощенное культуроборчество. А ведь при этом нужно было по долгу службы читать лекции, водить экскурсии, писать научные справки, организовывать выставки. Вот такая мелкая шизофрения…
И вдруг по городу пошел слух: в Духовной академии готовится вечер, посвященный А. Блоку. Тогда это было как гром среди ясного неба. Наверное, в начале XX века нечто подобное испытывали слушатели Религиозно-философских собраний в Петербурге. Церковь пошла навстречу культуре! Значит, можно соединить веру и любовь к стихам Блока. Я понимаю, что теперь все эти признания кажутся странными и наивными. Теперь такой проблемы давно уже не существует. Но в конце 1970-х для тех, кто стал сознательными прихожанами православных храмов, она очень даже существовала.
Организатором, ведущим, главным выступающим на том памятном блоковском вечере был еще не облеченный в сан студент Виктор Грозовский. Я до сих пор слышу его неповторимый, хорошо поставленный голос, читающий хрестоматийные блоковские строчки. На том же вечере я узнала об актерском прошлом необычного семинариста. Рассказала об этом «нашим девочкам» в музее, которые, надо сказать, в то время были совершенно далеки от Церкви, и это как-то их задело и озадачило.
А потом, когда мы уже вместе стали ходить в Князь-Владимирский собор, где начинал свое пастырское служение отец Виктор, всегда вспоминали с благодарностью юбилейный блоковский вечер в Духовной академии.
Отец Виктор не был моим духовником. И в Князь-Владимирском мы с ним не общались. Конечно, я благословлялась у него, когда он пробегал мимо, с интересом слушала его проповеди. Его образ тех лет хранится в моей памяти нестертым. Был он тогда худощавым, борода еще не стала такой окладистой, как в последующие годы, волосы еще не были завязаны в хвостик, а артистически лежали на плечах. А главное, — он «летал» по храму, еще не обрел ту основательную священническую поступь, которая испокон века являлась как бы сословной принадлежностью батюшек. Помню, что некоторые старушки-прихожанки даже возмущались: «Как бегает, того и гляди с ног собьет!» И надо признаться, я тоже под влиянием бабушек стала про себя думать: «Несерьезный какой-то батюшка!» Пока не познакомилась с одной молодой женщиной, которая оказалась духовным чадом отца Виктора. В семье у нее была трагедия — муж попал в тюрьму, и она с трудом в одиночку тянула ершистого мальчика-сына. Она-то мне и открыла глаза на то, что судить нужно не по внешнему виду, не по степенной поступи, а по сердечному расположению. Отец Виктор буквально спасал ее от отчаяния и безнадежности, как отец семейства давал ей и практические советы по поводу воспитания мальчика.
Потом отца Виктора перевели в Лавру. Так как я была прихожанкой Князь-Владимирского, то в Лавре бывала редко. Но когда бывала, то всегда заставала одну картину — отец Виктор в окружении людей. В ответ на его открытость и сердечность люди отвечали ему любовью и преданностью. Его горячность зажигала теплохладных, его вера была примером для сомневающихся. Как сейчас помню его горячие восклицания, когда он произносил слово пред исповедью: «Каяться надо, каяться! Не рассказывать о своих проблемах, а каяться!»
Вот в эти «лаврские годы» отца Виктора мы с ним и познакомились. В начале 1990-х годов я начала, не покидая музей А. Блока, работать по совместительству в газете «Православный Санкт-Петербург». И главный редактор — Александр Григорьевич Раков, которому принесли статью под названием «Что такое богатство?», рассказывающую о многодетной семье отца Виктора, попросил меня: «Хорошо бы составить вопросы и взять интервью у этого батюшки».
В то время я была «кормящей мамой», и для меня каждая отлучка из дома была событием. Я позвонила батюшке, и вдруг услышала неожиданное предложение: «А знаете что, я завтра в вашем районе буду причащать одну старушку, давайте я к вам зайду и мы у вас дома запишем интервью». За всю мою журналистскую практику это был единственный случай, чтобы священник настолько легко и просто пошел на контакт с «писакой». Что греха таить, чаще всего, для того чтобы записать беседу с каким-либо священником, надо подолгу дожидаться, когда он найдет свободное время, да и вообще (что во многом справедливо) журналистов не очень-то жалуют в наше время.
А тут батюшка сам ко мне приехал! Надо сказать, что к этому интервью я готовилась очень серьезно: вопросы не сама придумывала (как это делала обычно), но составила путем опроса моих подружек — многодетных мам. То есть тех, у кого был свой немалый опыт в воспитании детей, но и вопросов немало оставалось.
Отец Виктор в то время внешне стал уже совсем другим — не таким, каким мы его в первый раз увидели на блоковском вечере. У него был уже вполне «поповский вид», солидный, неспешный, но глаза были все такие же молодые, озорные, также и заинтересованность в собеседнике была неподдельная, живая. После того как интервью было записано, батюшка неожиданно сказал: «А вы приходите к нам в гости. Запишите телефон и обязательно приходите».
Это предложение положило начало нашей дружбе с семьей Грозовских. Я до сих пор очень отчетливо помню, как я в первый раз пришла в их большую квартиру на Васильевском острове. Оказалось, что они только недавно получили эти хоромы, хотя для девяти детей и батюшки с матушкой пять комнат — это не так уж много. Но вообще они тогда очень радовались новоселью.
Батюшка пригласил меня в свой кабинет и начал читать свои стихи. Когда закончил, спросил: «Как вы думаете, можно это отдельной книжкой напечатать?» Я сказала, что хотела бы глазами их посмотреть, чтение вслух, а тем более авторское, часто создает неадекватное восприятие. Он согласился и дал мне «для работы на дом» папку с отпечатанными стихами.
В то время я уже стала главным редактором журнала «Православный летописец Санкт-Петербурга», но, несомненно, оставалась прежде всего филологом, стиховедом, то есть человеком особо придирчивым к поэтическому слову. Мне всегда казалось (и я убеждена в этом и теперь), что эталоном для каждого дерзающего слагать поэтические строки остается классика. Если хотя бы формально стихи не дотягивают до этого уровня, то их не стоит относить в разряд поэзии. Признаться, я боялась сказать об этом отцу Виктору. Но думаю, что благодаря правдивости наша дружба и укрепилась. Я сказала тогда честно: «Я бы назвала это рифмованными проповедями. И в таком качестве публикация книжки будет очень нужна людям. Если разрешите, сначала мы опубликуем часть ваших «проповедей в стихах» в «Летописце»». У батюшки не было дурных авторских амбиций, он согласился. А когда отдал для печати свою первую книжку в издательство «Диоптра», попросил меня написать к ней предисловие.
Потом было еще несколько книжек, батюшка еще до их выхода читал мне свои новые стихи. Какие-то их них мне нравились, какие-то нет. Особенно нравились те, которые были написаны от лица разных героев (в традиции Высоцкого) и создавали «портрет поколения». Кстати, с Высоцким отец Виктор был знаком.
Когда в Питере стал выходить новый (увы, недолговечный) журнал «Град духовный» и мы к годовщине Победы задумали дать в номере материал о Высоцком, батюшка согласился к моей пространной статье добавить свои краткие, но очень емкие воспоминания, которые свидетельствовали о том, как он любил людей. О нашем «седоке на привередливых конях» он сказал с такой болью, состраданием и почтением к его поэтическому и актерскому таланту.
Кстати, однажды мы с отцом Виктором записали интервью на эту пререкаемую для христиан тему — лицедейства, актерства, артистизма. В том же «Православном Петербурге» стали появляться статьи, клеймящие театр как таковой и актеров в частности. Как-то все это было однобоко и слишком обобщенно. Вспоминались имена великих артистов — христиан, вспоминался наихристианнейший наш писатель Н. В. Гоголь, который так любил театр.
Отец Виктор отвечал, несомненно, исходя из собственного опыта. Он сказал, что есть «актеры», а есть «артисты» — и это не одно и то же. Можно быть лицедеем, шутом, а можно пытаться средствами театра донести до людей непреходящие истины. И в конце концов, как и в каждом деле, все зависит от человека, от его внутреннего содержания. Актер передает зрителю свой внутренний опыт. Если это опыт циника, то что бы он ни играл, его дело будет ядовитым. А если это внутренний опыт борца с собственной неправдой, человека ищущего, то это тоже невольно передастся зрителю. Батюшка ушел из театра, но не слал ему проклятия, не обличал. Только сокрушался, жалел своих бывших коллег, которые никак не могут прийти к вере, в Церковь. Молился за них. И надеялся.
Батюшка вообще не жил «в плену у прошлого», что порой бывает свойственно многим людям. Он шел вперед, до самой смерти своей двигался, творил, искал.
В этом я убедилась однажды, когда во время очередной нашей встречи на гостеприимной кухне отца Виктора он несколько часов рассказывал о своей жизни. Хотя мы уже были знакомы много лет, я впервые услышала о том, что батюшка был сыном «врага народа», что пришлось ему побывать и беспризорником, и детдомовцем, испробовать несколько профессий, быть в вечном поиске. Обо всем этом — трудном детстве и юности, о прошедшей в поисках своего предназначения молодости — батюшка рассказывал так легко и весело, что невольно приходило на ум: «Вот ведь как бывает, чем больше жизнь бьет человека, тем жизнерадостнее и жизнелюбивее он становится».
Главными событиями своей жизни отец Виктор назвал обретение веры в Бога (которая зародилась еще в детстве, благодаря маминой молитве, спасавшей в военных испытаниях) и встречу с матушкой Зинаидой.
В Древней Руси жену называли «подружием». И это наименование удивительно подходит к матушке отца Виктора. Я благодарю Господа за то, что дал мне увидеть, что такое настоящая семья. Настоящая любовь между супругами и детьми. Больше всего меня поражало, что при явном сохранении патриархальности в этом доме жила свобода, потому что все управлялось любовью. Например, уже в первый мой приход к отцу Виктору меня потрясло, что во время нашего разговора к нему подходил кто-то из детей за благословением: кто-то шел заниматься в спортивную секцию, кто-то в музыкальную школу, а кто-то просто погулять. Признаюсь, я просто любовалась, глядя на эту картину: такое библейское было ощущение благостного отцовства. И одновременно, при всей этой патриархальности (также и матушка испрашивала у батюшки благословение на свои дела), в доме царил дух свободы. Совет и благословение у отца просили не по предписаниям закона, а по любви. И я видела, как отец Виктор мог быть в доме не только отцом, но и матерью — когда сам готовил щи, накрывал на стол, жалел и утешал.
Я теперь очень жалею, что редко отзывалась на приглашения батюшки. А бывало так, что он и сам звонил и говорил: «Ну что ты не приходишь? Знай, что я тебя помню, молюсь о тебе». Мне казалось, что неудобно у батюшки занимать время просто так — ведь вопросов у меня к нему не было, вопросы и проблемы я решала с духовником.
Но согревали даже короткие встречи — в Князь-Владимирском соборе, у мощей прп. Александра Свирского в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, на православной выставке в Манеже или в Епархии. Батюшка всегда так бурно приветствовал, как будто ты его кровная и духовная родня. Свет от этих встреч надолго оставался в душе. И, надеюсь, не померкнет с годами.
Человек-эпоха. Дмитрий Сергеевич Лихачев
«Память — основа совести», — писал Д. С. Лихачев.
Мы не писали о Дмитрии Сергеевиче при его жизни, не публиковали интервью с ним. Не хотелось участвовать в общей кампании создания вокруг него то ли ореола «светского старца», то ли чего-то вроде «свадебного генерала».
Публикации типа «последнее интервью Д. С. Лихачева», которые появились после его смерти во многих изданиях, звучали как «закрытие темы». Мы же не хотим забывать Дмитрия Сергеевича. И вам советуем читать и перечитывать его книги. Это «питательное чтение» для души. Хотя, конечно, это не духовная литература, но, повторимся, не бывает ли так, что мы, питаясь только «духовным чтением», теряем душевную чуткость и внимательность? Такие книги Д. С. Лихачева, как «Письма о добром», «Диалоги о дне вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем», «Очерки по философии художественного творчества», «Записки о русском», «Поэзия садов и парков», а также тома воспоминаний и записных книжек, отрезвляют нас от нашей мечтательной духовности.
Бог дал мне несколько встреч с Дмитрием Сергеевичем. Первая — когда я дала на прочтение мою беспомощную статью о друге А. Блока, настоящем блаженном Христовом — Евгении Павловиче Иванове, с которым Дмитрий Сергеевич был дружен в молодые годы. Как скромно Лихачев указал мне на мою научную беспомощность! Но при этом он помог статью «довести до ума» и опубликовать в солидном научном издании. Потом мы еще не раз встречались в музее А. Блока на различных вечерах памяти, и всегда поражала его «породистость», он был из породы тех людей, которых мой друг — монахиня Елена — называла «аристократы духа». Даже простой взгляд на него, без слов общения, был содержателен. Дмитрий Сергеевич был поразительно красив, его внешняя красота отражала красоту его души. Это был человек, который сумел себя сохранить в самые трудные времена, не шел на компромисс, на сделки со своей совестью, человек, который до глубокой старости всегда шел вперед, был в творческом живом поиске. И это было так поучительно.
После кончины Дмитрия Сергеевича захотелось сказать о нем в православном издании, познакомить с ним тех, кто не знал не только его самого, но и его книг. Вот эта статья.
* * *
«Дорогой Дмитрий Сергеевич! Вы — признанный символ добра уходящего двадцатого века. Жизнь ваша имеет символический характер даже в деталях. Вы родились в начале XX столетия в императорской России, в православной семье, и вам Господь даровал возможность в конце века быть участником торжественного богослужения у останков Царской Семьи.
Когда Россия погружалась во тьму диавольского безбожия, вы вместе со многими теперь уже прославленными новомучениками и исповедниками российскими несли свой исповеднический крест на Соловках.
Вы были свидетелем разрушения храма Христа Спасителя в Москве. Слава Богу, сегодня этот храм восстановлен.
Мы помним и знаем: когда началась в 1941 году война, вы опубликовали вдохновляющую маленькую книжечку о подвигах верного служения Отечеству святого благоверного великого князя Александра Невского, Димитрия Донского, преподобного Сергия Радонеж-ского. Это случилось гораздо раньше, чем из уст руководителя страны раздалось: «Братья и сестры…» Вы, можно сказать, открыли Божественный код Руси, России. Код этот прост и ясен — православная духовность. Руководствуясь им, Россия росла, крепла, украшалась. Вы всегда и везде отмечали, что понятие «духовность» весьма конкретное. Оно содержит в себе твердое правило — во всем должна быть мера, прочность, благо и красота. Вы даже еще точнее говорил — «форма дух бережет».
Вы создали целое направление, школу, которая в лихолетье сберегла много православных святынь. Вы были доброжелательны, просты, доступны. Вы — светлый символ эпохи. Но не все сегодня понимают и ценят этот свет», — так говорил о Д. С. Лихачеве при его отпевании в Князь-Владимирском соборе протоиерей Владимир Сорокин.
В его словах отмечено главное — Дмитрий Сергеевич был «челом века, человеком-эпохой». Теперь, когда минуло уже много лет со дня его кончины, мы осознаем, что с нами происходит то же, что когда-то происходило с современниками Блока (кстати, Дмитрий Сергеевич родился с ним в один день — 28 ноября). Прощаясь с тем, кто был символом времени, мы словно прощались со всем уходящим веком, со всем тем героическим, трагическим и добрым, что в нем было. И вступаем в неведомый XXI век…
Бог подарил нам немало личных встреч с Дмитрием Сергеевичем. Но еще до этих встреч мы, студенты филфака Университета, слышали: «Опять Лихачева не сделали членкором Академии наук», или: «А вы знаете, что на его жизнь покушались, и уже не первый раз?» Имя Лихачева было для нас всегда овеяно ореолом благородства и совестливости. Мы знали: он — носитель честности и правды в наше время, когда ложь неизбежна, хотя бы при сдаче зачетов по «научному» атеизму и столь же «научному» коммунизму.
Знаю людей, для которых приход к вере был связан с книгами Д. С. Лихачева о древнерусской литературе. В них подчас впервые прочитывались страницы из Евангелия, из них узнавали о русских святых, о великом наследии Православия.
Дмитрий Сергеевич всегда очень бережно, с огромным вниманием относился к молодому поколению. У автора этих строк сохранился теперь уже драгоценный листочек с заметками Дмитрия Сергеевича по поводу одной юношеской литературной работы. Теперь я это читаю, краснея за себя и поражаясь такту и скромности Дмитрия Сергеевича. Никакого возмущения по поводу вопиющих ошибок, никакого менторства; вообще — спокойный, четкий, благородный тон. Этот тон был всегда свойственен Лихачеву. Он был вообще из тех, кто «поучителен весь» — его образ закончен и целостен, это образ «старинного благородства».
Более полувека Лихачев отдал науке. И почти 20 лет — защите и отстаиванию культурных ценностей. Хотя его «Записки о русском», опубликованные в 80-е годы в журнале «Новый мир», некоторыми культурологами были восприняты как поступок, не вполне соответствующий статусу мирового интеллигента.
Потом были десятилетия работы в «Фонде культуры», прием бесконечных просителей в кабинете академика в Пушкинском Доме. В эти годы Дмитрий Сергеевич много реально помогал и организациям, и отдельным людям. Он никогда не отказывал в приеме, и даже трубку телефонную всегда брал сам и внимательно выслушивал все, что ему сообщали.
В 80-е — в начале 90-х годов было снято несколько документальных фильмов с участием Д. С. Лихачева, записано множество радио— и телепередач. Вероятно, на исходе своих дней Дмитрий Сергеевич ощущал себя «последним из могикан», и потому так много писал воспоминаний, много общался с детьми и написал замечательную книгу «Письма о добром». На эту книгу хочется обратить особое внимание наших православных читателей, потому что, на наш взгляд, именно православный человек может вынести из чтения и даже перечитывания этой книги немало полезного.
Можете обвинить меня в субъективизме, но признаюсь: при чтении «Писем о добром» было стыдно за нас, православных. Строки Дмитрия Сергеевича звучали как обличение: так часто за высокими фразами, за православной идеологией теряются простые человеческие качества — доброта, заботливость, верность слову и друзьям, совестливость. Вот примеры из книги, рождающие эти чувства и мысли. «Исправить человечество нельзя, исправить себя — просто. Накормить ребенка, провести через улицу старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным и т. д. и т. п. — все это просто для человека и невероятно трудно для всех сразу. Вот почему надо начинать с себя». «Когда-то считалось неприличным показывать всем своим видом, что с вами произошло несчастье, что у вас горе. Человек не должен навязывать свое подавленное состояние другим. Надо было и в горе сохранять достоинство, быть ровным со всеми, не погружаться в себя и оставаться по возможности приветливым и даже веселым. Умение сохранять достоинство, не навязываться другим, не портить другим настроение, быть всегда приветливым и веселым — это большое и настоящее искусство, которое помогает жить в обществе».
Еще одну грустную мысль вызвало это чтение, с которой вы можете опять-таки не согласиться: я думала о низком культурном уровне многих православных людей. Это не было бы виной, а только бедой, если бы такое положение вещей не признавалось некоторыми за норму. «Культуроборчество» у нас проявляется по-разному: начиная с того, что из программы уроков по литературе в православной гимназии выбрасывают произведения Л. Н. Толстого за то, что «он был еретик», и кончая тем, что современный писатель — церковный человек и пишущий на православные темы — не считает нужным знать правила русского языка. А «православные поэты» отрицают всю мировую классическую поэзию за то, что она «не канонична», «не духовна». Я не говорю уже о проявлении бескультурья в обыденной жизни. Зачастую так называемой «простотой общения» мы прикрываем нашу грубость и эгоизм, подчас нарочитое поругание человеческого достоинства, даже изощренное унижение называем святым именем послушания.
Дмитрий Сергеевич мог бы сказать о себе: «Я так живу, как я пишу». Старинное благородство воплощалось и в слове, в прекрасном русском языке, и в поступках. В «Письмах о добром» мы нашли отрывки, которые можно назвать словесным автопортретом Лихачева:
«Нет лучшей музыки, чем тишина. Тишина в горах, тишина в лесу. Нет лучшей «музыки в человеке», чем скромность и умение помолчать, не выдвигаться на первое место». «Если он может восхититься красотой природы, понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв другого человека, помочь ему, не проявить грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценить другого по достоинству, если он несет ответственность в решении нравственных вопросов и обладает богатством и точностью языка — вот это и будет интеллигентный человек».
Все процитированные слова Д. С. Лихачев, конечно же, писал не о себе, но для тех, кто знал его лично, очевидно, что все сказанное в «Письмах о добром» рождено личным опытом. В этой книге вообще нет никакой отвлеченности, хотя, как и во всем написанном Дмитрием Сергеевичем, в ней все покоится на следовании традициям тысячелетней культуры, в том числе и святоотеческой. Вот высказывания из «Писем», которые это подтверждают. «Надо быть открытым к людям, терпимым к людям, искать в них лучшее. Умение искать и находить лучшее, просто «хорошее», «заслоненную красоту» обогащает человека духовно». «Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий и немалых тоже… Уметь извиняться, признавать перед другими ошибку — лучше, чем юлить и врать». «Важно, чтобы добро, которое человек делает, было бы его внутренней потребностью, шло от умного сердца, а не только от головы, не было бы одним только «принципом»».
В этих цитатах мы не встречаем церковной лексики, но рискну сказать, что дело в аудитории, к которой обращена эта и другие книги Лихачева. Он обращается к людям невоцерковленным и даже к неверующим, и прежде всего к молодым, к подросткам, он старается передать им «дар доброго отношения к миру». Разбудить всякую душу, которая «по природе христианка». Передать молодым дар заинтересованного, любовного и трудового отношения к жизни, к культуре, к людям, к Отечеству.
Помяни, Господи, раба Твоего Димитрия за то, что своими писаниями будил он в нас человечность и доброту, и сотвори ему вечную память.
Дмитрий Евгеньевич Максимов — друг и учитель
О Дмитрии Евгеньевиче Максимове — замечательном ученом-литературоведе, авторе известных книг о Брюсове, Блоке, Лермонтове, профессоре Ленинградского университета, взрастившим за годы преподавания множество учеников, прежде всего хочется сказать, что он был незабываемым человеком, душой живой, жаждущей правды. И научные исследования были для него поиском правды, путем постижении загадки жизни. Часто могли слышать от Дмитрия Евгеньевича упреки в излишней рациональности современного литературоведения, потере за потоком фактов живого лица и, в целом, в малой духовности современной пауки о литературе. Часто говорил он, что ученый «должен иметь мировоззрение, систему ценностей, которая позволит ему не только анализировать то или иное произведение, но даст возможность прийти к синтезу — включить культуру прошлого в нашу современную жизнь.
Эпиграфом к рассказу о Д. Е. Максимове можно поставить его слова из воспоминаний об А. А. Ахматовой: «Каждый человек… загадка, и разгадыванию ее, всегда относительному по результатам, иногда может помочь не столько количественное накопление высказываний этого человека, а какой-нибудь поступок его. какая-нибудь случайная, проникающая, уводящая в глубь интонация, деталь или наша объединяющая все впечатления интуиция».
В последние годы Дмитрий Евгеньевич часто называл себя «ископаемым», и в этой шутке была доля правды. Он был человеком старой петербургской культуры, воспринявшим атмосферу «начала века», ему понятна и близка была «душа города», он жил разговорами со своими современниками: А. Белым, А. Ахматовой, Н. Заболоцким, Б. Пастернаком. Весь облик Дмитрия Евгеньевича был подчеркнуто старомоден: кепка, теплые калоши, отнюдь не новое пальто; дома — потертый плед. Все это воспринималось как сознательное противостояние тому, что ему не нравилось в современной жизни — ее «практицизму», «умалению духа», «автоматизму», и как символу всего чужого — писателям-нуворишам — владельцам двухэтажных дач, автомобилей и гарнитуров красного дерева. Впрочем, для самого Дмитрия Евгеньевича это ни в коем случае не было демонстрацией исключительности. Он был необычайно скромным человеком, а главное, многие суетливые дела земные его не занимали. Иногда он казался грустным и даже одиноким, хотя всю жизнь был окружен множеством знакомых, друзей, учеников.
Причины этих настроений можно искать и находить разные: и ранняя смерть матери (ему было тогда 5 лет), и трудные молодые годы — борьба за символизм почти в одиночку, и максималистские требования к жизни, к людям и к самому себе. Но самой главной причиной (которая сама загадка) остается то, о чем он сказал в воспоминаниях о А. Белом: «… осужденный временем и самим собой, всем составом своей ни с чем не соизмеримой личности на трагическое отчуждение». Думается, что формула А. Белого как знак особого душевного состояния — «Милое, грустное, вечное» — была сродни и Дмитрию Евгеньевичу.
И вместе с тем, ему было свойственно чувство товарищества, дружеского участия и поддержки. Он как мог старался помогать нуждающимся (К. Н. Бугаевой, семье Е. П. Иванова, в последние годы Л. А. Мандрыкиной), да и многие слышали от него в трудную минуту: «А не нужны ли вам деньги?». Дом его всегда был полон людей, и с каждым была своя тема для разговора, и еще была мечта, о которой он однажды сказал: «объединить людей» — этого он ждал от своего блоковского семинара в университете, это надеялся увидеть в открывшемся в 1980 году музее А. Блока. Может быть, поэтому с каждым встретившимся по профессиональным вопросам человеком, который был ему симпатичен, он очень быстро переводил отношения с уровня только научного к «человечески простым».
Но общаться с Дмитрием Евгеньевичем было нелегко. Он не принимал то, что ому казалось «тепличным», «оранжерейным», всегда искал «стояния на вотру говорил о «духовных мускулах», о том, что человек становится собою только противоборствуя окружающей рутине. Случалось, что Дмитрии Евгеньевич, не обращая внимания на собеседника, отстаивал собственное мнение и тогда, когда этого не требовалось, и собеседник, вернее, слушатель, заранее был согласен с ним. Но бывал он и необычайно тихим, внимательным, и горе или беда, с которыми к нему приходили, могли его потрясти и расстроить. И тогда он был способен на смелые поступки: так Д. С. Лихачев рассказывал, что Дмитрий Евгеньевич был единственным человеком, кроме родителей, который решился навещать Лихачева в больнице после того, как в 1932 году он вернулся из лагеря, и вообще, принимал участие в его судьбе.
Все эти «спасительные противоречия» характера Дмитрия Евгеньевича объединялись в удивительно молодой, а во многом детской душе, не закрытой рамками приличий и светскими масками, объединялись загадочным образом. Дмитрий Евгеньевич постоянно настаивающий на свободе самовыражения, знал и говорил, что жизнь, ее смысл и цель — это изживание «сказки о своем я, индивидуалистической стихии», и только так «совершается в каждом настоящем человеке и поэте процесс самоочищения, развивается в нем моральный катарсис».
В сентябре 1986 года Д. Е. Максимов закончил автобиографическую заметку О себе, в которой, по его словам, он «как альпинист взбирается на вершину, откуда все видно», виден весь пройденный путь. «Я родился 15 декабря (26 декабря н. с.) 1904 года в окраинном деревянном доме Царского Села (позже — город Пушкин)» — с этих слов начинается рассказ. Дмитрий Евгеньевич любил рассказывать о Царском своего детства, гордился тем, что А. Ахматова, подарив ему свою книгу, написала на ней «последнему царскоселу», ощущал особый поэтический воздух этого городка и всю жизнь считал его своей «малой родиной».
Рассказы Дмитрия Евгеньевича о детстве в Царском давали почувствовать, что он человек «начала века», что ему памятна та, ушедшая жизнь, с «отставными пенсионными генералами», «черносуконными городовыми» и «серыми околоточными», с синим ящиком мороженщика, с цесаревичем Алексеем, заглядевшимся на красную бекешу маленького Мити. «Мать моя, Татьяна Андреевна, по происхождению киевлянка, из курсисток, умерла, когда мне не было шести лет, в Рижском санатории. Отец мой, Евгений Дмитриевич Максимов, взявший на себя мое воспитание, скончался уже в эру революции — в 1927 году».
Уже в молодые годы Дмитрий Евгеньевич сторонится «слишком подвижного отношения к добру и злу у символистов», «декоративной фактуры» их стихов, «блоковского романтического максимализма». В своих поэтических симпатиях он уже тогда пытается сочетать авангард и классику. Ему, уже сознающему себя поэтом, тогда были ближе Мандельштам и Пастернак, позднее Вагинов и Заболоцкий.
И все-таки боль от невысказанности, от поэтической безвестности останется в нем до конца дней. Дмитрий Евгеньевич рассказывал о том, как однажды он прочел Заболоцкому стихи одного «пришедшего в мир и без следа ушедшего из него поэта». Он не признался, что это были его стихи. Возможно, из этой боли от поэтической невысказанности и возникли на редкость благоговейные слова: «перед искусством с непокрытой головой», а так. же полные интуитивного проникновения в самую суть произведения научные исследования о русской классике.
Дмитрий Евгеньевич открыл всем нам – его ученикам, что назначение всякого подлинного произведения искусства показывать жизнь во всех ее, иногда пугающих своей видимой несправедливостью и бессмыслицей проявлениях, но при этом указывать, осторожно и ненавязчиво на ее катарсический, очищающий, умудряющий, в испытаниях оправданный смысл.
«Русские классики», — часто говорил Дмитрий Евгеньевич, — «служат в наши дни делу борьбы с бездуховностью, автоматизмом и машинностью современной цивилизованной жизни».
А в своих стихах поэт — Дмитрий Максимов скажет:
Мне нестерпимы смесь добра и мрака.
Хочу добра, хотя бы вверх ногами!
И вдруг ответил, отложив перо:
«Смотри глазами!»
Там черный бык сидел, насвистывая Баха,
И на машинке сочинял добро.
(Притча)
В этом стихотворении Дмитрий Евгеньевич в полушутливой форме говорит о том же идеале Истины и Добра, который не дал ему стать «правым художником». О современном, слишком «правом» искусстве Дмитрий Евгеньевич говорил: «Это все алхимия» и еще прибавлял: «афоризм, который светит мне всю жизнь — «Великие мысли, которые не превращаются в дело, становятся безумием» (Гете). И, пожалуй, главное, что отличает достаточно «правые» стихи Дмитрия Евгеньевича от многих современных «правых» — это сосредоточенность не только на фантастическом мире подчас сдвинутом и деформированном, который открывается столь же «сдвинутому» «Я», а на своей сопричастности к общей боли, рожденной из сострадания к человеку, на тех путях, которые приводят к катарсису. Для Дмитрия Евгеньевича это был не только закон искусства, но и закон жизни. Его стихи это стихи о Человеке вообще, о Мужчине и Женщине вообще, о Старости, о Любви, о Поэте, о Памяти. Формула настоящего искусства, говорил он: «Я так живу, как я пишу» (Грибоедов).
Добавим ко всему сказанному, что Дмитрий Евгеньевич Максимов постоянно находился в гуще тех общественных проблем, которые выдвигала жизнь, и что составляло, как он говорил «суть нашего человеческого содружества».
Прошло более 30 лет со дня кончины нашего дорогого учителя (+1986) и сейчас мы в полной мере осознали сколько надо было ума и таланта, веры, характера, чтобы не свернуть с пути культурного подвижничества, пройти его весь с достоинством ученого и человека.
Схиархимандрит Тихон (Муртазов) и Пюхтица
В 1970–80-е годы для нас — молодых питерских православных — слово «Пюхтица» звучало как высшая музыка. Все мы стремились в монастырь, как в рай земной.
Помню мое первое посещение монастыря во всех подробностях. В то время я училась на последнем курсе университета, должна была вскоре получить диплом, но мечтала не о светской карьере, а о духовном совершенстве, и мои названные бабушки, видя во «внученьке» неофитское горение, сказали: «А тебе надо в монастырь съездить присмотреться. В Пюхтицы». Сказано — сделано. Сажусь на Витебском вокзале в поезд, который прибывает в Йыхве рано утром, кажется, в пять часов. Час провожу на малюсеньком вокзале, а потом вместе с другими одинокими паломниками иду на автобусную остановку, покупаю билет на первый автобус до Куремяэ. И вот уже за окном автобуса поплыли поля, дальние леса — и сердце неожиданно затрепетало от чувства благодатности этой земли. Вспомнились рассказы бабушек о том, что земля эта издавна находится под покровом Божией Матери и даже называется у эстонцев Марьямаа — земля Марии. И совсем уж возликовало сердце, когда на горизонте появились зеленые купола большого Успенского собора, осеняющие всю округу. «Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших», — тихонько пела я, выходя из автобуса. Попутчицы указали на стоящий прямо напротив остановки освященный явлением иконы «Успение» дуб, который в то время был еще цветущим и сильным.
Попутчицы меня подгоняют, и вот мы уже стоим перед величественными воротами монастыря, который напоминает укрепленную крепость, держащую оборону от нападений невидимого врага. Три дня, как и полагается паломникам, прожила я в свой первый приезд в монастыре, и не уставала повторять про себя евангельские слова, сказанные апостолом Петром на горе Преображения: «Хорошо нам зде быти!» Видимо, действительно душа незримо преображалась в те дни и часы, ей открывались прежде невиданные дали и глубины. И символичным было то, что в тот первый приезд (больше это не повторялось) меня поселили в башне у святых ворот, в келье на самом верху, под крышей. Оттуда из одного окна открывался удивительной красоты вид на окрестные поля и на святой источник, а из другого окна весь монастырь был как на ладони: прямо перед глазами возвышались кресты Успенского собора, за ними малая луковка с крестом на трапезном храме в честь свв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, совсем маленькими сверху казались уютные келейные домики и матушки, идущие по монастырскому двору.
Послушание в те дни я получила самое благодатное: мыть полы в Успенском соборе. Матушка, которая руководила нашим послушанием, потрясла меня — у нее было лицо юной девушки, а глаза такие синие и огромные, как у неземного существа, но из-под апостольника выбивались совершенно седые волосы. Имя ее я узнала позднее — монахиня Серафима (Демур). Я обратила внимание на то, что губы у матушки все время двигаются — она постоянно творила молитву, но при этом была с нами очень приветлива. Не спеша объяснила, как все правильно делать, предупредила, что надо аккуратно двигаться, чтобы не опрокинуть подсвечники. Это было прозорливое замечание, потому что я все-таки пролила масло из лампадки, но матушка не ругала, а так же спокойно объяснила, как все убрать. И еще добавила, что нужно все в храме делать с молитвой, и каждый свой поклон к ведру с тряпкой делать, как поклон Божией Матери. И так именно через это послушание я по-настоящему тогда «общалась» со всеми иконами, что были и есть в храме, вернее, с Самой Царицей Небесной через иконы. Каждая икона после «поломойного послушания» в храме стала родной.
Потом, когда я уже не один раз побывала в Пюхтицах, мне отрылась удивительная гармония, царящая между всем убранством храма, настенными росписями и неповторимым пюхтицким богослужением с пением на два клироса. В этом гармоничном мире соединялись воедино удивительная ласковость матушек, которые никогда не делают замечаний нерадивым мирянам, а терпят их и любят, и строгость исповеди священников монастыря, когда ни один грех утаить невозможно.
После первого посещения уехала я из Пюхтиц окрыленная, и потом на протяжении пяти лет старалась бывать на Богородицкой горке почаще. Матушка игумения Варвара благословила меня приезжать на послушания и так же, как мои бабушки, велела присматриваться к монашеской жизни. Кроме того, у меня в монастыре появился старец, который очень помог в серьезных жизненных искушениях, появились настоящие духовные друзья. Расскажу о них.
Во время всех посещений Пюхтиц я получала благословение жить «на горке», в доме, который прежде принадлежал благотворителю монастыря князю Сергию Шаховскому, бывшему генерал-губернатору Эстляндии. Каждый день, подметая листья или сгребая снег на горке, я подходила к храму прп. Сергия и молилась на могилке князя и его супруги княгини Елизаветы. Про их подвиг мне рассказала скромная послушница Танечка, которая принимала паломников «на горке». Потом она стала игуменией монастыря на Карповке — матушкой Серафимой. А тогда Танечка еще ходила в связочке на голове и ее опущенные глаза и тихий голос напоминали о том, что и в молодом возрасте можно так возлюбить Христа, что ничто мирское уже не может увлечь.
Со мной так не было, хотя мы с Танечкой и были ровесницами. При том что я умудрялась мечтать о монастыре, меня нужно было с кровью отдирать от мирских увлечений. И помог в этом архимандрит Ермоген (Муртазов). В Пюхтицах он прожил без малого 30 лет, с 1965 по 1992 год. Был и духовником, и благочинным 12 приходов. Батюшка был учеником многих известных подвижников – блаженной Анны Михайловны, старца Сампсон (Сиверса), старца Тихона ( Агрикова), Валаамских монахов – старцев Луки, Николая, Михаила, старца Кукши, митрополита Вениамина (Федченкова), старца Тавриона (Батозского), старца Николая Гурьянова. В последние десятилетия был духовным чадом старца Иоанна (Крестьянкина). Как трудолюбивая пчела дорогой батюшка Ермоген собирал духовную мудрость от различных подвижников и сам стал мудрым и умел вразумить и утешить.
Бог дал мне общаться с отцом Ермогеном не только в храме на исповеди и богослужении, но и «на горке», где он проживал много лет. До сих пор живы в памяти долгие не беседы на лавочке напротив входа в княжеский дом, и как батюшка по-отечески повторял: «Береги себя». А по поводу моих монастырских мечтаний сказал: «В миру нужен терпения воз, а в монастыре — обоз, а у тебя терпения нет». И до сих пор так…
Отец Ермоген — теперь известный на всю Россию старец, человек огромной опытности духовной — не только помог мне справиться со страшным искушением, но и маме моей помог, за что я особенно ему благодарна. Мама боялась того, что я так часто езжу в монастырь, бунтовала даже. И однажды, несомненно, по молитвам батюшки Ермогена, произошло чудо — мама согласилась поехать вместе со мной в Пюхтицы, и там после тридцатилетнего перерыва исповедовалась и причастилась, окунулась в источник, и очень ей в Пюхтицах понравилось!
А уж как мне-то стало нравиться приезжать в Пюхтицы и жить «на горке», когда послушание гостиничной там стала исполнять веселая и общительная матушка Магдалина. Она рассказывала о том, как стала в юном возрасте инокиней, потому что не могла «жить без Небесного Жениха», рассказывала о том, что такое покаяние настоящее, и о том, как Божия Матерь в этом помогает и слышит каждого, кто к Ней со слезами обращается. Много светлых воспоминаний связано с матушкой Магдалиной — как мы с ней ходили в лес за земляникой (это она захотела старушек-схимниц в богадельне угостить), помню, как чистили кадила и другие церковные сосуды, а она рассказывала о своем служении в алтаре. Простая была матушка Магдалина, а мудрая, многому научила отвлеченную филологиню (слово противное, но суть отражает). А потом матушка заболела и на глазах стала таять, но не унывала, мужественно терпела боль и мирно отошла к своему Жениху Небесному. Царствие ей Небесное и вечный покой!
Там же, «на горке», я познакомилась с Наденькой московской, которая потом стала инокиней Ермогеной. Ее путь к Богу был непростым — и увлечение Востоком, и популярность в качестве «продолжательницы Айседоры Дункан», танцовщицы-босоножки. С Наденькой я впервые узнала, что такое «сестра духовная». Хотя она и была меня намного старше, но вместе с ней мы открывали многие духовные истины, учились по книгам и от людей. Вечная память инокине Ермогене!
На горке мне пришлось встретить много людей, которые благодаря общему монастырскому житью стали моими друзьями на долгие годы. Но и те, имена которых забылись, живут в памяти как образы «неуходящей Руси» (в противовес известной «Руси уходящей»). С кем только ни пришлось соседствовать в большой келье в цокольном этаже! Странники из дальних мест, скорбящие мамы с больными детьми, юные богоискатели и старые начетчицы (с суждениями типа: «Эта литургия равна обычным сорока»), музыкант, и в монастыре не расстающийся с маленькой флейтой, и писатель, в блокноте строчащий «монастырские заметки». Однажды даже жила в келье вместе с женщиной, которая везде ходила с магнитом (измеряла «энергетические поля»), не раз приходилось соседствовать с бесноватыми — это было страшно, но и очень жалко было мучающегося человека и того, кто его терпеливо сопровождал.
Главное дружество, которое я обрела «на горке», благословением Божиим живо и сейчас. Подтверждением чему служит и эта книга, в которую вошли рассказы иеродиакона Никона[1]. А в то время звали их автора — родного брата архимандрита Ермогена (Муртазова) — Борисом, и иноческого пострига он еще не имел. Но мы всегда называли его про себя «небесный человек». В брате Борисе мы (говорю «мы», потому что в последние годы ездила в Пюхтицы с подругами) увидели то, о чем читали в книгах: как физическая немощь преобразилась в духовную силу. Деформированное тело было побеждено красотой духа и добротой души. Недавно мы издали рассказы отца Никона, которые полны «родственным вниманием с которым их автор относится к каждому встреченному им человеку, переживая за его судьбу.
В Пюхтицах брат Борис действительно был братом для всех — и для сестер монастыря, и для трудников, и для паломников. Всякому он находил слово ободрения, да еще и старался подарить какой-нибудь подарочек утешительный. И сейчас он такой. Простота и мудрость живут в нем неразрывно.
В Пюхтицах от брата Бориса я узнала много монастырских преданий: о том, что Матерь Божия каждую ночь или на рассвете обходит обитель (брат Борис изобразил Ее на картине-иконе на стене трапезного храма); о том, как отец Иоанн Кронштадтский предсказывал, что в монастыре прольется кровь (когда порезался за трапезой), но антихрист в него не войдет; о том, что голубые цветы в лесу называют «богородицкой травой». Рассказывал о подвижницах монастыря: о блаженной Екатерине, о матушке Силуане, о матушке Сергии, об отце Петре (Серегине), о старце Сампсоне (Сиверсе), который был их с братом духовником.
Иеродиакона Никона (Муртазова) можно назвать хранителем церковного предания, и сам он — часть его. Через него мы чувствуем связь с прошлыми временами и подвижниками, в том числе с той Пюхтицей, которая так нам дорога. Завершу рассказом о чуде, которое произошло в Пюхтицах молитвами отца Ермогена и брата Бориса. В 1980-е годы я работала в музее А. Блока, и Бог даровал небывалое по тем временам обстоятельство — все сотрудники были верующими, двое крестились и стали, как и все мы, церковными людьми. Но одна из новых сотрудниц, чистой души человек, иначе как Светочка мы ее не звали, и слышать не хотела о вере, а тем более о крещении. Наконец нам все-таки удалось уговорить ее поехать в Пюхтицы. Красота монастыря, смиренный вид сестер тронули ее сердце, но о крещении она все-таки не хотела думать. Я попросила брата Бориса, а потом и отца Ермогена поговорить с ней. Не знаю, какие решающие слова были сказаны — думаю, что дело было не столько в словах, сколько в духовной мудрости боголюбивых братьев — но Светочка решила креститься, и именно в Пюхтицах.
В то время только что возвели на горке новую крестильню, где отец Еромоген вскоре окрестил ее полным погружением. Батюшка заметил в нашей Светочке то, что от нас было сокрыто — ее монашеское устроение. Очень скоро после крещения Светочка ушла в монастырь. А теперь уже много лет она — мать Нонна, благочинная Варлаамо-Хутынского женского монастыря под Новгородом, куда были направлены многие сестры из Пюхтиц, восстанавливать поруганную святыню.
И сейчас поездки в Пюхтицы — настоящая радость духовная. И особенно радостно видеть, что народ не забывает Пюхтицы, всегда тут много паломников. А в праздник Успения, как и в прежние времена, здесь идет многотысячный крестный ход, и люди смиренно, выстроившись в живую цепочку и плотно прижавшись друг к другу, склоняют свои головы под иконами.
Матушка Георгия, иерусалимская игумения
Дважды мне приходилось записывать пространные интервью с матушкой, потом их перепечатали многие издания, так как игумения Георгия во время этих бесед впервые подробно рассказала о себе. О своем тяжелом блокадном детстве, о том, как они с сестрой потеряли мамочку, а потом чудом ее нашли. О том, как юной девушкой она почувствовала влечение к монашеству и поехала с вопросом к преподобному Серафиму в Вырицу, и он ее благословил идти в Пюхтицы. О том, как трудно было добиться такого же благословения от тетушки, у которой она жила в Петербурге, и, как и тут ей помог благодатный старец. О том, как попала в Свято-Успенский монастырь в Эстонии в трудное послевоенное время, когда нужно было поднимать хозяйство и осваивать богослужебное пение. О том, как ее назначили настоятельницей на Карповку –в монастырь св.прав.Иоанна Крондштадтского, какие титанические труды были предприняты при начале восстановления этого монастыря. И, наконец о том, как она стала настоятельницей в Горнем[2]. Приведу здесь отрывки из ответов матушки о призвании к монашеству.
«Привели меня скорби. Вере научили те испытания, которые мы пережили во время войны. Блокадный голод, холод… И вот уже после войны услышала проповедь на Рождество о том, что Господь родился, пришли волхвы, дары принесли – ладан, смирну. А что мы, дорогие, принесли? Что мы принесем Христу-Младенцу, кроме грехов, что у нас есть.
И я стояла и думала, что я принесу? И вот поняла: я не выйду замуж, я принесу свое девство, я хочу в монастырь. И так загорелась, так загорелась – не могу. Казалось, легче умереть, чем лишиться монастыря. А когда к батюшке Серафиму пришла, то и заговорить о монастыре боялась. Думаю, как мне про монастырь начать, потому что начиталась, какие подвижники там жили. Думаю, а кто я такая? Достойна ли я жить в монастыре? И молчу. А он: «А что еще скажешь?» Я тогда всхлипываю и говорю: «Батюшка, дорогой батюшка, какое у меня сильное желание в монастырь, так хочу в монастырь!» Он как оживился: «Так вот-вот деточка, куда твой путь! Матерь Божия тебя избрала, ты должна в монастыре жить». Но и потом было непросто. … Какое было время, какое время… Вот какую «мудрость и хитрость змеиную» приходилось применять. Сколько было пережито, сколько слез пролито».
Особо подробно матушка рассказала о старце Николае (Гурьянове), который был ее духовником, и, как нам кажется, отличал ее среди всех. Он предсказал ей «иерусалимский крест», он и благословил ее на труды. Уже при встрече в Иерусалиме, матушка расскажет мне из каких «перекладин» составился ее «иерусалимский крест». Помянем благодарным словом и Святейшего Патриарха Алексея II, благодаря ему начала возрождаться монашеская жизнь в Горнем, он благословил матушку Георгию на настоятельство со словами: «Кого же я еще пошлю? Больше некого».
Глядя на матушку Георгию невольно повторишь слова прп.Серафима Вырицкого: «Матерь Божия тебя избрала». Такая кротость, такое смирение. Ничего себе матушка не приписывает, а ведь как много ею сделано! И говорит-то она совсем мало, только по делу, и при этом как-то отстраненно – видишь, что занята она делами по послушанию, но душа ее не здесь, как будто она всегда слышит: «Горе имеем сердца» И отвечает: «Имамы ко Господу».
Редко в наше время можно встретить такого человека, земного ангела, как говорили о подвижниках. И удивительно, что такой она была всегда – и в ранней юности, и в зрелые годы, и в «старости маститой».
Хотя про матушку никак не скажешь, что она старенькая, ее девственность препобеждает возраст, никакой старческой вялости, суетности нет в ней. Хочется смотреть и смотреть на матушку Георгию и впитывать в свою душу поучение – вот к чему нужно стремиться, вот как нужно свое сердце очищать, вот как нужно Господа и Матерь Божию любить.
Матушка Александра (Сафонова)
До конца своих дней матушка Александра (Сафонова +20 июня 2018 г.) служила делу прославления прп.Александра Свирского. Вернее, делу восстановления широкого почитания этого великого святого, отмеченного явлением Святой Троицы.
Через матушку, через ее труды совершилось второе обретение мощей прп.Александра в 1997 году. После настойчивых архивных поисков с помощью Божией в музее Военно-медицинской Академии были найдены нетленные мощи «тайнозрителя Святой Троицы». Теперь, когда просматриваешь список архивов, которые обошла матушка в поисках следов утраченной святыни, поражаешься, — сколько сделал один человек!
В то время уже немолодой человек и обремененный болезнями, рано утром матушка Леонида выезжала из Красного Села в Петербург, чтобы успеть к открытию архивов и работала до закрытия, методично просматривая одно дело за другим, пока не выстроилась цепочка фактов, свидетельствующая о том, что мощи «Тайнозрителя Святой Троицы» после вывоза из монастыря, попали в музей Военно-Медицинской Академии.
Заведующая музея при первой же встрече рассказала матушке о загадочном экспонате, который хранится у них по рассказам старожилов, старейших сотрудников музея уже долгое время, а потом и показала его. Это было полностью сохранившееся тело немолодого мужчины, нетронутое рукой человека, только глаза были залиты гипсом.
Потом она рассказала удивительную историю, что сотрудники музея видели (она сказала «им казалось»), что он открывает глаза, тогда «впечатлительная лаборантка» проткнула один глаз, а потом глаза залили гипсом (рентген так и показал — один глаз у преподобного проткнут).
«Почему экспонат загадочный?» — спросила матушка у Твардовской (я запомнила фамилию, тезоименитую нашему известному поэту). — «Потому что это естественная мумификация. Так его когда-то и демонстрировали студентам, хотя объяснений причин полной сохранности тела без применения продуктов бальзамирования, найти не могли».
После того, как мощи были найдены, — это был декабрь 1997 года, конечно же, это держали в строгой тайне. Повторюсь, что я узнала об этом только потому, что стояла у истоков поисков. В то время, кстати, никто еще не называл мощи мощами, торопиться было нельзя, и все боялись создать ложную святыню; иеромонах Лукиан написал рапорт правящему архиерею — митрополиту Владимиру и получил благословение на то, чтобы вести переговоры с руководством Военно-медицинской Академии о проведении научной экспертизы. Митрополит благословил ставить его в известность о ходе проведения экспертиз, что и делалось в течение полугода по обычной форме.
Долгие месяцы, пока мощи проходили научную экспертизу, матушка вместе со специалистами следила за открывающимися фактами. Она могла говорить с разными специалистами на их языке, так как в миру была серьезным ученым. В 1960 году окончила Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, биолого-почвенный факультет. В 1970 году получила звание кандидата биологических наук. После защиты диссертации работала в трёх институтах: НИИ вакцин и сывороток, НИИ пульмонологии, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в должности старшего научного сотрудника. Ей опубликовано более 60 статей в отечественных и зарубежных журналах биологического и медицинского профиля. К началу 1990-х годов Людмила Сергеевна Сафонова подготовила к защите докторскую диссертацию. Но в 1993 году, став насельницей Тервенического монастыря, от защиты отказалась.
Зимой и весной 1998 года от матушки Леониды я узнавала новости о работе экспертов, исследовавших мощи прп.Александра. Подробности сейчас описывать не буду. Прежде всего, память сохранила известие о важнейшем событии, которое произошло в то время, — после молебна перед мощами, когда они еще лежали на столе ученых, они стали обильно мироточить. Матушка показала мне фотографию, которая вероятно так и не будет опубликована (мощи на ней разоблачены), — от головы до пят святая плоть покрыта миром. После этого случая мощи не переставали мироточить, что надо сказать очень смущало нецерковных экспертов. И, наконец, был написан многостраничный отчет ученых разных специальностей, которые проводили исследование, и на нем появилось заключение тогдашнего Директора ВМА Шевченко — «исследуемый экспонат вполне может быть признан останками Александра Свирского и передан Церкви».
Отец Лукиан написал рапорт митрополиту Владимиру, получил благословление организовывать перевоз святыни в храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — подворье Свято-Покровского Тервенического монастыря.
30 июля по благословению митрополита Владимира перед мощами уже был отслужен первый молебен, на котором, кстати сказать, присутствовали многие из братии Валаамского монастыря (которые почитают прп. Александра, как выходца с Валаама) и прихожане питерского Валаамского подворья.
А потом начались незабываемые дни. Так как я живу в двух шагах от храма свв. мучениц, я имела возможность бывать в храме каждый день. И благодарю за это Бога. Потому что такого подъема веры народной, такой пламенной молитвы, мне никогда больше не приходилось видеть. Много происходило чудес. Одно из них — с моей умирающей от рака подругой. Она, несмотря на страшную слабость, смогла выстоять многочасовую очередь к мощам, приложилась к святыне, и после этого ее угнетенное душевное состояние начало проясняться. Она смогла исповедоваться, принять посланный ей от Бога жребий и спокойно отошла в вечность. Я считаю, что это чудо даже большее, чем физическое выздоровление, — потому что была исцелена душа, И я верю, что прп. Александр напутствовал ее в последний путь. Кроме того, как говорили врачи, умерла она по медицинским показателям «раньше времени», то есть еще до того, как должны были начаться невыносимые боли.
Матушка Александра (тогда еще в иночестве Леонида) и после обретения святыни неустанно продолжала служить свирскому чудотворцу – писала статьи, участвовала в телепередачах и документальных фильмах, писала официальные опровержения в ответ на действия тех, кто сомневался в подлинности мощей. Эта ее внешняя деятельность была известна многим. Но немногие знали, какой молитвенницей была матушка Александра. Невзирая на свою телесную немощь и в инвалидной коляске, и после многочисленных операций матушка вела нескончаемую духовную брань –ночи напролет она молилась за людей. Ее синодики занимали не одну толстую тетрадь. Это была сердечная, живая молитва – матушка сопереживала всем. И, живя в затворе, она не была оторвана от мира – не прекращался потом посетителей и звонки тех, кто нуждался в ее совете и поддержке. Она никогда не жаловалась на свои немощи, но каждого старалась утешить и передать свой заряд бодрости.
Теперь, когда матушка уже отошла в мир иной, можно сказать и о ее жертве, совершенной ради строительства родной обители – она пожертвовала свою квартиру в то время, когда Тервенический монастырь крайне нуждался в благотворителях. А ведь у нее был (и есть ) любимый сын и внуки.
Так же, в основном благодаря стараниям матушки, было передано Церкви здание в Петербурге на проспекте Стачек для устройства в нём храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — будущего монастырского подворья. И так же через матушку в этот храм и в Тервенических монастырь попали частицы мощей многих святых. С юных лет она дружила со священником, от которого получила в дар собранные в советское время митрополитом Гурием (Егоровым) частицы мощей преподобного Сергия Радонежского, преподобного Нила Столбенского, святителя Макария Киевского и других святых.
Рассказываем мы обо всех реальных подвигах матушки по необходимости кратко. Но сколько переживаний, духовного мужества, молитвенных трудов стояло за каждым делом. При этом матушка ничего себе не приписывала, относилась с юмором к себе, своим многочисленным болячкам. И так – до последней минуты! Зная матушку 25 лет, я почему-то не представляла, что в 2018 году ей исполнилось уже 80. Несмотря на свои немощи, она всегда была молодой.
29 декабря 2013 года матушка приняла монашеский постриг с наречением в честь преподобного Александра Свирского. Постриг совершил епископ Тихвинский Мстислав (Дячина). Таким образом была увековечена духовная связь великого аввы и его смиренной служки, которой реально на протяжении двадцати лет была дорогая наша матушка
Скончалась монахиня Александра 20 июня 2018 года, очистившись страшными мучениями перед кончиной. Похоронена на монастырском кладбище Покрово-Тервенического женского монастыря.
Часть четвертая. «Дары различны и служения различны»
Музей А. Блока: история и ностальгия
Благодарю Бога за то, что двадцать лет моей жизни были связаны с работой (тут это слово не совсем подходит, это не была просто работа — это было все: дружба, учеба, яркое и разнообразное общение) в мемориальном музее-квартире А. Блока.
У Блока, у его поэзии было особое служение в советское время — он напоминал людям о духовной глубине жизни. Напоминал о евангельском источнике творчества каждого настоящего русского поэта. Его стихи, наполненные христианской символикой, цитатами из Священного Писания, были для многих «дорогой к храму». Его даже можно назвать «детоводителем ко Христу». Кстати, прозрел это служение Блока его ближайший друг, по-настоящему верующий, церковный человек — Е. П. Иванов.
Одним из примеров такого служения поэта своим творчеством людям был музей его имени в Санкт-Петербурге.
История музея А. Блока в первые двадцать лет его существования представляется одним из парадоксов времени, или, если говорить на языке веры, одним из Божиих чудес. Судите сами: в то время, когда властвовала всесильная цензура и план экспозиции рассматривали, что называется, под лупой, удалось избежать того, чтобы превратить Блока в «певца революции». Потом уже различные партийные посетители недоумевали: «В экспозиции есть фотография Владимира Соловьева, но нет фотографии Горького, нет упоминаний о В. И. Ленине, революции уделено слишком мало места…»
Итак, первое чудо: лишенная идеологических штампов экспозиция.
Второе чудо: экскурсии. Несмотря на многочисленные проверки методических отделов, никто из сотрудников не был от экскурсий отстранен, хотя, не подделываясь под проверявших, все мы рассказывали о духовной трагедии Блока, не вспоминая о «мерзостях капитализма», как того требовала методичка.
Третье чудо: это те многочисленные вечера, семинары и конференции, которые стали проходить в музее в первые же годы. Чудо состояло в том, что посвящены они были тем персоналиям, о которых в то время запрещено было писать хвалебные статьи. Невозможно было вообще заниматься серьезным изучением наследия деятелей «Серебряного века» (а для нас это были не только художники и поэты, но и святые).
В то время, когда царил жесткий идеологический контроль, нам удалось организовать и открыть в музее три чисто православные выставки, посвященные отцу Павлу Флоренскому, Оптиной пустыни и Валааму. Сотрудниками были написаны научные статьи о св. прав. Иоанне Кронштадтском, русских старцах, русских духовных писателях, о Царственных Мучениках. Только теперь, оглядываясь назад, понимаешь, что все это было на уровне чуда — как нам разрешили, как могли выделить финансирование, по сути дела, на «религиозную пропаганду»? Ведь все наши статьи, научные справки, лекции на религиозную тематику (а читали мы их очень много, начиная со школ и кончая большими аудиториями Центрального лектория) входили в утвержденные дирекцией музея и Управлением культуры планы работы. Среди нашего начальства, от которого зависело утверждение рабочих планов, не было верующих людей, на нас смотрели искоса, как потом выяснилось — знали, что мы ходим в храм, но… пропускали все наши начинания.
Мы работали и жили для души — и за это нам еще и зарплату платили. Сейчас спрашиваю себя: как, почему это оказалось возможным? Ведь всего год-два до этого, когда в Ленинградском университете в дипломном сочинении на тему «А. Блок и В. Соловьев» я позволила себе необходимые ссылки на библейские тексты, моя научная руководительница мягко сказала мне: «А это придется убрать, не стоит дразнить гусей».
Позволю себе дерзновенное предположение: все эти чудеса произошли оттого, что мы с самого начала правильно духовно определились. Мы не только изучали творчество Блока и его время, но и молились за него и его семью, постоянно подавали записки, служили панихиды, один питерский священник освятил (естественно, тайно, без ведома начальства) мемориальную квартиру. Надо сказать, что до этого освящения в квартире поэта творились неприятные мистические вещи, а потом все прекратилось. А другой батюшка, однажды побывав на наших экскурсиях, сказал: «Удивительно, что можно миссионерствовать, ни слова не сказав о Боге».
Те сотрудники музея, которые не были крещены до поступления на работу — «на службу поэту», приняли крещение; те, кто не ходил в церковь, стали постоянными прихожанами питерских храмов. Две из наших сотрудниц стали монахинями, одна женой священника — матушкой.
До сих пор приходится встречать людей, которые бывали на экскурсиях, лекциях, вечерах, проходили студенческую практику в музее, которые свидетельствуют: «Здесь мы впервые задумались о Боге, о вере, о духовном смысле жизни». В чем была суть миссионерствования в те годы? Дело в том, что в музее совсем не по-музейному относились к своей работе. Рассказ о предметах, о вещах (как часто бывает в других музеях) был сведен до минимума, а о прошедшем (не только о жизни Блока, но и обо всех деятелях культуры прошлого) рассказывали не как о «делах давно минувших дней», а как о духовных реальностях, которые вечны.
Кроме того, теперь только это понимаю, мы в музее жили настоящей общинной жизнью. По определению: «община — это общая молитва, общий труд, общая трапеза». И более того — общая жизнь: помощь друг другу в тяжелых обстоятельствах, в болезнях, при смерти близких. Мне, например, в тяжелые 90-е помогали нянчится с ребенком (чтобы не терять работу), и материально тоже помогали.
* * *
Иногда мы скучаем по этому времени — тогда вера не выпячивалась, была сокровенной, а между тем все в нашей жизни — и рабочие будни, и поступки, и слова — было освящено верой. Внешнее и внутреннее состояли в правильном соотношении, теперь часто бывает наоборот. И надо сказать, что этому нас научил в том числе и Александр Александрович Блок — его благородство, его покаянный дух, его внимание к глубинам жизни, стремление отказаться от всякого схематичного толкования событий и людей. Это и до сих пор нам светит и объединяет уже разбросанных по разным местам жизненных служений бывших сотрудников музея А. Блока.
О Блоке можно сказать словами И. А. Ильина: у него было «ясновидение инстинкта», он постигал мир, судьбы России «актом цельного инстинкта, с силой таинственной подлинности и объективного присутствия». Потому внимательно вчитываться в его строчки не зазорно для всякого православного русского человека. А поминать его в своей молитве — наш долг памяти о предках и учителях. Работа в музее Блока оказалась многолетним глубоким общением (по этой глубине тоже приходится сейчас ностальгировать) не только с сотрудниками и посетителями, но и с самим Александром Александровичем. Это не мистика, это реальность. Когда много лет ты изучаешь запечатленные на бумаге душевные переживания другого человека, этот человек становится тебе родным и близким, душа с душою говорит. Кроме того, много лет я проработала в кабинете, в котором у меня стояли семейные иконы великого поэта (до того как их разрешили повесить в мемориале), и, признаюсь, в рабочее время удавалось помолиться перед этими иконами, и всегда вспоминалось:
Вот Он — Христос — в цепях и розах
За решеткой моей тюрьмы.
Вот Агнец кроткий в белых ризах
Пришел и смотрит в окно тюрьмы.
В простом окладе синего неба
Его икона смотрит в окно.
Убогий художник создал небо.
Но лик и синее небо — одно.
Единый, светлый, немного грустный —
За Ним восходит хлебный злак,
На пригорке лежит огород капустный,
И березки и елки бегут в овраг.
И всё так близко и так далёко,
Что, стоя рядом, достичь нельзя,
И не постигнешь синего ока,
Пока не станешь сам как стезя…
Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мертвый злак.
Завершу эту главку воспоминанием о самом радостном событии в музейной жизни — это случилось, когда я нашла в архиве Пушкинского Дома письмо Надежды Александровны Павлович, в котором она записала слова преподобного старца Нектария Оптинского (после просьбы о молитве о новопреставленном рабе Божием Александре): «Передайте его матери, пусть будет благонадежна — Александр в раю».
Пришвинцы
Из всех многочисленных встреч с людьми, которые произошли, благодаря музею Блока, пожалуй, самой значительной (потому что она продолжается до сего дня) была встреча с сотрудниками музея М.М.Пришвина в подмосковном Дунино и с открытым для меня наследием писателя-мудреца.
Дмитрий Евгеньевич Максимов однажды сказал мне: «У меня есть тема для вас, вы сможете ее осилить. У одной моей московской знакомой хранится том «Добротолюбия», который Блок подарил поэтессе Надежде Павлович. В этом томе сохранились пометы Блока, надо их скопировать и расшифровать».
Так я познакомилась с редактором издательства «Художественная литература» Татьяной Бедняковой, она дала мне возможность поработать с блоковским «Добротолюбием»[3] и стала моим другом на долгие годы. А вскоре познакомила с «пришвинцами» — сотрудниками музея дома писателя в Дунино и хранителями его архива. В то время еще не были напечатаны многотомные дневники М.М. Пришвина, Яна и Лиля только начинали работу по подготовке к публикации, расшифровке текстов и комментированию. Они были очень увлечены этой работой и передали это увлечение и мне. Вернее, они открыли для меня целый мир, который до сих пор живит и питает душу. Это мир свободы от идеологических (пусть и православных) штампов, это мир постоянного духовного поиска, это мир творческого отношения к жизни во всех ее проявлениях, и к человеку каким бы он ни был. Долгие годы я сохраняю в сердце благодарность к дорогим «девочкам» (как мы тогда друг друга называли) за то, что они давали мне приют в писательском доме на берегу Москва реки и в московской квартире, где на стенах висели старинные фотографии семьи Пришвиных.
Теперь понимаю, что та давняя встреча значила в моей жизни не меньше, чем встреча с моими дорогими бабушками, о которых я написала в начале книги. В первую очередь мне подарили, тогда только что изданные книги Валерии Дмитриевны Пришвиной «Наш дом» и «Мы с тобой». Это было откровение о настоящей любви в Боге, о вживании души в душу другого человека через родственное внимание. Потом мне доверено было чтение потрясающей книги (вернее рукописи) воспоминаний В.Д. Пришвиной «Невидимый град». В этой книге я нашла непривычный для меня взгляд на эпоху так называемого «Серебряного века», которую изучала много лет. Это был зрелый христианский взгляд, при котором главным становились не эстетические ценности, не художественность вообще, а подвиг души, мужественное преодоление искушений и тягот жизни. Валерия Дмитриевна верила, что «на пороге нового времени, над тьмой человеческого страдания расцветет новый день»[4].
Этим чувством, этой мыслью пронизаны и все дневники М.М.Пришвина, которые так же впервые я прочла в Дунино, а теперь изданные 10 томов стоят на моей книжной полке, и каждый день я встречаю или провожаю вместе с Михаилом Михайловичем. Каждый его день описан Пришвиным, как путь «к совершенной радости», каждый день приносил свой опыт преодоления тягот жизни. И в 1930-е годы, и в годы войны, и в тяжелейшие послевоенные годы Пришвин видит великий смысл во всех, встречающихся испытаниях и побеждает их любовью. Так вызревает живая вера, богопознание совершается не над страницами книг, а в лесу и на пашне, у домашнего очага, рядом с другом-женой. Как это красиво и как подлинно!
«Дунинцы» рассказали мне о том, что Пришвин боролся за обретение смысла жизни не только для себя, но и в трагической истории нашей страны и всего мира. В то время, когда мы познакомились, Я.З.Гришина готовила к печати никогда не публиковавшуюся повесть о революции «Мирская Чаша» и разбирала дневники–комментарии, к неосуществленному (по цензурным причинам) в задуманной автором полноте, роману «Осударева дорога» — о строительстве Беломоро-Балтийского канала. К роману Пришвин поставил эпиграф из Псалтыри: «Аще сниду во ад Ты тамо еси». Вера в Божий Промысл, в непостижимый слабым человеческим умом Божий замысел, во всем, что происходит с отдельным человеком и со всей страной — пронизывает все написанное Пришвиным в зрелом возрасте. Хотя имя Божие всуе он никогда не произносил, так как писал он для простых советских людей, которые в массе своей уже потеряли веру в Бога. Никаких миссионерских целей у него не было, а была любовь к миру, к людям, детская открытость.
Еще одно имя открыли для меня «дунинцы» — монаха Онисима (Поля), друга и жениха В.Д. Пришвиной в ранней молодости, который после революции стал одним из отшельников Кавказских гор. Там он написал книгу о духовной любви и назвал ее «Остров достоверности». Помню, с какой жадностью страницу за страницей глотала-читала я пожелтевшие машинописные страницы, а потом попыталась донести до других людей смысл откровения отца Онисима, написав доклад для разных научных конференций. Увы, теперь уже все это кажется романтикой, красивой отвлеченностью. Но тогда мы-молодые христиане 1980-х годов, все были романтиками…
А вот М.М.Пришвин как раз развенчивал романтизм, недаром он назвал Блока «очнувшимся Дон-Кихотом», имея в виду его горькое отрезвление после увлечения «музыкой революции». Теперь понимаю, что знакомство с «дунинцами» и с текстами Пришвина были посланы для уврачевания «болезни романтизма». И недаром Пришвин стал так востребован в наше время, когда мы бьемся между «Сцилой и Харибдой» — необходимостью быть практичными людьми, но не опуститься до уровня обывательщины, оставаться верующими христианами. «Идти по земле, не забывая о Небе», — такую формулу предложил в свое время Пришвин, и сейчас она очень актуальна. Христиане обязаны принимать участие в общей жизни, в жизни государства, но при этом не скатиться к чистому политиканству, или к жонглированию идеологически правильными православными понятиями. Сохранить традиции, но двигаться вперед – тут Пришвин может быть нашим «вечным спутником», собеседником, другом.
Недавно на православном радио я провела передачу[5], посвященную обзору дневников М.М.Пришвина. Сколько людей поблагодарили меня за это открытие, говорили что нашли кладезь житейской и одновременно христианской мудрости у того, кто долгое время считался только «природным писателем». Но к слову скажем, что и природная тема сейчас востребована как никогда. Живое, сочувствующее отношение к природе, какое вырастил в себе Пришвин, могло бы стать для нашего мира спасением.
Газета «Православный Санкт-Петербург» и сайт «Русская линия»
Все просветительские начинания 1990-х годов уже требуют описания, как исторические факты, хотя они продолжают существовать до сих пор. Господь судил мне быть участницей некоторых из этих начинаний, потому я обязана о них свидетельствовать.
Газета «Православный Санкт-Петербург», начавшая выходить в свет в 1992 году ежемесячно, для верующих города стала средством общения и объединения. Редактор ее Александр Григорьевич Раков пригласил меня к сотрудничеству в 1993 году, и я стала внештатным сотрудником, при этом писала под пятью псевдонимами статьи на самые разные темы. Так неожиданно сбылась моя юношеская мечта – после окончания школы я очень хотела учиться на журналиста, но мудрые люди меня отговорили, сказав, что журналистский факультет самый идеалогизированный, и лучше поступать на филологию. И вот внезапно открылась возможность воплотить свою мечту.
Газета начала выходить в то время, которое старцы предсказывали как «весну духовную», когда у людей после десятилетий запрета на свободную проповедь, появилась жажда духовная, жажда чтения, жажда познания. И поэтому она оказалась такой востребованной.
Кроме того в первые годы издания был выработан особый стиль «Православного Санкт-Петербурга», я бы назвала его задушевным. С читателями мы вели разговор, как с друзьями, пытаясь вместе ответить на вопросы, которые волновали всех. Так, например, возникла рубрика «Как стать верующим» и в редакцию стали приходить многочисленные письма с рассказами о человеческих судьбах, из номера в номер они публиковались. Таким образом, складывалась соборность вокруг газеты, которая потом была названа «народной православной газетой». Делу соборности служили и рассказы о разных приходах епархии и интервью-беседы с разными батюшками и исторические справки о святынях. Таким образом, люди получили возможность не замыкаться на своем приходе, а узнавать о том, что происходит в большой Ленинградской области и в городе на Неве. Тогда же стали устраиваться и встречи с читателями, на которых впервые заговорили о непрославленных подвижниках – старце Серафиме Вырицком, блаженной Любушке, старце Николае Гурьянове.
Особый интерес читателей вызвали передовицы, которые автор этих строк готовила к печати несколько лет, перечислю некоторые из названий: «О достоверности, «О смехе, улыбках и шутках», «О национальном начале у святых», «О соборном начале», «О лени», «О сновидениях», «О страхе», «О языке житий», «О благодати», «О дружбе», О смирении», «Идеал женщины», «Святость и наследственность», «О резком слове» и т.д. Теперь понимаю, что собеседование с читателем о воплощении евангельского учения в реальной жизни и трудностях этого воплощения — что стало, как теперь говорят «трэндом» почти всех православных изданий — тогда нами интуитивно было впервые открыто. Это случилось благодаря свободе от официоза, газета не подчинялась никаким официальным структурам, а была зарегистрирована как личная собственность редактора.
Статьи, напечатанные в газете, потом составили первые 5 моих авторских книг, изданных в Москве немалым тиражом (20 тысяч каждая) и были востребованы читателями. За это сейчас хочу принести благодарность приснопоминаемому рабу Божию Александру – благодаря ему я из музейного работника превратилась в журналиста и писателя. И прожила в редакции 7 лет бурной, кипучей (во многом благодаря характеру главного редактора) жизни, познакомилась со многими замечательными батюшками, побывала в тех местах, куда сама не смогла бы добраться.
Энергия главного редактора А.Г.Ракова вызвала к жизни дочерние издания газеты — «Чадушки», «Соборная весть», «Правило веры». И они так же были по-настоящему народными, составленными из писем и заметок разных людей, со всех краев России и зарубежья. Двадцать пять лет отметила газета в 2017 году, и вскоре ушел из жизни ее редактор – писатель, журналист, поэт, вечный борец за правду Александр Григорьевич Раков – вечная ему память!
Из газеты я ушла в 2000 году, став главным редактором журнала «Православный летописец Санкт-Петербурга». Это мое служение до сих пор продолжается, поэтому мемуаристика неуместна. Скажу только, что журнал наш, выходящий четыре раза в году по стилистике приближается к альманаху, в нем нет статей «на злобу дня», все материалы рассчитаны на то, что их будет интересно перечитывать спустя годы и десятилетия после первой публикации. Что подтверждают 10 книг, изданных на основе материалов «Православного летописца».
А теперь о «Русской линии». Большинству верующих людей не нужно представлять этот популярный сайт, который существует с 1998 года. Одним из первых в православном рунете он занял активную общественную и гражданскую позицию, то есть обратился не только к сугубо церковным и духовным вопросам, но и к вопросам политической, культурной, экономической и общественной жизни, рассматривая их с позиций православного мировоззрения. Установкой «Русской линии» были краткие слова: «Православие – это не гетто». Не обособленная область, в которой своей жизнью живут верующие люди; наоборот это закваска, которая должна заквасить весь мир, православие для верующего человека должно пронизать всю его обычную мирскую жизнь.
В 2001 году Сергей Михайлович Григорьев пригласил меня к сотрудничеству с «Русской линией» и на многие годы я стала ее постоянным автором[6]. Но теперь уже можно сказать, я стала не просто автором, но учеником. Прежде всего, Сергей Михайлович учил меня компьютерной грамотности, а потом стал учить редактированию. Сергей Михайлович Григорьев – человек, заработавший свое неповторимое лицо в нелегких испытаниях. Он не был гуманитарием по образованию, закончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С. О. Макарова, получив специальность инженера-электромеханика. Несколько лет работал на кафедре электроники училища, затем плавал на судах морского флота. По сфальсифицированному обвинению был осужден и четыре года провел в местах заключения в Архангельской области. По отбытии заключения в 1987 году вернулся в родной город и вынужден был работать на заводе электрослесарем. С 1991 года работал учителем истории в средней школе в Царском селе. Однако, из-за происков сектантов, вынужден был уйти из школы, и в 1998 году стал основателем «Русской линии». Любовь к истории у Сергея Михайловича органична, а его знания, особенно по истории Византии и русской истории энциклопедичны. Но прежде всего С.М. Григорьев – мыслитель, он не человек отвлеченного знания, не начетчик, не компилятор, он строгий аналитик и, конечно, педагог.
С радостью приняла я от Сергея Михайловича его учительство. Хотя, конечно, природу не переделаешь, и до сих пор свои статьи и книги я пишу в основном «по зову сердца», вдохновляясь встречей с человеком, каким-нибудь местом или событием, но прививка «структурирования, планирования, логического построения текста» все-таки была получена от терпеливого редактора «Русской линии».
«Вы у нас будете ответственной за культурку» — шутливо сказал С.М. Григорьев в 2001 году. Поначалу так и было – я писала статьи о деятелях культуры прошлого и современности, о выставках, концертах и новых книгах. Но потом все-таки тематика расширилась и сейчас, когда в архиве «Русской линии» просматривала названия своих статей, то их разнообразие меня удивило. Это было время настоящего «журналисткого бума» в моей жизни.
«Русская линия» того времени, благодаря С.М. Григорьеву, занимала особое положение в среде патриотического движения, к которому она принадлежала. В своем манифесте главный редактор выразил это так: «При освещении текущих событий внутренней и внешней политики мы стремимся придерживаться прагматического подхода Государя Императора Александра III. В каждом конкретном случае мы стремимся понять, какие выгоды или потери получит Россия от происходящих событий, способствуют ли они укреплению нашего Отечества. Это позволяет нам избавиться от идеологических клише, свойственных значительной части патриотического движения». Но, увы, все течет, все изменяется…
В 2008 году мне еще раз посчастливилось поработать под руководством С.М. Григорьева. Московский телеканал «Радость моя», который в то время еще не оформился как чисто детское телевещание, решил создать полноценную новостную редакцию. В Царском Селе был открыт офис редакции и там, мы ежедневно под руководством Сергея Михайловича учились писать «православные новости». Это были еще одни «мои Университеты». Из ежедневной ленты самых разных новостей информагенств нужно было выбрать то, что имеет духовное измерение и дать анализ событию, написав короткий на одну-полстранички рассказ. Пожалуй, это была самая трудная работа в моей жизни. Но за полученное тогда суровое ученичество так же благодарна Сергею Михайловичу.
Заканчиваю рассказ о работе в газете и в интернете, и в глаза бросается постоянное «яканье». А, пожалуй, главное, чему без слов учил С.М. Григорьев – это самоумалению. Как-то он сказал: я с самого начала работы решил для себя вопрос — что важнее мое имя или имя ресурса, что важно: чтобы запомнили Сергея Григорьева или запомнили «Русскую линию» — и выбрал последнее.
Увы, этот урок автор этих строк (ну, как избежать «Я») до сих пор не усвоила…
Матушка Варвара
Как стыдно бывает за себя, когда Бог посылает тебе встречу с настоящими людьми, с настоящими христианами. Как обжигает чувство вины за то, что мы не оправдываем тех жертв, которые принесли за нас наши отцы и деды. Вспоминаются лермонтовские строки в несколько измененном виде:
«Да, были люди в это время
Не то, что нынешнее племя
Богатыри — не мы…»
Слушали мы рассказ матушки Варвары (Метицкой) и чувствовали себя пигмеями рядом с этой маленькой сухонькой старушкой, с трудом волочащей ногу на протезе, — и при этом светящейся радостью и благодарностью Богу за все. А жизнь ей выпала такая, что благодарность за нее уже нужно рассматривать как подвиг.
Восемнадцатилетней девочкой в 1942 году Нина Васильева попала на фронт. Мобилизовали ее как военнообязанную, так как в начале войны она успела в срочном порядке закончить медицинское училище. А перед этим семья потеряла совсем молодого отца (скончался в 32 года), умер младший брат, была арестована мать и увезена в неизвестном направлении. Нина поехала на Волховский фронт вместе с пятилетней сестрой Валечкой.
В разговоре с нами матушка постоянно вспоминала о том, с каким трудом они добирались до места назначения: «Нас очень долго, девять или восемь часов держали на Ладоге, а мороз был под сорок». Сестричку удалось пристроить при Штабе Армии. «Она была такая деловая, рассудительная и самостоятельная девочка», — говорит матушка.
А саму Ниночку в первый же день отправили на передовую. И в одном из первых боев она потеряла ногу. Рассказывает об этом матушка почти весело: «Главное, что мне уже через неделю, — очень быстро, — сделали протез, и я смогла встать в строй
— И что, опять на передовую, и опять раненных вытаскивали на себе?
— Да, конечно. А тяжелые были мальчики.
— Как же матушка вы могли с этим справиться, вы такая маленькая, худенькая, да еще с протезом?
— А я была сильная. У нас питание до войны было хорошее. Ведь в деревне жили. Свое молочко, свое мясо, свои овощи. Все свое. Мои дедушка и бабушка были трудовыми людьми, крестьянами. Дедушка отслужил в армии два срока. Но семья наша пострадала и от раскулачивания. Потому что у нас была лошадки и коровки. Да и вообще-то мы постоянно жили под страхом грабежа. Ночью приходили какие-то люди и все могли отобрать, — и скотину, и еду. Но все равно, что-то и себе оставалось. Так что я была сильная.
— Матушка, а как вы нашли свою маму?
После этого вопроса, бодрая, улыбающаяся Матушка Варвара, начала плакать. Но, как оказалось не столько от горя, сколько от благодарения Богу за то, что совершилось явное чудо. После мытарств, на страшном по количеству павших, Волховском фронте, Ниночка Васильева вместе с госпиталем была направлена в Новосибирск. И вот, прослужив в сибирских госпиталях два года, в конце войны она «двигалась домой». Оставались последние минуты пребывания на сибирской земле. Ниночка пришла на вокзал к отправлению поезда, и вдруг на перроне услышала, как одна женщина рассказывает другой: «Я ищу свою дочь, я ее потеряла». Она узнала голос матери, позвала ее, та увидела дочь и … упала в обморок. То, что они нашли друг друга — это было явное чудо Божие! Сколько матерей потеряло своих детей во время войны, и так и не могли их найти! Чудом было и то, что, вернувшись домой во Всеволожск, они нашли и младшенькую Валечку.
— И депутатом была и на съездах была, — рассказывает про свою маму м.Варвара, — но и с батюшками была всегда. Наш дом был приютом для всех. Мы дружили с матушками Леушинского подворья. Я там неподалеку училась, все мое детство прошло на подворье. А потом, когда его закрыли, мы приютили и матушек и батюшек в родительском доме. Две матушки поселились в сторожке при Троицком храме. Я им носила молочко, картошечку, яички. Иногда к нам приезжали из Питера монахи просто на отдых — в бане помыться, покушать свеженького. Приезжали те, кто вышел из заключения или следовал в ссылку, мы всех принимали. Я всегда батюшек и матушек ночью отправляла на поезд. Но … зависть людская. На маму донесли и ее арестовали. И сестру ее, мою крестную тоже забрали. Трое детей осталось. Хозяйство все порушили. Но мы и после войны, когда вернулись домой, продолжали принимать священство.
— А как вы жили после войны? — спросили мы матушку.
— Трудно. Страшное было время. Опять продолжали забирать людей. Приходили по ночам, ничего не говорили, увозили куда-то. Я знаю то место, неподалеку от Всеволожска, где производились массовые расстрелы, надо бы туда поехать, помолиться, да не могу, боюсь, что сердце не выдержит.
— Это в районе станции Бернгадовка?
— Да. Там имение старинное было, его подожгли, порушили.
— Теперь уже установлено, что там был расстрелян священомученик митрополит Вениамин с сомучениками, там был расстрелян поэт Николай Гумилев, и потом в 30-е и в 40-е годы тысячи безвестных страдальцев. А имение, кстати, восстановлено — там теперь музей семьи Олениных. Мемориал же жертвам террора пока не собираются делать.
— Да, кто же все это делал? Я думаю, что это не наши люди. А какие-то засланные, нанятые. Наши были хорошие. Как нам все помогали после войны.
— Вы вернулись в родительский дом и устроились на работу?
— Да я всю жизнь проработала во Всеволожске в больнице, в санэпидемчасти. И в это время начала строить новый дом, чтобы принимать там людей. У меня такое благословение было. По ночам таскала бревна, потому что днем некогда было заниматься стройкой, да и привозили мне стройматериал по ночам. Но мне многие помогали на стройке, очень хорошие люди были вокруг!
И опять матушка прослезилась, она вспомнила врача, который работал вместе в ней, который был арестован уже после войны и не вернулся, вероятно был расстрелян. Две его девочки остались сиротами, мать умерла раньше.
Но потом матушка опять заулыбалась, — вспомнила священника, который служил во Всеволожском Троицком храме в то время, когда Нина Ильинична была в нем старостой. Отец Владимир Каменский — праведник нашего времени, о нем сейчас издана книга. Батюшкиными молитвами мы спасались!
— Да, ведь это удивительно вас не тронули, не было неприятностей на работе, хотя все знали, что вы не просто посещаете церковь, а активно помогаете батюшке. Никто не донес на вас, что вы принимаете у себя в доме священников, монахинь.
— Да, Господь хранил все время. А я не только принимала священников, муж купил машину, я научилась ее водить, и возила батюшек и матушек, когда нужно было и ночью и днем. Я все монастыри объехала, в Пюхтицах часто бывала.
Еще мы спросили матушку были ли среди наших солдат на войне верующие люди. Матушка оживилась: «Были, были. Крестики на многих были надеты, ладанки. Родители у этих солдатиков в основном были верующими, молились за них».
* * *
Перед нами за краткий час прошла вся жизнь Нины Ильничны Васильевой-Метицкой, за несколько лет до праведной кончины ставшей монахиней Варварой, — жизнь, которую можно назвать подвигом.
Деревенские бабушки
Александра Павловна
«Земную жизнь пройдя до половины», оцениваешь как великое приобретение то, что прежде казалось ущербностью, — свое крестьянское происхождение и жизнь в деревне в детские годы. В 60-е и 70-е годы я еще застала ту деревню, в которой сохранялись старинные обычаи, песни и игры, общие праздники — «братчины». Позже ездила в деревни русского севера в экспедиции, и теперь в отпуск тянет не в теплые края и не в страны заморские, а в дедовский дом на берег Волхова. Так от детства и до сего дня Господь дает возможность прикосновения к живой народной жизни. Потому что разные это образы бытия — наше, так сказать, городское христианство (хотя, как мне верно сказал один человек, «спастись можно и на крыше небоскреба»), и христианство на земле — крестьянство.
Один простой пример из собственного опыта приведу. Однажды поехала в отпуск в деревню с разными рабочими, общественными проблемами — не могла успокоиться. Пошла к моему деревенскому другу Александре Павловне, хотела поделиться с ней своими бедами, а она плачет и молится — из стада деревенского две коровы пропали во время ее пастьбы. Кругом леса дремучие, да и народ всякий попадается. Я тогда как-то особенно сильно почувствовала — вот это настоящая беда, а у меня все почти — от головы и от собственных страстей.
Коровы нашлись, и все мы вместе радовались, что Бог услышал наши молитвы. Об Александре Павловне, Царствие ей Небесное, скажу в этой книге особо.
В годы гражданской войны и разрухи в крестьянской семье в глухом мещерском крае у 52-летней матери родился тринадцатый ребенок — дочка Шура… О своем детстве и тяжелой трудовой, военной юности Александра Павловна рассказывала как о времени, полном смысла, как о правильной жизни, в которой к тому же было так много чудес. Рассказы ее я долго вспоминала, придя домой после наших «посиделок» у дверей коровника, где она проработала почти всю жизнь. Настало уже время опубликовать эти рассказы. Но передать живой мещерский говор, интонации, движение рук и мимику мне все равно не удастся: увы, я не писатель, а публицист…
Александра Павловна всю жизнь прожила для других — сначала трудилась, чтобы поддержать престарелых родителей, потом одна растила дочь (муж погиб на фронте в самом начале войны), нянчилась с внуками, с трудом пережила раннюю смерть одного из них. Когда мы познакомились, на меня нахлынуло ее трагическое одиночество в мире, где о душе и поговорить-то не с кем. Как-то это не принято между современными деревенскими жителями.
«А мы, когда собирались дома или в гостях, пели хором. Ведь электричества не было и телевизора тоже, болтать что ни попадя отец нам не разрешал. А сколько хороших песен мы знали, и совсем не скучно было, когда пели вместе или рассказывали интересные истории», — вздыхает Александра Павловна. Но при этом никого не осуждает. Пожалеет, но не осудит. Всю жизнь Александра Павловна прожила в «советской деревне», а сама была хранительницей вековых устоев крестьянства. К ней не приставало ничего от царящей в колхозной деревне последних советских лет расхлябанности, лени, пустозвонства — все это обходило ее стороной.
Не смогу я передать своими скудными словами ее душу, но в память о ней приведу фольклорные записи, сделанные в тех местах, откуда она родом. Подивитесь вместе со мной, какой богатый язык у настоящих природных крестьян, не потерявших свое лицо в сумятице «перестроек».
«Моя душа не берет барыша: никогда не жила сыто-прикрыто и всю жизнь делов как дров», «в деревне жить — заплевали, затуркали», «прожито — порублено, нет того человека, у которого горя не было», «я где родилась, там и сносилась», «мой век — состав большой, поезд не перевезет, что пережито, я горя тяпнула больше всех», «выходных и отпусков у нас не было, сильно нас обижало государство, потому и сносились прежде времени», «я всю жизнь прожила — невысоко прыгала», «старой жизни не дождаться, ни с какой сторонушки не докликаться, потому как в людях кровь стала скотинная», «с разумом никто не родится — все учатся, нас учили: не спускай с сердца Бога — будет тебе во всем подмога, еще нас учили: рыба любит глубину, а человек добрину».
Еще полнее, лучше общая судьба народная вылилась в песнях-заплачках, которые, как Александра Павловна вспоминала, они пели на посиделках:
Я от горя в чисто поле —
Горе катится за мной.
Я от горя в темный лес,
Оглянулась — горе здесь:
Горе плачет, горе скачет,
Горе песенки поет.
Страшная доля выпала доживающим ныне по деревням последние годы своей многострадальной жизни старушкам: голодное и кровавое революционное детство, раскулачивание, коллективизация, высылки, аресты отцов, братьев, опять голод, война, беспаспортное советское крепостное право, работа за «палочки» — трудодни, а потом пенсия — 12 рублей, верх — 20 рублей. Пьяные мужья, дети, внуки…
Я от горя боком, боком,
Ну а горе все за мной.
Я от горюшка в реку —
Горе стоит на берегу.
Вот такой образ «старухи-горюхи» у нас получился, но не так все однозначно просто. Деревенские бабушки, которые, как моя Александра Павловна, не бросили свою землю и хаты, все-таки духовно более крепки, чем их городские сверстницы. О той фактически страшной прошлой жизни они говорят: «Жили мы бедно, да весело», «есть было нечего, а жили мы весело», «веселее раньше жили», «беднее мы жили, нуждой тисканы, но веселее». А таких проклятий в адрес правительства и богатых, какие приходится слышать от стариков у нас в городских магазинах и на улице, в деревне я не слыхала. Простой деревенский народ знает себе цену: «Не все кто-то виноват, но и сами виноваты. Раньше ругались: «Дай тебе Господь большой лени» — это на человека, а на корову: «Ах ты, окаянница!» А нынче все матюгом — и на корову, и на матку, и на детей… Никто не доказал, что Бога нет, а как лихо придет, все Бога вспоминают: Бог и в народе, и в природе, и в песне. Без Бога — ни до порога, а с Богом — по всем дорогам».
Наши деревенские бабушки — те, которые еще застали настоящую «старинушку», видели Русь пращуров, царство православное, страдают не только так, как в городе — от безденежья, недоедания, оскорблений, но и оттого, что «все дико стало», забыл народ о том, что русский — это значит православный, а не деревенский пьяница, как ныне.
Вот их слова: «Кинули мы милое, пошли искать постылое», «Бог долго ждет, да больно бьет. Вот по жизни и жильцы стали: ни Бога, ни совести — живут, как хотят… Убила горилка людей, и нечистый дух в них вселился», «у нас чуть что — давай менять быка на индюка! То — «все для народа», а то вдруг перевернут этот народ кверху тормашками. Живешь — переродишься — опять живешь», «спустила эта жисть всех людей, и сами сбились с дороги — какая власть, такая и масть». И как присказка у всех звучит: «Мы жили в другое время. Темный народ, но боялись греха», «не так живешь, как хочешь, а как жизнь сложится… И будешь звать: «Правда, где ты?», а она так тихонько: «Я здесь, да боюсь отозваться»».
Бабушками деревенскими и ныне еще держится почти исчезнувшая с лица Русской Земли деревня. Там, где есть церковь — они главные прихожанки. Только церковь и настоящий пастырь могут поднять Землю Русскую. Вернуть прошлый деревенский уклад можно только любовью. На любви все стоит.
Моя Александра Павловна дожила до того времени, когда в соседней деревне открылась церковь, и потому считала, что закончила свою жизнь счастливо.
Баба Маня
Щемит сердце при взгляде на последних «бабушек в платочках», плачет сердце, когда узнаешь скорбные повести их жизни, — и прошедшей, и нынешней.
Как прекрасно сказал об этом ярославский священник Александр Шантаев в своей книге «Асина память», «можно вполне реально всмотреться в каждую старуху, как в икону, в таинственную «Мону Лизу» сельского Православия, как в море безбрежное. И вполне возможно увидеть за каждой эту высь, это море и небо с мерцающими созвездиями. И это будет правильно, по-христиански — это будет по заветам наших нравственных апостолов. Но вопрос остается на месте — при чем здесь Церковь? Что она? Где ее место здесь, то, о котором говорится в Писаниях? Если окинуть мысленным взором всю Россию за чертой Москвы, — сотни, тысячи церквей, и каждая со своим десятком верных старух, гуртом более или менее дряхлых бабок. И за каждой бабкой — куст ее больного рода, чем позднее побеги, тем беднее и истощеннее. И из этих клубней в навозных грядках — разумею из бабок, — тянется к небу уродливыми чахлыми побегами вся Русь, полная незрелых кислых плодов, пустых орехов, червивых яблок. Но и в этих червивых яблоках есть свои свежие семечки — как один восьмилетний мальчик, до благоговения изумивший меня сердечной простотой своей исповеди. Сейчас, к сентябрю, бабки по обычаю гонят своих внуков и правнуков в церковь причаститься и благословиться на учебу, чтобы отъехать до следующего лета в ближайшие и дальние города и веси…
Может, эти заскорузлые бабки, старые корни, принесут еще Богу свой плод во времени, в истории сам-десять, сам-шестьдесят? И тогда выяснится, что наши пустующие церкви были в эту эпоху вроде полей под паром, обильно унавоженных страданием, терпением, непротивлением злу, сохраняющих до поры, под спудом клубни прорастающих потомством бабок?»
В каждом сельском приходе были или есть свои старожилы — «старейшины сел», и среди них те, что мирским чином крестили и отпевали своих односельчан в годы, когда были закрыты храмы. Автору этих строк приходилось общаться с такими бабушками, и всегда поражало одно: какие прекрасные лица! Вернее, лица, уже при жизни преображенные в лики. И какие трагические судьбы! Одиночество, издевательства родных и близких, бездомные скитания, многолетние голод, холод, болезни. И при этом — несгибаемая вера, верность Церкви.
Все встреченные мною бабушки-крестилки уже ушли в вечность, последней из них была Мария Васильевна Стрелкова в поселке Сиверский, которая дожила почти до ста лет. О ее жизни я и хочу тут рассказать.
Родилась баба Маня в старинном селе на берегу Волхова. Там вышла замуж и родила троих детей. Была ревностной прихожанкой местного храма, и в глубокой старости с плачем рассказывала, как видела мучения священников, закопанных живьем неподалеку от храма.
Во время войны Марье Васильевне воистину пришлось пройти по кругам ада, ей трудно было об этом вспоминать, когда я ее попросила: младшая дочка умерла в окопе, где они жили несколько месяцев, потом скончалась мама, потом с малыми детьми пришлось пробираться по оккупированной немцами территории к своим, — и здесь на пути она видела столько ужасов — убитых, замученных людей, брошенных без погребения, испытала страшный холод и голод. А потом ехала на поезде в далекий Челябинск, и по пути подобрала мальчика — мама его скончалась прямо в вагоне, и ее выгрузили на безвестной станции, а мальчик остался один.
Потом были годы «лошадиного труда» — до бездыханности. Муж с фронта не вернулся, детей нужно было поднимать одной. И вот в это трудное послевоенное время начался «крестильный подвиг» Марьи Васильевны: к ней шли жители поселка и близлежащих деревень, зная, что она «церковница» и поможет не оставить детей и внуков нехристями; крестила она и взрослых людей — перед смертью, которые, оказывается, не были крещены в детстве. «А теперь я всех пережила, — плачет баба Маня. — Я так хочу к своей Ксеньюшке». Дело в том, что родилась бабушка в день памяти великой святой Ксении Блаженной, и потому особо ее почитала. Блаженная не раз являлась ей во сне с утешением. Бабушка передала нам на молитвенное благословение тетрадочку, в которой ее рукой много десятилетий назад была переписана «народная молитва» блаженной Ксении. Хочу поделиться ею с читателями:
«О святая блаженная мати Ксения, Божия агница и наша усердная предстательница у Престола Господа! Услыши наши молитвы и воздыхания и поспеши нам на помощь: испроси прощение грехов наших у Господа Человеколюбца! Помоги нам преуспевать в работе, в семье всегда хранить согласие и любовь, детей воспитывать в страхе Божием. Вразуми нас в деле спасения, помоги уклоняться путей нечестивых, и настави нас ходить во свете заповедей Божиих! Веруем, яко твоя богоприятная молитва ко Господу исправит наше земное житие к лучшему, и сподобит нас достичь вечного блаженства в небесном Царствии, где купно с тобою и со всеми святыми будем прославлять всечестное имя Пресвятой Троицы во веки веков. Аминь».
В этой же тетрадочке рукою бабы Мани полностью переписан Апокалипсис — Откровение апостола Иоанна Богослова, рассказ о чудесном Покрове Божией Матери над Россией в 1941–1945 годах, а также «Молитва от антихриста», составленная прп. Нектарием Оптинским. Содержание тетрадочки — свидетельство сокровенной духовной жизни простой бабушки-крестилки, а через нее и сотен, тысяч таких же простых верующих бабушек, которые, по словам преподобного Серафима Саровского, были теми «платочками», что спасли и спасают Россию.
Закончить свой рассказ о бабе Мане хочу еще одной цитатой из книги отца Александра Шантаева — в ней он создал настоящий реквием по «Руси уходящей». Ведь именно теперь, а не в революционные годы, не в годы коллективизации, а в наши дни окончательно покидает Русскую Землю былая простота, открытость, почвенная укорененность, семейный, родовой уклад жизни. На тех страницах книги, где ее автор от описания будничных перипетий переходит к осмыслению своей священнической жизни на селе, — он становится поэтом: «…их руки сухие и набрякшие, с натертой зашершавленной мягкостью, пробитой глубокими бороздами складок, буграми старых мозолей. Событие (соборование — Л. И.), происходя обычным порядком, вдруг необъятно распахнулось. Подались тяжелые крепостные двери сиюминутности, что так цепко держат ум и душу в тварной тесноте, внезапно открылась перспектива, не утекающая за горизонт, а наоборот, все более расширяющаяся и торжественно открывающая истинную правду Божию. — Вся Русь раскрылась подобно антиминсу в этом Таинстве Соборования. И вот тяжелые человеческие руки разогнулись, как судные книги, открывая полные жмени прожитой жизни, дали перелопаченной земли, отлакированные до блеска черенки лопат и вил, горы переворошенных хлебов и трав, перемешанного теста, уложенных до горизонта мешков с картофелем, штабеля перестиранных одежд, нескольких поколений младенцев, от своих первенцев до нынешних правнуков…»
Валерий Николаевич Лялин
«Это навело меня на размышления о святом остатке на земле. Я думал о семье праведного Ноя, о Лоте, спасшемся из Содома, о святых апостолах Христовых, о том святом остатке людей, которые поверили в учение Христа и разнесли его по всему миру. Это были те дрожжи, о которых упоминал Христос и которые за-квасили тесто христианства во всем мире». Эти слова В. Н. Лялина по праву можно отнести к нему самому. Он сам принадлежал к «святому остатку», которым держится мир. Он был тем связующим звеном, через которое наше утерявшее духовные традиции поколение соприкасалось с верой отцов.
Валерий Николаевич Лялин был одним из тех, кого называют «старец в миру». Хотя был он мирским человеком, но всякий, кто близко с ним общался, чувствовал, что мирского духа в нем нет, от него исходила особая благодатная тишина, которую ни с чем не перепутаешь. «Стяжи дух мирен…»
В роду у Валерия Николаевича был подвижник и молитвенник: прадед Матвей Иванович Сурин, который, оставив купеческое дело, роздал богатство и десять лет вел отшельническую жизнь в лесу под Ивановом. Его крепкий характер, видимо, и унаследовал Валерий Николаевич Лялин.
Старцы-подвижники были духовными наставниками Валерия Николаевича от юности: невеста Христова горбатенькая Матрона заронила в душу память о настоящей живой вере, а уже после испытаний Великой Отечественной войны святитель Лука (Войно-Ясенецкий) благословил на поприще медицинского служения, глинские и грузинские подвижники окормляли его долгие годы в то время, когда он проживал в их пределах. От наставников Валерий Николаевич кроме углубленной молитвы получил в дар именно старцам свойственную сердечную проникновенную внимательность к каждому человеку. А Господь уже в преклонном возрасте — после семидесяти лет — послал ему писательский дар.
О том, что это был дар свыше, с удивлением говорил и сам его обладатель: «Слово дается, это не я сам. Так быстро писать невозможно». Действительно, за несколько лет было написано несколько значительных книг, значительных и по художественному уровню, и по уровню духовной правдивости. Вот их неполный список: «Последняя надежда» (2000), «Нечаянная радость» (2004), «Птицы небесные» (2005), «Куда ведут дороги» (2007).
«Я так живу, как я пишу», — мог бы сказать Валерий Николаевич. Он был, что называется, «бывалым человеком», очень многое в жизни перевидал и испытал — и на войне, и работая сельским врачом в разных уголках страны. И потому ничего не выдумывал в своих рассказах, но превращал увиденное в жизни в законченные яркие образы. С художественной силой, порой не уступающей нашим прославленным классикам, Валерий Николаевич запечатлел в своих книгах образы подвижников, и одновременно, благодаря своей сердечной внимательности, он сумел увидеть величие Христово в скромных незаметных тружениках Земли Русской.
Своего писательского авторского «я» он никогда не выпячивал, всегда скрываясь за образом «лирического героя». И о себе рассказывать не любил, когда спрашивали, отвечал: «Так я все уже в книгах написал». Поэтому, как отмечали все знавшие его, от общения с ним всегда оставалось чувство некоей тайны, которую мы узнать недостойны. Одно было достоверно: Валерий Николаевич был «не от мира сего». Близка ему была древность, потому кроме писательского дара обладал он редкостным даром сказителя. Особую любовь слушателей приобрели рассказы в эфире «Православного радио Санкт-Петербурга» и в записи на дисках в исполнении автора. Слушая этот неторопливый, ясный голос, и сейчас невольно отвлекаешься от земной суеты, и все происходящее вокруг начинаешь воспринимать в духе библейских притч.
Тысячи радиослушателей, тысячи читателей горячо полюбили его слово, а когда он ушел в вечные обители, глубоко в сердце сокрыли благодарную память о сокровенном подвижнике в миру — Валерии Николаевиче Лялине.
«Мир наш, утонувший во зле и грехе, стоит еще молитвами праведников, живущих в монастырях, пещерах, ущельях, расселинах, которые и денно и нощно взывают: «Господи, помилуй нас, ради имени Твоего святого не дай погибнуть созданиям Твоим, яко Ты еси Бог во Святой Троице Единосущной и Нераздельной, всегда, ныне и присно, и во веки веков Ты еси Бог наш! Аминь»». Слова молитвы, которыми заканчивается один из рассказов, вылились из молитвенного сердца раба Божия Валерия. Мы верим, что и ныне он молится за нас — и тех, кто знал его лично, и тех, кто прежде и сейчас знакомится с ним через его книги. Я благодарю Бога за то, что не один раз побывала в его старом доме на Крестовском (и вот потрясающее совпадение — в этом доме жили мои родители до моего рождения, сразу после свадьбы!). Навсегда запомню наши неспешные разговоры с Валерием Николаевичем за чашкой чая, строгие лики древних икон, и такие же «строгие» старопечатные толстенные книги на маленьком столике. Валерий Николаевич был «алчущим и жаждущим правды», и потому верим, что ныне он там, где блаженные.
Близкие друзья Валерия Николаевича посвятили ему проникновенные стихи, одно из них мы публикуем как дань его светлой памяти.
Крестовский остров
В. Н. Лялину
На Крестовском острове
Должен крест стоять.
Если не апостол, то
Столпник просиять…
Но ни храма, Господи,
Нету, ни креста…
А живет на острове
Старец-Простота.
Корабельным остовом
Старый дом лежит.
Где уж тут апостолам —
Тут бомжам бы жить!
Еле старец ползает
В сумерках жилья.
Пишет разве прозу он? —
Наши жития.
Разве суть в художестве? —
Нет, не суть.
Нас на Суд в убожестве
Ангелы снесут.
Но покуда в мире мы,
Божья Благодать
Тянет долу гирями —
Ползать и писать…
Всем бы так бы, Господи,
Жить бы — не тужить.
На Крестовском острове
Господу служить.
А.В. Грунтовский
Блаженная Ксения нашего времени
Как известно, самый трудный подвиг духовный — юродство Христа ради. Трудный, потому что человек тут всегда ходит «по лезвию бритвы»: исполнить волю Божию, отказавшись от жизни «как у всех» (стать непонятым и посмешищем для многих, и одновременно обличителем, вразумителем, утешителем), но и не возгордиться, и не «вступить в роль», не начать смотреть на себя со стороны («вот я какой необычный!»).
О Христа ради юродивых, блаженных написано немало книг. Но важно встретить такого человека, увидеть своими глазами и не ошибиться при этом, ведь в наше время столько и лжеюродивых — самочинных подвижников.
Благодаря замечательному фильму, снятому на московской студии «Патмос» — «Прощеное воскресенье», множество людей имеет возможность увидеть современную Христа ради юродивую — блаженную Тамару Павловну…
В православной среде общим местом стало ругать кино. Некоторые верующие даже боятся приблизиться к «черному ящику», который воспринимают как гипнотическое явление. Но за последнее время появилось немало фильмов, которые должны скорректировать подобное умонастроение. Иногда, глядя на телеэкран, ты открываешь для себя такие жизненные глубины, до которых, может быть, нескоро дошел бы в обычном своем бывании. А в исключительных случаях просмотр фильма может стать источником самого важного и самого спасительного для христианина состояния — покаяния.
Так происходит при встрече на телеэкране с Тамарой Павловной Кронкянс.
Она из тех, о ком поется в песне Сергея Трофимова (его песни идут постоянным звуковым рядом в картине) — из тех, «кого Россия не балует, но мы ее последние солдаты». Она из тех, кто побеждает, а не сдается перед натиском современной бесовщины. И она, как мы узнаем из фильма — ублажаемая и почитаемая очень многими москвичами, — обыкновенная нищенка, бомж. Женщина, двенадцать лет прожившая на кладбище и просившая подаяние.
Сценарист и режиссер Сергей Роженцов хотел снять фильм о старце Захарии, похороненном на Немецком Введенском кладбище в Москве. Он намеревался сделать обычный историко-биографический фильм (каких немало сейчас), а попал, что называется, в историю, и то, что для него было, может быть, только работой, стало жизнью. Или — даже перевернуло всю жизнь. Он встретил на кладбище Тамару Павловну. И, как выясняется по ходу фильма, как и многие встречавшиеся с ней, почувствовал в ней «власть имеющую». То есть не «книжника и фарисея», а человека, который живет по-Божьи в этом мире, и потому имеет право говорить о Боге, и потому увлекает людей. Кроме того, на Введенском кладбище обретается немало памятников ее веры, ее жизни по Богу. Эта безвестная нищенка построила часовенку на могиле старца Захарии и поставила гранитный крест. Восстановила заброшенную и опоганенную часовню с дивным образом Спасителя работы К. П. Петрова-Водкина, привела в порядок немало заброшенных могил. На какие средства? На людские подаяния, на все, что она в течение жизни скопила на смерть, на свою пенсию и при помощи добрых людей, которые присоединились к ее трудам.
«Посмотри, деточка, это Господь Сеятель. Он сеет любовь, что у нас не хватает, Он сеет хлеб. А хлеб — это любовь, что у нас не хватает». «Без добрых дел молитва мертва, деточка». «Когда очистишься от грехов, тогда и жить хочется». Эти слова, сказанные Тамарой Павловной, проникают в душу, потому что за ними стоит жизнь. И хочется тоже начать жить, а не играть в жизнь. Ну хотя бы попробовать…
Недаром же, когда Тамара Павловна пропала с кладбища — ее домик (сараюшку, в которой она обитала прямо среди могил) снесли и ее саму изгнали, — режиссер фильма обрился наголо и встал в один ряд с нищими перед кладбищем, чтобы испытать, что это такое — стоять с протянутой рукой.
Когда Тамару Павловну изгнали с кладбища, люди почувствовали, как им ее не хватает — об этом говорят многие «прохожие». Оказывается, она была тем человеком, который умел слушать другого человека (какое редкое качество в наше время!), и не просто выслушивать, а сочувствовать. Она и без слов показывала, «какая бывает крепкая вера и сила». Она и ко всем усопшим, лежащим в этом «городке» (так называет кладбище Тамара Павловна), относилась как к своим близким, родным. О многих могла рассказать, а не один десяток вымаливала. Так, она однажды в фильме проговаривается, когда показывает режиссеру Сереже могилки убитых милиционеров: «Я очень просила Царицу Небесную, чтобы Она спасла их души». И через весь фильм проходят картины похорон, где среди прощающихся с усопшим стоит Тамара Павловна, а потом, когда уже все расходятся, долго и скорбно стоит у свежей могилки.
В фильме, казалось, собрана вся боль современной России: нищие, нищенки, похороны, тюрьмы, безобразные молодежные образы (под слова песни: «В нашей жизни нынче на Руси становятся убийцами мальчишки») — и все равно свет, который идет от главной героини — Тамары Павловны — перекрывает все!..
Когда я смотрела фильм, мне вспоминались строки поэта, не отдающего свои стихи в печать, потому имени его не назову:
Тайнозрители третьего Рима,
Каждый день нам за год или два.
В смертный круг наша жизнь невместима,
Хоть натянута как тетива.
Но шальная проносится мимо,
В том права, что ни в чем не права,
Потому что навеки хранима
Русской правдой. И верит в слова…
Если первый Рим стоял на крови,
А второй на чужих костях,
Третий только рождается в муках любви.
Не смотри, что лицо в слезах.
И недаром фильм назван «Прощеное воскресенье». В конце его Тамара Павловна в день Прощеного воскресенья просит прощения у всех, кто ее обидел, и прежде всего у церковного старосты, который и организовал ее изгнание с кладбища («Прости меня, Петенька. Будем друзьями, как раньше»). Но дело не только в этом молитвенном подвиге Тамары Павловны («Ах, как трудно было», — признается она), но и в том, что и в нас, зрителях, непостижимым образом пробуждается человечность. И так емко, образно показанные в фильме люди (и не случайно их «галерея» мелькает в конце) становятся тебе до боли своими. И всех жалко. Вот она какая — Россия. И жива еще ее душа. Что, может быть, более всего выразилось в восклицании одной женщины: «Прости меня, Господи, не верю я во все это, вот и в церковь не иду. А Тамара мне правильно сказала, что надо идти в церковь».
Мы знаем, что многие люди, особенно молодые люди, — пошли в церковь после просмотра этого фильма. Значит, действительно он — о жизни и для жизни.
Все напечатанные выше слова были написаны сразу после просмотра фильма «Прощеное воскресенье» в 2001 году. Так же как и многих зрителей фильма, меня волновал вопрос: где теперь Тамара Павловна? Что с ней?
Тамара Павловна сама меня нашла. Оказалось, что спустя годы газета с моей статьей попала ей в руки, она ее прочла и попросила свою верную помощницу Ирину пригласить меня в Москву.
«Найдешь меня в храме Петра и Павла на Яузе», — сказала мне матушка, когда я позвонила ей по телефону. И вот я в Москве, и не только получаю ответ на давний вопрос, что теперь с Тамарой Павловной, но и на более важный: как она смогла понести такой подвиг, какой была ее жизнь на кладбище в течение двенадцати лет?
Ответ этот — в подробном рассказе матушки о мытарствах, которые выпали на ее долю с самого рождения. Увы, бумага не может передать особенных интонаций Тамары Павловны, ее слез или смеха, приходится изъять из повествования и песни, которыми она постоянно перемежала рассказ о трудном сиротском детстве и юности, и молитвы — ими она предваряла самые трагические истории. Трудно было ей вспоминать свою страдальческую жизнь…
Родилась Тамара Павловна на Украине во время «голодомора», родители ее скончались, когда малышке было несколько лет от роду. Попала в детский дом, там и начались ее мытарства: мало того, что ей, как и всем, приходилось голодать и стынуть от холода, ее еще и особо невзлюбила воспитательница. Имя этой женщины теперь Тамара Павловна произносит с жалостливой интонацией, так и говорит: «Мне ее жалко». А между тем из-за этой женщины матушке не пришлось окончить школу, та постоянно ее жестоко избивала, и в конце концов пробила ей голову утюгом.
Потом была война, бомбежки, опять голод (дети собирали оставшиеся колоски в поле, ловили и ели сусликов) и холод (особенно трудно было без обуви, одна пара на несколько человек). А потом ее увели с собой цыгане, выкрали девочку-армянку, внешне похожую на их одноплеменниц. В то время ей было 12 лет. Цыгане посылали ее по деревням попрошайничать. Но однажды, когда она выбросила надетые на нее золотые кольца и серьги (не зная, что это драгоценный металл), хозяйка-цыганка ее жестоко избила. После чего Тамара сбежала из табора.
И начались одинокие скитания из деревни в деревню, из города в город. Ела и пила что Бог пошлет. Ночевала у добрых людей в чуланах, в сараях, на сеновале или на вокзале. Потом нанялась работать в «нянечки». Нянчилась с ребенком и делала всю работу по дому: вставала в четыре утра, доила и выгоняла на пастбище корову, готовила, стирала, убирала, на огороде работала. Спала по нескольку часов в сутки.
Бог послал ей добрую женщину — Валентину Михайловну, которая отнеслась к ней как к дочери. Но потом случилась беда: когда благодетельница уехала в город, ее пьяный муж пытался изнасиловать девушку. Крики услышали соседи, случился стыд и позор. Пришлось Тамаре покинуть добрую женщину и завербоваться на Север на лесоповал. Но и там ее подстерег злой дух, опять в виде насильника. И оттуда она бежала, нашла работу «нянечки», но хозяйка вскоре стала замечать, что ее работница на глазах поправляется. А бедная Тамарочка даже не подозревала о том, что она беременна… И опять ее выгнали, опять начались скитания. Не кончились они и тогда, когда на свет появился первый ребенок (первенец по вине санитарки в роддоме получил сильнейший ожог), и тогда, когда родился второй сын.
Горькие переживания связаны у Тамары Павловны с детьми. После долгих скитаний по югу и северу России она наконец смогла найти работу в Москве и прописаться в общежитии. Работала много, но дети все же голодали — время было послевоенное. И вот однажды она решила пойти «просить». Милостыню решила поделить с соседками по общежитию, так простодушно им и сказала: «Ну, посчитайте, сколько я там набрала». Они посчитали и стали возмущаться: «Да тут столько, сколько мы за месяц зарабатываем. А ты — за несколько часов». И написали на нее донос. Тамару Павловну лишили материнских прав, а детей забрали в детдом. Сколько горьких слез было пролито тогда! Виновницам ее мучений стыдно стало, и они написали просьбу о пересмотре дела. Детей вернули, но сердечная рана осталась на всю жизнь…
Вот тогда она и начала ходить в храм, тот самый, прихожанкой которого является и сейчас. Ездила с детьми в Троице-Сергиеву Лавру, в Почаев. Там она чудесным образом обрела себе духовного отца. Добиралась в Почаев в первый раз с большим трудом, пришла в храм страшно голодная, и у первого попавшегося батюшки попросила дать ей хлебца. А он не дал. Но потом, когда она именно к нему попала на исповедь, он с плачем сказал, что Царица Небесная его обличила за жестокосердие, упал перед ней на колени, просил прощения. Она просила, чтобы он за нее помолился, а он отвечал: «Молиться я не умею. Болезней много».
А потом именно этот батюшка научил Тамару Павловну молиться. Или, вернее, как она говорит, через него «Матерь Божия научила молиться». Хотя она и до этого много молилась, и поклоны земные клала, но, по словам матушки, «молитвы мои были пустые» и «поклоны мои были пустые».
При нашей встрече я стала свидетельницей молитвы матушки и была потрясена — такую молитву я видела только у блаженной Любушки Сусанинской: она разговаривает с Матерью Божией, со святыми так, как будто они стоят рядом…
Тамара Павловна после поездки в Почаев устроилась на несколько работ, для того чтобы не только своих детей поддерживать, но и батюшке помогать. Стала она в монастырь посылки отправлять и сама возить гостинцы. Одна из таких поездок и привела ее на Немецкое кладбище.
Надорвалась она после того, как однажды дотащила до Почаева неподъемную сумку. Попала в больницу и оказалась при смерти. И тогда взмолилась ко Господу: «Возьми меня в Свой городок!» Так она называла кладбище. А Господь ей послал неожиданное исцеление. И одна женщина принесла ей книгу про старца Захарию-Зосиму. Она прочла ее — и возгорелась душа поближе стать к старчику. Узнала, где он похоронен, пришла на Немецкое кладбище и увидела, что могила его запущена.
Вспомнила, как раньше просила подаяния «Христа ради», и опять встала с протянутой рукой у станции метро — собирать деньги на памятник на могилку старца. Деньги она собрала, крест заказала, да так и не захотелось уходить «из городка». Один из рабочих кладбища сколотил ей сараюшку, и стала она там жить.
«С крысами, с мышами, с осами, с муравьями, так и жила», — вспоминает Тамара Павловна. А верная Ирина добавляет: «И босая Тамара Павловна ходила в мороз, и дождик через щели в крыше попадал в келью, и по ночам страхования бывали, и обворовывали келью (а что возьмешь — самовар да бедную посудку). А она молилась день и ночь — вся стена была в бумажных иконах». Тамара Павловна добавляет: «Такая радость была там. Сколько чудес я там видела».
А с тем обидчиком она не только примирилась, но и полученные от добрых людей деньги ему отнесла: попросила, чтобы, когда она умрет, похоронил он ее неподалеку от старца Зосимы.
Не бывает теперь Тамара Павловна на Немецком кладбище, но верит и ждет: «Старец возьмет меня в свою келью на Небе».
Двенадцатилетнее служение на кладбище кончилось для Тамары Павловны шесть лет назад, но ее служение людям не прекратилось, а стало еще более важным. Это я почувствовала, когда Тамара Павловна показывала мне свой храм. Он стоит в самом центре Москвы и — она права — действительно похож на корабль. Стоит на горке, а вокруг цокольного этажа, у абсиды, сделана большая площадка, которую матушка назвала палубой. Когда стоишь на этой «палубе», кажется, что храм-корабль рассекает воды «моря житейского». И тут Тамара Павловна молится не только за прихожан, за тех, кто ее попросит, но и за весь город. Да и больше того — за Отечество наше. Просто молится, простыми такими словами. И всех любит.
Когда мы уже прощались, матушка меня спросила: «Ну, дали мы тебе хоть немного любви?» В первый раз в жизни я услышала такой вопрос.
А потом она пошла меня провожать, и долго мы не могли расстаться, хотя я и напоминала о том, что ей с больными ногами тяжело со мной идти, а потом ведь еще домой ехать надо. Живет матушка теперь на окраине Москвы. Это ведь тоже подвиг при старческих немощах — ездить через весь город в «свой родной храм», где «на стенах все Евангелье, где столько чудес бывало». Это подвиг любви, которому Тамара Павловна верна всю жизнь.
В заключение хочу сказать, что и в жизни Тамара Павловна выглядит так же, как в фильме: за ее скромным обликом — в рабочем халате с фуфайкой-безрукавкой сверху, в типичных «бабушкиных тапочках», в простом платке — скрывается необычайная сила духа. Об этом свидетельствуют сильный музыкальный голос Тамары Павловны, отличная память, живой интерес к жизни и даже веселость.
Старец Зосима (Сокур)
Как я уже писала в начале книги, мне удалось испытать на себе, что назидательное общение с людьми святой жизни возможно не только при их жизни, но и после отшествия их в мир иной. Расскажу о моей «встрече» со старцем Зосимой (Сокуром) на Украине.
Его в России многие знали, а на Украине почитали так, как у нас старца Николая Гурьянова. Так же как к отцу Николаю, ездили к нему со всеми своими скорбями, получая исцеления и узнавая о своем будущем. И почил он через три дня после отца Николая в 2002 году.
О схиархимандрите Зосиме до поездки в основанный им монастырь мне доводилось читать в книгах и слышать от подруги — московского регента и педагога Кати Ткаченко. Она написала по моей просьбе рассказ, который я приведу ниже. Но прежде перескажу основные вехи биографии приснопоминаемого старца Зосимы (Сокура).
Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Алексеевич Сокур) родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Свердловской области. С 1951 года жил в г. Авдеевка Донецкой области, где в 1961 году окончил среднюю школу. Затем учился в Донецком сельхозтехникуме и занимался гражданской работой.
С 1968 по 1975 год учился в Духовных школах г. Ленинграда. Академию окончил со степенью кандидата богословских наук. В том же 1975 году принял монашеский постриг с именем Савватий, был рукоположен в иеромонахи, несколько месяцев прослужил в Одессе, после чего в декабре 1975 года был принят в клир Ворошиловградско-Донецкой епархии. Всю свою дальнейшую духовно-пастырскую деятельность вел в Донбассе. В 1990 году он был возведен в сан архимандрита, а спустя два года пострижен в схиму с именем Зосима.
В самый разгар церковной смуты, спровоцированной тогдашним предстоятелем Православной Церкви на Украине митрополитом Филаретом (Денисенко), которого впоследствии предали анафеме за учиненный раскол и другие прегрешения, отец Савватий был одним из тех, кто твердо и непоколебимо стоял за единство Церкви. Батюшка открыто заявил, что «Филарету захотелось стать Патриархом» — именно поэтому он добивается автокефалии.
Отец Зосима до последних своих дней был борцом с «филаретовщиной», вокруг него собрался круг верных духовных чад, которые словом и делом боролись за целостность нашей Церкви. Старец обладал огромным авторитетом среди верующего народа на Украине. Он был духовным отцом священства всей Донецкой епархии, братии и сестер двух основанных им монастырей, а также любимым батюшкой множества мирян, повсюду следовавших за ним на протяжении четверти века. В число его духовных чад входило немало известных бизнесменов и политиков, например вице-спикер Верховной Рады Геннадий Васильев и премьер-министр Украины Виктор Янукович, которого старец венчал с его глубоко верующей супругой.
Духовный авторитет старца основывался на благодатных дарах, которые он получил от Господа за смиренное претерпевание многих болезней (тяжко болел десятки лет, пережил клиническую смерть, а в последние годы жил на аппарате «искусственная почка»), за исповедничество (от юности терпел издевательства и побои, в годы священства — перемещения с прихода на приход, сопровождавшиеся угрозой для жизни), а главное — за его великую любовь к Богу и людям. Свой монастырь, который он основал в 1990-х годах в селе Никольское неподалеку от Донецка, он сделал странноприимницей, покоищем для старых, убогих, одиноких людей. И оставил завет своей братии — основой послушания в монастыре сделать уход за недужными в Доме милосердия.
Духовные дары отца Зосимы свидетельствовали о его старческом достоинстве — он был прозорлив, имел способности исцеления физических и душевных недугов, имел дар утешения и вразумления, рассуждения-советования — и все эти дары жили в нем под покровом юродства. А теперь пришло время привести присланный мне для публикации рассказ-свидетельство Екатерины Владимировны Ткаченко.
«Пути человеческие от Господа исправляются»
«Пути человека от Господа исправляются…» — такими словами напутствовал меня отец Зосима в Никольском монастыре под Донецком. Это было 24 июня 2002 года, в день Святого Духа, вечером. Накануне прошла праздничная служба на Троицын день, которую отец Зосима не раз вспомнит потом в разговоре: «Ах, какая это была служба, сестры! Какая благодать! Небо на землю спустилось… Какая служба! На улице, под небом, пение… Я такой благодати еще не помню». И опять: «Какая это была служба, если б вы только знали!»
Старец лежал на кровати в своей келии, больной. Ежедневно его мучили процедурами [диализ]: искусственная почка отказывалась работать. Немного позже, за столом, он сказал: «Это была моя последняя Пятидесятница!»
Большой вздувшийся живот, перевязанные после многочисленных капельниц руки, слабость и изможденность тела. Глаза закрыты, только чуть-чуть их приоткроет и опять закрывает. А в уме идет непрестанная молитва. И при вопросе, и при ответе, и при разговоре — каждому посетителю видно, что отец Зосима сосредоточен и все время молится.
Со всех сторон: все стены, двери и косяки, полки с книгами — все увешано иконами. Старец лежит поистине среди святых. Келейник отец Амвросий поставил нам стулья напротив кровати, близко. Мы подошли, поклонились, взяли благословение. Старец чуть присел, благословил и опять лег. Все это с помощью келейника. Сам ни встать, ни лечь не может. Настольная лампа приглушенным светом озаряет его лицо: спокойное, улыбчивое, в волосах и в бороде — ни единого седого волоска. Позже, за столом, я спросила: «Батюшка, с какого вы года?» «С сорок четвертого», — отвечал он. Я невольно вспомнила седого как лунь владыку Сергия (Соколова), моего брата, почившего полтора года назад. А ведь владыка Сергий был с 1951 года!
Сидим, молчим. «Ненамалеванная, нерастрепанная…» — это он про меня, поняла я. Но ведь это внешнее, а внутри-то что, видит ли он меня изнутри?
К старцу я приехала за благословением на работу, а чувствую, что если начну говорить, то разревусь от напряжения и той благодати, что разлита вокруг нас в воздухе.
«Что я сегодня видел, — говорит старец, — какие страдания! Боже мой! Люди лежат годами… Вот одна раба Божия двенадцать лет бревном лежит!» «Что, парализованная?» — спрашиваю я. «Да, парализованная, двенадцать лет, бревном, а какое терпение! За все Господа благодарит, и ни слова укора, никакого раздражения… какое смирение, сестры! А еще бывает, как Господь смиряет! Вот врач (называет его имя), какой был важный, гордый, величавый, ух… не подступишься… какая гордыня… А сейчас тихий, кроткий, на коляске. Умирает. Его приобщили, пособоровали. Думали, что лейкоз у него, но нет, не лейкоз».
Моя спутница называет имя и отчество этого врача. «Да, он, — продолжает старец, — какую гордыню Господь смирил! И как Господь смиряет! О, что я сегодня видел, сестры, что я узнал, а? А ну-ка, отвечайте мне, что он завещал своей жене?» Мы молча сидим. Я молчу, потому что не знаю, о ком идет речь. Людмила молчит, пожимая плечами: «Не знаю, батюшка, я же двоечница, откуда мне знать?» Отец Зосима смотрит на меня: «А эта? Она у тебя вообще разговаривает, а? Как звать?» «Екатерина», — отвечаю. «А, Катька! Катька!.. Коза Катька! У меня коза была — Катька, ме… ме… ме… Ну-ка, Катька, мекать можешь?.. Ме… ме… ме… Катька!» От такого поворота речи, особенно когда батюшка, юродствуя, заблеял козой, я рассмеялась. Моментально все напряжение исчезло. А отец Зосима настойчиво продолжал требовать ответа.
— Ну подумайте, что может завещать муж своей любимой жене, да горячо любящий муж, уходя в вечность?
— Вы имеете в виду что-то материальное или духовное? — спрашиваю я.
— Ну, материальное… духовное… — повторяет отец Зосима, — ну подумайте, что?
— Может, завещает никогда не выходить замуж после него. Остаться вдовой?.. — не то отвечаю, не то спрашиваю я.
Людмила подхватывает:
— Да, не выходить больше замуж!
— Ну подумайте, — опять настойчиво и разъясняя, как задачку двоечникам, говорит батюшка. — Что такое может завещать горячо любящий муж, уходя в вечность, своей горячо любимой жене?!
— Я двоечница, — повторяет Людмила, — я не знаю.
— А ты? — спрашивает отец Зосима у меня.
И вдруг меня осенило:
— Завещает уйти в монастырь, принять постриг после его смерти, — уже не спрашиваю, а отвечаю я. А сама чувствую, что вроде бы это не я говорю… Но тогда кто?!
— Пять с плюсом, — говорит отец Зосима, — ставлю тебе пять с плюсом! Вот ведь как! Умирая, он завещает ей идти в монастырь. Вот что я сегодня увидел, какое смирение! И она! То была в смятении, волнении, а тут сразу: тишина, кротость, спокойствие, и не узнать ее. Вот как Господь смиряет и управляет. Да… пути человеческие от Господа исправляются.
Звонит телефон. Келейник снимает трубку, передает ее батюшке. «Да, алло, — весело говорит отец Зосима и начинает юродствовать, — да, а я жениться собрался, да, тут ко мне одна приходила; сиськи во какие большущие!.. Ну, я и женюсь! (Улыбается, веселится). Да, ну как Питер? Была? Да. Спас-на-Крови — святое место…» и т. д. Следует разговор, по-видимому, с женщиной, рассказывающей о своей поездке в Питер, по святым местам, и спрашивающей на что-то благословение. Батюшка и послушает, и благословит, и спросит, и поюродствует с ней, и все с такой детской откровенной веселостью: «А я ничего, ну, понос пронес меня, а так ничего, это мне для смирения!»
Ну вот, наконец, разговор окончен.
— Так, сестры, быстро, — командует он нам, — писать, какать, руки мыть и за стол!
— Я хотела попросить благословения на работу, — вдруг очнулась я.
— Потом, потом, за стол!
Выходим в другую комнату, далее в коридор, где туалет. Когда возвращаемся, отец Зосима сидит уже одетый в подрясник и келейник причесывает ему волосы. Потом с помощью келейника он с большим трудом поднимается на свои больные, изъязвленные ноги, повисает на отце Амвросии, и тот почти волоком тянет его на себе в комнату за келией, где уже накрыт стол. Стол уставлен множеством маленьких блюд: по три яйца, по три котлетки, по три кусочка красной рыбки, жареный кабачок, огурчики, помидоры — изобилие! Мы молимся. Келейник читает «Отче наш». Батюшка благословляет стол. Показывает мне икону великомученицы Екатерины с частицей мощей. Я, чтобы приложиться, ныряю под руки келейника и старца, который стоит, только держась за руку келейника. Прикладываюсь к мощам, к иконе и выныриваю из-под рук обратно, про себя отмечая: что это может означать? Туда и обратно, к мощам и иконе, а надо мной крепко сомкнутые руки старца и келейника?!
Сели, кушаем. Батюшка распорядился налить всем и себе «выпивон»: «Сегодня праздник! Ах, какая это была служба, сестры! Вы себе не представляете! А вино — доброе! Мы его на службу употребляем. Свое. Еще отец делал, выдержанное, сам уже умер, а вино мы до сих пор еще пьем, 10 лет уже прошло».
Вино сладкое, крепкое, красное. От него становится жарко. Я ем все подряд: салат, котлеты, кабачок… В этот день я не обедала и не ужинала, а времени уже почти десять вечера. За столом отец Зосима вспоминает владыку Сергия (брата моего), другого моего брата — отца Феодора. Он знал их. Правда, он был старше, был близок к Святейшему Патриарху Пимену, и потому знал моих братьев — его иподиаконов. «О, какой был Святейший! Я его очень почитаю! Скоро будет прославление мощей!» На мой вопросительный взгляд отвечает: «Да, да, выкопают мощи! Он нетленный лежит! Уже много чудес и исцелений от его могилы исходит! Его, а также Патриарха Сергия, оболганного, прославят. Великий, святой был человек. В самую страшную годину никем не понятый! Святой!.. А Патриарх Пимен! Великий был человек! Как он читал! А ну-ка, что было его самое любимое?» Это опять мне экзамен. «В Великий пост канон святого Андрея Критского», — отвечаю я.
«Да как читал: каждое слово, проникновенно… У меня на пленке, на кассете есть, да пленка немного испортилась, ты мне ее еще раз перепиши».
Я счастлива! Во-первых, ответила на вопрос, а во-вторых, получила задание от святого старца. «И еще любил петь «Помощник и покровитель»», — добавляю я.
За дверью раздается женский голос: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную». Это молодая матушка пришла за благословением с каким-то вопросом. «Вон! Вон! — кричит отец Зосима. — Ишь какая настырная! Пошла вон!» За дверью умолкают. Мы кушаем, батюшка угощает, келейник подливает еще вина. Я спрашиваю, нужно ли мне идти к блаженнейшему Владимиру за благословением.
— Киев! Бедный Киев! Как мне его жалко! — говорит отец Зосима. Закрывает глаза и качает головой. — Не нужно, — отвечает, — он ничем не поможет. Я сейчас никому, ни одному епископу на Украине не верю. Я так об этом прямо всем и говорю.
— Да я не за помощью, а так, все-таки у нас движение православное, ну, чтобы амбиции удовлетворить. А то узнают — «Киевская Русь», ну и амбиции! Это хоть и не церковное движение, но все же лучше, если он о нас будет знать. И амбиции спадут…
Отец Зосима молчит. Закрывает глаза, видимо, сосредоточенно молится. Потом качает головой:
— Нет, это движению не поможет! Ну ладно, сходи! Да он едва живой. Кто после него будет?! Ох, бедный Киев…
Я говорю, что десять лет служила во Владимирском соборе псаломщицей и регентом на клиросе, еще у Филарета… «Не называй Филаретом, — вмешивается батюшка, — нет Филарета, есть Денисенко». А потом продолжает: «Начинай понемножку, тихоньку, маленькими-маленькими шажками, по чуть-чуть. Никаких больших планов и движений. Все хорошо будет».
На душе у меня спокойно и легко. Батюшка продолжает: «Никаких больших шагов не делай. Все понемногу и образуется». Раздается звонок телефона. Батюшке дают трубку. Звонит В. Л. «Да, благословляю… Да, у меня тут сидит Катька, коза! Да, я ей ставлю плюс и пять». Я смеюсь и удивляюсь: как вовремя позвонил В. Л.
Далее следует разговор отца Зосимы с В. Л., во время которого я ем борщ, молодую картошку, черешню, стоящую в тарелке рядом со мною, — все подряд, и при этом не испытываю никакой скованности.
— Поначалу тихо, маленькими шагами! И терпение, дай тебе Бог и всем нам терпения! Хоть немного еще для Бога потрудиться…
— С Божьей помощью и вашими молитвами, — подхватываю я.
— Да какой я молитвенник! Чучело вонючее, вот кто я.
— Да нет, это я чучело… — говорю я.
— …Потихоньку, маленькими шагами, с Божьей помощью, и главное — во всем терпение!
Батюшка требует коньяк. Отец Амвросий уходит за коньяком. «Ох, и скупой же этот Амвросий, ох, откуда только такие берутся? Ох, скупой… Да позовите эту…»
А она все ждала, та матушка, которой он крикнул: «Вон!» Она вошла. «Что ты такая настырная, а?.. Делай девять поклонов!» Матушка, лет 25, безропотно, но «со знанием дела» отложила тетрадку, с которой вошла, и начала делать поклоны у порога келии старца. Потом что-то спросила у отца Зосимы относительно детского летнего лагеря на море. Она была ответственной за этот лагерь. Ответив ей, отец Зосима посмотрел на меня и сказал: «А ты думаешь, она сюда за этим пришла? Нет, она сюда поесть пришла, поживиться… На вот…» Он дотянулся до огурца и подал ей. Потом, окинув взглядом стол, подал ей и котлету. Матушка поклонилась, взяла поданное ей и ушла. Я подивилась ее смирению и той готовности, с которой она делала поклоны. Конечно, сказанное о том, что она пришла поживиться едой, было юродством. Но вот только сейчас я вспомнила, как месяца два назад, когда я работала в детдоме, один из мальчишек все время лез на кухню с желанием поживиться чем-нибудь. И я так же закричала на него: «Вон! Пошел вон!»
В завершение трапезы мы выпили по рюмке коньяку «для расширения сосудов» и чай. После благодарственной молитвы отец Зосима опять повис на келейнике и с большим трудом добрался до кровати. Я еще раз попросила благословения на работу. Старец велел келейнику дать крестик, чтобы меня благословить. Тот стал искать, да в шкатулке оказались только «постригальные» деревянные резные кресты.
— Нет, это не то, — сказал батюшка. — Ищи давай! — прикрикнул он на келейника.
— Что? — спросила Людмила.
— Да он сам знает — он знает, он всегда знает, что ему надо!
— Батюшка, да вы меня так просто благословите… — говорю я, стоя перед старцем.
Отец Зосима перебирает «постригальные» кресты в шкатулке, молча качает головой и упорно ждет креста. Минуты через три отец Амвросий приносит маленький деревянный резной нательный крестик на черном шнурке.
— Вот это то! — сказал старец и благословил меня этим крестиком. Я «прильнула» к его руке, так мне хотелось приложиться к святому старцу и унести вместе с благословением частичку его благодати.
* * *
Вот такой рассказ моей подруги Катеньки Ткаченко.
А спустя всего два месяца после описанной ею встречи, отца Зосимы не стало. Предчувствуя свою близкую кончину, за несколько дней до Успения старец сказал сестрам обители: «Ну что ж, умирать надо. Как бы вам праздник не испортить. Да я ведь недостоин умереть на Успение». Успение было его любимым праздником. Еще в детстве он сам вышил Плащаницу Божией Матери, вокруг этой Плащаницы он собирал благочестивых бабушек, и они вместе читали акафист Успению: «Радуйся, обрадованная, во Успении Твоем нас не оставила…». 29 августа 2002 года, без четверти двенадцать ночи, когда в Свято-Успенской обители села Николь-ского совершался чин погребения Божией Матери, схиархимандрит Зосима мирно отошел ко Господу.
После этого рассказа старец Зосима предстал передо мной словно живой. Это же ощущение не оставляло меня в основанном старцем Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, особенно у могилы отца Зосимы в часовне-усыпальнице. Я ощущала присутствие старца, глаза, которые смотрели на меня с фотографии у могильного креста, как будто изучали, испытывали и разговаривали с моей душой. Рассказывают, что батюшка при жизни не только предвидел какие-то отдельные события, а часто с первого взгляда на человека мог проникнуть в его душу, догадаться, что ее терзает и мучает. Одних смущало то, что он сходу начинал перечислять все их грехи, причем не вообще, а конкретные. Других удивляло то, что он как бы читает их мысли…
И я, стоя у могилы, испытала то же — старец видит меня насквозь и слышит все, что я ему говорю в сердце.
И юродство старца Зосимы я тоже на себе испытала, и благодатную силу этого юродства.
Когда мы подъехали к главным воротам монастыря, привратник нас не пустил, сказал: «Въезд с другой стороны». Так мы объехали монастырь со всех четырех сторон, и у каждых ворот нам говорили, что вход не здесь. Сделали мы большой «круг почета» и вернулись к первым воротам — тот же привратник разрешил нам заехать в ограду.
У ворот меня встретил отец А.: белая ситцевая камилавка, надетая набок (потом один брат подошел к нему: «Дай, отец, я тебе надену как надо»), джинсы, торчащие из-под рабочего подрясника, легкие тапочки (было очень жарко) и ярко-рыжая длинная борода.
Поздоровавшись и сказав первые слова о монастыре, отец А. вдруг кинулся бежать и крикнул мне вслед: «Колокольня отрыта, побежали, сейчас колокола начнут звонить». Бежал батюшка легко и весело, а я, утомленная дорогой и жарой (с больными головой, животом и сердцем), в не предназначенных для бега шлепанцах, едва за ним поспевала — до колокольни нужно было бежать метров пятьсот. Когда, запыхавшись, я вошла в колокольню, то увидела, что теперь нам предстоит подниматься по длиннющей винтовой лестнице (ох, мое сердце!). Но вот последняя ступенька преодолена, и мы уже наверху. Три инока-звонаря, как и полагается, надели наушники, чтобы не было нагрузки на уши. Я поначалу заткнула уши (ох, моя больная голова!), но отец А. взял меня за руку: «Встаньте под большой колокол и приложите руки к нему». Пришлось уши открыть и встать под мощные волны звука.
Когда я спустилась с колокольни, то была совершенно здорова: голова не болела, одышки после бега трусцой не было и в помине, желудочные колики прекратились!
Так поприветствовал меня старец Зосима.
— Сколько у вас времени? — спросил меня мой путеводитель.
— Не знаю, как мой шофер.
— Ну, тогда пойдемте в храм, служба начинается.
В храме я не могла поначалу понять, куда я попала — в женский или в мужской монастырь. По обе стороны храма стояло много иноков и инокинь. Оказывается, старец Зосима в созданной им обители повторил обычай древних монастырей, где в разных корпусах, но под одним церковным покровом подвизались чернецы и черницы. Теперь рядом здесь — две обители: мужская Васильевская и женская Никольская.
Никольский храм поразил обилием святынь: отец Зосима собрал более двухсот частиц мощей святых со всего православного мира. В самом молодом монастыре Русской Православной Церкви собраны и чудотворные иконы: Божией Матери «Скоропослушница», святого великомученика и целителя Пантелеимона, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Со службы уходить не хотелось, но отец А. дернул меня за рукав: «Пошли дальше».
И мы стали обходить большой, весь украшенный клумбами двор обители. Оказалось, что отец А. — местный житель, и монастырь вырос здесь, в донецкой степи, на его глазах.
В 1986 году отец Зосима (тогда он еще носил имя Савватий) был назначен настоятелем заброшенного Никольского храма. За короткое время из мерзости запустения храм восстал в том празднично-побеждающем облике, каким мы и сейчас его видим.
В 1998 году отец Зосима основал монастырь, видимо, по откровению Свыше, потому что прежде на все предложения его духовных чад, жертвователей и благодетелей о создании монастыря в Никольском он отвечал: «Не хочу для автокефалистов строить». И за каких-то два-три года буквально на пустом месте выросла чудная обитель. В центре ее по благословению старца Зосимы возведен Свято-Успенский собор — копия Успенского собора Московского Кремля.
Скажу честно, что, когда я подошла к Успенскому собору, у меня дух захватило: какое неопровержимое свидетельство верности державному Православию явлено здесь, на украинской земле! А отец А. пояснил мне, что старец возведение этого собора соединил с завещанием братии: «И после кончины моей держитесь Москвы, держитесь Русской Православной Церкви и великого старца земли нашей Русской — Святейшего Патриарха всея Руси Алексия Московского… Никакие силы зла не одолеют Святой Руси: как масонство ни будет восставать, как ни будут бесы беззаконные, гонители веры Христовой, безумствовать — победит Русь Святая, сохранит веру Православную и пребудет она верна Господу до времен антихристовых…»
Это завещание касается общецерковной жизни, а завещание, которое отец Зосима повторял каждый день, на первый взгляд очень простое, традиционное, но о нем можно сказать словами апостола Павла: «Напоминание об этом вам не вредно». Вот оно: «Воспитывай в себе христианскую тихую любовь». Что такое христианская любовь? — «Всех жалко».
В том, что братья и сестры Свято-Успенского монастыря верны заветам своего аввы, я убедилась дальше, путешествуя с отцом А. по обители. Мы пришли с ним на скотник, и он стал кормить меня спелыми шелковичными ягодами — при этом высоко подпрыгивая, чтобы достать верхние ветки. Сам ни одной ягодки не съел, все меня потчевал. То же повторилось и в саду, когда мы подошли к кустам малины. Матушка, которая там несла послушание, тоже старалась меня чем-то угостить.
Когда мы пришли в игуменскую келью, нас встретил настоятель монастыря схиархимандрит Алипий. К стыду своему признаюсь, что я поначалу даже не поняла, что это настоятель. Я даже не благословилась поначалу у него, потому что поверх схимы у него не было креста. Он не представился, мой путеводитель тоже не сказал, с кем я имею честь разговаривать.
Это был такой урок простоты и сердечности — никогда не забуду, как уютно было в келье старца, как благодатно было пить чай за тем столом, за которым он когда-то принимал гостей, как показывали святыни старца, которыми увешаны все стены и заставлены все тумбочки. «Приветил старец, — думала я про себя. — Приветил и утешил». И еще одно завещание мне дал (оно напечатано в книге, которую получила в подарок от отца настоятеля). Думаю, это для того, чтобы донести слова отца Зосимы для верующих в России. Чтобы они знали, как непросто живется православным на Украине (и какие в этом смысле мы счастливые) и как важно хранить братолюбие и любовь.
Завещание
Аз, грешный схиархимандрит Зосима, оставляю последнюю свою волю.
И по смерти моей свято и вечно, до последнего издыхания, храните все завещания, те священные традиции, ту особенность служб, записанных братьями и сестрами в Монастырском уставе, сохраняя их до малейших подробностей и не допуская никаких отступлений.
Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия, беззаконная или «законная», автоматически прерывается связь с митрополитом Киевским.
Из существующих монастырей тогда образовать Дом милосердия, который будет выполнять святые законы милосердия — служение людям до их погребения, и эту заповедь обители должны выполнять вечно. Никакие угрозы и проклятия не признавать, так как они неканоничные и беззаконные.
Твердо стоять за каноны Русской Православной Церкви. В случае отпадения от единства Русской Православной Церкви — правящего архиерея не существует, монастыри переходят в ставропигиальное управление под омофор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Молю Бога и надеюсь, что Святейший Патриарх не откажет и примет под свой омофор.
Если сие будет невозможно, то монастыри переходят под самостоятельное игуменское управление, по подобию Валаамской обители начала нашего столетия, находясь под видом светлых будущих времен единства Украины и России, которые, глубоко верю, неминуемо наступят, с чем и ухожу в вечность.
Сие завещание прошу прочесть у моего гроба перед последним целованием и раздать всем.
Подаю из гроба, бездыханный и безгласный, Мир, Любовь и Благословение Божие.
Как искали мощи преподобного Александра Свирского
Силою обстоятельств мне многое известно о втором обретении мощей прп. Александра в 1998 году — из того, что до сих пор не опубликовано. Потому расскажу об этом на страницах этой книги.
В то время я работала в газете «Православный Петербург», наша редакция располагалась в здании, временно занимаемом подворьем Покрово-Тервенического монастыря. Поэтому очень часто мне приходилось встречаться с духовником, а по сути основателем этой новой обители — иеромонахом (теперь епископом) Лукианом (Куценко). Помню тот момент, когда батюшка рассказывал о поездке в Свирский монастырь (от Тервеничей он находится в 90 км) и сокрушался: «Какая разруха! И какая святыня! Нужно сделать всё, чтобы восстановить ее».
Потом прошло немного времени, и батюшка получил назначение — «обживать свирские развалины». Да, монастырь — та часть, которую передали Церкви, — являл собою «мерзость запустения»: ни окон, ни дверей, «полна горница помойки всех мастей». В таком состоянии были храмы и все братские корпуса, за исключением одного, в котором находилась поселковая баня. В этом корпусе и поселилась немногочисленная братия. Помню первые богослужения в Преображенском соборе, и как одну из старейших певчих чуть не зашиб кусок известки, упавший с потолка; помню, как тяжко было летом переносить духоту и жару в небольшой комнате, в которой окна вместо стекол были затянуты толстой полиэтиленовой пленкой, где кровати стояли впритык друг к другу, — здесь ночевали женщины (повара, прачки, уборщицы), приехавшие помогать братии. Я тоже сподобилась в то первое лето провести две недели в монастыре: гладила белье и облачения все в той же душной комнате, гладильная доска была с трудом втиснута между кроватями.
Так жили в первый год: разбирали грязь, завалы, молились в холодном и темном храме, при этом ощущая великую благодать. И вовсе даже не думали о том, что нужно обязательно возвращать в монастырь мощи. Что называется, «благодати и так хватало» — все мы тогда были на подъеме, были счастливы, что монастырь наконец-то восстанавливается.
Хотя у местных жителей в первый же год стали расспрашивать, что они знают, что помнят, какие предания сохранились — куда исчезли мощи прп. Александра после революции. Все, что мы узнали, сводилось к слухам: то ли монахи их в озере утопили, то ли закопали где-то, то ли увезли куда-то…
Осенью 1997 года отец Лукиан сказал мне: «Матушка, не хотите ли поработать в архивах, поискать следы мощей?» — «Да, батюшка, благословите». И я пошла в Центральный Государственный архив, потом в Казанский собор в фонды и к директору (были слухи, что мощи какое-то время находились в этом атеистическом музее, как и другие святыни), пошла в «революционный архив» на Варфоломеевской. Я уже заказала и выписала дела, которые нужно было смотреть. А потом начал болеть мой маленький сын. Кроме того, работала я тогда на трех работах: кроме газеты еще в музее А. Блока и в Школе народных искусств. И я призналась отцу Лукиану: «Батюшка, мне не справиться с этим послушанием. Может быть, вы кого-то другого назначите?» Батюшка с легкостью согласился и только попросил: «У нас есть матушка, кандидат наук, она умеет работать с документами, вы ей только передайте дела». Так я познакомилась с инокиней Леонидой (Сафоновой).
Вместе мы обошли архивы, в которых я уже побывала, а потом матушка с такой активностью принялась за работу, что только диву можно было даваться. Одному человеку за такое короткое время, казалось бы, невозможно было просмотреть столько документов, но она работала три месяца «от звонка до звонка», с первой минуты открытия архивов до последней, обошла десяток архивов, музеев, институтов. Так как я оказалась в «среде посвященных», то узнавала по горячим следам обо всех матушкиных открытиях. И вот, наконец, она сказала: «Кажется, я напала на след. Послед-ний документ, который мы имеем, говорит о том, что в 1919 году мощи поступили в ведение Наркомздрава. То есть искать их нужно в каком-то старейшем медицинском учреждении Питера». Надо сказать, что областью научных знаний, которой мать Леонида посвятила почти полвека своей жизни в миру, была гистология (к моменту ухода в монастырь ею была уже написана докторская диссертация, она собиралась ее защищать, но машинопись сгорела в первом большом пожаре в Тервеничах, так она и осталась кандидатом наук, будучи по сути дела профессором). А гистология — это наука, которая требует аналитической гибкости ума и точности расчета. Исследовательская хватка матери Леониды проявилась во всем «деле с мощами прп. Александра».
«Я благословилась у батюшки идти в Военно-медицинскую академию. Именно там находится старейший анатомический музей в Питере», — сказала мне матушка в начале декабря 1997 года. Вернулась она оттуда с ошарашивающим известием: «Я, кажется, его нашла!»
Все произошло таким образом. При первой же встрече заведующая академическим музеем М. В. Твардовская рассказала матушке Леониде о загадочном экспонате, который, по рассказам старейших сотрудников музея, хранится у них уже долгое время, а потом и показала его. Это было полностью сохранившееся тело немолодого мужчины, янтарно-желтого цвета (не темно-коричневое, как бывает при мумифицировании). Потом она рассказала удивительную историю о том, что сотрудники музея видели (она сказала: «им казалось»), что он открывает глаза. С испугу одна «впечатлительная лаборантка» проткнула один глаз, а потом глаза залили гипсом (рентген потом так и показал — один глаз у преподобного проткнут).
«Почему экспонат загадочный?» — спросила матушка у Твардовской. — «Потому что это естественная мумификация. Так его когда-то и демонстрировали студентам, хотя объяснений причин полной сохранности тела без применения продуктов бальзамирования найти не могли».
Загадочным, необъяснимым было еще и то, что в анатомическом музее ВМА, отличающемся скрупулезным, аккуратным ведением документации, это был единственный экспонат, документы на который отсутствовали. Позднее матушка Леонида познакомилась с семьей бывшего директора ВМА Владимира Тонкова. И тут выяснилось, что этот человек по сути дела совершил подвиг. Он был глубоко верующим (так сказали домашние) и хорошо понимал, какой святыней располагает вверенный ему музей. Знал и о ненависти большевиков ко всему святому, об их стремлении уничтожать святыни, потому-то на «тело мужчины, сохранившееся путем естественной мумификации», никаких документов не завели. Более того, при Тонкове длительное время мощи были просто спрятаны от постороннего взгляда. Матушке показали конторку специального устройства с большим выдвижным ящиком, где лежали завернутые в простыню мощи прп. Александра долгие годы. Заведующая музеем поведала матушке и о том, что в ВМА существовало негласное предание о хранившейся в музее святыне. Некоторые врачи перед сложными операциями приходили «постоять рядом с ней». К тому времени, в 1950-е годы, мощи были уже извлечены из тайника и стояли за шкафом в хранилищах музея.
После того как мощи нашли (в декабре 1997 года), весть об этом держали в строгой тайне. Торопиться было нельзя, чтобы ненароком не создать ложную святыню. Иеромонах Лукиан написал рапорт правящему архиерею — митрополиту Владимиру — и получил благословение на переговоры с руководством ВМА о проведении научной экспертизы. От матушки Леониды я узнавала новости о полугодовой работе различных экспертов. Подробности сейчас описывать не буду. Сохранились документы — 500-страничный отчет экспертов о проведенной работе. Прежде всего, память сохранила известие о важнейшем событии: после молебна перед мощами, когда они еще лежали на столе ученых, они стали обильно мироточить. Матушка показала мне фотографию, которая, вероятно, так и не будет опубликована (мощи на ней без облачения), — от головы до пят святая плоть покрыта миром. После этого случая мощи не переставали мироточить, что, надо сказать, очень смущало нецерковных экспертов. И, наконец, был написан подробный отчет ученых разных специальностей, и на нем появилось заключение тогдашнего директора ВМА Ю. Л. Шевченко: «Исследуемый экспонат вполне может быть признан останками Александра Свирского и передан Церкви».
Отец Лукиан написал рапорт митрополиту Владимиру, получил благословление организовать перевоз святыни в храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — на подворье Покрово-Тервенического монастыря. Я знаю, что кого-то из духовенства смущает вопрос: почему все было сделано так скоропалительно, почему епархиальный совет и маститые протоиереи города не знали заранее о том, что найдены мощи и что они проходят освидетельствование, почему не работала одновременно с учеными епархиальная комиссия, а была созвана позднее? На все это отвечу: иеромонах Лукиан действовал строго по благословению правящего архиерея, о чем свидетельствуют его сохранившиеся в архивах рапорты с резолюциями владыки.
И еще один нюанс. Да, мощи забрали из ВМА скоропалительно (28 июля) — прежде чем начала работать епархиальная комиссия. Буква была нарушена, но по духу… Посудите сами, не прав ли был отец Лукиан? Когда выяснилось, что учеными подтверждена подлинность мощей, когда они продолжали мироточить, когда все бумаги о передаче были подписаны, выяснилось, что ВМА закрывается на летний ремонт на целых два месяца, и директор ВМА сказал: «Или сейчас забирайте, или уже после отпуска».
Итак, уже 28 июля мощи перенесли в храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на проспект Стачек, и 30 июля перед мощами был отслужен первый молебен. А потом начались незабываемые дни. Так как я жила тогда в двух шагах от храма святых мучениц, то имела возможность бывать в нем каждый день. И благодарю за это Бога, потому что такого подъема веры народной, такой пламенной молитвы мне никогда больше не приходилось видеть. Много происходило чудес. Одно из них — с моей умирающей от рака подругой. Она, несмотря на страшную слабость, смогла выстоять многочасовую очередь к мощам, приложилась к святыне, и после этого ее угнетенное душевное состояние начало проясняться. Она смогла исповедаться, принять посланный ей от Бога жребий и спокойно отошла в вечность. Я считаю, что это чудо даже большее, чем физическое выздоровление, потому что была исцелена душа, и я верю, что прп. Александр напутствовал ее в последний путь. Кроме того, как говорили врачи, умерла она по медицинским показателям «раньше времени», то есть еще до того, как должны были начаться невыносимые боли.
Но вот прошел месяц с момента начала народного поклонения прп. Александру, в мощах пребывающему, и при встрече с разными священниками и некоторыми верующими я стала слышать заявления: «А у нас есть сомнения, те ли это мощи!»
Простите, я сейчас буду говорить о таких вещах, о которых не принято говорить вслух, но раз они передавались из уст в уста, «конфиденциально», то уж лучше один раз назвать все своими именами, все прояснить.
Начались эти разговоры после освидетельствования мощей епархиальной комиссией (происходило это освидетельствование на глаз, то есть не научным способом), тогда появилась формулировка: «Это еврей или татарин. Посмотрите на крайнюю плоть, он обрезанный». Конечно, экспертам и в голову не приходило описывать в своем научном заключении эту часть тела, официальных научных заключений на эту тему они не дали. Но матушке Леониде пришлось-таки, после того как поползли по городу гнусные слухи, задать вопрос специалистам из Областной судебной экспертизы (мощи и там проходили экспертизу на рентгенограмму): «Что все это значит? Как нам относиться к такому заявлению?» И там она услышала ответ: «Тот, кто это сказал, ничего не понимает в анатомии. У стариков всегда так. Это не обрезание. Пусть в бане присмотрится, если не верит».
Конечно, печатать обо всем этом и о разных других сомнениях (я привела в пример самое вопиющее) в первые дни обретения мощей не хотелось. Да и сейчас не хочется никого называть по имени. Может быть, эти люди давно уже переменили свои убеждения. Да и, в конце концов, Бог им Судия. Но теперь, оглядываясь назад, понимаешь: мощи не приняли люди предубежденные. Те, чьи интересы были как-то ущемлены, те, кто чем-то был обижен, и, конечно, те, кто поверил «авторитетным сомневающимся батюшкам» (а раз батюшка сказал, что что-то не так, значит, так и есть). Пусть хоть миллион свидетельств будет о том, как преподобный помогает людям по молитве перед его мощами, пусть и ученые пишут статьи, пусть и поток народный из года в год к святыне будет увеличиваться безо всяких «рекламных кампаний». Раз какой-то батюшка сказал: «А я благодати не ощутил», — значит, так и есть?
Мощи прп. Александра увозили из Питера в октябре 1998 года, как будто скрываясь, убегая от порочащих слухов и сомнений. Так благословил митрополит. Но теперь понятно, что и в этом был Промысл Божий и воля самого прп. Александра. Скромно (таким он был и при жизни) он покидал наш «пышный город», спешил в родную обитель.
И вовсе не «спрятали туда мощи», как кто-то говорил в те дни, а наоборот, привели тысячи тысяч людей на землю явления Святой Троицы. Паломники поехали к мощам сразу же после их водворения в родную обитель. Начал изливаться поток чудес, о которых Бог дал мне написать отдельную книгу — «Письма к преподобному Александру Свирскому».
К пустому колодцу не ходят, никто не заставляет тысячи паломников из разных концов России, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других стран ехать в далекий северный монастырь. Значит, «колодец не пуст», значит, люди чувствуют истечение воды живой, о которой сказано в Евангелии.
Потому что благодать Божия сильнее нашего падшего, «лжеименного» разума.
И потому, несмотря ни на что, в день праздника Второго обретения мощей прп. Александра Свирского 30 июля тысячи паломников стоят пред мощами тайнозрителя Святой Троицы, молятся ему и питают душу свою небесным заступничеством преподобного отца нашего.
Странница Римма — матушка Евфалия
С матушкой Риммой я познакомилась незадолго до ее смерти. Вернее, она со мной познакомилась. Матушка давно уже дружила с известным православным фотографом Людмилой Ивановой и говорила ей, что нужно со мной познакомиться. Духовниками и святоотеческими писаниями я с юности была научена осторожному отношению ко всякой «чудесности» и прозорливости, потому долго отказывалась от этого знакомства. Людмилины рассказы о многочисленных чудесах вокруг матушки меня скорее отталкивали от нее, чем привлекали. Помнилось правило, что лучше отвергнуть Божие откровение, чем принять ложное— за осторожность Бог не осудит, а от прелести отделаться очень трудно. Тем более в наше время, когда создано столько возбужденных культов вокруг «новых святых» и столько можно в монастырях и храмах встретить так называемых «младостарцев» и «младостариц».
И тогда матушка пришла ко мне не как старица к писательнице, а как журналист к журналисту. Она почти тридцать лет проработала на Радио России, а я в то время была редактором газеты «За Православие и Самодержавие». Матушка вместе с Л. Ивановой пришла в офис газеты на Гривцовом переулке со своими очерками о странствованиях по России и Америке. При первой же встрече я была поражена ее внешней красотой — ей в это время было около семидесяти, а выглядела она как тридцатилетняя. А когда я от Л. Ивановой узнала, что она тяжело больна, то еще больше удивилась. Такая бодрость духа, такая неутомимость!
В то время, когда мы с ней встретилась, я переживала трудный момент личной жизни и снедалась сомнениями: правильно ли я поступила, не нарушила ли волю Божию? Вопроса этого матушке я не задала (о личном мы вообще не говорили, говорили по делу), но она сама вдруг мне сказала, глядя на моего супруга, который в то время тоже находился в редакции: «Все правильно. Все у тебя хорошо. Не смущайся». И я успокоилась. Это был первый ненарочитый дар духовный мне от матушки. В ту же первую встречу я «услышала» ту тишину, что обычно окружает настоящих старцев, опыт общения с которыми изобильно даровал мне Господь.
Матушка не выпячивала свой дар, не подчеркивала свою необыкновенность. Внешне она не выделялась из городской толпы — была модно одета, аккуратна, подтянута. Ее можно было принять за человека искусства, не потерявшего физическую и эмоционально-душевную форму в преклонном возрасте. Инаковость, неотмирность светились только в глазах. Взгляд этих глаз был непривычно пристальным, испытующим. Необычность этого взгляда была в том, что явным становилось — матушке не безразличны окружающие люди, она не «зациклена» на себе и своем малом круге жизни, а внимает миру, соучаствует жизни тех людей, с которыми сподобил встретиться Господь. В нашем холодном мире, зараженном безразличием, она несла в себе тепло божественной заинтересованности к каждому созданию земному.
Что еще расположило меня к матушке? То, что она сама просила ни в коем случае не называть ее старицей или блаженной, и не считала свое слово «истиной в последней инстанции», а советовала людям идти со своими вопросами в церковь, прежде всего на исповедь и к причастию. Советовала с серьезными проблемами обращаться к старцам.
Мы встречались еще несколько раз, и всякий раз меня поражал тот внутренний свет, который исходил от нее. Матушка передала мне почти все свои рукописи для печати. Признаюсь, прочтя их, я опять смутилась: как при жизни человек о себе такое может рассказывать? Да и печатать при жизни человека рассказы о его дарованиях нельзя. Мне тогда еще не было понятно, что, видимо, матушке уже было открыто время ее близкой кончины. Пока я редактировала и готовила для публикации в журнале «Православный летописец Санкт-Петербурга» ее записки, пришло известие о том, что она уже не выходит из дома и не отвечает на телефонные звонки.
Но совсем незадолго до смерти матушка позвонила мне сама, вернувшись из паломничества в Тихвин и в Александро-Свирский монастырь. И опять она мне помогла: передала очень важные слова от моего духовника после разговора с ним, в котором она смогла донести до батюшки то, что мне самой не удавалось сказать.
Таким коротким было наше общение с матушкой при ее земной жизни, но таким духовно значимым, и оно не прервалось с ее кончиной. К сороковому дню ее памяти в конце 2009 года были подготовлены к публикации в журнале рассказы о ней, через год к годовщине опубликована еще часть из них. Позднее мы выпустили две книги о матушке Евфалии с ее рассказами. Все время, пока я работала над книгами, светлый образ матушки отогревал мое сердце. А все, что я прочла о ней в воспоминаниях и дневниковых записках ее близких людей и ее самой, убедило в том, что матушка Евфалия была действительно сокровенной подвижницей, через которую Бог помог очень многим людям в наше трудное время.
Однако хочу закончить свои краткие воспоминания предостережением. Жизнь каждого подвижника должна вызывать у нас не чувство восторга и удивления, не за чудесами и пророчествами нужно гнаться, а каяться в том, что мы далеки от святости. Так и в жизни матушки Евфалии главными являются отнюдь не чудеса и пророчества, а ее доброта, мягкость, сердечность, ее терпение в болезни, отсутствие ропота, ее любовь к Богу и людям.
Слушая рассказы близких друзей о матушке, убеждаешься, что все чудеса, через нее совершенные, были следствием ее сострадания людям. Особенно потряс рассказ о помощи беременной женщине. Приведу его здесь.
Однажды матушка ехала на встречу с друзьями к определенному часу. В электричке напротив нее оказалась беременная женщина. И вдруг матушка говорит ей:
— А ведь вы родите через три часа.
— Нет, я только что от врача, и мне сказали, что еще нескоро.
— Нет, поехали в роддом.
Женщина послушалась. Они приехали в ближайший к Балтийскому вокзалу роддом, матушка с трудом уговорила медперсонал, чтобы женщину приняли. У нее не было документов с собой. Матушка пообещала, что привезет их, и опять на электричке отправилась в неблизкий путь за документами. Женщина действительно почти сразу же, как только вошла в больничную палату, разрешилась от бремени. А матушка еще долго дожидалась возвращения с работы ее мужа, забрала документы, отвезла их в роддом, опять села на электричку и только вечером приехала к друзьям.
И таких случаев «экстренной скорой помощи», которую оказывала матушка людям, было очень много в ее жизни. Себя она не жалела, стараясь помочь другим.
Это — то, чему нужно учиться у матушки, чему нужно стремиться подражать. И тогда память о ней будет делом, а не эмоциональными переживаниями только. Помогай нам Бог.
И вечная память со святыми рабе Божией монахине Евфалии!
Старец Иосиф Ватопедский
Встреча с известным учеником афонского старца Иосифа Исихаста, ватопедским старцем Иосифом в 1991 году была краткой, но осветила мою жизнь на долгие годы. Теперь понимаю, что мне, недостойной, она была послана по великой любви Божией. Старец в то время приехал в Россию не официально, а с группой паломников — своих духовных чад. Приснопоминаемый архимандрит Иннокентий (Просвирнин) позвонил мне из Москвы и попросил, чтобы я проводила их по нашим святым местам, но так, чтобы никто не знал, что в группе находится почитаемый во всей Греции старец.
Три дня мы путешествовали по городу, побывали у блаженной Ксении, святого праведного Иоанна Кронштадтского, в Александро-Невской Лавре и Духовной академии, в Казанском соборе, на богослужении на Валаамском подворье. И везде старец говорил о великой святыне России, о том, что в Греции очень любят Россию, а на Афоне сугубо молятся о ней. Особенно запомнилось посещение монастыря на Карповке — старец Иосиф у гробницы св. прав. Иоанна разговаривал с ним, как с живым, было такое ощущение, что он его видит. Книга «Моя жизнь во Христе» переведена на греческий язык, и старец сказал, что «знает отца Иоанна». От себя можно было бы добавить, «потому что они были одного духа».
Старец Иосиф не говорил много, внешне он был очень скромен — небольшого роста, с типично греческим обликом, но от него исходила тишина, спокойствие и одновременно невероятная для такого пожилого человека бодрость, молитвенность — и это чувствовало сердце. Как это «миссионерствование старца» отличается от стиля многих сегодняшних проповедников, которые обращаются прежде всего к уму или стремятся поучать и обличать! А тут ты просто чувствовал доброту, тепло, и так было хорошо! И отрадно было видеть «союз любви» между старцем и паломниками, с которыми он приехал в Россию. Они даже называли его греческим словом, которое, как мне сказали, на русский можно перевести как «папочка».
В последний день пребывания группы в Питере мы с отцом Афанасием — настоятелем Ватопеда, который также был в этой паломнической группе, поехали к блаженной Любушке. Представьте себе, ехали мы не на автомобиле, а сначала на метро в час пик, то есть в давке, потом в прокуренной и промерзшей электричке до Сусанино. Батюшка был в рясе и в камилавке, на него все обращали внимание, пытались заговорить, а он в ответ вынимал из своей большой наплечной сумы крестики и иконки и дарил всем.
О нашем посещении Любушки я уже писала в главке о ней, но тут скажу, что отцу Афанасию очень понравилось наше путешествие в гуще простого народа, а Любушка и ее слова очень его потрясли. Ведь он поехал к ней с конкретным жизненным вопросом, и старица его разрешила. И значит, теперь уже понимаю, старец Иосиф благословил своего духовного сына ехать к русской старице, признавая ее прозорливость и духовную высоту. Так он — многолетний афонский аскет — смирился перед русской странницей.
Когда мы приехали в Питер, отец Афанасий завел меня в холл гостиницы «Москва» со словами: «Старец вам хотел что-то передать, подождите, пожалуйста». А потом, даже в некотором смущении, принес мне скромную деревянную иконку с выжженным изображением Спасителя и двадцать долларов. По дороге он говорил мне о другом подарке…
Но полученный мной подарок оказался настоящим старческим благословением. И вскоре я это поняла: начались очень трудные экономически времена в России, тем более я ощутила это, когда родился долгожданный первенец. И тогда моя подруга из Америки вдруг приняла решение ежемесячно присылать мне именно двадцать долларов. Это продолжалось несколько лет и было существенной помощью в то время. И так очевидно было, что тут повторилась ситуация, которая описана во многих жизнеописаниях старцев: их благословение имело сокровенный смысл, а данная ими копеечка всегда умножалась и помогала в самое трудное время.
Спустя много лет я получила две весточки от старца Иосифа Ватопедского — когда вышла его книга, впервые переведенная на русский язык, это было как живое общение со старцем, и много нужных духовных советов было через нее получено.
А еще более серьезным «советом» была подаренная мне в Сергиевой пустыни посмертная фотография старца, на которой он улыбается. Это был совет — помнить всегда о вечной жизни, о ее реальности и близости.
И еще одна весточка от старца — в тот день, когда я дописала эту главу, открыла, как обычно, календарь «Школа молитвы», чтобы прочитать очередное поучение, перед моими глазами оказалась цитата из книги старца Иосифа, и я прочла те слова, которые осветили новым светом «внутреннего человека».
Благодарю Бога, благодарю старца Иосифа за дары благодатной радости, память о встрече с которыми до сих пор жива в моем сердце.
О благодати
Вспоминаю, как мы — «засмыслившиеся» молодые люди 70-х годов — входили в Церковь, открывали для себя Евангелие. И вот главным ключевым словом, которое вело нас тогда, было — «благодать». Нигде раньше, ни в каких философских и религиозных учениях мы его не встречали. Разгадка его действительно была равнозначна проникновению в тайны христианства — так мы были убеждены. Со временем стало ясно, что только Господь подает благодать в сердце, а умом ее не объять, сколько бы книжек ни прочитал и лекций ни прослушал.
Почему я вспоминаю об этом теперь? Потому что за последнее десятилетие среди новых прихожан, пришедших в Церковь, минуя ученичество и традиционность, стали популярными «православная психология», «православное писательство», «православное предпринимательство» и пр. Казалось: «Вот это новое слово, которое нам сейчас так нужно! Наконец-то православными врачами, писателями, предпринимателями вместе со священниками решаются актуальные проблемы, ведь нам нужны уже не «азы Православия», а предметы высшей школы!» Поначалу казалось интересным и правомерным привлечение к разговору о проблемах душевной жизни (ведь не духовной же — таким было оправдание!) цитат из трудов западных психологов и психоаналитиков, философов и экономистов.
А потом, когда уже не одна книга нового направления была прочтена, вдруг пришло яркое ощущение: что-то тут не то! Но чтобы не погрязнуть в «журналистской субъективности», я стала собирать «читательское мнение»: расспрашивать тех людей, которые читали эти книги и с их помощью пробовали решать свои проблемы. И оказалось — все столкнулись с одним и тем же иллюзорным эффектом: читать интересно, увлекательно, потому что тебя охватывает ощущение, что назвали наконец все твои мучительные комплексы, объяснили происхождение их на научном языке (даже схемки составили). Книга закрыта, ты оглядываешься вокруг, заглядываешь в себя — а легче не стало. Стало даже тяжелее, потому что чувствуешь: опутан по рукам и ногам, ты действительно в «психопатическом кругу», нажитом многими поколениями твоего грешного рода, — и так будет всегда, а с твоими потомками — и того хуже.
Но, Господь милостив, — вдруг понимаешь: ведь в этих книгах не хватает главного, потому они и не помогают. В них ничего не говорится о благодати Божией, «немощная врачующей и недостающая восполняющей».
Увлеклись мы все этим (в первую очередь сами их авторы так увлеклись новыми подходами к старым, как мир, проблемам), потому что мы — современные христиане, в отличие от тех, кто стоял у истоков веры нашей, и от наших бабушек — особенно интересуясь «разницей в путях спасения», забываем о незыблемой и всеобщей основе основ нашего спасения.
Если посмотреть в Симфонию на Священное Писание, то обнаружим, что в апостольских посланиях «благодать» ключевое слово. Если просмотрим «словник» по святым отцам (по тем изданиям, где он есть), то и там «благодать» первенствует.
Отцы учат нас, что есть жизнь природная, «по естеству», и это — то, чем занимаются исследователи, и есть «жизнь по благодати», есть «сокровенная благочестия тайна». Непостижимо для самого человека, тем более для стороннего наблюдателя, благодать Божия преображает и врачует человеческое сердце, и тайна этого врачевания словами не выговаривается, не называется. Более того, когда ее усиленно хотят выразить, проговорить, до тонкости словами обозначить, то поначалу кажется, что приходит «облегчение души», которое на деле потом оказывается опустошением. А если человек поймет, что освободить от страхов, комплексов, невроза никакой человек не может, это может только Высшая Сила — Господь и Его Церковь, то это уже победа. Но важно не приписать это своим «духовным поискам», а навсегда запомнить: благодатью Божией мы спасены. Для современного человека это самое трудное. Благодать — это что-то неопределимое с одной стороны, а с другой что-то слишком простое, не терпящее вычурного философствования и психологизма.
Приведу разговор, состоявшийся у меня недавно с дамой, которая двадцать лет водит экскурсии по монастырям, ходит в свой приходской храм, много знает и много читает. «Разве наши древние святые были старцами? Ведь старцы наставляют, поучают, а они смиренными были и часто никаких наставлений не оставили». — «Старчество не в поучениях, а в даре благодати. Не словами старец поучает, а незримо передает своим подлинным ученикам помазание от Духа Святого». — «А что это такое? Как это так? Как же тогда определить — кто старец? И что это еще такое — благодать?»
Вот ведь до какой беды мы дожили: мы можем быть духовно обкраденными, даже не сознавая этого, мы можем строго выполнять все церковные правила и не узнать о самом главном. Впрочем, такое возможно во все времена: об этом свидетельствует история Мотовилова, долгие годы искавшего у разных священников ответа на вопрос: в чем цель христианской жизни — все говорили ему о правилах и нормах, и только преподобный Серафим ответил ему, что она — в благодати, в «стяжании Духа Святого».
Забывая о том, что вся наша жизнь состоит из благодатных дарований, мы и не благодарим за них, и только когда Господь намеренно забирает их от нас, мы вдруг начинаем с тоской понимать, что то, что казалось нашим естественным обладанием, было Божиим даром, то есть благодатью. Этим-то мы и отличаемся от святых — они всегда помнили, что «Имже двигаемся и живем и есмы», то есть живем только благодатью. Они бережно хранили этот дар, боялись его потерять, все совершаемое ими доброе считали проявлением в их греховном составе этого сверхъестественного дара. Если Господь, испытывая их, отнимал ощущение «сопребывающей благодати», то плакали, искали его. Да и вообще искали именно его всю жизнь.
Но считали это не «обязанностью святого», а необходимым условием духовной жизни всякого христианина. Такие заветы они и нам оставили. Как просто сказал об этом прп. Нектарий Оптинский: «У меня плохо, а у благодати хорошо», — об этом всегда помнить велел. А когда «туча скорбей идет», повторять велел: «Покрый меня, Господи, благодатию Твоей».
Основной задачей этой книги была попытка рассказать о «действии благодати в современном мире», о встречах с благодатными людьми, о благодатных ситуациях и событиях. Конечно, далеко не обо всех встречах и не обо всем памятном я рассказала, о многом говорить еще преждевременно, многие отношения с людьми и события еще не завершены, а длятся, и рассказать о них сейчас — значит жизнь превратить в литературу, а этого меньше всего хотелось бы. Надеюсь, что дурной «литературщины» удалось избежать в рассказах об отшедших и о прошедшем, иначе пустое слово может опустошить и душу, и в ней уже не останется благодарности, как бывает при формально-вежливом «благодарю вас».
Потому в конце книги хочу попросить прощения у всех, о ком написала на ее страницах. Как строго-осуждающе сказал мне один человек: «О святых должны писать святые», «святого может понять только святой». Это так. Но и грешница припадала к стопам Христа, а потом свидетельствовала о Нем…
Примечания
[1] Семья Муртазовых необычная: отец молодым погиб на войне и все стали монашествующими и мама – монахиня Магдалина, и два брата, и сестра монахиня Сергия.
[2] Отрадно было узнать, что интервью это сделали основным текстом в альбоме, посвященном 80 летию матушки Георгии, изданном в Иерусалиме в 2012 году. В этом альбоме опубликованы фотографии молодой матушки – какая ангельская красота! «Подлинная невеста Христова» — думаешь, глядя на них.
[3] Статья о пометах поэта на полях писаний аввы Евагрия была мной написана и напечатана в одном из Блоковских сборников Пушкинского Дома.
[4] Книга «Невидимый град» была издана дважды в Москве. Последнее издание вышло в свет в 2009 году.
[5] В эфире «Православного радио Санкт-Петербурга» автор ведет еженедельную передачу «Книжная полка Людмилы Ильюниной»
[6] До печального раскола, который произошел в 2010 году, когда большая часть сотрудников создала новый сайт «Русская народная линия».
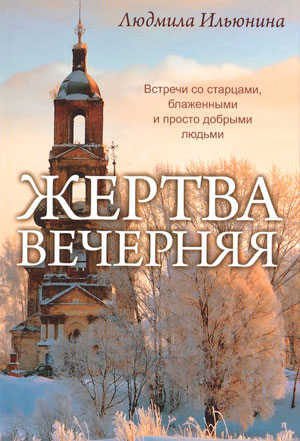
Комментировать